
Бесплатный фрагмент - Летела сорока над полем
Электронная книга - Бесплатно
Летела сорока над полем…
Предисловие
Я решила написать эту книгу, потому что мне захотелось сохранить то, что удалось собрать из истории моей семьи, а также то, что кроме меня никому неизвестно — мои воспоминания. Сразу надо сказать, что стройной и объективной картины не получилось. Многое уже утеряно, о многом некого расспросить.
Поэтому получившаяся книга субъективна и эклектична. Текст книги сложился из описания случайных сведений, мимолетных разговоров, отрывочных рассказов, а также запавших в память эпизодов, фотографий и документов трех поколений.
К сожалению, не получилось осуществить первоначальный замысел — описать историю нашей семьи с двух ракурсов, собрать в одном тексте два взгляда на одни и те же события и времена. Сделать это от лица двух авторов-соавторов.
Но зато, как-то сама собой, ярче выступила тема переезда в наш город, тогда Свердловск, новых людей, не живших здесь много поколений. Тема «понаехавших» двадцатого века.
Вообще работа над текстом оказалась интересной. Сначала это было удивление, которое испытываешь, обнаруживая, что память хранит огромное количество всяких эпизодов, связанных с прошлым. А в какой-то момент я неожиданно начала ощущать своих предков живыми людьми, понимать их, переживать за них. Вдруг стало понятно, почему они поступали так, а не иначе. Вероятно, это и называется «связь времен».
Так я не смогла вставить в книгу личную переписку деда и бабушки. Несмотря на то, что они оба уже давно умерли, выносить на люди письма, которые они предназначали друг другу, показалось кощунством.
Мне кажется, что такую книгу может написать каждый, стоит только покопаться в памяти, и успеть расспросить родных и близких из старших поколений. Придется проделать работу по сбору крупиц прошлого, которые еще не превратились в пыль, по фиксации их в текст и сохранению этого текста.
Зачем? Дело в том, что когда среди ваших детей, а может внуков, а может правнуков, появится кто-то, кому важно будет узнать, откуда он родом, «кто был до него», тогда у него будет, на что опереться и с чего начать.
А еще история не так постоянна и не так незыблема, как может показаться на первый взгляд. Трактовка исторических фактов и событий только на моей памяти уже дважды претерпела изменения. Вероятно, в дальнейшем появятся новые версии. Мне кажется, что имеют значение разные взгляды на прошлое (в том числе, несовпадающие с общепринятым на текущий момент), если только они искренние и не написаны под заказ. А истина, как водится, где-то посередине…
Кулацкое отродье
(Правнучка кулака)
Туманная глубина. Крестьянские корни
По материнской линии я из курганских земель. Родовая линия наша идет от крепких крестьянских корней. Сколько поколений моих предков прожило в деревне Бугаево Катайского района Курганской области глубже того момента, который мне удалось отследить, — неизвестно. Крестьяне редко уезжали из родных мест, так что, наверное, долго…
Прадедушка мой, Иван Артемьевич Юрков, был не самым бедным человеком на селе. Хозяйство имел крепкое. Есть невнятные сведения, что в Бугаево прадед работал в храме. Кем? Непонятно… И мама и бабушка старались не распространяться об этом, только упоминали вскользь. Но я думаю, что он был не священником, а церковным старостой. На эту должность избирали уважаемых людей из прихожан. Это была как бы «общественная нагрузка». Так или иначе, в храме прадед бывал часто. И он, и вся семья.
Храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери в деревне Бугаево был освящен в 1851 году. Он сохранился до наших дней… в руинах.
Из книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» 1902 года: «12-го июня в день заложения храма каждогодно совершается крестный ход по полям. Весь приход Бугаевский состоит из одного села и насчитывает у себя 2680 душ обоего пола прихожан, главным занятием которых служит земледелие. В селе существует земская школа».

Из этой скупой записи видно, что село было большое, прогрессивное по тем временам, ибо души считают и мужские, и женские, тогда как в иных губерниях — только мужчин. Земская школа была рассчитана на четырехлетнее образование. В ней преподавались Закон Божий, чтение, письмо, арифметика, церковное пение и некоторые сведения по истории. Для провинциального села неплохо.
Вот что мне удалось собрать о семье прадеда.
У Ивана Артемьевича Юркова было семеро детей. Два сына и пять дочерей.
Старший сын, Николай, опора и надежда отца, родился, вероятно, в 80-х годах девятнадцатого века. Погиб на войне.
Мать (Екатерина Петровна) ездила искать и рассказывала, «что видела тела погибших, сложенные штабелем…» (по воспоминаниям ее дочери Дарьи Ивановны).
…Что за война? куда ездила мать в поисках старшего сына? — память Дарьи не сохранила, она еще маленькой была. Сейчас можно только догадываться, что речь была не о Первой мировой — слишком далеко она шла от Курганских мест, чтобы можно было женщине одной отправляться на поиски. Судя по всему, это была Гражданская война. Она полыхала везде. И вести с нее доходили быстрее. На чьей стороне воевал Николай, тоже неизвестно. Почему-то думаю, на стороне белых. Жизнь крестьянская не простая, но земля у Юрковых была и до революции. И понимание того, что своим трудом они сами прокормятся, и семьи прокормят, и жизнь построят, кажется, было… Однако ситуации тоже разные бывали: несправедливый суд, поборы, дурной характер земского начальника или красноречие агитаторов могли толкнуть молодого парня и в сторону революционеров.
Дочери Ивана Юркова, а их было пятеро: (старшая) Анна, потом Александра (1904 г.р.), далее двойняшки Дарья и Матрена (1906 г.р.) и младшая Зоя (1914 г.р.) — окончили по четыре класса церковно-приходской, земской школы.
Младший сын Андрейко-шестопал (у него на ручках было шесть пальчиков) родился самым последним и прожил мало. Унесла его какая-то детская болезнь. Иван сильно горевал о потере сына (Николай к этому времени уже погиб) и часто попрекал дочерей, что не уберегли мальчика. Моя бабушка Шура с горечью говорила, что ее отец «готов был их всех четверых отдать за жизнь мальчика. Да кто ж вернет?»
Почему только четверых? Старшая Анна вышла замуж и уехала с мужем куда-то далеко, еще до рождения Андрейки.
Деревня Бугаево стояла в красивом, немного холмистом месте, что не типично для Курганской области, где все больше равнины.
По семейным делам ездили в близрасположенные деревни, в разных рассказах бабушки упоминались их названия: Скилягино, Камышино, Ясная Поляна, Верхняя Теча. Возможно, там жили родственники, так как ездили туда на праздники.
По деревне Бугаево протекала речка Теча, печально известная в наши дни как река смерти. Вода в ней была отравлена в 1950–1951 годах радиоактивными выбросами с секретного предприятия «Маяк».

А сестры Юрковы помнили, что река была богата рыбой и купаться в ней было хорошо. По крайней мере, эти деревенские девочки умели плавать.
После революции храм в селе Бугаево (году в 1924-м), как и во многих других русских селах, закрыли.
А проблемы у Ивана Юркова остались. Поднять семью, в которой пять женщин и всего один немолодой мужик, трудно. Крестьянский труд тяжел.
Дарья Ивановна рассказывала: «…У отца все время в работе были, я за конями ходила, Александра — за коровами… много работы. Даже с больными зубами поехать лечить — некогда было. Так зубы-то все и выболели…»
Иван надумал одну из дочерей (Дарью или Александру) отправить в монастырь. Чем руководствовался? Извечная народная мудрость: «баба с возу кобыле легче»? (да и о приданом заботиться не нужно). Или по другой причине? Было в те годы правило — отправить в монастырь девицу молиться за благополучие семьи. Ей надлежало отмаливать все грехи семьи, так сказать оптом, и заступаться за своих перед богом. Не монахиней, но послушницей.
А может быть, уже тогда понимал Иван, насколько тяжелая доля может выпасть его семье, и искал выхода, лучшей участи для своих дочерей.
В Курганской области на тот период сохранялась женская обитель в селе Верхняя Теча (километрах в 20 от Бугаево), которую курировал крупный и сильный мужской Долматовский монастырь. Также неподалеку от районного центра Катайска, в селе Боровское, находился женский монастырь Похвалы Божией Матери (который не закрывался даже в советские времена, он действует и сейчас). Скорее всего, будущую послушницу собирались отправить в Боровское.
…Только вот девушка думала по-другому.
«Ослушница»
Когда мой набожный прадед Иван Юрков намеревался отправить в монастырь свою дочь, его выбор пал на среднюю — Александру. Но ей не в радость была перспектива жизни в обители. Она семью хотела, детей.
А в 1924 году случилось вот что. Решил Иван Юрков нанять на сезон батраков, помогать управляться по хозяйству. От бабы и девок мало было толку, не справлялись. Пришел к нему парень, Василий Паюсов, тоже бугаевский, из очень бедной семьи. Отец Василия очень был больной и какой-то невезучий, сыновья его работали в людях.
Василий Паюсов хорошо справлялся и целый год у Юрковых проработал. А потом у них с Александрой, которую отец наметил в монастырь отдать, завязалась любовь.
Надежды на родительское благословение ждать не приходилось — не ровня батрацкий сын дочери богатого крестьянина, вот и решили молодые без спросу обвенчаться, а потом пасть батюшке в ноги и молить о прощении.
Расчет видимо был такой, что возьмут Васю примаком в семью. Нет в семье мужиков. Старый Иван в помощнике очень нуждался.
Однако не о таком зяте думал Иван, этот уж совсем был нищий. И то правда, в церковь на собственное венчание ходил Василий в чужом пиджаке, своего не было. Вышел из церкви, снял пиджак и вернул приятелю.
Однако Иван на дочку-ослушницу сильно осерчал. Как не молили молодые, как не каялись — не простил, даже на порог не пустил. Прогнал со двора. А дочери вслед выкрикнул проклятье… (так рассказывала мне бабушка Шура, объясняя этим проклятьем все последующие, сыпавшиеся на ее семью несчастья).
Александра (Шурка, как звали ее родные) видимо отцовский характер хорошо знала и такой исход венчания с последующим покаянием ожидала. И если Василий ходил в церковь в чужом пиджаке, то невеста наоборот, напялила на себя как можно больше своей одежды, одних юбок навертела семь штук. И рубашек пару, и кофт пару, и жакет, и сверху душегрейку, платков сколько-то один под другой. Как выяснилось — не зря…
Долго-долго других одежек у нее не было, еще после войны кое-что донашивала. И проклятье отцовское крепко запомнила. Близко к отчему дому больше не подходила.
Имел ли Василий какой-то меркантильный интерес или главной причиной была все-таки молодость и любовь, трудно сказать. Хочется думать, что любовь. Ведь бабушка в молодости была красивой.
Я не знаю, где жили молодые первые годы после женитьбы, знаю, что бедствовали. Может быть, у Васиного отца в малухе ютились, а может угол у какой-нибудь бабушки снимали, не рассказывали мне.
В доме у Васиного отца жила еще семья старшего брата. В 1925 году у Шуры и Василия родился сын — Миша, в 1928-м дочь — Зина (моя мама). Крестили обоих еще в Бугаево, но уже не в храме, а на дому. Василий по-прежнему в людях работал. Просвета не было. Перспектив никаких.
Стали думать о переезде в город.
Переезд в Свердловск
Где-то в 1930 году решили Василий с Александрой уезжать из села. В то время многие из деревни ехали в город. Тогда никаких препятствий этому не было, на Урале паспорта крестьянам выдавали, хочешь пополнить ряды рабочего класса — езжай, пополняй.
Ехать решили в Свердловск. Почему именно в Свердловск, Шадринск или Курган ближе?
Вероятно потому, что один из братьев Василия уже несколько лет работал в Свердловске на железной дороге. Мог рассказывать, или даже звать, подбивать на переезд. К нему и поехали.
Василий тоже устроился на «железку», работал на станции Шарташ. Обход путей, ремонт вагонов, осмотр составов. Кем придется, никакого специального образования у него, конечно, не было. Поэтому он был, скорее всего, разнорабочим, сцепщиком, стрелочником. Ни машинистом, ни кем другим он без образования работать не мог, но мужик был сильный, работящий, и на станции ему работа нашлась.

Жили первое время у брата. Две семьи в одной комнате в станционном доме, прямо возле путей, но на первое время сгодилось. Шура тоже устроилась на работу — уборщицей в школу, потом в амбулаторию, потом в детский сад, под конец сторожем в ясли. Все рядом на улице Вишневой.
Бабушка неплохо шила, но на фабрику побоялась устраиваться. Деревенский говор и робость перед большим городом ограничивали круг ее возможностей и притязаний.
Вскоре Василию дали отдельную комнату в двухэтажном ведомственном железнодорожном доме, на той же Вишневой, это была крайняя к железной дороге улица. (И дом, и улица существуют до наших дней.)
Это считалось хорошо, так как такой дом был лучше, чем популярные в то время бараки, которые, кстати, на улице Вишневой тоже имелись. Четырехквартирный дом, каждая квартира-коммуналка — три комнаты — была рассчитана на три семьи. Общая кухня, коридор, туалет в квартире (теплый!). Комната на семью — 14 квадратных метров с печкой. Водопровода не было. Общественная водоразборная колонка — на улице в квартале от дома. Воду таскали ведрами на второй этаж. В общем коридоре стояли бочки под воду, на каждую семью своя бочка и свой умывальник.

Во дворе сараи-дровяники. В сараях — ямы-погреба для хранения овощей, тоже отдельно на семью. Поленницы пиленых, колотых дров. Дрова тоже надо было носить по лестнице на второй этаж, а золу, мусор, мокрые отходы (помои) — обратно вниз по лестнице на мусорку и помойку. Канализации не было, теплый туалет обслуживала ассенизаторская машина, которая периодически приезжала и откачивала отходы жизнедеятельности из выгребной ямы.
Я так подробно описываю быт в этом доме, потому что я тоже пожила там с трех до восьми лет и отчетливо представляю и помню жизнь в тех условиях.
Однажды Шура предприняла попытку навестить родную деревню. Году в 1932-м или 1933-м она одна с двумя детьми отправилась в дорогу. Мне рассказывала об этой поездке на ее малую родину моя мама, она ее запомнила.
Суть рассказа свелась к тому, что добирались они летом по жаре мучительно долго, но в деревне Бугаево пробыли очень немного. Попили в какой-то избе теплого, кислого, несладкого квасу. Посидели молча. Шура куда-то одна сбегала, вернулась быстро, и тем же вечером, не переночевав, тронулись они в обратный путь.
Мне неизвестно, что произошло: была ли еще в тот момент семья Юрковых в деревне? Отказал отец Иван опальной дочери в прощении в очередной раз? Или столь стремительный отъезд был связан с раскулачиванием Ивана Юркова и его семьи? Тогда это было просто бегство.
Шура и дети были уже Паюсовыми, семья бедняцкая, родни много и со стороны бедняков. Почему туда не пошли? Чего боялись? Уже не узнать.
Деревня Бугаево канула в прошлое, теперь навсегда.
Кулаки. Ссылка. Сибирь
Как показало время, молодые Паюсовы (бабушка Шура и дед Вася) съехали из деревни очень своевременно. Потому что как раз в начале 30-х годов началась в Курганской земле кампания по раскулачиванию. Прадед Иван Юрков первый раз попал под акцию в 1930 году и разом лишился всего хозяйства: двух коров, двух лошадей, всего инвентаря и дворового добра.
Однако этим беда не ограничилась. В 1932 году попал Иван вместе со всей семьей уже и под выселение. Он с женой Екатериной и дочери. Несмотря на то, что одна из дочерей, Дарья, к этому времени уже вышла замуж и жила своей семьей и даже фамилию носила другую, под репрессии она тоже угодила — их с мужем из Бугаево отправили на спецпоселение… в Свердловск, строить объекты соцкультбыта. А прадед с женой и младшей дочерью поехали в Тобольский край.
Начиная с 1930 года Тобольск становится «столицей социалистической ссылки». Поселение, куда сослали Юрковых, называлось Екимовка. Потом были Новое Село и деревня Красный Яр.
Деревня Екимовка входит в список территорий, ставших местом ссылки репрессированных. Сюда высылали кулаков со всей России, поволжских немцев и почему-то калмыков.
Из источника «Список населенных пунктов и административного деления Тобольского округа, Уральской области на 1 октября 1926 г. под редакцией Организационного отдела Тоболкрисполкома, г. Тобольск — 1926 год».
— участок Екимовский (Куреинский) — при речке Носке (14 дворов и 66 жителей);
— деревня Красный Яр (сельский центр) — при речке Боровой, на проселочной дороге, (дворов 34 и 159 жителей). Подчиняется Красноярскому (бывшему Морозовскому) сельсовету Уватского района;
— с. Новое Село (65 дворов, 310 жителей), сельский центр.
В наше время деревня Екимовка заброшена. До нее есть сухопутная дорога от села Красный Яр. Протяженность пути согласно гугл-картам 21,5 км, пролегает он через деревню Сафьянку, которая еще теплится. Расстояние по воздушной прямой до Тобольска 62 км, до Увата — 45 км, до Красного Яра — 16 км (на юго-запад).
Тобольский край в то время был не очень многолюдным, но деревни не пустовали. Еще с XVII–XVIII веков его осваивали переселенцы со всей России. Кто-то добровольно, кто-то прятался от правосудия, кто-то бежал по религиозным убеждениям — небольшой прирост населения насчитывался от переписи к переписи.
Был ли жестким режим проживания высланных кулаков? Легким не был, безусловно. Существовал ряд ограничений и ущемлений прав репрессированных в сравнении с коренными жителями.
Это касалось в первую очередь свободы передвижения. Нельзя было самовольно покинуть место поселения, но отъехать на 20, а то и 120 км в окрестностях — не запрещалось (это недалеко по Сибирским меркам).
Закрыты были некоторые должности и профессии, особенно руководящие.
Были запреты для верующих. Исключались религиозные праздники, ритуалы, традиции, иконы, кресты.
Были наложены ограничения (точнее полный запрет) на избирательные права, в выборах переселенцы не могли участвовать ни в числе избираемых, ни в качестве избирателей.
Были ограничения в размерах ведения подсобного хозяйства (даже на количество кур существовали нормы).
Вот в таком краю и в таких условиях оказались мои родственники. Там в Екимовке прадед и умер, скорее всего, в войну.
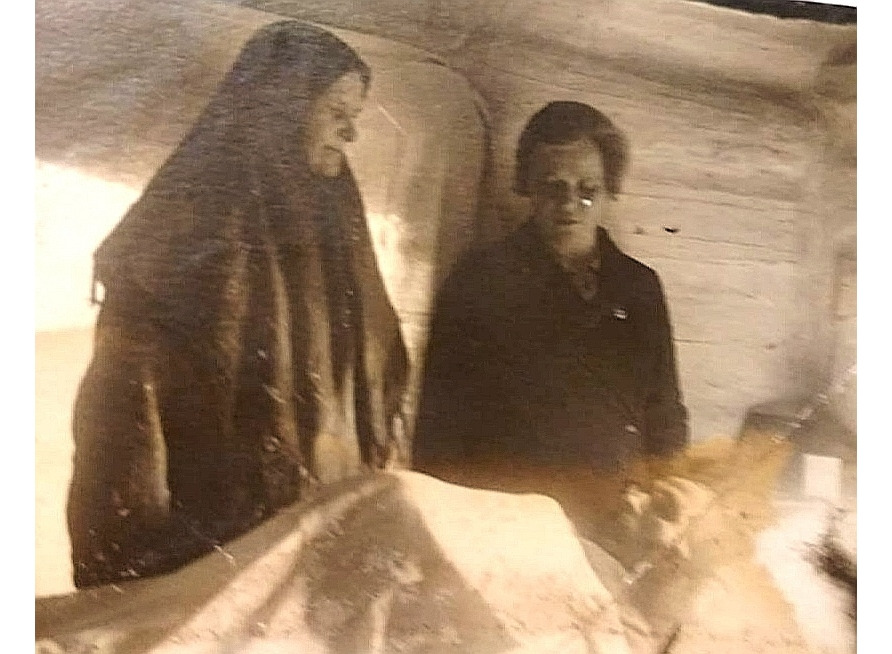
Младшая дочь Юрковых Зоя еще до войны перебралась в Новое Село, оно находилось в 2 км от Екимовки, там она работала медсестрой в больнице (особого образования тогда на это не требовалось), там вышла замуж (за директора школы), там родились ее дети — Володя и Галя. В середине 1950-х Новое Село было признано неперспективным, и семья переехала в село Красный Яр.
Прабабушка после смерти мужа пришла жить в семью младшей дочери. Екатерина Юркова умерла в селе Красный Яр в 1951 году на восьмидесятом году жизни.
На Курганскую землю не вернулся никто из сосланных. Не вернулись их дети и внуки. Кто-то уехал в Омск, кто-то в Кемерово, кто-то в Свердловск, даже в Сочи.
Младшая дочь самой младшей из сестер Юрковых, Галина Павловна Лобанова (Алещенко), окончила исторический факультет Свердловского университета (ныне УрФУ) в 1974 году. Работала в музее Свердлова с 1971 по 2008 годы, затем государственным инспектором Росхранкультуры по Уральскому округу. Сейчас на пенсии. (Мне она приходится троюродной теткой.)
Мне не понятно, почему никто не вернулся на малую родину в Курган.
Как качественно были выдраны вековые крестьянские корни. Новая родовая память накладывает запрет на возвращение: счастье может быть где угодно, но не там, где было потеряно все. Нет, даже не жизнь — никто из наших предков не был расстрелян… я думаю, было утрачено чувство правильности той благополучной крестьянской жизни и уверенности в завтрашнем дне. «Только не там, только не так!»
Дедушка Степан
Одно время в предвоенные годы в семье бабушки Шуры проживал «дедушко Степан». Он оказался пятым человеком в четырнадцатиметровой комнате. Кем он приходился Паюсовым, я не знаю. Судя по имени — Степан, он мог быть родным отцом Василию (Степановичу), но почему-то его за близкого родственника не считали. Может быть, это был крестный отец Василия (тогда крестные были близкими людьми, хоть и не являлись родственниками), наличие крестных не афишировали.
Так вот, это неведомый дед прибыл из их родной деревни Бугаево. Что в деревне случилось и почему на старости лет пришлось ему ехать в город, неизвестно. В кулаках он числиться не мог по причине крайней бедности всего их рода. Возможно, просто не осталось у него никого ближе городских Шуры и Василия, а может быть, не сумел заработать в колхозе даже самую маленькую пенсию и вынужден был податься в город.
Об этом дедушке Степане неоднократно упоминали и бабушка, и мама. Отзывались о нем с теплотой: на все руки был мастер, все умел и трудный их быт тех времен здорово облегчал. Василий целыми днями был на работе, Александра тоже работала.
Дедушка Степан много чего умел:
— пилил дрова двуручной пилой — один (мог за пару дней распилить в одиночку целую машину дров);
— мастерил табуретки и тумбочки;
— сколачивал короба, лари, полати (для своих и для соседей);
— делал какие-то тележки, игрушки детям.
Он и денежку небольшую в дом приносил, нахлебником не был.
Летом дедушка Степан жил в дровянике, называл его «балаганом», там у него была оборудована лежанка, стол, лавка.
(Бабушка Шура уже при мне иногда употребляла это название — балаган, и когда я не понимала и спрашивала, что это, отвечала — так называл дровяной сарай дедушка Степан.)
Зимой он спал в комнате со всеми, на полу у печки. Вставал раньше всех, отправлялся за дровами, водой. Если особых дел по хозяйству не было, шел дедушка Степан к соседям: помогать или зарабатывать.
Умер в одночасье. Не болел, не лежал. Ушел в дровяник отдохнуть. Лег и умер.
Война. Мобилизация. Гибель деда. Вдова
Великая Отечественная война началась 22 июня «ровно в четыре часа»…
А Василий Степанович Паюсов, мой дед, был призван в ряды Советской Красной армии в августе 1941 года. Ему было 35 лет. Зрелый уже мужчина.
Писем с фронта он не писал, или они не сохранились. Думаю, что война для него была вроде тяжелой работы — сил отнимала много, а рассказывать о ней ему было нечего. «Ну не писать же жене и детям о подробностях перемещения части (это к тому же было запрещено). Зачем им знать о трудностях быта — волноваться понапрасну», — так он возможно рассуждал. Была только похоронка…
В послевоенные советские годы о нем, его судьбе, его службе мало что можно было узнать. Помню, что, когда в 1969 году мы с родителями ездили на теплоходе в круиз по Волге, мама искала его фамилию в списках погибших в мемориале славы на Мамаевом кургане. И нашла… Паюсов Василий Степанович… И я долгое время считала, что там он и погиб. До тех пор, пока в 1990-е годы не стали доступны другие материалы.
Мой сын нашел более точные и подробные данные, из которых стало известно, что под Сталинградом погиб однофамилец деда.
Вот выписки из «Донесения о безвозвратных потерях».
…Паюсов Василий Степанович, рядовой красноармеец 167 стрелковой дивизии, …уроженец села Бугаево, 1906 года рождения, образование 4 класса, беспартийный, …призван Октябрьским РВК г. Свердловска,
…убит 18 декабря 1942 г.
…похоронен в районе д. Скляево Землянского р-на Воронежской обл.
…жена Паюсова Александра Ивановна проживает г. Свердловск, ст. Шарташ, д. 40, кв. 4.
Землянский район был упразднен в 1963 году, его территория вошла в Семилукский район, расположенный к северо-западу от города Воронеж. Село Скляево стоит на реке Большая Верейка в Рамонском муниципальном округе.
Осенью 1942 года после изнурительных кровопролитных боев силами 150-й танковой бригады и других воинских соединений 38-й Армии Воронежского фронта село Скляево и прилегающие к нему другие населенные пункты были освобождены советскими войсками. Немецко-фашистские захватчики были изгнаны ценой многих человеческих жизней.
В память о Великой Отечественной войне в селе Скляево сооружен мемориальный комплекс, включающий в себя памятник и братскую могилу. Имена 2118 человек, захороненных в братской могиле воинов-красноармейцев, погибших на здешних полях сражений, перечислены на мемориальных досках памятника.

В число этих двух тысяч входит и мой дед Василий Степанович Паюсов.
У бабушки Шуры была похоронка на деда. Ее изъяли, когда в 1975 году, к сорокалетию Победы, бабушке, как вдове погибшего на войне красноармейца, выделили благоустроенную комнату в новом доме в Железнодорожном районе. 15 квадратных метров взамен четырнадцатиметровой неблагоустроенной. Совершенно бесплатно. Похоронку забрали, вероятно, для того чтобы бабушка по ней еще когда-нибудь что-нибудь не получила. Копию мы не сделали.
Вечная память тебе, дед…
Эвакуированные
Еще немного о тех временах, которые были до меня. В войну в семью к бабушке Шуре подселяли эвакуированных.
В полублагоустроенную комнату, в которой проживало четверо жильцов (правда, отец семьи уже в 1941 году был призван на фронт), подселили еще двух человек эвакуированных. На человека приходилось по 2,3 квадратных метра.
Подселенных было двое, обе женщины: одна пожилая, другая довольно молодая. Эвакуировали их из Ленинграда. Молодая сразу была устроена работать на фабрику «Уралобувь». Такая работа считалась престижной, и бабушка завидовала, так как ей устроиться туда не удавалось.
Пожилая подселенная женщина сидела в доме, практически не выходя из комнаты. Похоже, у нее была психическая травма, и до войны, до эвакуации бытовые условия у нее были лучше, чем в Свердловске на улице Вишневой. По маминым словам, она ничего не умела (ни печку топить, ни воду носить). А может быть, она просто была не здорова. Как питались — непонятно, вероятно, раздельно, тогда была карточная система.
Само подселение не обсуждалось. Квартиры были не в собственности, мнение и желание жильцов не спрашивали. Пришел милиционер, привел двоих эвакуированных, оставил и ушел. Как они размещались, никого не волновало. Мама говорила, что бабушка Шура уступила подселенным супружескую кровать (все равно Василий на фронте), а сама вместе с детьми спала вповалку на полу.
Особо теплыми отношения не были, но и ссориться с ними никто не собирался. Прожили вместе не так долго, месяцев пять или шесть. Потом женщинам из Ленинграда дали комнату от обувной фабрики и они съехали.
Возможно, это люди такие были, что отношений близких не сложилось. Вот в соседнюю квартиру подселяли двух женщин, которых даже я знала. Они не вернулись из эвакуации домой после войны. Одна из них, Полина, вышла замуж за какого-то железнодорожного начальника средней руки. И на улице Вишневой всю жизнь прожила. С ней дружили и бабушка, и мама. Помню ее и я — красивая и веселая женщина, совсем не похожая на других соседок (она даже — о ужас! — красила губы и подводила брови).
Еще одна знакомая из прижившихся на Урале женщин, бабушкина тезка — Шура, та недолго в доме на улице Вишневой жила, вышла замуж за местного и переехала. Но к ней в гости бабушка ходила и в послевоенные годы, даже меня водила — я помню, она жила на улице Белинского.
Курганский говор. Бугаевский «сленг»
В моей памяти, кроме бабушкиного лица, мало чего сохранилось. Но кое-что помню. Например, названия соседних деревень… Глянула на карту — есть такие.
Бабушка говорила: «В Скилягино жили какие-то родственники, к ним ездили в гости… В Камышино кринки покупали, тоже ездили… В Верхней Тече обитель и монастырь, ездили навещать…»
Подробности как-то стерлись, а вот по тому, с какой любовью говорила бабушка Шура об этих местах, как по-особенному произносила названия деревень, родные названия, было заметно, что она бережно достает их из глубины своей памяти, задумывается… И, молчаливая обычно, вдруг долго говорит со мной, мелкой и несмышленой, о том, что мне совсем непонятно. Сейчас осознаю, не со мной она тогда говорила, а с собой. Думала, вспоминала вслух.
Говорила бабушка необычно. Она знала такие слова, которые никто из окружающих кроме нее не употреблял, их даже не очень понимали. А я понимала. У нас с ней был такой особенный язык, один на двоих. Она не стеснялась при мне говорить по-своему, по-деревенски, и может потому разговаривала со мной как со взрослой подолгу.
Все мое детство я провела с бабушкой Шурой. Не припоминаю случая, когда б со мной на больничном сидела мама. Бесконечные (семь) воспаления моих легких выхаживала бабушка. Справедливости ради надо сказать, что к специалистам в туберкулезный диспансер или к каким-то заслуженным врачам на консультации ходили втроем: мама заводила меня к врачу, разговаривала, выслушивала рекомендации, а потом, выйдя из кабинета, сдавала меня на руки бабушке и убегала на работу; а мы вдвоем возвращались домой.
Болела я часто и в садик ходила редко, в основном в теплое время года. Я отлично понимала бабушкины словечки, и не совсем понимала, почему мама сердилась, если я употребляла их в своей речи.
Вот как бабушка говорила.
Хочешь ишшо давешного киселю? Пондравился он тебе? Сварю, а может заместо киселю чай с конфета́м дать? все робяты это любят… (что следовало понимать так: «Хочешь еще вчерашнего киселя? Понравился он тебе? Сварю, а может быть вместо киселя чай с конфетами дать? все ребята это любят…);
…ну я побе́гла в сарайку, на улице дожь, смотри, ку́сты мокрые… (ну я побежала в сарай, на улице дождь, смотри, кусты мокрые);
…вехотку возьми, в бане пошоркаю тебе спинку… (мочалку возьми, в бане потру тебе спинку);
…пойдем по-за дому, ветер там не дует, не так холодно́… (пойдем за домом, ветер там не дует, не так холодно);
…Он приехал-от ко мне да на каурой лошаде́… — это строка из песни, редко, но бывало бабушка пела, выстукивая ладонью ритм по своей коленке;
А вот из другой: …Летела сорока по-над полем, над лесом…
Или еще так: …сусед евоный тоже работяшший, таку лесину поташшил отседова… (сосед его тоже работящий, такое бревно понес отсюда);
…задерни задергушки, вон ворочается отец, упластался он сегодня, тихо — не шабаркайся (задерни шторки, вон возвращается отец, устал он сегодня, тихо — не шуми);
…дай тюрючок, запо́н починю (дай катушку ниток, фартук починю);
…мухобойка, корчага, шайка — всего богатства-то было́… (мухобойка, глиняная миска и тазик — вот все богатство было).
Прямо слышу ее голос, все до единого слова понятные, но еще тогда, в свои три, четыре года, я уже знала, что мне так говорить не следует, так только старые деревенские бабушки говорят, а я городская девочка. Да и мама сердится и на меня, и на бабушку. И папа смеется надо мной, дразнит «бугаевской породой»…
Позднее узнала о существовании особого курганского диалекта, видимо это он самый и есть.

Швейная машинка
Мне в наследство от бабушки не много вещей досталось. Вернее одна. Зингеровская ручная швейная машинка. Отлично помню ее с самого детства. Чугунная, с инкрустацией. Тяжеленная, но работала исправно. И до сих пор на ней можно строчить, берет любую ткань, лет 10 назад я шила на ней паруса к старенькой яхточке (внук в то время занимался парусным спортом) — ни одна более современная машинка не справилась, а бабушкин «Зингер» сумел.
Так вот, откуда взялась эта машинка? Бабушка Шура называла ее «мое наследство». У беднейших Паюсовых быть ее не могло, вещь недешевая. В деревне их не продавали, машинка была привезена с какой-то ярмарки. Мог мой дед, парень-батрак, приобрести такую? — маловероятно. А вот от прадеда зажиточного крестьянина могла достаться. Мать и сестры сумели найти возможность передать Александре машинку, когда покидали родные места и отправлялись в ссылку.
…На этой самой машинке каждый год шились мои детские ситцевые и байковые платьица, которые за год я убивала в хлам, или вырастала, дети же быстро растут.
Бабушкины юбки, платья, кофты жили много дольше, просто на них появлялись заплаты, виртуозно втачанные на той же машинке. Вершиной бабушкиного творчества были так называемые американские одеяла. Их бабушка собирала из треугольных и квадратных лоскутков (сейчас это называется печворк, или лоскутное шитье), особых узоров она не выкладывала, главной задачей было сделать аккуратно и крепко.
Я помню, что ужасно радовалась, когда обнаруживала в готовом одеяле треугольники, идентичные моим детским платьицам. Никакие тряпочки — как обрезки ткани при шитье новых одежек, так и кусочки вышедших из употребления вещей — не выбрасывались. Из совсем изношенных плелись, вязались половички и коврики. Мама почему-то очень не любила бабушкины изделия, сама никогда не носила бабушкиных платьев и половички не уважала (мама одевалась у портнихи, та работала костюмером в театре, платьев у мамы было всего три или четыре, но они были очень модными).
Бабушка давала машинку попользоваться всем соседкам. Помню, как она тащила эту машинку, завязанную в старую вигоневую шаль (футляра у машинки не было), от наиболее забывчивых соседок, не торопившихся ее возвращать. Мама сердилась — денег за аренду мы не брали (не принято было), а если случалась поломка, то чинили сами, да и таскать чугунного «Зингера» от неаккуратных пользователей было тяжело.

Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.