
Бесплатный фрагмент - Круг Земной и Небесный
Аннотация
«В прекрасном и яростном мире» — так Андрей Платонов одним мазком обрисовал пространство нашего бытия на планете Земля. Ему хватило четырёх слов, из коих два предлог и союз. Тяжело нам в этом мире порой приходится, но ради этих счастливых мгновений, когда жизнь воистину прекрасна, жить стоит.
В главе 1 проживают сущности, которых у нас принято называть домашними животными. Если для собак это в известной мере справедливо, то кошки и при доме живут своей жизнью. Тем не менее, если вы относитесь к ним как к человекам, они это сполна понимают и, отвечая взаимностью, платят вам ответной любовью и преданностью. Я думаю, кодекс любви, справедливости и чести незыблем и среди зверей на воле, хотя у них есть и свои законы. Прав был Маугли, мы — единокровные…
Глава 2 — это местная ойкумена, или попросту «Улица», пространство между двумя шеренгами домов. В домах живут люди, по улице они гуляют, спешат на работу и с работы… и со своей улицы выбираются в мир нашей общей всепланетной улицы.
В главе 3 говорится о некоторых из проблем, с которыми люди в этом мире нос к носу сталкиваются, но часто об этом даже не подозревают. Они не на поверхности, они глубинные, хотя насущные. Зачастую люди их чувствуют подспудно, на уровне интуиции. Удивляются, тормозятся… и начинают думать.
В главе 4 обрисованы сами проблемы и те участники, которые, захлёбываясь в максимализме, в них заняты: бьются над их решением, мучатся, иногда торжествуют, но чаще плачутся, взывая к Всевышнему о помощи. Искренним Он всегда помогает.
А в главе 5 рассказано о небожителях, для которых никаких проблем уже не существует — они познали главное, им открылась лазурь небесная и правда. Правда жизни…
13.07. 2017 х. Покровский
Глава 1
Единокровные
«We be of one blood, ye and I»

Ангел
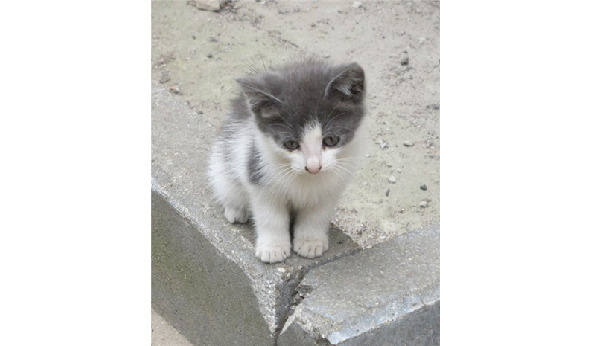
В моей жизни, как и у каждого, случались объятия, но только одно запомнилось на веки вечные…
Серый кот с именем Ангел забрался по рукаву, предплечью, плечу ко мне на грудь и передними лапами обнял меня за шею. Потом тихонько и мягко расправил ― обвил ― обернул лапы вокруг шеи и медленно сдавил… подержал несколько секунд и так же медленно отпустил. Столько всего было в этом объятии-признании, что я оторопел. «Ты что, Ангел?» поначалу, в первое мгновение не поняв, спросил я. Он лизнул мне подбородок, щеку, и ещё теснее приник и сжался в этом пространстве, сливаясь с моим телом…
Он был средних размеров, неброской наружности, серый с белым, с обычной шерстью, но котом назвать его я не могу, мне стыдно. Видно не зря я дал ему такое имя ― Ангел, когда он был ещё совсем маленьким, с кулак величиной, неуклюжим и пушистым. Но в глазах уже стояла эта хрустальная чистота, это всепонимающая мудрая ясность, которая и со временем никуда не ушла. А ещё в нём была сила. И физическая тоже ― взлететь на гладкий трёхметровый ствол дерева и тут же снова оказаться на земле занимало у него мгновение. Но главное ― в нём жила внутренняя сила, заставлявшая взрослых, бывалых, уверенных в себе котов остановиться и обойти стороной этот маленький взъерошенный серый шар, пристально, не мигая, следивший за ними открытым взглядом пары прозрачных желтовато-бледных глаз. В обычном состоянии глаза у него были серо-зелёные, по первому впечатлению серые, желтизны в них почти не было видно.
Ангела отравил сосед. Худой, длинный, хлыщеватый недоросль с мутными белесыми безумными глазами. За два года он забрал жизни троих. Сначала степенного жилистого Урса, потом веселого рыжего Мартина, такого же подвижного, как Ангел, но лёгкого, мажорного и артистичного, наконец, Ангела.
А потом, едва пережив свои двадцать лет, и сам отправился их догонять, не рассчитал дозу. Других кошек он не трогал, только моих. Наверное, из зависти к ним, наверное потому, что они были так открыты и доверчивы, никого и ничего не боялись, дышали полной грудью и откровенно наслаждались жизнью, они пульсировали ею. В нём же пульс появлялся только со шприцами.
Ничего плохого я ему не сделал, здоровался, когда здоровался он, но, каюсь, в остальном не замечал. Кажется, это и было всему причиной, он хотел, чтобы его замечали. Он трижды обворовывал меня, взламывая замки у сараев и в доме. Все соседи вокруг об этом знали, не знал только я и милиция, хотя та приходила однажды даже с овчаркой-ищейкой. Потом, когда его уже снесли на кладбище, соседка баба Надя сама всё рассказала моим дочерям.
Ангел принял смерть мученическую, но он, я думаю, его простил. А я, я все ещё не могу…
2004 год. Краснодар
Комплекс Айны

Айна — молодая породистая западно-сибирская лайка темного окраса, покладистая, добрая, улыбчивая и веселая. Она приблудилась к нам в поле, прямо в маршруте у кого-то из техников. Очень усталая вышла к костру, улеглась в сторонке, потом спокойно съела всё, чем её покормили, и пришла с маршрутной группой на базу. Там она так же спокойно выбрала меня, и четыре месяца, пока мы были в поле, спала у дверей палатки и с удовольствием сопровождала меня в маршрутах.
Хорошую кровь видно сразу — Айна была деликатной и воспитанной, никогда не совалась не в свои дела и знала себе цену. В один из первых дней её пребывания в лагере кто-то из студентов, посчитав себя ей ровней, а то и выше, мимоходом пнул её, когда она лежала недалеко от костра. Айна поднялась, развернулась к нему, глянула в глаза и молча ощерилась, подняв шерсть на загривке. Потом отошла метра на три и улеглась к нему спиной. Был вечер, ужин, и почти все, кто числился тогда в отряде, были этому свидетелями. Одного урока оказалось достаточно — Айну уважали все, любили, баловали, играли с ней в игры… и тот студент тоже, зла она не помнила.
В первом же маршруте обнаружился единственный её недостаток, а с точки зрения эксперта-кинолога, специалиста по западно-сибирским лайкам, даже порок — Айна гоняла зайцев. Гоняла с голосом, как заправская гончая, азартная и вязкая. Зайцы оказались её страстью. Подняв зайца, она уносилась за ним с самозабвенным, звонким и высоким лаем, бросая всё — медвежий след, след соболя, маршрут, людей… Видимо, так она к нам и приблудилась. А нам, чего греха таить, вообще-то это было на руку. Я быстро приспособился к её гону и перехватывал зайца, не отклоняясь от маршрута, обычно уже на первом круге. Зайцев в том году было много, так что наша маршрутная группа о тушёнке почти не вспоминала…
Поле закончилось, и мы вернулись в город. Айна стала жить у меня в квартире на втором этаже двухэтажного дома, я был тогда один. Я коротко прогуливал её утром и в обед, и длинно вечером. Лайки — собаки вольные, свобода для них всё. Их нельзя держать на привязи, и даже поводок для них уже насилие. Поэтому с вечерних прогулок я возвращался один, а через час — полтора под дверью раздавалось односложное негромкое — «Гав»; если я не слышал, через пару минут снова — «Гав». Я открывал дверь, Айна степенно входила и, благодарно лизнув мне руку, укладывалась на собственное место. Она выбрала его сама и больше не меняла, хотя здесь ей разрешалось находиться где угодно.
Всё было, в общем, нормально, правда, я боялся за неё в вечерних отлучках — под машину попадет, загуляет, далеко забежит и тому подобное. Но зайцев в городе не было, другая живность её не интересовала, а главное — Айна умела ценить то, что имела. Мы относились друг к другу уважительно, размолвок не было, и такая жизнь её устраивала…
А для меня подошло время страды — трехлетний отчет. Отчет большой, сложный и интересный. Тогда впервые в Союзе мы апробировали целый комплекс новых методов в геологии — космическую, радарную, инфракрасную съемки и обычную аэрофотосъемку в разных масштабах и вариациях. Все виды съёмок и вообще техническое обеспечение вела ЛАЭМ — Лаборатория Аэрометодов, город Санкт-Петербург (тогда Ленинград). Наше дело было оценить, что это даёт для геологии. В камералках на стенах появились тогда американские «Landsat», обзорные космоснимки Камчатки, включая и тот знаменитый отпечаток, на котором в центре Петропавловска, рядом с кинотеатром стояло такси с отчетливо различимым номером. В Штатах такие снимки можно было купить в киоске. На Камчатку они просочились из Москвы через институт вулканологии и быстро размножились. Первый отдел ходил по камералкам, собирал снимки со стен и пытался складировать в геофонде, но мы их быстро попрятали. Мы недоумевали: «Как же так? Какая может быть секретность? Мы их не брали в 1-м Отделе…»
«Где взяли?»
«Подарили».
«Кто подарил?» цеплялся Никита, наш главный Первый. «Ах, вы не помните?.. Они хотят, чтобы мы расслабились и потеряли бдительность», учил Никита. Его учило КГБ. Так тридцать лет назад на Камчатке начиналась «глобализация».
Новая информация, в буквальном смысле свалившаяся с неба, нас ошеломила, заново открыла нам глаза. Сейчас не очень и понятно, как мы без этого обходились раньше, вот уже более 30 лет без дистанционных методов немыслимы никакие наземные исследования, тогда же все это только начиналось. Наземная заверка новых данных велась на нескольких полигонах Южной и Восточной Камчатки, включая Узон и Долину Гейзеров, тогда ещё не изуродованных туризмом. А на Узоне в том далеком 1968 году мы ждали в гости Владимира Высоцкого, но он до нас так и не добрался.
Но сейчас — отчет; народу работало много, все материалы нужно было свести и увязать, так что забот хватало. Но отчет, в общем, получился неплохой, потом он несколько лет демонстрировался в Москве на стендах ВДНХ в павильоне «Геология». Мы этим гордились.
Всё это происходило до Айны, она присутствовала только на заключительной стадии создания отчета. Расписания, режима, восьмичасового рабочего дня давно не было, были рабочие сутки. Материалов, большей частью секретных, шло много; из-за новизны и комплексности подходов они требовали одновременного присутствия для сопоставления и тут же работы с ними. Говорю это только затем, чтобы объяснить, почему я, с молчаливого согласия 1го Отдела, работал дома, на пяти столах вдоль стен. В камералке разместиться с таким количеством материалов было бы немыслимо.
В тот день в околообеденное время я надолго задержался в камералке, все мои сотрудники работали там. Часов около четырех я, наконец, освободился и пошел домой, до него всего-то двести метров. Тут я вспомнил про Айну; она тоже кормилась в урочные обеденные часы — «ничего страшного» — мелькнуло в голове, но какая-то смутная тревога оставалась, и я заторопился.
Я поднялся на второй этаж, повернул ключ в замке, помню, услышал стон внизу под дверью с той стороны, и открыл дверь. Сбивая меня с ног, вниз по лестнице скатилась Айна. Я прошел в комнату и обмер. Разложенные на столах карты были сброшены на пол — погрызены, прокушены, разорваны. Всюду валялись снимки со следами зубов. Ножками вверх в углу торчал стереоскоп. На кровати одеяло, подушка, плед были смяты в общую груду и высились горкой посередине. Я приходил в себя среди погрома, соображая и медленно догадываясь. Потом спустился вниз. На улице, напротив входной двери в подъезд, на газоне корчилась Айна, выпрастывая последние остатки из своего желудка.
Я глядел на неё, она на меня, в её глазах не было страха, не было вины — только облегчение… потом она отвернулась. Я понял, что винить, кроме как самого себя, мне некого. Не знаю, что уж тут случилось, Айна могла терпеть долго, два часа, на которые я задержался, для неё пустяк, наверно, что-нибудь не то проглотила на прогулке.
Я пошел в спецчасть и позвал 1й Отдел домой. Спасибо Лидии Павловне, она была хорошим человеком и быстро всё поняла. Она не стала выдумывать трагедий и раздувать историй. Мы просто составили акт на списание попорченных секретов, и на этом все неприятности для меня здесь закончились. Благо в тот день дома не было оригиналов карт, одни копии на синьках, поскольку отчет размножался в шести экземплярах.
С Лидией Павловной мы пробыли в доме около часа — обсуждая событие, оценивая ущерб, договариваясь… Когда мы спустились, Айны на улице не было.
Я вернулся и долго наводил порядок в материалах, прикидывая самые короткие пути, как это поправить, сроки поджимали. Потом прибрался в доме и вышел на улицу. Уже был вечер, начало смеркаться. Я обошел наш геологический посёлок, Айны не было. Пошел по улицам, по местам, где мы обычно с ней бывали на прогулках, изредка звал её… Айны нигде не было. Я давал объявления в газету, вешал листки на столбах, ездил на автобусе в места, про которые мне говорили, что видели там похожую собаку. Всё напрасно, Айна не вернулась.
Она и сейчас стоит у меня перед глазами. Я недолго над этим размышлял, всё было и так понятно. Я никогда не поднял на неё руку, и она, конечно, знала, что тут ей нечего опасаться; были шлепки, правда, но за дело, и она прекрасно это понимала и не возражала. Когда всё случилось, я и в горячке её не тронул, даже не замахнулся, даже слова единого не сказал, так уж разложились наши прощальные обстоятельства. Но Айна ушла. Она не могла остаться в доме, где пережила событие, едва не кончившееся для неё позором.
Я вижу, как она, почувствовав позывы, подходит и ложится у двери. Потом встает, бродит по комнатам, крутится, скулит. Желудок не унимается. Она в ярости запрыгивает на кровать, сгребает в кучу бельё и покрывало. Не помогает, желудок вот-вот лопнет. Она носится кругами и если бы не второй этаж, наверно, выставила бы окно и выпрыгнула на улицу. Она хватает всё, что попадает ей на глаза, тащит со столов карты, снимки, рвет, кусает. Только бы не треснуть постыдной кучей на полу под дверью. Это для неё нельзя, это клеймо, это позор… Наверное, она была готова умереть…
Рыцарский кодекс, кодекс чести, священное табу интеллигента — запрет на сделку с совестью, на подлость, на обман…
Как же так случилось, что люди по большей части благородство растеряли, а животные его себе оставили?..
2004 год. Краснодар
Рось

Рось была представителем начавшей тогда возрождаться аборигенной линии западно-сибирских лаек, максимально приближенной по экстерьеру и окрасу к волку. Считается, что шпицы и лайки и еще немногие представители собачьих, такие как чау-чау, произошли от волка, остальные — от шакала. Кому-то из московских умников-кинологов взбрело в голову, что западно-сибирские лайки слишком растянуты, оттого не так подвижны, как ему хотелось бы, и слишком тяжелы. Наст их не держит, они проваливаются, режут в кровь ноги, и это сокращает сроки охоты с ними по снегу. Решили поучить природу и поиграть в Создателя, начали отбор и это плохо кончилось, как водится. На свет появились облегченные квадратные узкогрудые лайки, благородный Акела выродился почти в Табаки Лайки потеряли знаменитую волчью выносливость, координированность и силу. Длинный костяк дает волку свободу маневра, возможность, сместив центр тяжести, мгновенно развернуться, не потеряв устойчивости, собравшись в комок, выстрелить пружиной.
Слава Богу, всегда находятся здравые люди. Энтузиасты вовремя спохватились, начали собственную селекцию, и в кряже западно-сибирских лаек какое-то время существовали две линии — растянутых волчьих и квадратных собак, потом последние постепенно сошли на нет.
Рось была из волчьих. Ее маму вывезли из Москвы, а хороший кобель в Петропавловске был, в предках у него ходил трехкратный чемпион породы. Я взял Рось, когда ей исполнилось 23 дня и неделю с ней на полу спал, потому что успокаивалась она только у меня подмышкой. Ко времени, когда мне нужно было ехать в поле, ей набралось почти 5 месяцев. В экстерьере она уже почти оформилась и получила «оч. хорошо» на щенячьем ринге. Дальше собаки только матереют, добавить уже ничего не возможно, убавить — пожалуйста.
Поле в том далеком 1983 году было в самом сердце Камчатки, в междуречье Левая — Кунхилок; Левая — крупный приток Еловки, а Еловка — реки Камчатки, она впадает в нее с севера у знаменитых Щек. Отсюда, круто развернувшись на 90°, первая река полуострова катит свои неуемные безудержные воды прямо на восход солнца, к устью, где за сумасшедшими барами, поглотившими не одно судно и унесшими не одну человеческую жизнь, живет до горизонта океан — Тихий или Великий.
Река Левая названа так каким-то унылым, без фантазии, топографом. Их полно на Камчатке в самых разных ее частях — Левых, Правых, Быстрых… Как-то, ближе к вечеру к нам, во временный лагерь заглянули гости — три коряка, отец с двумя сыновьями. Они принесли в подарок полтуши оленя, мы отдарились чаем. Мы пили чай и говорили до темноты, от них я и узнал настоящее имя Левой, имя нежное и ласковое, — Лаливан, что в переводе означает Рыбка.
На Камчатке много медведей; по большей части они смирные, самостоятельные и не очень осторожные; кроме человека, врагов у них здесь нет. По осени, когда вызревает ягода, они собираются на тундрах, где пасутся как домашний скот. Однажды я насчитал в пределах видимости 6 медведей, а доктор В. В. Иванов для Сторожевских тундр приводит и вовсе ошеломляющую цифру — 18. Стадо. Когда они бредут по тундре, часами не поднимая головы, они походят на коров. Рось и гоняла их как коров. Можно сказать, что в полгода она уже работала по медведю, и однажды я наблюдал, как это выглядело. По маршрутным делам я залез в один из боковых распадков безымянной речушки, а Рось осталась внизу в долине. Потом она залаяла, лай был гонный, она подняла зверя. Я выбрался из кустов и уселся поудобнее — внизу в полукилометре от меня разворачивалось живое кино. Долина была небольшой, чистенькой и открытой. Медведь средних размеров несся большими скачками, а следом стелилась Рось. Потом ему надоело драпать, он замедлился, замедлилась и она. Потом он круто осадил и развернулся к ней грудью. Рось так же круто тормознула, согнувшись колесом и уперев перед собой все четыре лапы. Их разделяло метров десять. Нагнув голову, медведь устремился в атаку, Рось отскочила в сторону. Медведь продолжил движение по прямой, перешел на шаг и, не обращая больше на нее внимания, медленно побрел к зарослям в пойме, до них было метров пятьдесят. Все это время Рось его облаивала, теперь она замолкла и огляделась по сторонам. Меня нигде не было видно, она тявкнула еще пару раз для порядка вслед уходящему медведю, повернулась и пошла меня искать…
Рось приучила меня к защищенности, и я перестал брать с собой в маршруты положенный по статусу карабин 7,62 мм, он громоздкий и тяжелый, с припасом все 6 кг. Но быть совсем безоружным там нельзя, и я носил с собой «Белку» — любимое, заслуженное оружие, приклад изрезан значками-символами в память трофеев, верхний ствол нарезной 5,6 мм, нижний гладкий 28 калибра, вес всего 2,6 кг.
Рось была собака ласковая, дружелюбная, понятливая и с юмором. Все ее любили, и дома, и здесь в поле, и все норовили как-нибудь исподтишка побаловать, несмотря на мои запреты и наказы. Она и это понимала, и из уважения ко мне равнодушно воротила нос от предлагаемого лакомого куска. Я нарочно отворачивался, она подходила к дарителю, забирала кусок и, развернувшись ко мне спиной, спокойно его съедала. Мы снова одновременно поворачивались друг к другу лицом и нам ничего иного не оставалось, кроме как дружно рассмеяться. Рось радостно скалилась и ударялась в галоп, делая круг по поляне от избытка чувств.
…Мы отработали участок и назавтра предстояло возвращение на базу. Со мной в этих маршрутах были университетские студенты-дипломники, Ильдар из Перми и Иветта из Одессы. Потом в их честь я назвал два открытых нами, ранее неизвестных выхода углекислых минеральных вод, один из них классический термальный, с травертинами. Так они в каталог и вошли — «Ильдар» и «Иветта».
После ужина я засиделся у костра за полночь, дописывая последний маршрут. Ребята давно спали в своей палатке. Спала и Рось, свернувшись в клубок, вплотную к костру, поджаривая бок и спину. Временами она вздрагивала и легонько поскуливала, что-то ей снилось.
Сзади послышался легкий треск, потом чуть в стороне и громче. Я глянул на Рось, она и ухом не повела, спала. Треск стал еще громче, вплотную за палаткой в темноте топтался, переминался с ноги на ногу медведь. Не знаю, что ему нужно было, он подошел неслышно и теперь его, наверно, разбирало любопытство. Я не выдержал.
«Рось!» — Она вскинула голову и почти одновременно, скорее инстинктивно, услышала и оценила этот треск. «Ай, ай, ай, ай…» — раскатистый лай, тяжелый топот медвежьих ног, треск сучьев под ним и Росью разорвали тишину. Словно поезд прошел и теперь удалялся. Минут через 10 она вернулась, ткнулась мне в ноги, я ее погладил, она плюхнулась на прежнее место у костра, опять свернулась кольцом и тут же уснула. То была последняя в ее жизни ночь…

На следующее утро после завтрака и сборов, в яркий и теплый солнечный день мы вышли. Стоял конец августа. Мы шли вдоль бровки высокой 20-метровой правобережной террасы Лаливан, укрытой вековыми елями, а понизу, в долине, тундры уже готовились к осени и украшались, расцвечиваясь багряным и оранжевым. Но нам было не до пейзажей. Давили тяжестью рюкзаки, они всегда такие в переходах с возвращением на базу, то и дело пропадала тропа. Это старинная тропа, показана даже на карте, но ее вовсю используют медведи, а в таких местах они не ходят прямо. То и дело тропа сворачивала в лес и через 20—30 метров упиралась в чащу. Мы возвращались, шли прямиком, где-то снова ее ловили, потом она опять исчезала… обычная история. Я думал раньше, что самые тяжелые по проходимости места это участки, заросшие кедрачом, кедровым сланником. Я ошибался. Здесь, на открытых, веселых и таких приветливых местах повсюду снизу первыми росли хвощи — редкие, с виду безобидные, в полметра высотой. Они сминались под ногой, уходили вниз, и мы брели в хвощах уже по пояс.
Похоже на песок, но там нога находит в конце концов какую-то опору, тут ее почти не было, вата. «Меньше двух километров в час» — установил я по карте нашу скорость на очередном коротком привале-перекуре. Даже Роси было тяжело, и она нас бросила, находя для себя лазейки где-то рядом, по лесу. Нам выбирать было не из чего — справа лес с густым подлеском, слева уступ террасы и под ним река; ее не везде перейдешь вброд, а она то и дело прижимается к борту — непропуски.
Через пару часов стало все же легче, тропа здесь сохранилась лучше, и мы зашагали быстрее. Я начал приискивать место для обеденной чаёвки. Перешел узкий ложок-ров метров пять глубиной, внизу журчала вода — то, что нужно. Следом поднялись студенты, я обернулся было, чтобы сказать им о чаевке, как вдруг впереди залаяла Рось. И тут же раздалось трубное хрипловатое мычание. Так мычат застигнутые опасностью медвежата, обычно загнанные на дерево. Я сделал несколько шагов, дальше тропа уходила в узкую аллею между стволами елей. Я глянул вдоль тропы — в глубине аллеи, метрах в пятнадцати, почти на уровне моей головы, чуть выше, на поперечной ветви мощной ели сидел метровый медвежонок и мычал. Мне под ноги метнулась Рось, а метрах в четырех, рядом с кустом ольхи выросла медведица. Она была большая.
Разинутой пастью ревела медведица, что-то орал ей я, уперев приклад в плечо, рюкзака на мне уже не было. Нашел в прицел ее сердце между раскрытыми лапами. Но что этой махине маленькая круглая пуля 28 калибра, ошибись я хоть на миллиметр, — расстояние четыре метра, два студента сзади, за спиной.
Не знаю, что бы с нами было. Думаю, нас спасла Рось, она нас подставила, она и спасла. Снова подал голос медвежонок, Рось скользнула по тропе к нему, а следом и медведица. Я велел студентам уйти за ложок и запалить большой костер. Помню белое лицо Ильдара, Иветта была в порядке.
Впереди в кустах слышалась возня. Рявкнула один раз медведица, повис в воздухе негромкий, недолгий и какой-то обиженный Росин голос, визг и плач разом. Потом все стихло. Все продолжалось несколько минут. Я стоял и слушал. Ни звука. Шелестел лишь ветер в траве.
Я медленно пошел вперед. Поравнялся с местом, где мычал медвежонок, дотянулся до ветки, где он сидел. Здесь была небольшая мокрая низина с редкой ольхой и вся в хвощах. Видимо, медведица загнала Рось в хвощи, отрезав ей путь к тропе. Что хвощи самой медведице, или трава, или кусты? Она прошла как танк, я видел вывороченную с корнем ольшину толщиной у комля с мое бедро, она ей помешала. Я прошел по следу, он сделал круг и замкнулся на тропе. Роси не было. Потом прочесал ристалище, всего-то метров пятьдесят в диаметре, параллельными ходами метр за метром, заглядывая под каждый завал и в каждый куст. Ничего, ни ошейника, ни шерстинки, ни капельки крови. Много позже профессиональный охотник сказал мне, что медведица забрала ее с собой.
Грело солнце, стало очень тихо. И в этой тишине, помню, пела какая-то птица, пение птицы большая редкость на Камчатке. Роси в этом мире больше не было…
1998 год. Краснодар
Апельсин великий охотник

Апельсин — обыкновенный кот средних размеров, даже, наверное, чуть помельче. Рыжий с белым, или белый с рыжим, того и другого в нем поровну. Несмотря на скромные размеры, коты в округе его уважали и обычно сторонились. Под короткой шерстью жили сплошные мышцы, да и характер у него был крутой. Вот он лежит под солнцем после утренней охоты, распластался рыжим ковриком. Спит. Невдалеке появляется соседский кот, идет неслышно, как все коты. Апельсина он не видит, тот в ямке и почти укрыт травой. Метрах в пяти Апельсин его услышал. Он приподнимает голову и издает недлинное хриплое мм-яууу. Это еще не рык, но раскаты явственно слышны. Кот-сосед останавливается, делает несколько шагов в сторону, по кругу обходит место, где лежит Апельсин, и удаляется. Апельсин роняет голову и снова засыпает. Так близко его соседи появлялись только вначале, пока он осваивался и устанавливал границы. Потом я их в своем дворе больше не видел.
Мы познакомились, когда я перебрался из города на хутор, было ему, наверно, около года. На следующее утро после моего вселения я вышел на крыльцо и увидел перед собой такую картину: перед крыльцом сидела большая темная кошка, а слева и справа от нее в полуметре рыжий кот и пятнистый котенок, вдвое меньше рыжего. Мы помолчали, разглядывая друг друга.
«Ребята,» — сказал я, — вы все замечательные, но три кота для меня слишком много, вы уж извините. Я выбираю рыжего, потому что мне кажется, он — кот».
Я вернулся в дом, набрал в миску разной снеди, вернулся, картина была прежней, они ждали. Я приблизился к рыжему. Он с поворотом поднялся и отпрыгнул в сторону; я сделал шаг назад, одновременно протягивая миску. Он приблизился к миске и осторожно, все время на меня поглядывая, начал есть, выбирая сначала колбасу. Кошка тоже потянулась к миске, а за ней и котенок. «Нет, ребята, вам нельзя. Я бы с удовольствием всех вас накормил, но вы можете неправильно это понять. Рыжий остается и теперь будет за хозяина. А вам лучше отправиться домой». Я пошел на них, помахивая руками и приговаривая: «Кыш, кыш». Они отбежали в сторону, уселись метрах в десяти и там остались. Я вернулся к рыжему. Он уже съел колбасу и принялся за сыр. Погладить себя он не дал. Я не стал настаивать и вошел в дом. Из окна мне видны были кошка с котенком. Как только дверь за мной закрылась, они тут же устремились к рыжему. Я вышел, не давая им приблизиться, и шугнул уже серьезнее. Теперь я проводил их до забора и за забор и постоял тут некоторое время, пока они не ушли. Оглянувшись, увидел рыжего, отошедшего от миски, он уже позавтракал. Я широко открыл дверь в дом и пригласил его войти, но он не пожелал. Примерно за неделю мы сблизились. Он стал заходить в дом, но остаться на ночь согласился только примерно через месяц. А полное его доверие я заслужил не раньше чем через полгода, после суровой в тот год зимы. Из всего этого я заключил что детство у него было трудное.
Назвал я его сразу и имя тут же приклеилось, он привык к нему моментально, за день, может, за два. Почему Апельсин, не знаю; кроме «апельсиновой» масти, было в нем еще что-то, что незримо радует нас в этом солнечном «яблочке». Апельсин», говорю я. «Мяу», отзывается Апельсин. Могу повторить, он снова скажет свое спокойное «Мяу», он понимает — мы общаемся. Нормально. Он всюду со мной здоровается, где бы ни увидел. Вместе утром выходим из дома во двор. Я крутнулся по делам, через пять минут мы снова встречаемся. Апельсин обязательно скажет «Мяу». «Мы же только что виделись», говорю я. Он снисходительно меня разглядывает. В его взгляде я читаю: «Приличные, воспитанные люди, такие как я, Апельсин Великий Охотник, должны здороваться всегда, когда бы ни встретились». «Поня… а… тно», говорю я, пристыженный. И то правда, почему бы лишний раз не пожелать друг другу здравствовать. Из нас двоих себя он считает старшим. Он постоянно меня учит и многому уже научил. Но от меня он тоже кое-чему научился.
Его трудное детство сказалось на его привычках. Все съестное, что находилось в пределах его досягаемости, он считал своей собственностью и немедленно принимался это доказывать. Поначалу даже на полках ничего нельзя было оставить. Кроме Апельсина, в доме есть еще один житель, стафф-терьер Мерлин. Могучий пес около 40 кило весом, тигрового неярко выраженного окраса, высота в холке 55 см, сильный как лошадь. Обеденный стол у меня низкий, полметра в высоту. Голова Мерлина над столом, он видит все, что на нем есть во время обеда: мясо, сыр, колбаса..; все так аппетитно пахнет и так соблазнительно выглядит. Но он молча сидит в полуметре, молча на все это смотрит и время от времени сглатывает слюну. Можно спокойно уходить и заниматься своими делами, он будет так же молча ждать и со стола никогда ничего не возьмет. Это кровь, голубая кровь сотен поколений, вырастившая в нем благородство и воспитавшая хорошие манеры. Не помню даже, чтобы я его учил. Ему достаточно спокойным голосом сказанного «нельзя», он тут же знает, что чего-то нельзя — того, этого.., лишь бы он понял, к чему запрет относится.
Не то Апельсин. Вот как всё было на первых порах. Подошло время обеда, Апельсин тут как тут. Я накрываю на стол. Не успел я отлучиться, чтобы принести хлеб или налить молока, как он уже на столе. Я беру его за шиворот, выношу на улицу и забрасываю метров на пять. Если делать это спокойно, аккуратно и беззлобно, вреда ему от его недолгого пребывания в воздухе в свободном полете никакого. Приземлившись, он отряхивается и, не оглядываясь, уходит. Что нельзя ничего брать со стола или расхаживать по нему во внеобеденное время, Апельсин понял сразу, но отучиться быстро было выше его сил. Несколько раз урок пришлось повторять, в последний раз — совсем недавно, я уж и думать об этом забыл, года два прошло со времени его последнего срыва. Теперь Апельсин повторил свой сеанс воздухоплавания и, как всегда, ушел. После завтрака я вышел из дома, собираясь заняться делами. Апельсин обычно охотился до обеда, а потом спал во дворе на виду. На этот раз он был недалеко, метрах в 15, за забором. «Странно», отметилось у меня в мозгу далеко в закоулках, но я не придал этому значения. «Мяу», крикнул Апельсин и устремился прямо ко мне. Юркнул в ноги и принялся о них тереться и урчать, расхаживая по кругу. «Мириться пришёл,» — догадался я. «Ну что, будешь еще?» — «Не буду — не буду — не буду», клялся Апельсин. И хотя все звучало в форме его обычного «мяу», мы очень даже хорошо друг друга понимали. «Ладно», говорю я, «подожди здесь». Я вынес ему кусочек сыра, он его слопал, весело на меня глянул, крутнув хвостом, сделал резвый скачок и отправился по своим охотничьим делам. Инцидент был исчерпан. И все же нужно быть снисходительным и не забывать об этом «трудном детстве». Обычно я о нем помню и, чтобы лишний раз Апельсина не провоцировать, стараюсь не оставлять ничего съедобного в местах, ему доступных.
Апельсин никогда не бывает голодным. Наши с ним завтраки-обеды-ужины это просто уклад жизни. Если говорить о сытости, он спокойно обошелся бы и без них. Но не обходится. Ему, как и мне, недостает наших немногословных разговоров и прочих знаков внимания. Он ждет, чтобы его покормили с руки; это может быть просто размоченный в воде сухарик, что чаще всего и бывает. Но, конечно, не откажется ни от сыра, ни от колбасы или рыбы, хотя особой разницы в реакции на колбасу и сухарик я не замечал. Общение для него важнее. Он его ценит и не бывает неблагодарным. Кроме мышей, всю свою добычу, включая крупную и тяжелую, он всегда тащил ко мне и расправлялся с ней у меня на глазах. Поначалу я думал, что в нем говорит обычное тщеславие, вот, мол, какой я Апельсин Великий Охотник. Но потом понял, что это не главное — он со мной делится, это его форма благодарности за то, что нам так уютно и безбедно живется вдвоем. Хотя, конечно, ему нравились мои охи, ахи и прочие восторги, но он принимал их как должное, он знает, что этого заслуживает.
Его охотничьи подвиги действительно достойны восхищения. Мыши для него «семечки» — молниеносный бросок, и он уже с ней, полумертвой, играет: шевелит лапой, сидит в стороне, наблюдая, как она пытается скрыться, вовремя отсекает пути к укрытию; когда она перестает шевелиться, принимается за неторопливую трапезу, начиная всегда с головы. Был год, когда на мышей случился урожай. Зимой они скопом ринулись в дом. Апельсин зимой тоже всегда ночует в доме, спит на кровати у меня в коленях и долго там поверх одеяла устраивается. Мыши ему просто надоели, и если не на виду, Апельсин перестал на них реагировать; мыши шелестели и скреблись, а он спал, хотя подрагивающие уши говорили, что он превосходно их слышал. Пришлось ставить мышеловки. Одна из них находилась за кроватью со стороны изголовья, там у мышей был главный тракт. Я отдавал Апельсину мышей из мышеловок, и он хотя и не всегда, нехотя их съедал, куда только помещалось. Но на щелчок мышеловки Апельсин всякий раз реагировал мгновенно и спросонья летел стремглав, не разбирая дороги, случалось, что и по моей голове…
Как только теплело, с весны и до морозов, большую честь времени Апельсин пропадает на улице. Свою волю он не променяет ни на что. Рядом плавня с ее лягушками, водяными крысами, ужами и змеями. Напротив степь с хомяками и зайчатами. Вокруг огороды, перемежаемые пустырями, здесь птички, мыши и домовые крысы. Это все входит в обычное меню Апельсина большую часть года, и все это он мне показал. От ужа сантиметров 70 длиной минут через 20 он оставил один только хвостик; я отдал его Мерлину, но он есть его не стал и долго с ним играл. С хомяками Апельсин в один присест управиться не мог, прятал в укромное место и в течение дня несколько раз туда наведывался. Здоровенную лягушку тоже за раз не осилил и обе задние лапки оставил французу. Я сказал ему, что напрасно он это сделал — француз для плавни враг номер 1. Он промышляет бондюэлем, сладкой кукурузой, и постоянно ворует у плавни воду, чтобы круглое лето поливать свой бондюэль, так что в плавне скоро и лягушек не останется. Но Апельсин в тот момент помочь уже ничем не мог, он объелся, и брюхо у него свисало до земли. Выручил его Мерлин, проглотил обе лапки и попросил еще.
Однажды Апельсин приволок домой зайчонка. Я ахнул, тот был величиной с него самого. «И тебе не жалко?», спросил я его. Он что-то пробурчал в ответ и глянул на меня. Жалости в его глазах не было, было какое-то деловитое спокойствие. Он отвернулся и с этой деловитостью принялся за зайчонка. «Хищник ты, Апельсин», вздохнул я. «Ну а люди что же?», подумалось мне. Апельсину природа назначила быть хищником. Он занимается своим делом. Сейчас наестся до отвала, потом полдня будет спать. Потом снова начнет охотиться, ловить зазевавшихся мышей и зайчат. За шустрыми да умными он и гоняться не станет, найдет дурачков, таких, как этот зайчонок. Потому в его охотничьих угодьях не убывает ни заячьего племени, ни мышиного. А там, где обитает двуногий хищник, остались одни мыши, да он сам. Зайцев в его владениях не сыщешь, он их выбил — ночью, при свете автомобильных фар, слепых и беспомощных в галогеновых безжалостных лучах, за которыми следом идет смертоносный свинец. Вспомнился мой хуторской сосед, к нему часто наезжали его друзья-охотнички из города; на открытии охоты я спросил его об их охотничьих успехах. Он сообщил: за два дня вчетвером они расстреляли 160 (!) лысух. Что делать с этой горой, как их щипать теперь, они не знали, но выход нашли быстро: содрали с лысух шкуры и обезглавили, в город, на радость женам, повезли сплошное мясо. Двоих из них я видел. Из охотничьего камуфляжа выглядывали сытые, красные, пьяные рожи, в дистрофики такие не годились…
Прошли дожди, и в плавне поднялась вода. Она вытеснила из прибрежных камышей водяных крыс, и те подались по огородам. Ночью просыпаюсь от странного громкого клекота. Потом была какая-то возня под полом, но довольно быстро все затихло. Просыпаюсь утром и выхожу. В доме есть пристройка, она вся в щелях, и Апельсин давно ее освоил, нередко он здесь ночует. Вдоль стен там стоят ящики, и на них стопками выложены коробки с книгами. На самой высокой стопке, на уровне моей головы, у него любимое место, и я постелил там коврик. Всякий раз, когда я открываю дверь, если он на месте, я сталкиваюсь с ним нос к носу. И сегодня — то же. На коврике восседает сонный Апельсин, а по кругу от него выложены три водяные крысы и крупный рыжеватый пасюк, его хвост свисает прямо под Апельсином сантиметров на 20. Теперь понятно — они и устроили ночью этот музыкальный с клекотом тарарам. Ясно и то, что минимум еще одна крыса благополучно переваривается сейчас у Апельсина в желудке.
Такой вот у нас Апельсин Великий Охотник.
Есть у Апельсина одна слабость — цигун. Видимо, он как-то незаметно регулярно этим занимается, но тайно. Зато когда я становлюсь в У Цзи, он, если это видит, тут же спешит ко мне, для него это сигнал. Моя стойка У Цзи в прописи от Сунь Лутана: руки по швам, ноги вместе, пятки касаются друг друга, носки разведены так, что между стопами угол 90 градусов. В этом треугольнике Апельсин и устраивается, наваливаясь на мои ступни. Пока я в У Цзи, он сидит там неподвижно, 10, 20 минут, полчаса. Потом начинается движение, а он по-прежнему хочет быть под ногами. Но он мне мешает, и я его устраняю. Он протестует, но приходится смириться.
Февраль открывает любовный сезон в жизни Апельсина. Не странно ли, что те же терзания обуревали когда-то Б. Пастернака?
«Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд.
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит».
Думаю, нет, не странно, все мы из одного теста слеплены — Круг Земной…
Знаменитые кошачьи концерты будоражат ночь. Низкий речитатив звуков то и дело прерывается крещендо.
«Под ней проталины чернеют.
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд».
Апельсину уже не до еды, не до сна, не до забав. Он пропадает на улице сутками. Появляется на несколько часов изможденный, истощенный, нередко в крови, с клоками выдранной шерсти. Отъедается, поспит пару часов и снова пропадает. Апельсин по-своему красив, у него бесстрастная физиономия корнета с щегольскими усиками, явственно намеченными двумя рыжими удлиненными пятнышками по обе стороны носа, там, откуда вырастают его обычные усы. На человеческий взгляд это добавляет ему шарма. Но, кажется, его подружки тоже это ценят.
Апельсин вообще неравнодушен к сладкому, в еде — тоже. Печенье, пряники, пирожные, варенье с булкой.. наверно, он предпочтет их мясу, которого у него всегда вдоволь, а может и рыбе. В глазах Апельсина появляется блеск, а вместо «мяу» слышно урчание; эти признаки явно выдают притаившегося в нем гурмана. Мерлин, хотя он и всеяден, тоже обожает сладости. Ну и я, признаться, без печенюшек обойтись никак не могу. Такая вот подобралась компания — одни сладкоежки.
5.05.2009. х. Редант
Заблудившиеся

Встречаемся в парке с бультерьером, могучим, породистым, но уже тронутым грязью, запустением и улицей. На шее дорогой ошейник, в глазах тоска. Сбежал за загулявшей сукой и потерялся. «Сучки, ох уж эти сучки!» говорю я. Мы глядимся глаза в глаза, он ― с надеждой, я ― с сочувствием.
«Я не могу тебя взять, мне самому почти что некуда идти». Он всё понял. Мы развернулись и идём в разные стороны; шагов через десять оборачиваемся и снова достаём друг друга взглядами, потом ещё раз, потом уходим, уплываем… Он ― на юг, а я ― на север.
18.09.2004. Краснодар
Клотильда, Кассандра и Муха

Посвящается Мухе
Клотильда и Кассандра две таксы, обе черно-пегие, с идеальным экстерьером, но Клотильда была аристократкой, Кассандра ― попроще.
Клотильда, Кло, Лота, Тильда ― она прекрасно знала все свои имена и знала, что полное имя свидетельствовало о серьезности момента и следом может прийти наказание ― за то, что перебрала с шалостями, или плохо слушалась, или пришло время угомониться. Наказание ― шлепок, окрик, нотацию, она принимала с оскорблённым достоинством: фыркала, задирала нос, удалялась на пару метров и ложилась, демонстративно отвернувшись, но не выпуская меня из поля зрения и вполглаза наблюдая за дальнейшими событиями. В течение некоторого времени она незаметно разворачивалась лицом ко мне и ждала, когда её простят. Достаточно было фразы вроде «Ну что, насиделась?» а то и просто жеста или взгляда, как она тут же оказывалась рядом и глядела невинными глазами, в глубине которых прятался смех. Она тонко чувствовала юмор и всегда с удовольствием подыгрывала ситуации. Дети так её и звали: «Лота — умористка». С двумя моими дочерьми-подростками она гасала в нашем небольшом дворе и палисаднике, заливаясь восторженным лаем-визгом. В этой игре «поймать Клотильду» они нарезали немыслимые круги, кричали, падали и хохотали, пока не валились, наконец, в одну общую кучу, чтобы отдышаться. Жизнь их переполняла. Так сполна дышать и радоваться умеют только дети и животные, эти вечные дети ― от рождения до смерти. Им нравится оставаться детьми. Только поэтому они когда-то приручились. Человек избавил их от забот по добыванию пищи, самой суровой каждодневной необходимости. Взамен они отдали свою службу ― пастушью, охранную, охотничью, проводников, поводырей, нянек, ищеек, спасателей… Но всегда готовы пообщаться, вместе поиграть и посмеяться.
Весной, в начале мая, я взял Клотильду на первую рыбалку в плавни, было ей около полугода. Её охотничьи инстинкты проснулись сразу, едва только она завидела воду. Она ринулась к ней, наделала брызг, развернулась за лягушонком и пропала в камышах. Пока мы добирались на резиновой лодке до места, она ещё раз приняла холодный душ: за чем-то потянувшись, не удержалась и свалилась со скользкого резинового борта.
Плавня Клотильду нисколько не смутила, она тут же принялась её обследовать и осваивать. Я в это время готовил обед. После обеда пришло время ставить палатку. Узкая полоска суши между нешироким каналом, по которому мы приехали, и озером Кругленьким заросла камышом и кое-где кустами солодки. Примерно по центру этой полосы идёт кабанья тропа. Кроме как на тропе палатку ставить было негде, по периферии везде кочки и болотина. Ситуация эта для глухих мест довольно обычная; на Камчатке, на высотах, я нередко разбивал лагерь, используя перевальные медвежьи тропы. Так и здесь, мой спальный мешок поместился как раз на тропе. К вечеру мы наловили рыбы, сварили густую уху, попили чаю и заснули. Клотильда за ночь притомилась и ворочалась недолго. Приучая к охранной службе, в палатку я её не пустил, и она удобно устроилась на улице под тентом вблизи моих ног. В час ночи Клотильда подала голос. Я тут же проснулся. Она метнулась вдоль палатки, очутившись на противоположной её стороне, со стороны моего изголовья, и затеяла трезвон. Я зажёг в палатке свечу и пытался вслушиваться, но за Клотильдой что-то услышать было невозможно; лай был возмущённый, хозяйский, уверенный, испуг в нём отсутствовал. Я выбрался из палатки, покричал что-то и с полминуты стучал ложкой по котелку, заранее с вечера приготовленными (стучать и даже стрелять в воздух случалось и на Камчатке). Через несколько минут Клотильда вернулась на место. Я закурил, поговорил с ней, расшевелил почти догоревший костёр, но разводить огонь не стал, топливо было в дефиците. И мы снова отправились спать. Наутро по следам на влажной почве я выяснил: приходила свинья с семейством, потопталась и ушла своим следом по тропе назад.
На следующий день мы ловили с Лотой щук. Впрочем, они её не очень интересовали. Попрыгав возле бьющейся щуки, она отправлялась в заросли, мыши и водяные крысы привлекали её куда больше. Через день к нам присоединились трое ― врач с двумя двадцатилетними сыновьями–близнецами, тоже медиками, студентами. Это они доставили нас с Лотой в плавню, а теперь и сами приехали на рыбалку, так было заранее запланировано. Ещё день мы рыбачили, вместе ночевали, а на следующий день надо было уезжать, врачу предстояло ночное дежурство. Я отправился собирать жерлицы, ребята были ещё в лагере. Клотильда оставалась там же, вокруг была вода, деться ей было некуда. Отъезжая от берега, я обратил внимание на большой контейнер для яиц; крышка была открыта, все 20 гнёзд в нём были заполнены яйцами.
Часа через три я возвратился. Лагерь был пуст, ребята уже отъехали, добираясь к месту, где оставили машину. Клотильды тоже не было видно. Опять попался на глаза контейнер, совершенно пустой. «Странно», подумал я, «уж пару яиц могли бы и оставить». Я огляделся, отыскивая Клотильду, и заметил, как она мелькнула вдалеке, метрах в 70. Я позвал её, она примчалась, но тут же убежала снова в том направлении, где я её только что видел. Я пошёл следом, подумав, что она копается в какой-нибудь норе. Норы я нигде не нашёл, а через несколько минут Клотильда ко мне присоединилась, и мы отправились назад, в лагерь. Время торопило, надо было ехать. Я собрал остатки вещей в лагере, и мы отчалили.
У машины меня ждали и пошумели, что долго не было. Я передал ребятам контейнер и спросил:
«Что мне яйцо не оставили?»
«Не было.»
«Как не было? Вы что, 20 яиц в один присест слопали?»
«Ни одного. Мы подумали, что это Вы их забрали».
«Зачем? Мне бы и одного хватило, с Клотильдой — двух».
Смутные подозрения зароились у меня в голове. «Ну-ка иди сюда», позвал я её. Я ощупал её живот ― нормальный полупустой живот. Растянув челюсти, заглянул в горло, спросил: «Она могла проглотить целое яйцо?» «Нет, гортань узкая, целое яйцо не пройдёт, это исключено», уверили меня медики. Мне тут же вспомнились челноки Клотильды вдали от лагеря. Картина прояснилась. Ребята рано утром наспех перекусили и отправились рыбачить, оставив контейнер открытым. За те пару часов, что они блеснили спиннингами щук, Клотильда извлекла из гнёзд все 20 яиц, перетаскала и упрятала в надёжном месте в стороне от лагеря. Конец этого занятия я и застал, когда, вернувшись, увидел её вдалеке. Где-то там был теперь этот новый склад хозяйственной Клотильды. Мы подивились, посмеялись, с удивлённым уважением потрогали Клотильду. Та, казалось, понимала в чём дело и знаки уважения приняла как должное.
Возвратившись с рыбалки, ребята собирались плотно позавтракать, но без яиц остались полуголодными. Еще бы ― два здоровых парня под метр восемьдесят ростом. Поэтому у первого же магазина пришлось остановиться…
Век Клотильды был недолог. Может, потому, что Бог так щедро наградил её талантами: умом, ярким характером и темпераментом, чувством собственного достоинства, веселостью, добротой и той тонкой способностью сочувствовать и сопереживать, что так редко встречается у людей. Более всего Клотильда ценила волю. Двора ей было мало. Мы нередко бывали на прогулках и на улице. Сущее наказание! Её любознательность и стремление во всём участвовать не знали границ. Поводок был постоянно натянут. Окрики её обижали, запреты приводили в недоумение. Но то был город: душный асфальт, вереницы машин, толпы народа. Город её и убил, как многих из нас.
Двор у нас был общий с бабой Надей. Та торговала семечками, и посетители к ней бывали часто. Я постоянно следил за калиткой ― чтобы она была закрыта. Постоянно просил об этом бабу Надю. Поправил все запоры, калитка теперь легко открывалась и закрывалась. Несколько раз её всё же бросали открытой, и Клотильда тут же этим пользовалась. Она пулей вылетала в щель на улицу, и я догонял её только через полквартала — квартал. Команд она в это время не слышала, мчалась стремглав по тротуару или по обочине дороги. Может, со временем она с моей помощью эту привычку и изжила, но пока ей не исполнилось и года.
Однажды я не доглядел. Был в доме, ёкнуло сердце, и я вышел из дома наружу. Во дворе у распахнутой калитки стояла баба Надя. На руках у неё с откинутой окровавленной головой лежала Клотильда.
«Что же Вы, баба Надя! Я же просил! Я же каждый день Вас просил! Полчаса назад я Вас просил!» крикнул я.
Она смолчала. Только глаза зло блеснули.
*
Год мы с детьми погоревали по Клотильде, а потом завели Кассандру, иногда Сандру, обычно просто Касю. В ней не было блеска Клотильды, того блеска, который сразу отделяет и ставит особняком выдающуюся индивидуальность. Это было совсем другое существо ― ласковое, покладистое и спокойное. Двора ей вполне хватало, улица её волновала мало. Была она очень деловитой и всегда чем-то занята. Но с удовольствием играла и в любом начинании готова была составить компанию. Всех нас она любила, но детям предпочитала меня. Спала она в моей комнате на коврике рядом с кроватью. Точнее, там она начинала спать, а ночью незаметно и очень осторожно взбиралась на кровать. Но и этого ей было мало…
Просыпаюсь поздно ночью от прикосновения. Это Кася внедрилась под одеяло и замерла. Такое случалось уже не раз, и я её оттуда выдворял ― выталкивал ногами на поверхность одеяла. Но сегодня решил посмотреть, чем всё закончится. Молчу. Кася тоже затаилась. Потом начинает ползти. Медленно, по миллиметру, вдоль моей ноги, поэтому её движение я ощущаю. Так, миллиметр за миллиметром, она добралась до моих колен, осторожно повернулась, чтобы удобнее улечься и со спокойной душой была готова начать спать. Я засмеялся. Кася поняла, что её обнаружили и слегка заёрзала, опасаясь, что сейчас её опять вытолкают. «Ладно уж, лежи, партизанка». Кася сообразила, что опасность миновала, засопела, наверно заработала хвостом, но тут же притихла, и мы уснули.
Жить в Касей было спокойно. Но жизнь не признаёт спокойствия. Беда на этот раз пришла с другой стороны.
Мои дочери незаметно повзрослели и стали подростками; как им казалось ― умными, почти самостоятельными, почти взрослыми, языкатыми, на многое заявлявшими права и всегда готовыми их отстаивать. Их жизнь была забита доотказа: обычная школа, музыкальная школа у одной, художественная у другой, спортивные секции, домашние уроки, улица… Мальчики, влюблённости, первые сигареты, хмельное пиво и вино… Ох, эти унылые родительские бдения по ночам в ожидании, пока стукнет калитка («Пришли!»). Эти разгорячённые беспорядочные разговоры днём, чтобы что-то выяснить и попробовать помочь. Тщетные попытки урезонить, бесполезные уговоры, бесплодные обещания… В доме стало неспокойно. Бывали крики, сцены, слёзы…
Худо стало Касе. И Кася ушла. Теперь за калиткой никто не следил, и она часто оставалась открытой. И уже баба Надя ворчала по этому поводу.
Я думаю, это случилось вечером. Была какая-нибудь перебранка, и Касе опять стало неуютно и плохо. «Сколько можно!» подумала Кася. «Бестолковые люди. Чего им не хватает? Так всё вокруг хорошо и интересно. А они только и знают, что бранятся и ругаются». В сумерках она вышла на улицу и побрела вдоль по ней… Я очень надеюсь, что она попала в хорошие руки. Не может же быть, чтобы в большом городе не нашлось никого, кто бы был достоин её спокойной любви и преданности.
*
Я выбрался, наконец, из города и осел на хуторе. Мой дом был на его окраине последним. За окнами плавня и степь. В соседях жил небольшой мужичок под шестьдесят с необыкновенно зычным для его размеров голосом. Селяне звали его Доктором, я думаю за длинный язык и образованность. Он закончил ФЗУ и какие-то курсы, выписывал газету и журнал, читал детективы, а может и другие книги. К медицине же имел отношение только когда болел. В армии служил снайпером.
«Снайпером? — удивился я — и не жалко?»
«Кого жалко? — не понял он.
«Человека. Он такой же тёплый, как ты. Ходит, дышит, строит планы на вечер. Ничего не подозревает. И вот ― нет его. Ты сработал за Всевышнего, забрал жизнь. Но Всевышний всегда жалеет, даже преступника. Ты же сделал это спокойно и хладнокровно. Иначе у снайпера не получится. Глаз не моргнул, палец на спуске не дрогнул ― как учили. Сам ты в надёжном укрытии. Выходит, нож в спину. Разве не так?» — «Это враг, — заорал он и долго что-то доказывал. А что тут можно доказать? Только то, что где-то не всё в порядке с психикой у снайперов… Хуторские, когда забивают птицу, рубят ей топором головы. Доктор своих кур и уток только отстреливал, сказывалась снайперская выучка.
Вообще-то мужик он был неглупый и своеобразный, но характер имел скандальный и вздорный. Любил порассуждать и прихвастнуть. И очень любил своих земляков. «Где хохол прошёл, там армяну и еврею делать нечего», повторял он и был в этом твёрдо убеждён. «Ну что, хохлы, прижурилися?» говаривал он любимую присказку, разливая по стаканам водку. Пьян бывал едва ли не каждый день. Поначалу мы уживались с ним неплохо, но потом я много от него натерпелся, перешёл на Вы и никаких контактов, кроме приветствия при встрече, больше не имел.
При мне трёхмесячным щенком Доктор завёл собаку и назвал Мухой. Тогда мы ходили друг к другу в гости, у него дома с ней встретились и влюбились с первого взгляда. В отдалённом родстве Муха имела такс, была такая же растянутая и тех же размеров, но ушки у неё были стоячие, так что может это были и какие-нибудь болонки пегой со светлыми подпалинами масти. Доктор был к ней очень привязан и ревновал ко всем без разбора. Постоянно чему-то учил, особенно в подпитии, пока держался на ногах. «Муха туда, Муха сюда, Ко мне, Пошла вон». Муха реагировала спокойно, то-есть чаще всего не обращала внимания, а от пинков уворачивалась. Она была сильнее его.
Потом Доктор засыпал, и Муха отправлялась ко мне. У него часто бывали гости, и когда они набирались, обычно к вечеру и ночью, Муха оставалась у меня ночевать, а утром возвращалась к себе, заслышав Докторское «Муха! Муха! Муха, домой!», поднимался он рано. Опасаясь ревнивых Докторских притязаний, я никогда её не кормил, иначе бы она вообще не ушла. «Муха, домой!» говорил и я ей, заслышал призывы Доктора. «Скорей! Скорей!». И она нехотя уходила, потом прибавляла скорости и добиралась огородами, появляясь в доме с тыла, так что Доктор долгое время ничего не подозревал.
Дома у меня тоже была собака, стафф-терьер, сначала Сварог, потом Мерлин. Сварог был личность выдающаяся, очень умный и какой-то вочеловеченный. Расул Гамзатов про лошадь вспоминал: «Старики говорят, что лошади совсем немного не хватило, чтобы стать человеком». Так и Сварогу. Он всё понимал, и не то чтобы слушался, а соглашался. Уши у него были обрезаны, как полагается, а хвост купирован, как стаффам не полагается; часть хвоста ему отгрызли его братья и сёстры ещё в младенчестве в многочисленном помёте (14 щенков), поэтому пришлось купировать, чтобы не торчал кривой огрызок. Был он очень породистый, но на редкость некрасивый. То-есть, это был могучий пёс идеальных статей, но лицо у него было некрасивое. Никогда я среди собак не видел, чтобы кто-то так откровенно смеялся, как Сварог. Но когда я впервые стал этому свидетелем, я испугался. Мне вспомнился Квазимодо. Лицо его исказила страшная гримаса, он крутанулся, скользнул в воздух, стелясь по траве, мелькнул как тень, выписав круг, и вернулся ко мне. И всё та же гримаса. Я подумал, что ему плохо. Мы сделали по шагу навстречу друг другу. Он поднялся на задние лапы и положил передние мне на плечи. Я заглянул ему глубоко в глаза и понял — Сварог смеётся. Сварог хохочет. Я тоже его обнял, положив руки чуть пониже передних лопаток, и мы сделали круг почти как в вальсе. Но танцоры из нас были никудышние, он отдавил мне ногу, и мы это занятие прекратили.
Каждый вечер мы выходили со Сварогом на прогулку. Он бежал впереди меня метров но 100—150. Останавливался, оглядывался, чтобы выяснить, на месте ли я, и уходил дальше. Этого зазора между нами в 150 метров хватило, чтобы проложить ему дорогу в вечность. Вот Сварог замер статуэткой на холме на фоне предзакатного розовато-сумеречного неба, вот, подкошенный, сложился и упал почти одновременно с громом выстрела. Застрелил его двадцатилетний балбес, горе-охотник, браконьеривший по зайцу в конце февраля, месяце, давно запретном для всяких охот, совсем скоро должны были появиться зайчата-мартовички. Он принял его за шакала. Монолитного Сварога, как минимум, вдвое больше шакала по габаритам, с обрезанными ушами и купированным хвостом, он принял за шакала. Тупость и алчность редко знает границы…
Потом в доме появился Мерлин, нескладный трёхмесячный щенок, и было лето, и мы с ним тоже ходили на прогулку по тем же местам, что и со Сварогом. Муха об этом немедленно проведала и составила нам компанию. Но об этом тут же узнал и Доктор. «Муха, домой! Домой! Домой, сволочь!» надрывался он. «Ты зачем её зовёшь?» вопил он уже мне. «Я её не зову. Муха домой!» махал я на неё руками. Муха останавливалась, нехотя поворачивалась, исчезала, а метрах в двухстах снова появлялась рядом, из камышей слева или из пахотной борозды на поле справа. И я был вынужден избрать для прогулок иной маршрут, через поля с противоположной стороны. Муха не видела, как мы выходили из дома, и Доктор утихомирился.
Потом Доктор серьезно заболел, почти помер. Увезли его в город, там откачали, и он пошёл на поправку, но возвращался к жизни долго. Муха в эти несколько месяцев ночевала у себя дома, это уже вошло у неё в привычку, пьяных компаний там теперь не было. Но каждый день приходила ко мне. Бывала с нами и на прогулках, когда хотела и не была занята собственными делами.
…Утро. Солнце. Прохладный ветерок. Деревья и трава в росе. Благодать и тишина в округе.
«Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал»
Б. Пастернак
Я сижу во дворе и что-то мастерю. Слева из-за угла дома появляется Муха. Тащит полуобглоданную рыбину с себя в длину. Устраивается напротив меня, между нами кладёт рыбину, копчёного толстолобика. Садится и на меня смотрит. «Что такое, Муха?» спрашиваю я. Она в нетерпеливом движении привстаёт на задних лапах, поднимая передние, и тут же садится. Что-то при этом пискнула; голос у неё мелодичный, сопрановый. Я отставляю инструмент в сторону и смотрю на неё. Она на меня. Пауза затягивается. Наконец, я начинаю догадываться.
«Муха, это мне?» киваю я на толстолобика. Муха с коротким почти визгом подпрыгивает в воздух, делая невысокую свечку. Приземляется. Попискивая, усиленно работает хвостом, глаза её искрятся, рот открыт ― она радостно смеётся. Её поняли.
«Господи», я чуть не заплакал. «Иди сюда».
Муха забирается ко мне на колени, я её глажу, и мы молча сидим, наверно, долго…
Муху задавил машиной друг Доктора. У них часто бывало застолье по вечерам, а уезжал он поздно ночью. Утром Доктор затянул своё привычное «Муха! Муха домой!» Но вместо Мухи нашёл перед калиткой плоский, вдавленный в землю коврик. Муха никогда больше не пришла домой.
13.08.2009 х. Редант
Сентиментальная ода Камчатке

Полуостров Камчатка место на планете уникальное. Неясные предчувствия чего-то необычного появляются уже при первом взгляде на географическую карту, на этот ромбовидный отрезок суши на крайнем северо — востоке Евразийского материка, вклиненный между Охотским и Беринговым морями и отделённый от Великого океана Алеутским и Курило-Камчатским глубоководными желобами с одноимёнными островными дугами. Положение на стыке трёх гигантских плит земной коры, двух материковых и океанической, расписало жизнь этого региона на сотни миллионов лет, подчинив её эндогенезу, механизму внутрипланетной эволюции земного вещества, раскалённого и спрессованного до величин, превышающих 30 кбар уже на глубине 10км. Далее давление нарастает по экспоненте, приближаясь к 200 кбарам на глубине 50 км и 600 кбарам на отметках около 200 км; температура на этих глубинах составляет 2000—2500°С. Хрупкая плёнка охлаждённой с поверхности коры не превышает нескольких километров, ниже — сотни километров горячих земных недр, которые постоянно дают о себе знать: подземными толчками, разбросанными по всей территории полуострова выходами горячих вод, вулканическими извержениями. За последние 60—70 миллионов лет вулканизм здесь не прерывался ни на минуту, если исчислять минуты в масштабе геологического времени. Сейчас активными признаются 27 вулканов, но их будет гораздо больше, если добавить те, которые считаются потухшими, на что никто не даст гарантии. А если включить сюда так называемые поля ареального вулканизма — одномоментные мгновенные прорывы-выбросы раскалённой лавы на поверхность, то количество таких вулканов, извергавшихся в недавнее и историческое время, уже с трудом поддаётся учёту. Вулканы, гейзеры и сейсмическая активность у всех на слуху, это визитная карточка Камчатки.
Таков экстремальный фон, с которым приходится мириться всему живому на полуострове. И всё живое прекрасно к нему приспособилось и процветает, безбедно и счастливо существует из поколения в поколение на этих открытых небу безлюдных просторах от моря до моря.
Девственные, почти не тронутые человеком камчатские ландшафты поражают разнообразием. Иначе и не может быть, здесь воедино собраны одни контрасты. Контрастен климат — от морского на побережьях до резко континентального в межгорных депрессиях и глубоких долинах. Контрастен рельеф — от равнин на уровне мирового океана до горных цепей с вершинами, поднимающимися над этим уровнем на две, три и даже 4750 метров, такова отметка самого крупного в восточной Азии Ключевского вулкана. Контрастна растительность — от дремучей тайги с вековыми елями в укрытых низинах, запрятанных внутри полуострова, до роскошных альпийских лугов с рододендронами и верещатников с убогой карликовой ивой и берёзой на северных тундрах и горных плато, открытых всем ветрам. В горах замкнутые в щели бесноватые горные потоки катят по руслу глыбы в полтонны весом, а внизу, на равнине, устав, они едва шевелятся, почти соприкасаясь причудливыми меандрами. Низины — царство торфяных топей пойменных озёр с коричневой водой и двух–трёх килограммовыми карасями. А вверху — озёра в маарах (жерлах одноактных вулканов) чисты и бездонны, слепят синевой и таят в своих глубинах метровых голубых гольцов.
Здесь есть всё, что помещается на крайних полюсах шкалы сравнений, а потом всё переходное, что заполняет этот промежуток между полюсами. И полный набор всех феноменов, живых и неживых, можно встретить в бассейне одной реки средних размеров, если спуститься вниз по ней от истоков к устью, следуя тем же путём, что и ледник, когда-то выпахавший её долину.
Склоны преобладающего на Камчатке средне–низкогорья одеты ольховым и кедровым стлаником с вкраплениями каменной берёзы. У подножий гор и на высоких террасах она становится преобладающей, формируя ландшафт светлых, чистых пространств, подобных паркам. На террасах рек парковые березняки перемежаются протяжёнными открытыми полянами–аласами. Это жемчужины среди камчатских ландшафтов. Трудно найти на свете более уютные и ласковые места, чем эти сухие ягодные тундры. Здесь нет другой реальности, кроме жизни, гостеприимного покоя и умиротворения, где кощунственной кажется даже мысль о том, что в мире бывает насилие и зло и сама смерть. Нога мягко утопает во мхах и поросли невысокого вереска и ягодников — брусники, голубики, шикши, жимолости, всюду грибы. Уже в августе преобладающая до того зелень начинает расцвечиваться по всему спектру. Каждый день приходит со своей палитрой, каждый день тундра меняет цвет, чтобы к снегам стать коричневой всех оттенков, багряной и карминовой с лимонно–жёлтыми пятнами ивовых листьев и бурыми ольховых на щетине мелкого кустарника по низинкам. На фоне этих метаморфоз даже куртины вечно–зелёного кедрового стланика меняют цвет, от яркой свежей зелени до черноты. Медведи, олени и другая живность давно оценили эти места. К концу лета, в пору сбора урожая, тундра затягивает к себе всё живое из окрестностей. Медведи полностью отказываются от рыбного стола и день-деньской пасутся на тундрах как коровы в сотне-другой метров друг от друга, набивая своё объёмистое брюхо кедровыми шишками и ягодой. Оленя больше манят грибы и россыпи ягеля, тут и там сверкающего серебром на чуть более возвышенных местах.
Камчатские аборигены, коряки, ительмены, камчадалы, охотники и пастухи–оленеводы, ценят эти тундры ещё за одну их особенность — они продуваются ветром. Ветер — основная защита оленей и их хозяев от кровососов. Даже в полный штиль в долинах рек есть лёгкое движение воздуха, и это дуновение несёт прохладу и защиту от оводов и гнуса.
Осень — лучшее время года на Камчатке. Уже побывали первые заморозки, нередко перепадал в непогоду с дождями и снег, но ненадолго. Пропали оводы, а по утрам и ночью нет ни мошки, ни мокреца. В это время, в конце пастбищного сезона, перед зимой, пастухи собираются вместе и на высоких террасах реки Паланы, устраивают коллективное чаепитие. Идёт обмен новостями, и пьют чай. У каждого хозяина свой костёр, свой котелок и свой таган. Наутро в тундре после них остаётся 10—15 неглубоких лунок диаметром 20—30 см от их костров. Они знают цену дровам, которые на севере нередко добываются с большим трудом, особенно на голых водоразделах, и потому изобрели собственной конструкции таган. Это всё те же привычные две рогатины и шест, только миниатюрнее, изящнее, и ставятся они иначе. Такой таган экономит дрова и максимально эффективен, потому что позволяет использовать ветер; воду в трёхлитровом котелке можно довести до кипения в 3—5 минут. Ветер, огонь и таган участвуют в этом процессе как живые существа, подвластные человеку, но постоянно требующие его внимания. Потому и сидит коряк неотступно рядом с костром, подбрасывая сухие веточки–прутики с карандаш величиной, пока вода в котелке не закипит. Сменил направление ветер, он поднимется и переставит таган опять под ветер, это легко. Одним движением руки он уменьшит или увеличит просвет под котелком. Всё делается очень просто и почти не требует усилий, работает мудрый опыт поколений.
На туристской тропе из Долины Гейзеров в Узон я видел могучие таганы в руку толщиной с широкой полосой выжженной травы поперёк перекладины. Так дул ветер, выдувая пламя за пределы котелка, а ветер наверху почти всегда. Кончились дрова, но чая, видно, так и не дождались, пожевали всухомятку и ушли, оставив эти унылые памятники человеческой беспомощности и чужеродности. То были не свои, Камчатка их не приняла.
Без чая можно и потерпеть, особенно если на улице солнце. А вот когда погоды нет, когда одно ненастье, дождь, ветер, снег, метель, мороз поодиночке, а то и всё разом, по череде, от дождя в снег, гололёд и мороз, тогда тем, кто к стихиям не готов, это погибель. Суров Север. Ошибок не прощает. Слабых и неумелых, тем более порочных, наказывает без пощады.
*
В 80х годах прошлого столетия прибыли на Камчатку спецы из Киева, из института им. Патона, с заданием по проектированию турбинного оборудования для Мутновской ГеоТЭС на одноимённом геотермальном месторождении. Оно включает действующий вулкан Мутновский, и хотя границы месторождения неизвестны, но тот факт, что и в удалении 25—30 километров от кратера вулкана фиксируются естественные выходы горячих вод с температурой 78—99,5°С, свидетельствует о достаточной его масштабности и значительных перспективах. Вулканическое плато, поверх которого высится конус Мутновского вулкана (2323м), имеет отметки 900—1100м.
Здесь находится база буровиков и геологов–разведчиков. Они живут в деревянных домиках–балках довольно комфортно, с электричеством, и сама природа позаботилась о том, чтобы у них всегда была горячая и холодная вода.
Восточная окраина плато, обращённая к океану, изрезана устрашающими каньонами рек Ахомтен, Фальшивая, Мутновская и Жировая. Высота крутых, часто вертикальных стенок каньонов достигает 100—150м, по дну с шумом, а где и с рёвом несётся река. Путь от базы к океану короткий (около 30км), но трудный, хотя в долине Жировой есть тропа. По этой тропе осенью, перед отъездом домой, и отправились киевские специалисты к устью реки добывать икру и рыбу; уже появились первые гонцы осеннего кижуча, ход которого в реке в иные годы продолжается до позднего декабря.
Вышли по солнцу и теплу, почти жаре. Непогода ударила на следующий день с утра штормовым ветром и дождём. Им бы сразу повернуть к дому, но нет, ловили, пластали, потрошили, пока не промокли насквозь и не набили рюкзаки. Забеспокоились только тогда, когда и внизу залпами начал доставать снег. Вверху, на плато, он к тому времени лежал полуметровым слоем, но они этого уже не увидели. Они сбились с тропы, начали блудить, выдохлись… и всё. Кажется, их было шестеро, не помню точно. Домой вернулся только один, и то только потому, что вышел намного раньше и тяжёлый рюкзак бросил сразу.
Искать их начали на следующее же утро, когда несколько человек прошли тропой от базы к океану и обратно, не найдя никаких следов. Бушевал ветер и дождь со снегом или снег с дождём, и так продолжалось несколько дней. Наконец, погода наладилась, в воздух поднялись два вертолёта и по разным маршрутам ушли несколько спасательных групп. Искали неделю. Нашли только следы их пребывания в нижнем течении Жировой, там, где они ловили рыбу. Ничего больше не видели.
Примерно через полмесяца по настоянию академика Патона, подключившего правительство Украины, поиски возобновились. С Украины прибыли несколько человек, в их числе невеста одного из пропавших парней с отцом в генеральском звании. Высокая стройная красивая синеглазая как принцесса. С ними были экстрасенсы, двоих я видел: усы свисали до ключиц, как у вчерашних запорожцев, оселедцев не было, только лысины. По их прогнозам все были живы, нашли пристанище в охотничьих избушках, там отсиживаются и ждут помощи. Избушек и землянок в окрестностях было шесть или семь. Учитывая мой тридцатилетний Камчатский опыт, меня вызвало начальство и предложило облететь с вертолётом избушки и вообще поискать следы присутствия людей.
Я занимался этим четыре дня. Часов в 9—10 утра приходил вертолёт, и весь световой день мы летали. Подсаживались к избушкам, я делал пеший круг–обход, оставлял записку, и мы снова поднимались в воздух. Избушки ещё пустовали, промысловый сезон только начинался, хотя припасы на зиму уже завезли.
Было солнечно и ясно. Везде вверху с 600—700 метров лежал снег, чистый, непорочный, безразличный. Глазам было больно от этой слепящей чистоты и белизны. Летали мы низко, чтобы больше разглядеть. Медведи легли на зиму и их следов почти не было. На Толмачёвом Доле видели большое, до полутора — двух сотен, стадо оленей, следы росомахи, оленей и разной мелочи — лисы, соболя, зайца, горностая. И ничего больше. Белым–бело и пусто.
Я возвращался вечером к себе домой, невеста уже ждала. Моя жена как могла её отвлекала — рассказами о всяких волшебных избавлениях, книгами с картинками, даже блины один раз вместе стряпали…
Меня встречали две пары глаз. Жена тут же отворачивалась, с порога понимая, что новостей хороших нет. Принцесса глаз не отводила. Синева их становилась почти чёрной, и я видел, как из них по капле уходила надежда. При первой встрече она сразу отважилась на правду, резко, с решимостью спросив «Есть ли надежда?» — «Надежда всегда остаётся. Каких только чудес не бывает. Но шансов мало».
В последний вечер глаза её потухли, стали меньше, прикрылись ресницами. Надежда умерла. Прощаясь, она жалко улыбнулась, облизнув губы, тихо сказала «Спасибо вам за всё, — уронила голову, пошла к двери. «Постой, постой, — вскинулась за моей спиной жена, — я тебя провожу». Они вышли. Жена вернулась через час с опухшими от слёз глазами. «Она плакала? — спросил я. — В голос. Головой о стол билась». «Простилась, — подумал я. — Теперь ей будет легче»…
Весной, когда начал подтаивать снег, охотники сообщили о необычном поведении зверей, натоптавших тропы к нескольким местам, и указали эти места. Вызвали вертолёт. Там их и нашли, уже довольно сильно изглоданных лисами и росомахами, но под метровым слоем снега тлением не тронутых. На плато никто из них так и не выбрался. Все легли под ним, в разных местах, друг от друга не очень далеко, но порознь.
*
Рыбное пиршество Камчатки. Знаменитый лосось, красная икра и королевский краб — известные всему миру камчатские тотемы. Царица рек камчатских чавыча, до 60 кило весом, стоит выше сёмги по вкусовым качествам; сама сёмга–аристократка и её младший родственник, живая радуга микижа, тоже наверняка голубых кровей; горбуша, нерка, кижуч, голец, кунжа, хариус — таков этот дарованный Богом аквариум, вожделенная мечта гурмана и каждодневный хлеб аборигена.
Вот цитата из XVIII века, от С. П. Крашенникова, побывавшего на Камчатке в 1737—41 годах: «Все рыбы на Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами, что реки от того прибывают и, выступая из берегов, текут до самого вечера, пока перестают рыбы входить в их устья… Медведи и собаки в таком случае больше промышляют рыбы лапами, нежели люди в других местах бреднями и неводами». (Л.С.Берт,«Открытие Камчатки», М.П.1924,с.19).
Времена нынче другие, но и я ещё в 70х годах прошлого века видел на малых реках плотно заставленные рыбьими спинами перекаты шириной по 15—20 метров, так что лошадь боялась ступить в воду, в эту живую вибрирующую щетину.
*
В списке экзотических диковинок Камчатки долгое время не значился такой редкий природный феномен как гейзеры. В 1943 году Т. Устиновой на Восточной Камчатке были найдены и они к югу от озера Кроноцкого в долине левого притока Шумной. Речку, конечно, назвали Гейзерной, а место — Долиной Гейзеров. По сути, в гейзерной стадии эволюции находятся, или недавно находились многие из термопроявлений с высокими параметрами. Гейзеры необычны и редки только потому, что требуют для своего функционирования особой гидродинамики, почему и известны на планете всего в четырёх местах: Исландии, Новой Зеландии, США и у нас на Камчатке. В остальном это один и тот же тип высокотемпературных вод (около 100°С на поверхности) глубинного формирования со значительным содержанием растворённой в них кремнекислоты. На поверхности в результате перепада давлений она высаживается и формирует гейзериты, которые распространены гораздо более широко, чем собственно гейзеры. Это натечные образования, реже щётки из почти чистого кремнезёма нежной пастельной расцветки: голубоватые, почти белые, серые всех оттенков, бурые, розовые, палевые. Гейзериты окаймляют грифоны, устилают их дно и руслица стекающих из них ручейков, нередко образуют чехлы на террасах и склонах в местах рассеянного сочения термальных вод.
В 18 километрах от Долины Гейзеров находится вулкан–кальдера Узон. Структурно Узон и Долина Гейзеров единое целое, «горячая точка», прорыв раскалённых недр к поверхности.
Долина Гейзеров — это узкое, 20–30 до 50 метров ущелье с крутыми и вертикальными обрывистыми стенками высотой 50–70 до 100 метров. На дне безумная река, заваленная по руслу глыбами, поверх которых в пене, водяной пыли и брызгах она несётся к океану. Круглые сутки в ущелье стоит шум и грохот. Всё вокруг шипит, пыхтит, плюётся и клокочет: гейзеры, грифоны, грязевые котлы, горячие источники и ванны, везде температура на поверхности близка к 100°. В сырую погоду над ними сгущаются и повисают тяжёлые ватные испарения. Но это только тогда когда тихо, что бывает редко. Обычно же в ущелье свистит ветер, это труба. Извержение гейзеров с выбросом воды и пара на 20—30 метров в высоту зрелище величественное, но враждебное. Здесь всё враждебное, инопланетное, гипнотическое, насильственное, принуждающее повиноваться. Почти негде приткнуться с палаткой, быстро устаёшь, как-то цепенеешь, и болит голова…
Из ущелья поднимаешься тропой на плато и по скудным верховым тундрам идёшь на севера–запад. Там — Узон, он уже виден, скальная гряда, закрывающая горизонт. Поверхность плато на отметках 750—800м это его днище. Здесь когда-то было жерло вулкана и ближний к поверхности магматический резервуар, верхняя камера. Около миллиона лет назад в гневе вулкан пошёл вразнос, выдохнул в последний раз, метнулся вверх взорвался, и всё на этом для него закончилось. Узон — типичный пример вулкана с кальдерой взрывного типа. Чашевидная котловина, возникшая в центре вулкана после взрыва и называется кальдерой. Но есть также кальдеры обрушения, когда центр вулканической постройки проседает по кольцу, компенсируя опустошение в результате извержений магматической камеры. Таковы, например, Везувий в Италии, Карымский и Авачинский вулканы на Камчатке.
Вершину и южную часть Узона разметало по округе, но большая часть улетела на юг, к океану. После катастрофы, когда всё угомонилось, затихло и остыло, бывший вулкан превратился в амфитеатр и стал похож на Колизей. Такой он и сейчас. На западе и севере высятся скальные руины, где хранятся остатки конуса вулкана, а к югу и востоку цирк открыт.
Чрево вулкана, однако, продолжает жить. Набор термопроявлений на Узоне тот же, что и в Долине Гейзеров, за исключением самих гейзеров. Но масштабы иные. Вся Долина, включая разбавленные дериваты, умещается на узкой полоске, в длину едва достигающей полукилометра, Узон же занимает площадь 5—6 х10 километров. Здесь два фумарольных поля: большое Восточное и компактное маленькое Западное. В промежутке между ними и в прилегающих окрестностях, вплоть до подножья северной стенки, лежит сухая ягодная тундра. Та самая, шедевр среди Камчатских ландшафтов. Оттого и сам Узон выглядит шедевром. И даже царящий здесь грозный, не знающий компромиссов эндогенный диктат его не портит, скорее добавляет шарма.
Могуществу текущих эндогенных процессов свидетельств много. Перечень можно начинать с разнообразных горячих источников. Лечебная грязь и глина на Узоне ― это разложенные туфы и лавы андезито–базальтов материнской постройки вулкана, материал некогда монолитный, необычайно прочный, казалось бы не подвластный времени, в обычных условиях сохраняющийся почти нетронутым тысячелетиями. Теперь это разноцветная глина, бурая, жёлтая, синяя. Горячая, булькающая со вздохами и всхлипами живая глина грязевых котлов, занимающих десятки и сотни квадратных метров. Серные ванны «кипящие» углекислотой и серной взвесью; они до 2,5м глубиной и до 15 м в диаметре, здесь можно купаться и плавать, но вода горячевата и биологически очень активна, так что долго лучше не резвиться. Сотни квадратных метров занимают тёплые мелкие озёра, большие и малые тёплые лужи и лужицы. Так выглядит Восточное фумарольное поле. Над ним всегда стоит туман по утрам, а в сырую погоду и днём, когда усиливается запах сероводорода и начинает болеть голова.
Температура грунта в грязевых котлах превышает 100°, а на глубине 5—10 м достигает 150—170°. Но кольцом повсюду в днище Узона под полуметровым, а то и меньше слоем живой тундры покоится вечная мерзлота. Поразителен контакт: мёрзлый грунт со льдом, а рядом, буквально в сантиметрах ― полуметре разжиженная стоградусная грязь. Так, соседствуя, и живут, воистину «и лёд и пламя».
Вернёмся в Колизей. В его фронтальной части, словно и вправду на арене, дымятся фумаролы, а в тылу, вдоль подножья скального бордюра, там, где кончается «партер», в «бельэтаже» летом и осенью лежат многолетние снежники. Летом они подтаивают, садятся и слёживаются, закрываются с поверхности коркой фирна и уменьшаются по ширине в размерах, но постоянно, из года в год, от снега до снега здесь сохраняется эта белая лента. Она трассирует кальдерное полукольцо почти на всём его протяжении то–есть в длину занимает не менее 10 километров. Снизу и сверху эта ослепительно белая полоса обрамлена чёрно-зелёными зарослями кедрового стланика с тёмной зеленью стланика ольхового, ржавобуреющего осенью.
Это прогулочная трасса, бульвар для всех, у кого четыре ноги, кто в мехах и с хвостами, или почти бесхвостых, как заяц или медведь. В жару тут прохладно, крылатого гнуса всегда мало, снег с фирном твёрдый, под ногами не проваливается, гулять удобно. И они гуляют. Прямо, по центральной оси снежника, одной и той же тропой, правда, из-за того, что снег плотный, тропы как таковой нет, зато у всех есть чутьё, и оно досконально им всё сообщает. Среди путешествующих попадаются самые разные: и друзья, и враги, и соперники. Сородичи или иного племени. А вот тропа одна, одна на всех. Узон полон чудес, но эти неторопливые променады шагом―спокойные, с достоинством, даже какие–то торжественные ― были для меня и откровением, и самым большим чудом.
Белая лента снежников ― это своеобразный экран, в ширину достигающий 50—70 метров. Тут идут свои представления и на нём всё видно как на ладони. В один из погожих августовских дней из своего лагеря на Западном фумарольном поле с расстояния около 700 метров я часа два смотрел здесь кино с названием «Узон от 12 до 3 пополудни». В поле моего зрения была полоса длиной 250—300 метров, остальное закрывали кусты.
Первым по снежнику вперевалку прошествовал небольшой медведь. Минут через 15—20 появилась медведица сразу с четырьмя отпрысками, двумя сеголетками и двумя годовалыми пестунами. Мама степенно шла первой, пестуны следом за ней чуть поодаль. Так гуськом и брели. Зато малыши шариками рассыпались по всей ширине снежника то вверх, то вниз. Хотя двойни у медведей редки, и обычно на свет появляется лишь один крохотный медвежонок, это могла быть всё же одна семья. Но не обязательно. Медведица охотно принимает к себе чужих медвежат, если те остались сиротами, что время от времени случается. Естественных врагов у медведей нет, только человек. Он и бывает чаще всего причиной сиротства. А пестунам, своим прошлогодним детям, медведица позволяет оставаться при себе и больше года. Она их пестует, потому они так и называются.
Какое-то время, может около получаса, снежник оставался пуст. Появились ненадолго большим выводком куропатки, но быстро пропали. Летнее оперение делало их слишком заметными на снегу, наверно поэтому. Наверху, под главным пиком Узона, высотой 1617м, паслись снежные бараны. Это уже далеко, около двух километров, и различить их можно было, только когда они двигались. Поскольку было их больше десятка, скорее всего, паслись самки с ягнятами и молодняком.
А потом разыгралась центральная сцена. Незабываемое зрелище, стоит вживую и сейчас перед глазами, хотя с того времени, мелькнув, уплыли сорок лет.
Справа из зарослей появилась крупная росомаха. Почти одновременно слева показался лис, тоже очень крупный с роскошным длиннющим хвостом. Они идут навстречу, но друг друга пока не видят. Замечают, когда расстояние между ними сокращается метров до 50—70. Первой увидела росомаха, может потому, что она чуть повыше. Она круто осаживает на передние лапы и садится. Мгновением позже то же самое проделывает лис. На несколько секунд они застывают как собаки в команде «сидеть». Потом оба пошевелились, лис в этот момент расстилает позади себя во всю длину свой хвост. «Расслабились», понимаю я. Сидят и смотрят. Минуту, другую, может, больше… Наконец, снова первая, росомаха начинает движение и, забирая вправо и вперёд, описывает полукольцо к востоку от лиса. Начав двигаться секундой позже, точно такое же полукольцо рисует лис, но в противоположную сторону, к западу от росомахи. Оба не торопятся, идут чинно и медленно, друг на друга прямо не глядят, включено только боковое зрение. Росомаха косолапит, это особенность её походки. Лис выступает картинно и полон изящества. Как связанные бечёвкой, они чертят правильный круг и разменивают свои начальные позиции. Росомаха оказывается на месте лиса, лис — росомахи. Отсюда, ни разу не оглянувшись, они продолжили движение каждый в своём прежнем направлении. У каждого собственные дела…
Помню, как ошарашила меня эта сцена — в ней не было ничего случайного. Они поступали по прописанным правилам, ритуал был для них привычным, так у них принято. Ещё поразила некая подчёркнутая церемонность, может, она означала взаимное, не без юмора, приветствие: «Господин Лис!» ― «Госпожа Росомаха!», раскланялись они.
Почему бы и нет! Роза, обласканная неусыпными заботами и ежедневными разговорами с ней, в конце концов, отказывается от шипов, своей единственной защиты, сбрасывает их. Правда, на это уходят годы: вам не доверяют, в вашей порядочности и искренности сомневаются. Но Лютеру Бёрбанку (L. Burbank) это удалось. Наверно и не ему одному…


*
Камчатка… Чистая, девственная, сакральная, почти нетронутая цивилизацией и цивилизаторами. Она ранима и её легко обидеть. Но постоять за себя она умеет.
В отличие от пространств, освоенных человеком, здесь как в космосе, видишь и слышишь воочию, ощущаешь кожей, как мизерно человеческое существо и как величав и грандиозен этот размеренный Вселенский ритм, замысленный и претворённый Создателем. И какое счастье чувствовать себя послушной песчинкой разрешённого Им Бытия ― никого не трогать, не брать больше, чем нужно, уступить дорогу, если кто спешит, поделиться хлебом, улыбнуться цветку, рассмеяться в общем хоре с деревьями, в непогоду забраться в укрытие и терпеливо ждать, прислушиваясь к стихиям, пришедшим в ярость по им одним ведомым причинам. А наутро, под лучами солнца, снова улыбаться этому гигантскому общежитию и Житию. Именно так здравствуют птицы и звери, трава и деревья. Все, кроме людей…
12.12.2004 Краснодар
Глава 2
Улица

«То полудня пламень синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от чётких линий
Солнце ли самоё устало?»
Инн. Анненский, Миражи
Спринт
Даже «Лукойл» знает: «спорт есть в каждом из нас». Я не исключение. Поэтому слушаю по радио спортивные передачи и новости; в хорошем исполнении — с удовольствием, в плохом — вынужденно, чаще выключаюсь. В новостях полностью информацию можно воспринять и усвоить только от Егора Новикова. В нём есть культура, и культура общения тоже, а потому он уважает и свою информацию, и тех, о ком в ней сообщает, и нас — слушателей. Раздельно, чётко, коротко, всегда по делу, не торопясь, по-мужски, я бы сказал, Егор выдаёт свои новости и откланивается.
С другими спортивно-новостными дикторами беда. Это спринтеры, задача и цель у них совсем иная — виртуозно молоть языком на огромной скорости: по сути, это заезды болидов «Формулы-1» в эфире. Общий смысл уловить можно, детали отложиться и запечатлеться не успевают, особенно когда интересуют результаты футбольных или хоккейных матчей после очередного тура. Кто их этому научил — итальянцы? американцы?.. Никогда такого на Руси не водилось, даже в уличных сварах; орали, ругались до сипа и хрипоты, но чтобы так тараторить — не было такого. Добро бы одни дамы, но и мужики туда же. Это как же нужно не уважать «сильную половину» рода человеческого, чтобы постоянно ввязываться в спор и состязание в скоростной риторике с его «прекрасной половиной»? Ну и, естественно, проигрывать.
Всегда первой рвёт финишную ленточку Анна Чернавкина, она вне конкуренции. Второе-третье место попеременно занимают Эльмира Мирзоева или Роберт; с дикцией у него не всё ладно, так что фамилию не называю, не знаю, какая у него там третья согласная («б», «г», «д»? ). Остальные — аутсайдеры, их удел не ближе четвёртого места, хотя угнаться за первой тройкой они очень стараются: Садиков (Цадиков?), Миценко (?) и другие, не помню кто, они одинаковые.
Между прочим: в древнем и средневековом Китае одна из причин, по которой муж имел полное законное право развестись со своей женой — длинный язык супруги, болтливость, особенно на скорости. Так что нашим Ане и Эльмире надо бы принять это к сведению.
Впрочем, Аня, может, и не виновата, а виноваты гены, с ними шутки плохи. Шёл когда-то хороший фильм «Чапаев», открывший дорогу неисчерпаемому количеству анекдотов, часто очень остроумных. Кроме Василия Ивановича и Петьки, в героях там ходила ещё и «Анка-пулемётчица», так что наша Аня, возможно, новая её реинкарнация. Но фамилия меня смущает. Была у меня курица с именем Чернавка; назвал я её так не только из-за масти — блестящей чёрной с мелким белым крапом-бисером по спине и груди. Я вспомнил поговорку от Владимира Даля: «Белобрыса-крыса, а Чернава-красава». Она и вправду была красавица, а по характеру и темпераменту полная противоположность нашей Ане Чернавкиной. Но расскажу всё по порядку, это добрая история…
*
При доме у меня была земля. Заниматься огородами времени у меня не было, земля пустовала и заросла бурьяном. Все соседские куры из округи ходили ко мне пастись. Большая рыжая пёстрая курица чаще других попадалась на глаза, нередко крутилась у дверей рядом с домом и другими постройками. Я присмотрелся и в итоге обнаружил у себя в сарае, в уголке, её укромное гнездо, а в нём 4 или 5 яиц. Пеструшка собиралась завести детей. Я назвал её Цыпушей, так звала в детстве свою любимую мягкую ярко-жёлтую игрушку моя младшая дочь. Я устроил Цыпуше роскошное лежбище и стал подкармливать. Гнездом Цыпуша осталась довольна и через некоторое время перестала появляться во дворе. Я украдкой заглянул в сарай — Цыпуша была на месте. Она утонула в новом пышном гнезде, откуда выглядывал глаз, настороженный и предупреждающий. Я насыпал ей зерна, хлебных крошек, поставил миску с водой, всё очень осторожно, из лежачего положения. Иногда Цыпуша покидала гнездо, а я регулярно туда наведывался, чтобы подсыпать еду и сменить воду. В своё время появились цыплята, всего двое, хотя в гнезде осталось ещё несколько яиц. Я их потом выбросил, когда понял, что других жизней больше не появится.
Цыплята росли, а Цыпуша была очень заботливой мамой. Я кормил их у крыльца, и вся троица была постоянно на виду; по утрам она встречала меня перед дверью в ожидании завтрака. Когда цыплята подросли, стало ясно, что это он и она. Так появились Робеспьер, или просто Робин, и Чернавка. Чернавка росла созданием покладистым и доверчивым и скоро стала клевать у меня с руки. Робин сызмальства был настоящим петухом, задиристым, горластым и строптивым, истинным сыном своей страны; собственно, он и Робеспьером-то стал только потому, что петух красуется на гербе Франции.
Когда они совсем подросли, им понадобился дом. При летней кухне под навесом у меня были уложены в поленницу дрова, а сама поленница прислонена к стене. Высота её около двух метров, тут они и стали устраиваться на ночь. Летом это было нормально, но к холодам надо было переводить их в более надёжное и защищённое укрытие. Я соорудил им из шиферных листов домик, настелил внутри соломы и начал приучать к новому жилищу. Когда темнело, я снимал их с дров, с их насеста, и заносил в домик. Шуму и крику при транспортировке было много. Одна Чернавка вела себя спокойно, позволяла брать себя в руки и, хотя недовольно ворчала, но быстро умолкала и начинала курлыкать, когда я гладил её по голове. Сами куры в домик сначала не заходили и каждый вечер рассаживались на дровах, откуда я обязан был на руках доставлять их в домик. Так продолжалось с неделю. Потом они стали привыкать к своему жилищу, пока, наконец, не решили заходить туда самостоятельно и согласились оставаться там на ночь.
Но однажды ночью я проснулся от их гомона и крика. Я выскочил на улицу с фонариком. Переполох под шифером был страшный. Я открыл дверцу и посветил внутри. Взъерошенные, орущие, они громоздились друг на друга и били крыльями. Я понял — побывала крыса, или того хуже — ласка. Я постоял рядом, поговорил, постепенно всё успокоилось и затихло.
На следующий вечер куры снова были на дровах. Я перенёс их в домик, но протестов было столько, даже от Чернавки, что стало понятно — туда они больше ни ногой. Пришлось строить птичник, что я и начал делать. Но тут переменились обстоятельства, надо было уезжать, и я отдал своих жильцов соседям с просьбой и условием оставить жить… Потом я узнал, что Чернавка тоже стала мамой, и деток у неё в первом выводке было ровно дюжина.
*
Наше время может войти в историю как первая беспрецедентная в своей наглости попытка упразднить в русском языке винительный падеж… Состряпали фильм и не без кесарева сечения родили ему название: «Как я провёл ЭТИМ летом». Собрали междусобойчик, надавали фильму премий и растрезвонили по свету. В народе ходят слухи — кино про психов…
Впервые, на памяти невозможно и сказать скольких поколений русских, вместо винительного падежа публично! ляпнули творительный. Это так они извернулись, чтобы «сотворить» фильму рекламу. «Приходите», — говорят, — «не подумайте, что мы не учились в школе. Мы знаем: нужно было употребить оборот „ЭТО ЛЕТО“ а не „ЭТИМ“, в кино мы вам всё покажем и расскажем», то есть, по сути, продолжают рекламировать. Ребята плохо соображают, им невдомёк, что реклама эта с двойным дном: кто из уважающих себя россиян согласится посетить фильм российских авторов-двоечников, причём с двойкой по русскому языку? Ему — языку — и так достаётся: душат и англы, и американцы, теперь вот и доморощенные за него в открытую взялись.
Егор Классен («Древнейшая история славян и славяно-руссов». М. «Белые альвы». 2005. с. 29) цитирует Леклерка из его опуса конца XVIII века о России «En Russie»: «В России имеются три породы лошадей: конь, лошадь и кляча». Как провёл бы Леклерк «ЭТИМ ЛЕТОМ» в России неизвестно; может, наши авторы помогли бы ему найти «четвёртую породу лошадей» — русофобы…
А кто-то удовлетворённо потирает руки, он понимает, это диверсия, осознанная или нет: фильм посмотрят тысячи, это капля в море, а вот у миллионов стараниями радио и теле в подсознании останется этот двусмысленный идио (ма) тический выверт «как я провёл ЭТИМ летом», этот «25 кадр», выверенный трюк из арсенала зомбирующих.
Есть ли у нас в России какая-нибудь служба, какое-нибудь министерство или ведомство, которое встало бы на защиту нашего родного языка?..
P.S. Понятно, что авторы хотели предъявить нам свою загадочность. Могу только предположить, какую они дают в итоге расшифровку «Как я провёл этим летом»: (1) какого-нибудь сукиного сына; (2) контрабандный кофе, или наркотики, или грязные деньги в оффшор; (3) тридцатый (40-й, 60-й, 100-й…) год своей незадавшейся жизни.
В своих приватных тусовках, господа, можете ходить на головах и изъясняться хоть на эсперанто. Но не троньте наш язык, наш — русский — язык!
12.04.2010 Степная
Университеты
«Итак, Равель, танцуем болеро…»
Н. Заболоцкий
1967 год. Государственный университет принимает на худграф очередной набор. Почти всем студентам стандартные, после десятилетки в школе, 17 лет. Все, кому в этом году 17, по восточному календарю — тигры. Как известно, тигров двенадцать разновидностей, в зависимости от того, кто в каком месяце родился, от «уравновешенных» (тельцы) и «рассудительных» (козероги) до «флегматичных» (раки), «опасных» (скорпионы) и «безумных» (рыбы). Итак, в 1967 г. университет набрал в основном тигрятник. Неизвестно почему, именно в этом году в университете ввели вдруг раздельное обучение, так что в группе из 24-х человек дамы занимались отдельно и имели своё расписание.
Всех иногородних поселили в общежитии, и в комнате 541, о которой не раз ещё будет идти речь, собрался такой состав: два Николая, Евгений и Илья. Прошло какое-то время, и все получили вполне заработанные клички, все, кроме Жени. Был он нейтральный, рассудительный, и никакая кличка ему не подошла. Из-за имени Илье досталась кличка Репин, а про настоящую его фамилию почти забыли. Преподаватели, и те частенько так его окликали. Вот эту-то четвёрку комната 541 и приняла для подвигов на ближайшие пять лет.
Комната как комната, вполне обычная, нормальная. Не то, что рядом. Там, в первом же семестре украли дверь. Просто, когда все были на занятиях, сняли с петель и унесли. Так и получилось, что ребята из этой комнаты год прожили за занавеской. Они требовали, они бунтовали, выбрасывали в коридор непрошенных гостей, оставляли по очереди кого-то из себя за дежурного, уходя на лекции втроём, но дверь есть дверь. А вот когда её нет… Вернувшись, можно было застать дежурного не очень-то трезвого и такую же компанию, можно было найти свои кровати занятыми безмятежно спящими знакомыми или незнакомыми, со своего факультета или нет, со своего этажа или с любого другого. Припасы съедены, тумбочки пустые, на столе грязь, бутылки ещё не сданы. Много находилось любителей заглянуть за занавеску…
И ещё одна комната была в славе и в примере, особенно у комсомольского и деканатского начальства — комната непьющих, непьющая комната. Там жили два Анатолия и Вова, виртуоз и бес на ударных, кличка Бен. И это было совсем уже непонятно и неприлично — как это, джазмен и вдруг непьющий. Но в остальном всё тут было нормально, ребята свои, тигры, а что не пьют, так это даже удобно. Вот, наскребли на бутылку портвейна. Можно не закусывать, конечно, но есть всё равно хочется. Стучатся, те открывают. Они делают вид, что не помнят и пытаются разлить на всех — «Ах, — удивляются, — мы и забыли. Ну, раз не пьёте, тогда мы сами, вот только закусить бы чего-нибудь…»
Было у всех этих комнат, и ещё у нескольких, одно общее — боксёрские перчатки. Разбитые носы, рассечённые брови, фингалы под глазом считались в порядке вещей. Сломанный нос и глубокий шрам на всю жизнь уходили в особый гладиаторский актив. Всем этим гордились, называли школой выживания или школой мужества, и так оно и было. Весовых категорий не существовало, каждый мог вызвать каждого, и тренировочные колотушки, полученные в общежитии, не раз сослужили полезную службу на улицах неспокойного южного города.
Но в основном жизнь протекала хотя и бурно, но мирно. Чуть бы посытнее, совсем было бы хорошо, а так голод был не в редкость. Уже и подрабатывали собственным ремеслом, то этюд продадут, то плакат нарисуют или стенд с отличниками производства накрасят, но всё тут же спускалось — за общим столом, с девочками, в веселье и шуме. Выручали домашние. Каждый из дому что-нибудь привозил — это были куры, гуси, утки, яйца, фрукты и овощи, сало, картошка… Несколько дней бездумного чревоугодия, ещё несколько дней подбирали остатки, потом что-то наскребали, потом… А до стипендии ещё неделя, а молодые и здоровые желудки просят есть. Однако, и тут не всё потеряно. На четвёртом этаже жили узбеки из Андижана, занимая вчетвером всего-то одну комнату, но когда они варили плов, казалось, весь Андижан сюда переселился. Умопомрачительные запахи ударяли в нос, стоило только открыть входную дверь в общежитие, а на четвёртом этаже у вас просто кружилась голова. Вот этим-то пловом и потчевалась иногда голодная орава художников из 541-ой. Случались, однако, и более серьёзные истории…
Приключения Коли Бурина
Один из голодных вечеров, когда хочешь-не хочешь, приходится ложиться спать с пустым желудком. Все стараются поскорее заснуть.
Коля Бурин — маленький крепыш, этакий плотно сбитый зимний грибок-опёнок, скуластые челюсти, любитель поесть и отчаянный спорщик. Коля ворочается на кровати, перед глазами сплошная гастрономическая порнография — раздетые колбасы, обнажённые сосиски. Поняв, что не заснуть, Коля подаёт голос: «Мужики, я съем тот хлеб в шкафу?». Все хорошо понимают, о чём идёт речь, и потому молчат. Полгода назад кто-то сунул в шкаф буханку хлеба и забыл. Хлеб давно высох и превратился в камень, его много раз перебрасывали из угла в угол, но никто так и не прельстился. Не зажигая света, Коля добирается до шкафа, нащупывает сухарь и возвращается в свою кровать. Раздаётся решительный и жёсткий хруст. Челюсти работают как машины — хрум, хрум… хрум. Скрежет прерывается шлепком, так бьют комара на лбу, потом ещё шлепок. Меняется ритм — хрум, шлёп,… хрум, шлёп, потом одни шлепки, потом: «А-а-а! Кто по мне бегает?!» Вопль такой дикий и испуганный, что несколько человек, сорвавшись с кроватей, сталкиваются лбами у выключателя. Вспыхивает свет… Молчание… И дикий хохот поднимает занавески и отдаётся звоном в стёклах. Лицо у Коли облеплено муравьями, не просто муравьями, муравьями и яйцами, каждый муравей с яйцом. Половину муравейника он съел, другая половина спасается…
Это ещё что, были у Коли и куда более рискованные приключения…
Утро перед лекциями. Все спешат к умывальникам. Илья достаёт новенький кусок туалетного земляничного мыла, разворачивает. Поднимается ароматное облачко, перебивающее другие запахи.
«Репин, дашь намылиться?» — через плечо заглядывает Коля Бурин.
«Конечно, — говорит Илья, — но вообще-то если хочешь, половина будет твоя».
«Как?»
«А перекусить надо, зубами. Пополам».
«Запросто», — говорит Коля, и сам не успевает сообразить, как полкуска мыла торчит наружу, а другая половина у него во рту.
Челюсти смыкаются, напрягаются, зубы погружаются в мыло — глубже, глубже, почти скрываются в нём. Всё. Дальше не идут. Коля пробует переломить кусок руками. Не тут-то было, мыльная масса оказывается слишком вязкой, шея трещит, мыло не переламывается. Коля пробует разжать зубы, снова помогает себе руками, растягивая челюсти, но куда там, прихватило как капканом. В глазах у него растерянность, потом тревога, трудно дышать. Илья трогает торчащий наружу кусок. «М-м-м…», — мычит Коля и как бычок на привязи подаётся за его рукой. По сторонам изо рта лезет мыльная пена. В Колиных глазах уже не тревога, а паника, пены всё больше, он почти задыхается, дышать совсем нечем. Над ним работает несколько человек, и уже сломали зубную щётку. Наконец кто-то приносит большого номера кисть и обратной стороной, работая как рычагом, удаётся посильнее разжать зубы и освободить их. Коля выплёвывает злополучное мыло на пол, в глазах слёзы, по физиономии ползут и лопаются радужные мыльные пузыри, туалет благоухает земляникой…
Толя Акунин
У Ильи традиционный груз из дома — чемодан вяленой рыбы, у Кузнецова — чемодан кускового шоколада, у него мама в Нальчике на шоколадной фабрике работает. Вот часа в два ночи, отчётливое царапанье под дверью, никто не отвечает, царапаются громче, и слышится жалобное: «Дайтэ трохi шоколаду». Снова Толя Акунин, он страшный сладкоежка, стучать робеет, поэтому только скребётся. Дверь в темноте открывается, в руки ему суют кусок шоколада, и он исчезает…
Для Толи Акунина это единственный гедонистический грех. Странным образом у него сочетались привычки Велимира Хлебникова и Диогена. Ещё на первом курсе у него утащили кровать, потом исчезли матрац и одеяло, хотя одеяло иногда появлялось снова. Он не роптал, поспрашивал: «Вы не видели мою кровать?» — и устроился в своём углу на полу, подстелив верхнюю одежду, и так и проспал там до университетского окончания, накрываясь простынёй и иногда одеялом.
Странно, потому что его станичная родня была довольно зажиточной по тогдашним меркам. При Толиных взаимоотношениях и взаиморасчётах с жизнью, с её кому-то позарез нужными учебными планами, зачётами и экзаменами, вполне естественно возникли у него трения и конфликты с учебным процессом, иными словами, хвосты и неуды. И на горизонте появился военкомат: «ага, Акунин не переведён на следующий курс». Неважно, что ему всего лишь назначена переэкзаменовка на осень, и никто не собирается его отчислять. Военкомат строг, траурная повестка уже доставлена в общежитие — «явиться на призывной пункт».
Деканом был у них тогда Иван Григорьевич, армянин, подвижный, маленький и очень добрый. Он их любил, своих студентов, и они платили ему тем же. Из каких только передряг он их не вытаскивал и чего только не прощал…
С Акунинской повесткой идут к Ивану Григорьевичу, целой делегацией, сам Акунин не пошёл бы. И начинаются для Ивана Григорьевича заморочки с военкоматом — звонки, бумаги, письма, печати, подписи. Чего ему стоило, никто не знает, в военкоматах народ настырный, на патриотизм давят, долгом Родине берут…
А тем временем скорбные родственники едут из станицы Ольгинской в город. Везут еду, закуски, самогон и устраивают всему пятому этажу проводы Акунина в армию. Дня три провожали, пока, наконец, не пришло от Ивана Григорьевича известие о том, что призыв отменяется. И так трижды за пять лет учёбы. Спасибо Ивану Григорьевичу, да будет земля ему пухом, закончил Толя университет и пишет потихоньку холсты в своей Ольгинской. И ещё раз спасибо, никто не знает, что бы с ним сталось, если бы не Иван Григорьевич, совсем неподходящий для армии человек Толя Акунин.
*
А вот другой преподаватель, и тоже армянин, темпераментный, азартный и очень упрямый, хотя незлобивый и безобидный. Одно время он вёл у них живопись. «Нэ так!» — правит он кистью №25, а то и пальцем этюд Ильи…
Илья устраивается ближе к окну, сбоку ставит стул, с другого бока стоит стол. Не подойти. «Нэ так! Что дэлаишь?!» — рычит тот откуда-то из-за спины, но до холста не дотянуться. Наработавшись, довольный Илья идёт в буфет, время обеда. Возвращается. Его композиция в центре мастерской, перед ней, уперев руки в бока, перемазанный счастливый армянин. Описав мастихином круг по воздуху, цокает языком: «Какой красывай, сабака!». Всё переписано напрочь, почти Сарьян.
Незабвенный Григорий Иванович, любимый и любимейший. Он вёл у них композицию и живопись. После трёхчасовых бдений за мольбертами кто-то вдруг ненароком вспоминал:
«Григорий Иванович, а что, сегодня пленера не будет?»
«Ах, да-да, как же, действительно засиделись. Давно пора».
Они спускаются в горпарк, набирают портвейна и начинается пленер. Потом Григория Ивановича провожают домой, сами кто куда. Хмель из молодых голов быстро выветривается, наука оставалась — глубоко внутри и навсегда.
Григорий Иванович — педагог прирождённый. Надо было их любить — всех — безалаберных и аккуратистов, талантливых и не очень, послушных и неслухов, строптивых, беспокойных, зелёных… Кроме чувства, кроме опыта и знаний, кроме профессионализма и чутья художника, он обладал ещё одним редким даром — умением отдать, вложить, донести до сердца. А без этого многому не научишь.
Плохие и хорошие
Все знают, что студенты бывают плохие и хорошие, кафедральное начальство в своём всеведении знает об этом лучше других и из первых рук. Хорошие успешно справляются с учебными планами и заданиями, не пропускают занятий, этюды пишут как учили, композицию строят как сказано, не забывают выразить идею, соглашаются с замечаниями и тут же вносят исправления. Плохие — те, кто всего этого не делает, или только делает вид, что делает, а сам норовит по-своему. Вот один из таких к заурядному что ни на есть учебному натурному портрету выдал ярко-синий подмалёвок, другой спокойно кладёт рядом чистым цветом зелёное и красное, зелёное и оранжевое, третий запросто поменял перспективу, может вообще смешать их и выдать в одном этюде и прямую, и обратную. Они могут опоздать или совсем не явиться на занятия, могут прийти, и от них будет разить портвейном. Их неудержимо, как магнитом, тянет ко всякого рода формальным опытам, чем они по углам, где никто не видит, и занимаются. Они подбирают на улице коряги и палки, строгают, сверлят и выставляют уродцев, которых называют Аполлонами, и красавчиков, которых кличут Иудами. На холст они могут прилепить тряпку, а то и крысиную шкуру — инсталляции, видите ли, слово-то какое выудили…
Хорошие и есть хорошие, это и по отметкам сразу видно — четвёрки и пятёрки. У плохих на каждом просмотре не редкость неуды. Вот тут, к примеру, всё не так, как надо: цвет — такого в жизни у человеческого тела не бывает, светотень нарушена, перспектива смещена… однако, что-то орёт и рвётся из холста — ладно, трояк, на всякий случай с минусом…
Это потом жизнь разберётся и наведёт порядок, и плохие, и хорошие большей частью вроде как поменяются местами. А сейчас конец учебного года и время выездных пленеров. Хорошие едут в Москву, будут писать на творческих дачах в Подмосковье; на будущий год они поедут по Золотому Кольцу, потом снова в Москву. Плохих туда не берут, плохим — сухой паёк, какие-то деньги, суточные или как их там, и езжайте куда хотите, отчитываться вы знаете как — этюдами, набросками, картинами, не привезёте — вылетите из университета.
Плохие ездили всегда в Крепостную. Ах, Крепостная, воля-вольная, только-то полсотни дворов — и вся станица. Афипс, собрав в горсти основные притоки верховий, здесь уже полноводный. Вокруг горы, одетые лесом, по логам скальные 30-метровые обрывы, и над всем царит крутосклонный Собер. Всего-то 735 м и тоже закрылся деревьями, но высится владетельно и выглядит хозяином. И лес, роскошный южный лес, чего тут только нет, от поднявшейся свечкой в небеса дикой груши и раскидистой яблони-кислицы до державного тиса и дуба. Зелень на все лады, по всему спектру, в каждом уголочке. Всё дышит и всему есть место.
Развёрнуты этюдники. Тишина вокруг особая, лесная, переполненная звуками и жизнью. Этюды пишутся стремительно, иначе как за ней успеть.
Серой тенью из лопухов к нагретым камням проплыла двухметровая гюрза, подняла тяжёлую треугольную голову, холодно смерила взглядом и, свернув несколько колец, застыла. Толстый как полено полоз в золотых и оранжевых пятнах лежит прямо на тропе, сливаясь с солнечными бликами. Стадо кабанов где-то рядом, фыркая и хрюкая, копытит прошлогодние жёлуди и незрелую падалицу. Может выйти вдруг косуля, может олень. Высоко в листве перебрасываются дрозды, отбарабанил дятел, а вот и иволга на флейте проговорила собственное имя.
Какое там Подмосковье… Что может сравниться с этим насыщенным и напряжённым, непрерывным и наполненным, физически ощутимым пульсом, бьющим как родник. Может, поэтому этюдов у плохих к просмотру вдвое больше, чем у хороших. Но лень-матушка, да и некогда, жизнь захлёстывает, — и вот, этюды не оформлены, задания не дописаны, то того нет, то другого. Опять, о Господи, плохие с тройками, хорошие с пятёрками.
Но это потом, когда приедут. А сегодня заботы другие. Вечером, видно, драка предстоит с местными парнями, ну, конечно, «шерше ля фам». Потом поход на Собер, на вершину, оттуда всё видно, каждый раз одно и разное. Всё меняет цвет — небо, зелень, скалы, плывёт и меняется форма, ушло-сменилось настроение, разрастается облако, упала роса, сейчас упадёт солнце… этюды летят листок за листком, только успевай.
На вершине Собера ровная площадка с редкими кустами и деревьями. Луговина, высокотравье, разнотравье. И цветы, собрав всю радугу, неторопливо проживают собственную жизнь. Вот тут хорошо и передохнуть — за натюрмортом.
*
И снова город, просмотры, занятия, общежитие, есть деньги, нет денег, сегодня вот опять голодуха, и живот подвело. Но… бывает же такое…
Полквартала до пельменной
Сырость. Слякоть. Сумрак. Сеет мелкий дождь. Осень. Четыре часа дня, небо придавило тучами, и уже почти темно. Илья с Кузнецовым бредут от трамвая к Красной, два тощих волчонка со сведёнными скулами. Достаёт через намокшую одежонку холод. То ли это голод (ещё три дня до стипендии), то ли оба вместе?
На улице почти никого. И может потому, что с Красной, до неё полквартала, от самой центральной и самой известной в ту пору пельменной нанесло на них дурманящий запах пельменей, Илья размечтался:
«Слушай, представляешь, послал бы нам Бог сейчас трояк. Тарелка пельменей, полная, уксусом польём, сметаны сверху…».
И на полуслове замирает. В луже перед ним, под занесённой для шага ногой плавает листик. Илья нагибается, подсовывает ладошку и вместе с грязной жижей поднимает… на ладони трояк. Они смотрят на него, друг на друга, о, чудо из чудес!..
В чистой лужице рядом тщательно моют денежку и уже начинают верить в то, что это правда. Илья приклеивает её под рубашку к сердцу — пусть сохнет. Идут к пельменной, вовсе не бегом, а солидным и размеренным шагом. Там длинная очередь. «Вот и хорошо, — соглашаются оба, — как раз высохнет».
А через какие-то 15—20 минут стол, и перед каждым дымится тарелка пельменей, и уксус, и горчица, и сметана, всё есть…
Через полчаса просохшие, розовые, распаренные и счастливые выбираются они на улицу. «А ещё говорят, что Бога нет», — богохульствует Илья.
Теперь, когда Николай Иванович Кузнецов, один из ведущих дизайнеров салона большой фирмы г. Сочи, появляется в городе, не было ещё случая, чтобы они не вспоминали про волшебный трояк и не поприветствовали его стопкой.
*
Жизнь продолжается. Забот ещё прибавилось — теперь музыкальных. Как же, репетировать приходится!..
Чеби-Чеки
Какими-то путями на складах в университете оказалась уйма списанных духовых инструментов. Тут же на курсе объявились музыкальные таланты. Тут же и возник собственный оркестр, назвали его Чеби-Чеки, и никто до сих пор не знает, откуда родилась эта чирикалка в названии. Начав с известных духовых мелодий, постепенно свалились к джазу. Умения недоставало, но в джазе главное не умение, а импровизация, и уж кого-кого, а фантазёров и импровизаторов тут хватало. Музыку писали сами, аранжировали сами, ну и конечно сами исполняли. Саксофона не было, но был кларнет, были трубы, гитары и ударные, был энтузиазм, и буйно бродила кровь в жилах, что ещё надо для джаза?
Комсомольская верхушка пыталась руководить, но быстро попала от них в зависимость — оркестр участвовал во всех праздничных демонстрациях с патриотическими маршами, мог гимн и «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» сыграть. Так что, наоборот, на своих масонских сходках в бюро приходилось их даже оправдывать перед партийными боссами, доказывая их безобидность. К тому же известность пришла, слава пошла гулять по городу.
На пятом этаже общежития лестничный марш с просторными коридорами по обе стороны открывался в большую комнату. Это и был концертный зал. Народу на такие концерты набивалось предостаточно, хотя особых афиш-анонсов не было. А постоянными посетителями стали негры из сельхозинститута. И правда, какой же негр без джаза? Как узнавали, непонятно, но присутствовали всегда, человек по десять минимум, сидели в первых рядах, подёргивая руками и плечами, отбивая такт ногами, сверкая белизной зубов растянутых в улыбке ртов.
Репину в джаз-банде доверили геликон — огромных размеров самую большую трубу, звуки только «бу-бу» утробным басом, больше ничего. Но подходящая, самая настоящая африканская кличка уже к нему приклеилась — Опенге. Это за его успехи в конголезском. Познакомился он с негром из Конго и взял у него несколько уроков языка. Дальше совершенствовался, в основном, самостоятельно, на городских улицах. То билет в трамвае попросит на конголезском, то поздоровается или попрощается, а то и в любви мог признаться. Кто его знает, физиономия самая что ни есть русская, а вот такая скирда на голове — спутанных вьющихся тёмно-русых волос вполне могла и из Африки приехать. И вид больно серьёзный, совсем не улыбается парень.
Оркестр участвовал во всех совдеповских праздниках на демонстрациях, как же, художественная самодеятельность, отрада и гордость комсомольского вожака, у других нет, у него есть. Но это была обязаловка, неинтересно. Куда интереснее вывалить под вечер после репетиции на улицу — с боем, грохотом, под протяжный трубный глас. Народ в недоумении: «Что? Как? Демонстрация? Какой праздник?» Вот уже сзади длинный хвост, толпа всё растёт, барабан Бена (Вовы Кривенко) подчиняет и завораживает ритмом, заставляет держать ногу, будит что-то в крови…
«И нету сил держаться боле,
Толпа в плену, толпа в неволе,
Толпа лунатиком идёт,
Ладони вытянув вперёд».
Н. Заболоцкий
На пронзительной Калахари-ноте музыка обрывается. Оркестр незаметно рассеивается по сторонам, а толпа идёт дальше. Но чего-то ей уже не хватает. Замедлив шаг, топчутся в растерянности на месте: «Что? Где оркестр? Куда дальше идти?»…
*
Что-то томится в теле, что-то бродит. Неясное, тёмное, властное. Появляется, когда их собирается человек по десять или больше. Мастерят из листа плотной бумаги пропеллеры, насаживают на прут. «Ж-ж-ж», — говорит кто-то. «Ж-ж-ж», — откликаются с разных сторон. Поднимаются, выстраиваются в вереницу и — по коридору, по этажам, во двор, по двору. Их уже человек пятьдесят. «Ж-ж-ж», — наполняется пространство гулом.
Зачем? Почему? Никто не знает — это коллективное, бессознательное, Юнг, архетипы… Жутковато становится, когда в сумраке эта длинная змея вдруг замолкает и льётся молча. Повороты, круги, восьмёрки, зигзаги — всё молча, складно, одним телом. Мелькают и колышутся пропеллеры, бесшумным крадущимся и слитным шагом ступают ноги… И вдруг всё рассыпается, всё смешалось, смех, крики. Это уже толпа, потом стайки. Всё рассасывается по комнатам, и наступает обычная смирная тишина.
*
Сегодня день Коли Пазина. Притащил двух здоровенных кур и упаковку яиц — заработанные, «прыз», это он так слово «приз» выговаривал, оно и стало его кличкой. Чуть что — «прыз», здоровался, прощался — «прыз». А началось всё с Колиных авторских гонораров. Вот договариваются они в отделе кадров сельхозфабрики, там нужно доску почёта оформить, передовиков своих на видном месте повесить. «А мы вам за это заплатим», — говорят они Коле.
Коля пишет название, фантазирует с орнаментом, рамки под фотографии выводит, фоном поиграл — вроде всё, работа готова. Доску принимают, Колю хвалят, жмут руку, говорят «спасибо», готовы сказать «до свидания». Коле о деньгах говорить неудобно, он мнётся, потом решается. «Прыз», — говорит. — «Что?» — не понимают они. — «Прыз, ну, за работу». — «Ах, приз, — наконец догадываются они. — Ну, возьмите, вон, ящик яиц в углу». Вот теперь уже все довольны и радостно прощаются. Так, большей частью натурой, Коля и брал свои призы.
Это что, были и другие оригиналы…
Конспекты
В Б.Л. неожиданно проснулась тяга к философии, и не к какой-нибудь, а к марксистско-ленинской, если это можно назвать философией. В выходные, по вечерам после занятий все кто куда, жизнь бурлит, а он — в библиотеку. Обложится Марксом-Энгельсом и другими толстыми вроде как книжками и пишет конспекты. Другая любовь, уже тайная, к прекрасному полу. Но, то ли это с философией не очень вязалось, то ли ещё что, но… в общем, никак ему не удавалось ничего тут законспектировать, хотя парень был видный.
Однажды в общежитии…
Не нужно особой фантазии, чтобы представить то, что творится в мужских туалетах у писсуаров. Занятие обыденное и скучное. Чтобы как-то его оживить и разнообразить, ребята придумали ПП — прощальный пинок, или пинок на прощанье. Лёгкий толчок под зад, обычно коленкой. Выполняет его тот, кто, закончив дела, туалет покидает. Нужно об этом помнить, быть бдительным и вовремя увернуться, либо развернуться лицом, короче, быть в готовности.
Б.Л. сегодня не был готов. Илья исполняет ритуальный ПП и быстро к выходу. Видимо у Б.Л. сегодня был чёрный день, потому что он пришёл в ярость. Обычная реакция — лёгкое справедливое возмущение, стандартная короткая ругань и приказ в память отплатить тем же при первом удобном случае.
А тут слепая ярость… Б.Л. развернулся и со струей наперевес рванул за Ильёй…
Надо же такому случиться, по коридору идут три барышни с инфака, к художникам в гости. Бегущего Репина они пропускают, тот забегает к ним за спины, останавливается и оборачивается.
Б.Л. косолапит по коридору, по сторонам он не глядит, штаны и остальное держит в руках. За пару шагов до девиц он поднимает глаза…
Крутой разворот, и тем же манером он проделывает путь назад и скрывается в туалете.
Это только читать и писать долго, всё событие заняло от силы 2—3 минуты. Такие вот… конспекты.
*
По комсомольской моде того времени и, конечно, с целью подработать завели они на курсе свой стройотряд — «Скиф». В известном селе Лебеди выстроили целую улицу, стоит и сейчас, называется Студенческая. Дома ставили деревянные, щитовые, так называемые «финские». Работали от зари до зари, темп был нужен, чтобы успеть побольше сделать, иначе останешься без заработка. Грубели руки, отвыкая от кистей. Душа просит сделать хоть что-нибудь с фронтоном, завязать наличник в композицию, хоть птицу вырезать, поставить на конёк, но прораб уже гонит со следующим заданием: «Даёшь, художник, жилплощадь населению!»
Это в Лебедях-то, исконном казачьем хуторе. Где ваши родовые наделы, казачки? Ваши руки, одинаково споро управлявшиеся и с шашкой, и с землёй, умевшие за месяц поставить саманную хоромину — живи, не хочу? Всё пропито, сдано в колхоз, крыши текут, хаты рушатся. Ну кто же ещё жильё будет строить для вас как не студент-художник?!
Они и строили. И время для забав всё равно находили. Повзрослевшие сегодня Лебединские красавицы не забыли, наверное, дорогие сердцу утехи молодости с разбитными студентами из города. Тогда царил «сухой закон». Это для них прятали они в стожках бутылки с самогоном, а потом встречали развесёлых по укромным уголкам. Подойдут ребята, уже в потёмках, к стожку, потрясут — не звенит, идут к другому, к следующему, глядишь, и зазвенело.
*
Может сложиться впечатление, что ребята были совсем уж аполитичные, стройотряд для заработков, а дальше — только пили, ели, дрались, прикалывались, устраивали свои амурные дела, ходили и не ходили на лекции, лепили глину, долбили дерево и камень, писали этюды и картины. Это неправда, не вся правда.
Был у них предмет, назывался «Обработка материалов», науку преподавал Филипп Филиппыч. Однажды выдаёт он каждому по килограммовому железному бруску-болванке с заданием извлечь и зашлифовать из болванки молоточек грамм на двести, такие в ходу у гравёров. Срок два месяца, время пошло. Как с ней быть, с этой болванкой? Ребята, даже самые исполнительные, покрутятся рядом с драчевым напильником и ножовкой по металлу — как была болванка, так и осталась, ничего с ней не делается.
Настаёт день зачёта. Мастерская была внизу, в подвале. Темно, сыро, мрачно. Посередине мастерской стоит необъятных размеров металлический стол-верстак, привинченный к полу. По сторонам стола высятся закреплённые на нём огромные слесарные тиски. У Филипп Филиппыча своя отдельная комнатка, он сидит в ней при электричестве и злорадно строчит список, ясно, всем «незачет», он уже видел — все болванки целёхонькие…
В мастерской зловещая тишина. Ребята раздеваются до трусов, натягивают засаленные промасленные фартуки, зажимают болванки в тиски, вооружаются кувалдами. И… тишина рушится. Десяток пролетарских кувалд опускаются на болванки, ещё, ещё, ещё. От неожиданности останавливается трамвай на улице рядом, перепуганные прохожие пытаются заглянуть в подвальные окошки почти вровень с землёй. «Вставай, проклятьем заклеймённый», — выводит стройный хор под аккомпанемент оглушительных выстрелов железа о железо.
Филипп Филиппыч выскакивает из своей каморки и хватается за голову. Полуголые тела, голые прочно расставленные ноги, голые руки с кувалдами на длинных рукоятках описывают круги взмах за взмахом.
«Прекратить!»
«Весь мир голодных и рабов», — несётся Филипп Филиппычу в ответ.
Шáбаш. Летят длинные искры — от болванок, от столов, от тисков, от дорогих сердцу Филипп Филиппыча тисков.
«Прекра… атить!» — он срывается на визг.
«Эту… песню… не за… претить», — скандирует хор в ответ, отбивая каждый такт кувалдами…
Всем поставлен зачёт. Пьют мировую. Выясняют у Филипп Филиппыча, что же всё-таки нужно было делать с болванками. Ничего, оказывается, просто повозиться с железом, а потом к нему подойти. Пошутил он. Заскучал человек. Он и так зачет поставил бы, без «Интернационала».
*
Такие они были — университеты.
Может, и вправду,
«А ведь раньше лучше было
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь».
О. Мандельштам
Хирургия
«Полчаса до темноты —
Вот теперь давай на «ты»!
Как с тобой легко и жутко,
Что ж ты смотришь сверху вниз?
Поднеси поближе шубку,
Расстегнись и отвернись».
Евг. Рейн
Звонит Женя: «Репин, собирайся, шабашка отличная, колхозная. Представляешь, председателя не помню, бухгалтер Сундук, парторг Ящик. Во фамилийки Бог дал, но, честное слово, правда. Заплатить хорошо обещали, там ДК расписать надо. Бригада 4—5 человек, работы много. Я побежал». Репин собирается, обзванивает художников: сам Илья, Женя, Коля, Саша, Виталик.
Приехали, работают: кормят на убой, деньги обещали выдать сразу, восходы, закаты, воздух звенит от чистоты и жаворонков по утрам, урывками этюды копятся, пруд зарыбленный, кто-то и порыбачить успевает.
Места живописные. На берегу пруда небольшой прохладный лесок уходит в низину и там становится пойменным, с буреломом, ажиной, травой в рост и комарами. А на другом берегу — плантация конопли стеной стоит — двухметровая, тёмно-зелёная, отяжелевшая от дурманящих запахов.
Работа близится к концу, и в один из дней они решают устроить выходной. Выбираются с утра на пруд, с ними дамы из местных, еда, питьё, закуски, сколько унесли. Рыбачат, загорают, купаются, веселье и шум, как повисли над прудом с утра, так целый день и не стихают. Ближе к вечеру переглянулись Илья с подружкой и, не сговариваясь, поплыли на ту сторону пруда. Подплыли, до берега метра три, под ногами ил по колено. Тут, на беду, коснулись они друг друга, а не надо было касаться. Как током ударило, закувыркались они в жирной и чёрной, чернее сажи, муляке, и так, одним диковинным телом, проползли до берега, и накрыла их конопля — сразу и ложе, и покрывало, и благовония…
Лежат, улыбаются, глядя друг на друга, есть от чего, перемазались как черти. И вдруг, словно выстрел, хлестнул вопль над водой. Следом — ещё один.
Плывёт Репин, гребёт сколько есть сил, не знает, что и думать. Видит издалека — переполох на берегу, фигуры мечутся вокруг костра. Одна отделилась и бегом в низину, к лесу, другая на месте пляшет и орёт. Приближается Илья, теперь слова разобрать можно, не очень-то цензурные. Выходит на берег, ещё отдышаться надо…
У костра, по центру стоит в одних трусах Саша, в руке — топор, трясёт им в воздухе и, сколько сил в лёгких, кричит: «Зарублю суку!» Видит приближающегося Репина: «Гляди, что он сделал!» — и тычет пальцем в огромный, на глазах расплывающийся багровый слепок с чьих-то зубов, словно пасть собачья сомкнулась на Сашином животе.
«Кто?» — не понимает Репин.
«Виталька… Зарублю суку!» — но уже начинает потихоньку остывать.
«Странно», — думает Илья, никаких живодёрских наклонностей он не замечал за ним раньше.
Постепенно всё проясняется… Лежат ребята на травке, притомились за день, отдыхают, говорить уже не хочется. Наплывает тихий вечер. Солнце оранжево-красное, как цветок календулы, едва касается теплом и лаской. Чуть в стороне о чём-то шепчутся Женя с избранницей, они давно поладили, им хорошо. Виталик и его пара разделены костром, не сошлись, видно, характерами. Саша лежит навзничь, раскинув руки, и кудрявая головка уютно устроилась у него на животе, время от времени шевелится, пощипывает губами, гладит рукой, потом снова откидывается на спину и затихает.
«Слушай, что ты его облизываешь? Цапнула бы, что ли», — говорит Виталик.
Никто не обращает на него внимания. Медленно близятся сумерки. Смирная тишина вокруг, время замерло.
«Ну, чего ты, цапни, говорю. Видишь, он сейчас заснёт», — зудит Виталик.
Саша перебирает глазами лёгкое перламутровое облако, оно колеблется под взглядом и медленно расходится, сейчас рассеется, исчезнет. Кудряшки легонько щекочут живот.
И вдруг боль пронизывает его до самых лопаток и подбрасывает в воздух. Этот-то жуткий вопль и слышит Илья. «А-а-а!» — орёт он снова. Кудряшки отлетели в сторону и смотрят на него в растерянности. Виталик неожиданно и прытко подхватывает к лесу. Мечущийся Сашин взгляд натыкается на топор, он хватает его и в душу и всех святых мать бросается следом. Но тот уже исчезает за деревьями. «Зарублю суку! — рычит Саша и видит перед собой Илью. Его трясёт, он бросает топор, садится и с остановками начинает приходить в себя…
«Как же так, ты чего?» — спрашивает Илья у кудряшек.
«Я не знаю,… я не хотела», — лепечет она из-за спины подруг.
Они идут домой. Саша никак не может угомониться, его душит злость на Виталика, и он грозит ему всеми карами, земными и небесными. А кудряшек ему жалко, он её успокаивает и понемножку успокаивается сам.
Два часа ночи, а Виталика нет. Илья начинает засыпать, последняя мысль: «Его же комары сожрут». В суматохе они собрали всё, включая и одежду Виталика, и тот гуляет сейчас по лесу в одних трусах.
Наутро все в сборе. Виталик с Сашей друг на друга не смотрят, и долго ещё потом будут отворачиваться при случайных встречах.
Время уезжать. Поджил синяк на Сашином животе, но челюсть проступила ещё явственней. «Что делать?! — сокрушается он. — Как я жене покажусь, это же конец, развод. У меня и в мыслях-то ничего не было с этими кудряшками. Поди, докажи теперь…».
«Терпеть будешь? — спрашивает Илья. — Давай, изменим рисунок, замаскируем, скажешь, что упал, ударился. Мы подтвердим, если надо».
Наточили нож, окунули в йод, промазали живот йодом, и Илья приступает к делу, нацарапывая полосы на животе. Проступают капли крови, Саша стонет, охает: «Дай, я сам». Но больно, если и сам, ещё и плохо видно. «Да не там ты режешь, что от этого толку», — снова берётся за нож Илья. Кровь уже льётся нешуточная, заливает живот. Протирает йодом, Саша взвивается от боли.
«Последний штрих», — говорит Репин, добавляя ещё порез, и отходит на шаг в сторону, оценивая взглядом общий вид.
«Надо же, — удивляется он. — Прямо как у Пикассо получилось». И не удерживается: «Лучшая моя картина!»
Саша вскидывается, но только мычит от боли, злости и стыда.
Проходит ещё пару дней, на сегодня назначили отъезд. Саша грустно разглядывает в зеркало импрессионизм на своём животе — в багровых, жёлтых, синих и чёрных тонах.
«Нет, — вздыхает он. — Вы езжайте, а я здесь ещё побуду», — и уходит.
Дней десять был он ещё в колхозе, меняя компрессы из бадяги, пока, наконец, не истаял последний, самый упрямый резец.
Я зашёл попрощаться…
«Что же сделается вдруг
Этим яблоням и сливам,
Если выпадет из рук
Жизнь воробушком пугливым?»
С. Васильев
Часов 11 утра. Репин никого сейчас не ждёт, позавтракал и собирается к холсту. Неожиданный звонок в дверь. Перед ним бледный Г. В. Илья сразу понимает, что что-то произошло, оба молча проходят и садятся.
«Я зашёл попрощаться», — говорит Г.В., не поднимая глаз.
«Ты толком скажи, что случилось».
«Не могу больше, надоело всё. Вот, две недели назад жена ушла. Теперь один, как перст, в четырёх стенах, смотреть на холст не могу, кисти повыбрасывал… В общем, решил я со всем этим кончить. Не нужна мне такая жизнь. Да и кому я нужен? Кто знает художника Г.В.? Кому нужны его работы?»
В мастерской повисает долгое молчание. Илья лихорадочно соображает. Понятно, что положение серьёзное, кризис, жена ушла, может и вправду чего натворить. Что-то нужно делать. Но что?
«Слушай, — говорит. — Ты мужик взрослый, решил, значит, решил. Я тебя отговаривать не буду, не стану тебе рассказывать, как хороша жизнь, сколько ты ещё классных картин напишешь после того, как всё это пройдёт, не буду напоминать тебе о твоих почитателях и почитательницах. Ничего этого делать я не буду. Попрошу тебя только об одном, и ты должен обещать мне это, слишком давно и хорошо мы знаем друг друга. Жертва небольшая, единственное, о чём я прошу — повременить со всем до вечера. Если ничего не случится, и ты будешь так же твёрд в своих намерениях, как сейчас, — делай, что ты там собрался, в петлю залезть или ещё что. Поплачем потом, помянем, проводим, и если кто тебя и осудит, то во всяком случае не я, жизнь и вправду собачья. Обещаешь?»
«Обещаю, — кивнул Г.В. и пошёл к двери.
План у Репина уже почти готов, теперь только бы не подвели, а то придётся ещё кого-то разыскивать.
Но нет, всё в порядке, к часу дня как обещали, приходят девочки из художественного училища, 4-й курс. Их сразу четверо, четыре щебетушки, красивые, громкие и молодые. Илья впускает их, кивает в ответ на оживленные приветствия, проходит и молча и печально усаживается за стол. Те слегка обескуражены: «Наверное, мы не вовремя?»
«Нет, нет, девочки, вы тут не причём. Просто у меня с утра очень плохие новости, не знаю, что и делать».
«Что? Как? Может, мы чем-то сможем помочь?»
«Может быть, хотя не знаю…» — Илья выдерживает длинную паузу, в мастерской мёртвая тишина.
«Понимаете, — продолжает он, — тут есть одна маленькая интимная деталь, и я не уверен, вправе ли я её разглашать, об этом мало кто знает».
У девочек округляются глаза, они заёрзали на стульях: «Но мы же никому не скажем!»
«Ладно, — говорит Илья, — надеюсь, простится мне, обстоятельства вынуждают… Сегодня утром, только что перед вами, у меня был мой друг Г.В., вы с ним знакомы. Талантливый художник, совсем ещё молодой, но… Короче, не хочет он больше жить. Кризис творческий, как назло, не продаётся ничего, а тут ещё жена от него ушла, вот уже две недели. Наверное, это была последняя капля. Что ей в голову взбрело, я не представляю, семейное дело тёмное, хотя одну причину я могу предположить. Но только!..»
Илья смотрит на них. Четыре птицы сидят, боясь пошевелиться, глядят ему в глаза, мотают головами: «Никому!»
«Дело в том… Он рос без отца, трудное детство, бедность, почти нищета, вечные недоедания. Ну и, видимо, поэтому он перестал расти. Вы его видели — он небольшого роста. Сам расти перестал, а это… этот…, ну, вы понимаете, растёт и растёт…».
«Кто?» — не выдерживает одна.
«Молчи, дура, я тебе потом всё объясню».
«Вот, — продолжает Илья, — может быть, здесь причина, почему ушла жена, хотя бы отчасти. Он мне как-то жаловался полунамёками, он очень стеснительный, на проблемы с этим, но я не обратил тогда внимания. Впрочем, кто его знает, — женщины, поймёшь разве, что им нужно всякий раз… В общем, девочки, я вас очень прошу, жалко человека, сходите к нему, это тут недалеко. Вы молодые, задорные, глядишь, и перебьётся всё. Он такой талантливый…».
«Конечно, конечно», — в хоре голосов энтузиазм.
Илья пишет адрес и рисует подробную схему-путеводитель по одному из городских дворов: как пройти во двор, как добраться до входной двери, это комната мамы, это сестры, а вот эта — та, которая нужна. Илья видит, что девочки давно всё поняли, девочки готовы и горят от нетерпения.
Улетели девочки…
В последующие дни Илья чутко прислушивается к жизни художников вокруг, но всё мирно и спокойно, никаких происшествий.
Недели через две они случайно видятся на улице. Г.В. ещё бледнее, чем при последней встрече, весь какой-то развинченный и лёгкий, словно пустой. Задёрнутый туманом взгляд, синие тени подтянулись почти к вискам.
«Ты что-то не в себе?» — говорит-спрашивает Илья.
«Да ну их, задолбали… студентки из худучилища. По две, по три каждый день приходят, то им расскажи, это покажи… Устал я как собака».
Вдруг тень пробегает по его лицу, глаза сверкнули смущённо и ушли в сторону. «Вспомнил, как виделись в последний раз», — догадывается Илья.
«Ладно, я побегу, холст купили, просили занести сегодня, у меня рамы не было, вот иду к Васе за рамой».
«Идея как-то использовать девочек пришла мне в голову сразу же, как только я о них вспомнил; Г.В. ещё был здесь, и я подумал, что хорошо бы они пришли раньше, — рассказывает Илья. — Что-то же я должен был придумать. Ситуация критическая, действовать надо было быстро, с маху, сдуру он действительно мог сотворить что-нибудь непоправимое».
«А как там у него с этими его принадлежностями, я до сих пор представления не имею. Я в бане с ним ни разу не был и голого никогда не видел…» — Илья смеётся.
История, однако, на этом не закончилась, а продолжение её заняло ещё около года. Пошли гулять по городу слухи о Казанове в городе, о необыкновенных его мужских достоинствах и доблестях. К Г.В. выстроилась очередь, попыталась было вернуться жена, и он не без злорадства указал ей на дверь. Но слухи, видимо, оказались преувеличенными, и постепенно всё успокоилось. Где-то в середине этой саги появилась на горизонте женщина и потихоньку отвадила любительниц приключений. Родили они с Г.В. сына и почти уже вырастили на сегодняшний день.
Скрипка
«На лыжах звука, но без языка,
Не шёпотом, горя, и в смертный час почти
Рыдает сумасшедший музыкант,
О Лидии, о лилии и ласточке!»
Арс. Несмелов
Собрались как-то два художника — поговорить, выпить, развеяться. Маликов и Илья. И поговорили, и выпили. Тревожно, сладко на душе стало. «Послушай, — говорит Маликов, — это моё любимое». И ставит на стареньком проигрывателе «Каприсы» Паганини. Заворожил, закружил Д. Ойстрах виртуозными тремоло и флажолетами, нежнейшими пианиссимо, до донышка достал.
«Не может быть, я тоже могу», — подхватывается с места Илья, видя на стене скрипку. Старенькая, рассохшаяся ученическая скрипка. Как настраивать, никто из них не знает, но всё равно, берёт Илья скрипку, извлекает из неё протяжные певучие звуки, стараясь поймать созвучия из каприса, и что-то вдруг находит… или это им только кажется. Растрогались оба, и Маликов на дорогу кладёт в футляр скрипку, даёт в придачу килограммовый слиток канифоли, и они расстаются… С неделю Илья повозился со скрипкой, попиликал, но быстро понял, что пять лет худграфа в университете ничего не добавили к его станичному музыкальному образованию, надо бы для начала музыкальную школу, что ли, закончить. Он вернулся к холстам, а скрипку повесил на стену. Но теперь она довольно часто появлялась в его натюрмортах, особенно на первых порах. Репиным Илью больше не называли, и иногда он ловил себя на том, что жалеет об этом. Он снова обрёл прежнюю свою фамилию и некоторую известность, его картины стали покупать.
Шло время… И вот однажды раздаётся звонок в дверь мастерской. Илья открывает. В проёме — женщина, молодая и красивая, совершенная и звонкая, сама как скрипка, но от Амати или Страдивари. И в руке футляр со скрипкой. Смущенные приветствия, извинения… «Я из Ленинграда, — говорит она. — Мы здесь на гастролях с квартетом. Я знаю немного Ваши работы, видела на выставке. Они мне нравятся. А вчера я купила Ваш натюрморт в выставочном зале. В филармонии мне нашли Ваш адрес. У меня до концерта несколько часов, вот я и решила…»
Ошарашенный Илья вспоминает, наконец, о гостеприимстве, усаживает, ставит чай, накрывает на стол, что-то говорит, приходит в себя. Илья не из робких, но смущён и даже растерян. Потом они пьют чай, но беседа не клеится.
«Хотите посмотреть?» — Илья показывает на составленные вдоль стен картины.
«Конечно, если можно. Я на это и надеялась, когда сюда шла».
Они перебирают холсты. Илья что-то рассказывает, пытается шутить. Она почти всё время молчит. Им попадается натюрморт со скрипкой. На ней одна струна, остальные клубком сбоку. «Паганини — так я его назвал», — говорит Илья.
«Это она?» — кивком головы она показывает на стену, где висит скрипка с тем же клубком. «Да», — говорит Илья. Она долго и рассеянно на неё смотрит, потом отворачивается и идёт к столу.
«Ещё чаю?» — предлагает Илья.
«Нет, нет, спасибо».
«Может, Вы что-нибудь сыграете?» — Илья не знает, чем заполнить паузы и никак не может выбраться из смущения. Она молчит, отсутствующий взгляд медленно бродит по стенам.
«Да, пожалуй», — вдруг соглашается она. Наклоняется за футляром, открывает, достаёт скрипку…
«Что это было, Боже мой. Я ни черта в музыке не понимаю. Кроме этих „Каприсов“ у Маликова, я и не слышал-то ничего толком в своей жизни из классики», — вспоминает Илья.
То падая, то забираясь, куда немыслимо казалось и достать, замирая и вспыхивая вновь, трепетала, звенела, рыдала, заполняя пространство, скрипка. И вдруг прервалась в неожиданном стоне и затихла…
Глянул Илья, а из-под ресниц по тонким, нервным, прижатым к векам пальцам покатилась вдруг жемчужная капля, одна, другая, и сдерживаемый, нестерпимый и какой-то вдовий плач резанул по сердцу и придавил в кресле.
«Я никогда её больше не видел. И никогда больше не брал в руки скрипку. И со стены сразу убрал».
1998 год. Краснодар
Прошло сорок лет…
Прошло 40 лет. Позади жизнь. Иных из наших «тигров» уже нет в живых. Больших художников ни из кого не получилось, хороших средних несколько, остальные просто проживали жизнь и своим ремеслом добывали себе кусок хлеба. Выросли дети, подрастают внуки, с этим всё у всех в порядке. У детей своя жизнь. У наших художников какой-то кусок её ещё остался, но что с ним делать?…
Разбухший от жира и сердечного недуга Илья задыхается от нескольких шагов… Поджарый и усохший Паша несколько лет назад наотрез отказался пить, и теперь его по жизни гонит только тщеславие; все деньги тратит на устройство выставок и на встречи с «нужными людьми» ― зачем, он сам не знает; он раздаривает им свои холсты, тает от комплиментов, надеется на обещания… Такой же высохший, маленький, съёжившийся Толя Акунин коротает с водкой дни между заказами.
«Ты книжки читаешь?», спрашиваю я его.
«Какие книжки? Я выживаю. Течёт крыша в доме, завалился забор… Какие книжки?»
Толя хороший копиист и недавно ему заказали репинских «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану», но на крышу гонорара не хватило. Пишет он и портреты ― «главное, чтобы было похоже»… Г.В. всё из себя выплеснул, гонит по инерции в одной и той же колее и по собственному его признанию «давно сам себе противен». Он потерял вкус и к искусству, и к жизни, и всерьёз подумывает о том, чтобы «зайти попрощаться». Илья уже бессилен ему помочь, как и себе. Край жизни, близится финал…
Какой-то печальный у этой истории конец. Где-то потерялся смысл, что-то тут не так, Всевышний… Скажи, где выход…
Несётся рядом молодая жизнь. Наши художники «по долгу службы» иногда общались с Богом. А что ждёт этих «детей асфальта», которые о Боге только что-то слышали и никогда с Ним не соприкасались? Они с осмысленным старанием дрейфуют на Запад, хлебают свои восторги на «Евровидении», грезят кто о Европе, кто об Америке и ничего не знают о России, кроме последних её 70—100 лет. 12 июня, в «День России», на «Маяке» я услышал только одну песню-мелодию на русском, да и то недолго ― парень «улетал в Лаос». Всё остальное музыкальное ― англоязычная попса. От неё давно тошнит, но для них она ― культура. Когда они искоренят в себе остатки русской ментальности, ничего другого, кроме братской могилы с Евросоюзом им не останется, но у «евро» будет преимущество, поскольку вся их ментальность исчерпывается формулой: «пожил ― и пропал», ни о чем другом они не знают. Россия это «другое» — знает, но забыла…
14.06.10. х. Редант
В. М.
Хотя в жизни всё запутано и переплетено, но что-то есть в ней главное, а что-то второстепенное. Сознательную, взрослую жизнь В.М. вылепили три блока причин, обстоятельств и связанных с ними действующих лиц.
1. Жёны
У В.М. в его жизни было четыре жены. С первой он прожил полтора месяца, со второй — полтора года, но потом промыкался-потянул ещё четыре года из-за сына. Третья родила ему ещё одного сына, но через пять лет ушла, забрав ребёнка с собой. Четвёртая родила ему двух дочерей и умерла, не дожив нескольких месяцев до 33 лет. Дочерей он растил и поднимал в одиночку: ни жён, ни женщин в его жизни больше не было.
*
Первая жена была москвичка, звали Татьяной. В 60-х годах прошлого века В.М. учился заочно в московском институте и два раз в год бывал там регулярно на экзаменационных сессиях. Было ему тогда 25 лет. Рост средний, внешность средняя, худощавый и спортивный, любитель музыки, стихов и живописи, неравнодушен был к охотничьему оружию и красивым женщинам, к лошадям, собакам и футболу…
С Татьяной В. М. познакомился в московском Манеже на традиционных тогда новогодних праздничных вечерах с концертами и танцами. Была она зеленоглазая, миловидная, небольшого роста, коренастая, широкоплечая, с густющей шевелюрой коротко остриженных каштановых волос. В Манеже, на танцах, она сразила В.М. тем, что знала Шелли. Английский поэт Шелли был одним из увлечений В.М. того времени, и он много знал из него наизусть (в переводах). Английскую поэзию в разговоре они затронули случайно, но что-то дало повод, они добрались до романтиков, и тут она продекламировала один из его шедевров, коротких стих: «Если лампа разбилась, то и пламень в осколках погас…»
Через неделю они уже жили вместе, Татьяна сняла комнату у одной из своих сотрудниц, а через две недели обзавелись и штампом ЗАГСа в своих паспортах — всё её же стараниями, но В.М. не возражал — Перси Биши Шелли перевешивал. Татьяна по профессии была биолог, аспирант Тимирязевской сельскохозяйственной академии, с В.М. они были одногодки.
Семейная жизнь текла вперемежку с экзаменами, зачётами и контрольными работами. В.М. пора было скоро уезжать, и он старался побольше успеть. Был допоздна в институте, сидел за конспектами дома — обычный студенческий напряжённый сессионный ритм. Жена тоже работала в своей аспирантуре, но в куда более спокойном режиме. Кормила В. М. завтраками и ужинами, водила в кино… Никаких ссор, стычек не было.
Но однажды случилось… По пустякам, из-за какой-то мелочи она вдруг вспыхнула, ругнулась и ринулась в туалет курить. В.М. что-то там дописал в контрольной и, благодушный, пошёл стучаться в туалет, извиниться. Он не знал за что, так, для порядка, чтобы уладить размолвку, значения этому он не придал. Мирно постучался в дверь туалета — безответно. Постучался снова: «Ну, Танечка, ты что?» — успел сказать. Дверь туалета резко дёрнулась, два блестящих распахнутых зелёных глаза засверкали навстречу и вслед за взглядом — бешеный и смачный плевок в лицо. Всё молча…
Ошарашенный В. М. застыл перед открытой дверью. Она её закрыла… В.М. ушёл на кухню, умылся, долго тёр полотенцем лицо. Оделся и пошёл на улицу. Бесцельно бродил, курил. «Если двое расстались, то забылась и нежная речь», — вдруг появилась в мозгу и назойливо вертелась концовка из всё того же стиха Шелли. Странным образом это его успокоило. Потом он понял — это было решение. В.М. вернулся в дом, заварил чай на кухне, попил. Поймав себя на том, что в туалет ему зайти трудно, покурил в форточку. Супруга была в это время в постели, читала… До отъезда из Москвы оставалась неделя. Они прожили её мирно. В.М. сам удивлялся собственному спокойствию.
…Письмо В. М. начал писать в самолёте, почти сразу после взлёта. Из аэропорта Омска, первой посадки самолёта в его долгом рейсе на восток, он уже отправил письмо в Москву. Попрощался. Никого их них двоих не винил. Сказал, что во всём виноват Шелли. Татьяна прислала ему два или три письма. Попросила прощения, попросила вернуться… Суровый на то время максималист В.М. ей не ответил.
*
Жизнь продолжалась… Следующий приезд в Москву должен был быть последним институтским — В.М. его заканчивал. Столица приняла его надолго: полгода отпускных и время на написание и защиту дипломного проекта, всего получалось положенные 9 месяцев.
…Спустившись однажды в институтскую библиотеку, В.М. увидел в окошке симпатичную весёлую мордашку. При следующем визите — снова она. Выказывала признаки расположения, улыбалась, смеялась, задавала вопросы, шутила… Так всё и началось. Броская, модная, ярко одетая, безоговорочно брюнетка, но глаза серые. Недавно окончила школу, теперь работала в библиотеке и собиралась поступать в институт на библиотечный факультет. Звали… Татьяна. «Опять Татьяна», — подумалось тогда ему. Была она на шесть лет младше В. М. Это он только сейчас её заметил, она его заметила давно, ещё в прошлый приезд, так она ему потом сказала.
На майские праздники они выбрались на Оку в район Тарусы. Заблудились в Снигирях (В.М. до сих пор ломает голову, почему подмосковные Снигири пишутся через «и»), и высокий, стройный, хотя и в годах человек приветливо и толково объяснил, как выбираться. В.М. почему-то решил, что это был писатель, может, потому, что обликом он напоминал Б. Л. Пастернака; самого Пастернака уже не было в живых. В Оке они выловили на удочку с десяток ершей. На уху не хватило, но голодными не остались, припасов было вдоволь. Весна в тот год была очень поздняя, но уже подкрадывалась, на выгревах появилась робкая зелень, а почки на ивах набухли и вот-вот должны были брызнуть свежей листвой…
После этой поездки В.М. стал бывать у них дома и иногда оставался ночевать. Они жили рядом с ВДНХ в кирпичной семиэтажке сталинской застройки, в коммуналке на четверых хозяев, где им принадлежала самая большая комната на 25 квадратных метров. Кроме родителей и Татьяны, в семье был её старший брат, но он в то время сидел в тюрьме, и сидеть ему оставалось ещё год. Семья была самая простецкая. Отец всю жизнь проработал в депо, водил трамваи. Мать, Пелагея Ивановна, долгое время работала в гостинице горничной. Была она женщина мудрая и с большим юмором. Отец, напротив, чувства юмора был начисто лишён, в семье этим пользовались и часто над ним потешались. Иногда он выходил из себя, что-то сумбурное кричал и брызгал слюной, но под взглядом Пелагеи Ивановны затихал и со стулом уходил на общую коммунальную кухню. Татьяна потом по секрету сообщила В.М., что это неродной её отец, с кем-то согрешила в войну Пелагея Ивановна. В семье все почему-то об этом знали.
В коммуналке самой примечательной личностью был Семёныч — грузный, за шестьдесят, лысый, с огромным животом и красным, похожим на еловую шишку, носом. Местная знаменитость, профессиональный игрок на бильярде и в преферанс. За ним приезжали на машине и куда-то увозили играть в подпольные клубы, а потом привозили назад, и двое молодцев доставляли его на пятый этаж, поддерживая с разных сторон.
…В.М. защитился; руководитель его диплома предложила ему аспирантуру и ещё два года в Москве. Но он решил с этим подождать и улетел домой. Он работал в геологии начальником съёмочной партии и был человек занятой. Через полгода он выписал к себе Татьяну, а ещё через пару месяцев появился на свет его первый сын Дмитрий. Но семейная жизнь у них почему-то не заладилась сразу. Ссоры, сцены, крики, беспричинная и яростная ревность жены, когда он засиживался на работе… Попробовал работать дома, но она не давала. Когда она порвала книгу, специальную, по профессии и довольно редкую (он привёз её из Москвы), В.М. понял, что и на этот раз, с Татьяной-2, он потерпел фиаско. Он пристроил её на работу в 1-й отдел экспедиции и теперь был почти всё время на виду, его камералка находилась рядом. Стало спокойнее, но ненадолго.
В.М. пора было уезжать в поле. Полевой сезон долгий, 4—5, а то и больше, полностью автономных месяцев вдали от цивильной жизни; связь с экспедицией по рации. Площадь работ не маленькая, около 600 квадратных километров на сезон; к концу его территория должна быть равномерно закрыта маршрутной сетью, то есть исхожена, с позиций геологии описана и опоискована. Дорог на площади нет, тропы только медвежьи, иногда оленьи. Заброска к месту работ обычно вертолётная. Месяц перед полями — время горячее и суматошное. Всё надо обдумать и спланировать заранее, потом будет поздно. Надо наметить базу и подбазы, схему перемещений внутри, маршрутные схемы, закупить продукты на весь сезон, запаковать их от медведей в большие металлические бочки, доставить всё это на место и ещё много чего: набор полевых рабочих, аренда лошадей, студенты-практиканты, экипировка… Народу в поле до 30—40 человек, а если с буровыми, то раза в полтора больше. За всех в ответе в первую очередь начальник партии, то есть В. М. А тут дома сплошная нервотрёпка. На что-то нужно было решаться.
Сели они с Татьяной за стол и почти равнодушно решили так: она с сыном уезжают в Москву, а дальше будет видно; уладили денежный вопрос…, говорить стало не о чем. Разговор был печальный, но мирный. В.М. пригласили в этот вечер на день рождения; он сказал об этом Татьяне и добавил: «Вместе с женой». «Какая я теперь жена? — сказала она и идти отказалась. В.М. про себя с облегчением вздохнул: «Я не могу не пойти, день рождения у Миры, мы учились вместе в техникуме, в одной группе». Она рассеянно кивнула в ответ. В.М. выбрал какую-то книгу в подарок и ушёл. Настроение было неважное…
Татьяна в 1-м отделе заведовала выдачей материалов, секретных и обычных, и выдачей оружия в поле. Кавалерийский карабин на каждую маршрутную группу им был положен по правилам техники безопасности «для защиты от зверей». Начальнику партии и старшим специалистам по статусу для охраны секретов полагался ещё и револьвер, но можно было и не брать.
…Часу в 12-м ночи В.М. стал прощаться. Не сиделось, было тоскливо, коньяк не помогал. Он вышел, спустился с крыльца. Под навесом над ним горела лампа, дальше было темно. Оттуда, из тёмноты выступила фигура в плаще. Татьяна. В руке пистолет. «Ну что, нагулялся? — спросила она. В.М. пожал плечами. «Что же ты? Стреляй», — сказал он. Услышал звук выстрела, несильно, толчком, обожгло ногу вверху. Он упал. Потом слышал крики и суету вокруг, потом уплыл…
В больницу к нему пришёл капитан милиции. Задавал вопросы, записывал ответы. Под конец сказал: «Мы оформляем дело и передаём в суд. Вы согласны?» — «Нет, — сказал В.М., — судов не надо». — «Послушайте… — продолжил капитан, — у неё дрогнула рука, она сама так сказала. Если бы не это, Вы были бы с пулей в груди и Вас, скорее всего, уже не было бы. В паху пуля прошла в миллиметрах от бедренной артерии. Если бы она её задела, Вас опять же, скорее всего, уже не было бы. Вы родились в рубашке». В.М. и в самом деле родился в рубашке, его мать ему об этом говорила. «Она — мать моего сына. Судов не будет», — повторил он. Капитан пожал плечами и простился.
У В.М. от тех времён случайно сохранилась медицинская справка о том, что ему «разрешается участвовать в полевых работах облегчённого типа». Меньше чем через месяц он был уже в поле.
*
Жизнь продолжалась… Прошло лет семь или восемь, В.М. перевалило за 30 и побежало дальше. Он ушёл в дела, поступил в заочную аспирантуру, бывал в депрессиях, погружался, с трудом выбирался… Всякий раз его спасала работа.
Однажды поздней осенью он заглянул в местный кабак. Бывал он там редко, но его знали. Расположился за столиком, заказал, оглянулся по сторонам и… увидел новость. Среднего роста, с русыми волосами и синеглазая. Глаза большие, блестящие и синие-синие. Не местная, никогда раньше её здесь не было. Пригласил на танец, завязался разговор, скакали из темы в тему, но везде было легко. Чтобы не прерываться, В.М. предложил ей пересесть за его столик, и она сразу согласилась. Так же, не жеманясь, согласилась после ресторана уйти к нему домой. Звали Галиной. Журналистка, закончила литинститут, работала завотделом молодёжной газеты в городе, там и жила с родителями. Сюда, в дальний пригород, заглянула по работе, была здесь в командировке. Утром, прощаясь, условились о встрече. Уходя, она заметила свои бальные (ресторанные) туфли, хотела забрать, но увидела, как В.М. расстроился, хотя и молчал. «Ладно, — сказала, — пусть остаются». Так всё и началось, и протекало довольно бурно. В.М. неделю не показывался на работе, потом позвонил и написал задним числом заявление с просьбой об отпуске «по семейным обстоятельствам». Начальство уже и так обо всём знало.
Год они прожили хорошо, может, потому, что жили вдали от родителей, в том самом пригороде, где познакомились, у В.М. была там ведомственная квартира. По тем временам её родители считались птицами крупного полёта: папа Галины в совдеповской партийной иерархии был третьим лицом в огромной области. Пригород они быстро разменяли на город, и теперь В.М. по три часа в день тратил на дорогу, чтобы добраться до своей работы и обратно. При его занятости было это очень неудобно, но жене в самый раз, и пришлось смириться.
Через год у В.М. родился его второй сын — Глеб. В.М. вместе с её родителями встречал жену в роддоме. Она вышла с Глебом на руках, и он сразу увидел в ней резкую перемену. В лице появилась непривычная, не красящая её строгость и отчуждение. Очень дальним внутренним чутьём он понял, что это начало конца, но тут же прогнал эту мысль и уговорил себя считать это типичным для женщины, которая перешагнула грань девичества и стала матерью.
Интуиция, однако, его не обманула. Они с Галиной всё больше отдалялись друг от друга. В семью его вежливо не приняли, да и вряд ли это могло быть иначе. В.М. при его любознательности, скептицизме в отношении признанных авторитетов, стремлении учиться и верить только правде, слишком много знал о совдепии, чтобы не питать отвращения к её кровавому прошлому и лживым лозунгам и лицемерию в настоящем. Это не раз выходило ему боком. Дома с Галиной они эту тему почти не трогали, в присутствии её родителей тем более. Но стена невидимо стояла.
Выяснилась и ещё одна деталь, выяснилась неожиданно и совершенно случайно. Будучи у родителей в гостях и раздеваясь в прихожей, В.М. увидел на столике под зеркалом трюмо телеграмму: «Умер дядя Дрейзин…» — бросилось ему в глаза. Он знал немецкий, потому что Ремарка он читал в оригинале. Переведите «drei Sinn» на русский, прочитайте слитно и по-русски, и вы узнаете девичью фамилию Галины Львовны, а Лев Анатольевич, её отец, был на самом деле Лев Натанович, хотя русская калька-фамилия ему очень подходила. Был он высокий, ладно сложенный, с такими же синими, как у дочери, глазами и совсем не похож на еврея.
В.М. никогда не был антисемитом. С томиком Пастернака и репродукциями холстов Шагала он прожил жизнь. Запрещенного Мандельштама переписывал в Петербурге ночь: по случаю ему дали на сутки американское издание. Бродский, Коржавин, Рейснер, Гиппиус…, не стоит и начинать этот список, они часть его жизни. Они давно убедили его в том, что вершины человеческого разума не знают национальностей, гении всегда всемирны и надмирны.
Но разночинный обыватель об этом, похоже, не знает, его это просто не касается, заботы у него другие. Собственная жизнь В.М. с событиями в руках ему это упрямо демонстрировала. Ему стало негде жить, потому что его жильё у него в конце концов отобрали и как дважды два доказали, что всё законно; «пиши заявление, — сказали, — поставим на очередь». Галина подала на развод и осталась в квартире хозяйкой.
Но хуже всего было то, что у него отобрали сына. Ему обрезали любые возможности с ним общаться. Он пробовал договориться с Галиной, звонил и писал письма. Написал тестю, написал Глебу, когда тот повзрослел. Ответом было только молчание. В.М. понимал, что силы были слишком неравные, что его сделают посмешищем, в первую очередь, в глазах сына. И он отступился.
В.М. пестовал сына до пяти лет. Будто чувствуя, чем всё кончится, готовил его к жизни и постарался вложить в него понятия о мужском достоинстве и рыцарских мужских качествах, как понимал их сам. В.М. знал, что наука в раннем детском возрасте остаётся с человеком навсегда, а потому надеется, что Глебу в жизни это пригодилось и понадобится ещё не раз. Глебу уже за тридцать. О судьбе сына В.М. ничего не знает. Знает только, что у Глеба отобрали даже его фамилию; когда пришла пора получать паспорт, мать перевела его на собственную. Даже формально отца из жизни Глеба вычеркнули. Но формальность это мелочи. В.М. надеется, что в памяти сына он что-то оставил по главному счёту. И тупое упрямство, с каким ему отказывали в общении с ним, кажется, это подтверждает.
Могло ли быть иначе? В.М. не знает. Склоняется к тому, что нет. Он — кровный русский, с донскими корнями, с глубинной памятью о предках, нередко являющихся к нему во сне, вросший в русскую культуру так глубоко, что и сам об этом не подозревал и только потом начал догадываться. Потом, когда незаметно для себя стал добираться иногда до виртуальных высот. В.М. не знает, можно ли бесконфликтно слить в гармонию два этноса. Или Вавилонская башня на все последующие времена была недвусмысленным предупреждением о содомии? И как тут быть тогда с глобализацией?
*
А жизнь всё равно продолжалась… Третья жена была младше В.М. на восемь лет, последняя, четвёртая, — на восемнадцать. Они работали с В.М. в одной экспедиции. Зеленоглазая, с аккуратно стриженой головкой, очень живая, любила стихи и песни у костра, ненавидела ложь и несправедливость, была прямодушной, была любимицей многих, но её прямота и острый язык заставляли многих других держаться от неё подальше. В.М. долго соблюдал дистанцию, разница в возрасте казалась огромной, но в конце концов сдался, она его почти заставила. «Ну и что ты будешь со мной делать через двадцать лет?» — спросил он. — «Ничего, там видно будет. Понянчим».
Жизнь у них не была безоблачной. Во многом в этом был виноват В. М. Предыдущие годы слишком долго и сурово испытывали его на прочность, и он начал сдавать. Пил, лечился, снова пил, думая, что понемногу можно, но срывался и снова лечился. Пока не понял, что не получится. Алкоголизм — болезнь страшная и неизлечимая: или пьёшь, или живёшь, если надо жить. Жена несла свой крест. Иногда взрывалась, сама бывала несправедливой, но, поняв, что неправа, извинялась, и они мирились. Родилась первая дочь, потом вторая. В.М. защитил диссертацию и получил сотню прибавки к зарплате за учёную степень. Так бы, может, понемногу всё и наладилось бы, но жена начала прибаливать. Они были в отпуске, когда первое серьёзное недомогание уложило её в постель. Отлежалась, поднялась, они вернулись из отпуска, и она пошла к врачу. Провели обследование, диагностировали рак желудка в той стадии, когда сделать ничего уже нельзя. Но делали — и облучение, и химиотерапию. Через полгода её не стало. Надышаться жизнью она так и не успела. Ушла, не дожив до Христова возраста трёх месяцев.
На руках у В.М. остались две дочери, младшей было шесть с половиной лет, старшей десять… Теперь они взрослые. Жизнь у них непростая, но у кого она простая? Слава Богу, что при мужьях, и старшая из дочерей уже подарила В.М. внучку.
*
«Что ж так всё запутанно и сложно, — думает В.М. — В сущности, ни его жёны, ни он не такие уж плохие люди. Но ужиться не смогли. Не сумели? Может, и не сумели. А это надо уметь? Что надо уметь?»
Зигмунд Фрейд был счастливый человек, он всё про всех знал. Своё знание он добыл в собственной постели, но решил, что оно годится и для остального человечества, хотя вскоре выяснилось, что годится оно только для обезьян. Их полно теперь по свету, постоянно торчат в телевизоре, не смолкают на радио. Вздыхают: «Ах, волнительно!» В русском языке отродясь такого слова не бывало. Русский стыдлив. Он тут же слышит, как от «волнительно» за версту несёт блудливостью перезрелой и стареющей кокетки. А кокетки и кокотки всех возрастов не устают страдать — по «сексу в большом городе» Вавилоне. Томятся откровенно, не стыдясь и не скрываясь, это их стихия — всю жизнь в течке, от тринадцати до климакса.
Последователь Г. Гурджиева и П. Успенского Борис Муравьёв («Гнозис». т. I — III. «София». 1998) длинной цепью эзотерических выкладок доказывал, что две супружеские половинки единственные, и любое другое сочетание ведёт к проблемам. А как её найти, как узнать эту свою половинку? «Существует непреложное правило: чтобы узнать своё полярное существо, мужчина должен знать себя самого. Логика очевидна: чтобы узнать своё второе „Я“, мужчина должен узнать своё собственное „Я“… Речь вновь идёт о проблеме поисков Пути… Полярные существа не лгут друг другу. Да им и нет нужды лгать, поскольку внутри оба они — единое существо» (там же, с. 273—274).
…В.М. вспоминает свою юность в далёком Иркутске, где он учился в техникуме. На вечере в ИН’язе он увидел принцессу, её звали Лариса. Тонкая, чуткая, изящная и хрупкая как статуэтка. Живые глаза с восточным удлинённым разрезом, откликаясь на душевные движения, сверкали и меняли цвет от зелёного до серо-голубого. Как музыка звучала речь. Роскошные русые волосы венчали голову, падали на плечи, закрывали и открывали шею, нежную и стройную. Перед ним стояло какое-то волшебное растение, цветок, орхидея. Он замер тогда, а она и другие студентки разыгрывали викторину, литературно-музыкальную, довольно простую. Он начал в ней участвовать и выиграл три тура подряд. Так они познакомились, они были ровесники.
В семье Ларису звали Лялей; у неё была младшая сестра десятиклассница Ира и пятилетний брат Женя. Были они детьми полковника, и не простого, а командующего военным округом. Ляля дружила с В.М., Ира с Гошей, спортсменом-велосипедистом. Порядки в семье были аристократические, и обоих кавалеров всегда сажали за общий стол, где дирижировала мать семейства, красивая женщина средних лет.
В.М. писал Ларисе письма, короткие и длинные, и один-два раза в неделю бывал в доме. Они засиживались допоздна. А потом он выходил на улицу и шагал пешком из центра города по мосту через Ангару к себе в Кузьмиху, где жил в общежитии. Трамваи давно уже не ходили. Зима, мороз под сорок и за сорок. Он шёл почти на корточках, под каждый шаг нагибаясь и растирая колени, потому что те отмерзали. В.М. был модником, их тогда называли стилягами. Под брюки-дудочки он не мог одеть даже трико, а потому коленки леденели, и он их уже не чувствовал…
Лариса была очень талантливая девочка: кроме двух обязательных языков (у неё английский и немецкий), она, не особенно напрягаясь, с помощью репетиторов штудировала ещё французский и испанский, последний из-за Лорки. На немецком она уже бегло говорила, у неё была подруга-немка лет на пятнадцать старше её. Как-то они пошли втроём в театр. «So elegant! So hübsch!» — передала о нём Лариса её слова. В душе он не очень-то в это верил, но Лариса была довольна.
В.М. оставалось полгода до окончания техникума, и они начали обсуждать тему «что дальше?». Лариса предлагала тайком от родителей пожениться и поставить их перед фактом. Он не согласился. Претило, да и вопрос «что дальше?» это не решало, слишком разные лежали перед ними дороги.
Они их и развели. В.М. никогда её больше не видел, но никогда надолго не забывал. Может, Лялечка и была его половинкой? Где-то она сейчас? Жива ли?
2. Евреи в его жизни
Еврейскую тему по необходимости, в связи с фамилией, уже пришлось затронуть, но то была середина жизни В. М. А вообще знакомства и контакты с ними начались гораздо раньше, с первых шагов его взрослой жизни. Он никогда не придавал этому значения, всех воспринимал как обычных путников на дорогах жизни и часто даже не знал, что такой-то еврей. И только теперь задумался. Оглянулся, всмотрелся и понял: от них многое, оказывается, в его жизни зависело, и роль их в его событиях была обычно негативной. Никаких серьёзных, далеко идущих выводов делать не надо, как их не делает В.М., но знать об этом стоит, чтобы не питать иллюзий, относиться к иноплеменным трезво и быть готовым к сюрпризам.
Ц. Езер. Так случилось, что доставил его в геологическое управление, где В.М. прослужил потом почти сорок лет, габаритный, грузный и очень представительный еврей Езер. Внешность у него была семитская, но глаза синие. Наивный двадцатилетний несмышлёныш В.М. почему-то думал тогда, что они должны быть чёрными. Смущаясь, спросил однажды о национальности, тот ответил просто и не смущаясь: «Еврей». Езер на многие годы стал его главным начальником, в их отрасли он был чиновником номер один. Он был болен, хроник (печень и почки) и с этими хроническими болячками прожил до пенсии и дальше. Был он юморист и любитель посмеяться, хохотал до слёз, раскатисто, громко и долго. Ещё он был очень импульсивным и несдержанным; говорил вроде спокойно и длинно, но вдруг срывался на крик и орать тоже мог долго. Выдающимся специалистом не был, но лямку тянул достаточно исправно и всегда умел казаться значительным. В.М. как-то спросил его, что означает в переводе его причудливое на русский слух имя-отчество. «Академия наук, если коротко», — ответил тот. Ни больше, ни меньше.
Ида. Ширококостная крупная дама с маленькими глазками и в очках выглядела куда старше своих лет. Но была, оказывается, тоже молодым специалистом, как и В.М., на пару лет только его постарше и с инженерным образованием, а не среднетехническим как у него. Как и Езер, была с В.М. на параллельных курсах в одной и той же экспедиции все тридцать шесть с лишним лет.
В. Дымокур хотя и имел только среднетехническое образование, но был начальником экспедиции, где работал В. М. Рыжий, разговорчивый, самоуверенный, умелый и изворотливый хозяин, играл на гармошке и не чуждался народа, нередко устраивал в клубе общеэкспедиционные вечеринки. В.М. он почти не касался и скорее даже ему сочувствовал и в душе уважал; он знал, как нелёгок полевой рабочий хлеб, поскольку, как и В.М., начинал с простого коллектора. Тем не менее, исправно и регулярно укорачивал ему премии — то за невыход на демонстрацию в честь Первомая или 7 ноября, то за пьянку в рабочее время. Хотя понимал, пьёт тот или не пьёт, но свою работу всё равно сделает вовремя и на том уровне, за который высокое начальство похвалит уже Дымокура, отвалит общую премию на экспедицию, и уж он-то получит её сполна.
Ю. Крайний был главным специалистом экспедиции и непосредственным начальником В. М. Хороший спортсмен-волейболист, близорукий и потому всегда в очках, флегматичный и обычно спокойный, интеллигентный, но интеллекта и способностей ему недоставало, и со службой он справлялся плохо. Дымокур им помыкал, хотя в принципе должно было быть наоборот. В.М. всю жизнь не знал, что он еврей, пока (уже выходя на пенсию) в автобусе не разговорился с его женой Диной, умной и образованной женщиной, внешне похожей на Лилю Брик кисти А. Тышлера, и та рассказала, что обе их дочери сейчас за границей и преуспевают. «Где?» — спросил он. «В Израиле», — она посмотрела на него с недоумением (где же ещё?). Только тогда В.М. всё понял… Мелочи жизни его не касались…
Лёва Фитин. Небольшого росточка, кругленький, подвижный, любитель выпить, но меру знал и тут же отправлялся спать. Поспав с полчаса, снова занимал место за столом. Никогда не скандалил и легко обижался. Глаза его скрывались за толстенными стёклами очков, когда он их снимал, то ничего не видел. Глаза были круглые, крупные, серые, очень навыкате, в тонкой сетке красных склеротических прожилков. Лёва был геолог по образованию, но посредственный. Достаточно знал в теории, но идей особых не имел и двигался по колее, проложенной предшественниками. К карьерному росту не стремился, обычная жизнь и зарплата инженера его устраивали. Было ему двадцать четыре года.
Лёва и Стас Доренко. На месторождении нужно было провести геологическую съёмку. Собрали отряд, начальником назначили Стаса Доренко, Лёва перешёл к нему в подчинение. Стас был человеком своеобразным и неординарным. В.М. он считал себе ровней, но тех, кого числил ниже себя по интеллекту, куда занёс и Лёву, он и за людей не считал. Начитанный и образованный, хотя довольно однобоко, меломан, очень неглупый, очень упрямый, геолог грамотный и способный, но некритичность к себе, переросшая в самодовольство, сделала его малоприятным в общении. Правда, он никому не навязывался, но учить любил и, щеголяя цитатами, эту науку вбивал как гвоздь, не считаясь с возрастом, чинами или званиями… Начались маршруты, и первые из них они провели вдвоём: Стас считал необходимым сначала «натаскать» Лёву, тут он был прав.
В.М. в тот день смотрел керн по скважинам месторождения и за день подустал, двигая тяжёлые ящики. Вечером вернулся домой, в балок, где жил тогда, и на крыльце увидел Лёву. Тот мусолил очередную сигарету, так он их курил, — они всегда были до середины мокрыми. Вид у Лёвы был печальный. «Что случилось, Лёва?» — «Да так, ничего. Вот, вернулся из маршрута. Может, выпьем?» — он тронул рукой сумку рядом с собой. — «Может. Говори толком, что стряслось?»
Лёва рассказал. Начали маршрут, оба стучат молотками, Стас учит-натаскивает, Лёва больше помалкивает, опасаясь очередного разноса, вроде: «Чему тебя только учили? Это роговая обманка, а не пироксены, порода не может быть базальтом»… Стас прав, конечно, но можно бы и помягче. Лёва молча обижается… В середине дня чаёвка (так геологи называют свой обед в маршруте). Разводят костёр, ставят котелок на огонь. Лёва достаёт хлеб, кусок варёного мяса и заветную банку сгущёнки, Лёва сладкоежка. Выкладывает это всё перед Стасом, но тот делает отрицательный жест рукой. «У меня своё», — говорит он, дописывая в полевом дневнике маршрут. Костёр общий, чай общий, остальное у каждого своё –устанавливает Стас свои странные порядки. Лёва собирается открыть банку сгущёнки, роется в карманах, отыскивая нож. Выворачивает рюкзак — нет ножа. Потерял или оставил где-то в маршруте, где затачивал в последний раз карандаш. Просит у Стаса, у того за поясом тесак в ножнах.
«Нож существует не для того, чтобы им вскрывали консервные банки», — с расстановкой цедит Стас. — «Ну, хоть топор, я дырки сделаю». — «Топор служит для того, чтобы рубить им дрова и колья, когда устанавливают палатку», — так же медленно, с акцентами, поучает Стас.
Он извлекает из ножен тесак, вскрывает им банку своей тушёнки и бросает нож назад в ножны. Потрясённый Лёва на него смотрит.
«А ты как же?» — «Quod licet Jovi, non licet bovi», — переходит на латынь Стас и переводит: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»…
Нетронутую сгущёнку Лёва приносит домой… В.М. достаёт из Лёвиной сумки бутылку водки и наливает ему сразу полкружки.
«Забудь, Лёва. Мерзавцев много, на всех тебя не хватит. Сейчас я принесу что-нибудь закусить».
Лёва и Галя. Галя работала оформителем в той камеральной группе, куда входил и Лёва. Симпатичная весёлая хохлушка на полголовы выше Лёвы и года на три старше быстро прибрала его к рукам. У неё была маленькая дочка Лена. И к Лене, и к Гале Лёва сильно привязался. Жили они неплохо, но Галя временами на несколько дней, а то и на неделю исчезала; случалось такое обычно в праздничные дни, в момент застольев. Лёва понимал, в чём дело, и страдал. В одиночку управлялся с Леной, пытался приструнить и разобраться с Галей, когда та возвращалась, но Галя имела над ним власть, Лёва оттаивал, и мир восстанавливался. В конце концов Галя решила, что ей пора познакомиться с Лёвиной семьёй и узаконить их отношения. Они уехали в отпуск в Ростов. Там они сочетались браком, Лёва удочерил Лену, Галю прописали на жилплощади Лёвиной семьи.
Буквально на следующий день Галя зазвала его в кафе напротив их дома и, как всегда весело, объявила: «Спасибо за всё, Лёвочка. Я так устала. Теперь мы свободные люди», — и показала ему билет на самолёт к Чёрному морю в тот же день на вечерний рейс.
Лёва остался в Ростове платить алименты неродной дочери.
Эту историю В.М. рассказали; ни Галю, ни Лёву он больше никогда не видел, знает только, что Лёва женился во второй раз на своей соотечественнице Наташе, и что у них есть дети.
*
Такие вот бывают евреи. К таким принадлежал и Ю. Крайний, единственный из его начальников, кто в стычках всегда был на его стороне. Но от него мало что зависело, его самого постоянно шпыняли, В.М. не раз это видел и ему было его жалко. Много лет спустя в какой-то книжке он прочёл, что есть евреи двух типов: семиты, остатки древних «богом избранных», и тюрки, принявшие иудаизм, их называют «ашкеназы»; они узурпировали язык, религию, обычаи и миссию первых и стали злейшими врагами семитов-арабов, исповедующих ислам. Может и так. В.М. хотелось бы в это верить, он не может отказаться от «богом избранных» — от Мандельштама, Пастернака, Шагала, Мендельсона… ни от Лёвы Фитина. Но ашкеназы — о, это совсем другое дело.
*
Первой самостоятельной работой В.М., хотя она и осталась в рукописи, была его региональная сводка по бору, по сути, монография. Бор собирались использовать в космической отрасли и, чтобы иметь сводку, по всему Союзу разослали приказ открыть эту тему. Открыли её и у них в экспедиции, организовав отряд, в задачи которого входили полевые исследования и обобщение всего, что было известно по бору в регионе. Старшим специалистом в отряде была Ида, В.М. — техником, хотя и учился уже заочно в московском институте. Было ему двадцать пять лет. После полей они засели за отчет. Как технику, В.М. дали задание, по которому с него спрашивали, и он без труда его выполнял. Но увлёкся, влез в материал и погрузился — так началась наука в его жизни. Он раскопал и перетряхнул фонды, т.е. неопубликованные материалы, осевшие в отчётах, проштудировал опубликованное (тогда немногое), сопоставил с результатами их собственных полевых исследований. И сделал сводку — около сотни рукописных листов. Её обобщала диаграмма, один единственный рисунок, объединивший в себе всё; он понял, что в науке о боре это новость, о которой никто пока не знал. Окрылённый и страшно довольный собой, В.М. принёс текст Иде, они сидели в разных камералках. По сути, это был готовый отчёт по бору. Но отчёт-то должна была писать Ида, ничего такого от него как от техника не требовалось… Через неделю она пришла к нему вместе с Езером, в руках у того был его текст. В.М. ожидал похвал, а получил… Претензий по существу они предъявить ему не могли, материалом владели плохо и не знали и половины того, что знал теперь о боре В. М. Поэтому обсуждали, в основном, его стиль. Езер похохатывал или заливался своим детским смехом до слёз. Ида вставляла реплики, но в основном сидела молча, поджав губы, с видом оскорблённого достоинства. Его размазали… Было очень обидно и, помнится, он сильно тогда напился.
В.М. прочитал потом отчёт Иды — компиляция, ссылки на авторитетов и бледная эклектика с претензиями… У него бор стал его любовью на многие годы. С этой тематикой ему предлагала остаться в Москве в аспирантуре руководитель его диплома. Лет через десять или пятнадцать, уже будучи сам начальником партии, он, повинуясь интуиции, из каменного материала сделал серию сколов на шлифы и аншлифы и отдал их в лабораторию, где госпожа Виллисова, очень талантливая и умудрённая опытом петрограф, обнаружила и описала по оптическим константам новый, доселе неизвестный борный минерал.
Макухин евреем не был, он был русским, из пролетарской семьи, но неприятностей В.М. доставил много своей изворотливостью, хитроумием и чиновничьей ненадёжностью. Начал с начальника полевой съёмочной партии, где у него работал и В.М., но в конце концов сменил Езера на главном посту и оставался там последние лет пятнадцать. Был умён и талантлив, прослыл писателем-беллетристом и выпустил книгу. В.М. её листал, но осилить не смог. Имел отношение к стихам; и правда, стенгазеты пестрели его рифмованными экспромтами, но, может быть, где-нибудь у него в столе была и поэзия. Макухин всё делал исподтишка, оставаясь в стороне и подставляя других. У начальства всегда был на хорошем счету. Потому вскоре и сам стал начальником. Лет через двадцать от начала этих событий он защищал кандидатскую диссертацию, и В.М. писал ему рецензию. В работе были зёрна, и отзыв он дал положительный, но впечатление двойственности и сомнения в правильности его посылов остались до сих пор.
История с бором — событие знаковое в жизни В.М., поэтому стоило об этом рассказать подробно. Начиная со Стаса Доренко и Гали, с «этнической! Стороны в его жизнь добавилась ещё одна виртуальная проблема — проблема «укров». В.М. тогда совершенно не отдавал себе в этом отчёта, но эпоха Ющенко на Украине (уже в XXI веке), старательно проследившего генеалогию своих соплеменников к украм — такое племя действительно когда-то было (Савельев Е. П. «Древняя история казачества». М. «Вече». 2004. с. 399) — заставила его обо всём вспомнить.
Все эти люди, за кулисами или открыто, всегда теперь участвовали в карьере и жизни В.М., и никто, кроме Ю. Крайнего, никогда не был на его стороне. Никому из них он не сделал ничего плохого, никому не перешёл дорогу, большинство было выше его по званию, но это были его постоянные и нередко агрессивные оппоненты. Почему?
3. Маргиналы
К непростой и благородной науке геология никто из перечисленных персонажей, кроме Стаса Доренко, отношения не имел. Но в науке гидрогеология все они, включая Дымокура, считали себя крупными специалистами. Экспедиция называлась «гидрогеологическая».
Гидрогеология — наука тоже сложная, хотя больше прикладная: водоснабжение, мелиорация, обычное строительство, возведение гидротехнических сооружений, гидрогеология карьеров и шахт — тут без неё и инженерной геологии и шагу ступить нельзя. Но всё это почти не имело отношения к той экспедиции, в которой предстояло работать В. М. Главной её задачей считались поиски термальных вод. Но это, по сути, рудная и структурная геология, с той разницей, что объектом поисков были носители рудной нагрузки, её транспортирующая среда, то есть гидротермы, а не сама руда (высаженный из них твёрдый остаток). В.М. понял это сразу — предстояло учиться…
Гидрогеологи о геологии имеют весьма смутное представление, хотя думают иначе. Так вот и получилось, что сложные геологические задачки в экспедиции решали маргиналы. Маргиналы опасны не только тем, что они дилетанты, и по этой причине не способны глубоко вникнуть в проблему, легковесны и безответственны; им нечего сказать и потому они грешат многословием, пустословием и наукообразием. Но самые умные и грамотные из них опасны ещё тем, что в глубине души они осознают свою ущербность, потому они завистливы и мстительны, что прячут под разными масками, чаще всего под маской дружелюбия.
На месторождении В.М. задал пять скважин глубокого бурения (1200 м), все продуктивные, с одной из них потянули контур самого перспективного по параметрам гидротерм участка. Его звали, когда в экспедиции горел план по приросту запасов. Сначала он проверял себя, но в конце концов предложил делать это на постоянной основе, гарантировал 50% вероятности, притом что их показатели не дотягивали и до 20%. Начальство отказалось, такой вариант упразднял у них сразу две службы и минимум трёх чиновников с высокими окладами.
В.М. пытался с этим бороться. Местные чины реагировали своеобразно, хлопот от этого у него только прибавлялось, и он дошёл до В. Д. Ярмолюка, тогда министра геологии РСФСР. Ярмолюк назначил ему встречу, и он приурочил свой выезд в институт в Москву на сессию к этому моменту. Но встреча не состоялась. В.М. отдал секретарю письмо-приглашение от Ярмолюка и тот, прочитав и поняв в чём дело, сожалея, сказал, что несколько дней назад министра положили в больницу на операцию, был он уже в возрасте…
*
Ещё экспедиция занималась съёмками — гидрогеологическими. Картировались разными съёмочными партиями два, а то и три листа одновременно.
Среднемасштабная геологическая съёмка — едва ли не самая элитная часть производственной и теоретической геологии, она и называется соответственно: полистное государственное геокартирование масштаба 1:200.000. Во всех региональных геологических объединениях такие съёмки ведёт специальная экспедиция — геологосъёмочная (ГСЭ). Листы издаёт институт в Петербурге, ВСЕГЕИ. Потом на тех же площадях в Союзе и, вероятно, больше нигде в мире, на готовой геологической основе стали проводить гидрогеологические съёмки и в институте ВСЕГИНГЕО (Москва) издавать листы гидрогеологических карт. Такая карта от геологической отличается как схема отличается от точной копии оригинала; ещё одно отличие — новая легенда, в которой геологические толщи, свиты, подсвиты, интрузивные массивы и т. д. названы на родном языке гидрогеологов водоносными горизонтами, комплексами, гидрогеологическими массивами и прочая. Даётся их гидрохимическая характеристика — это реалии; если на листе не было бурения и опытных гидрогеологических работ, что в труднодоступных и слабо освоенных регионах обычное дело, всё остальное — от лукавого. Геологи, оценив эту продукцию, назвали коллег «гидриками» и серьёзно к ним не относились. Но при этом сами проглядели гидрохимию, то есть площадную химию подземных вод. Кроме того, что это важная природная характеристика, это ещё и поисковые критерии на полезные ископаемые.
Двенадцать лет В.М. отдал геокартированию и заснял три листа общей площадью около 16 тысяч квадратных километров. Геологических карт от него никто не требовал, начальству нужны были гидрогеологические, но тупо скопировать имеющуюся геологическую основу, обозвав её на другом жаргоне, он не мог, тем более, что первые же маршруты заставили сомневаться в правильности построений предшественников.
Методика съёмок проста — маршрутное исхаживание территории. В каждой маршрутной группе два или три человека. Полевой гидрогеологии В.М. учить их не приходилось, они её знали, как и азы геологии. Но теперь всем вменялось в обязанность нести из маршрута камни. С подключением наиболее толковых студентов-практикантов число маршрутных пар увеличивалось до 10—12, этим достигались более детальные, чем обычно, кондиции. У каждой пары В.М. принимал маршруты лично. Собственными пересечениями он перекрывал в нескольких местах маршруты остальных, стараясь охватить максимум площади; это давало известные возможности контроля. Его ребята, видя результат, быстро вошли во вкус — работа получалась. Появились первые рудные находки, и это их особенно вдохновляло. В конце каждого сезона на полевой базе партии проводится предварительная камеральная обработка материалов и составляется полевая геологическая карта заснятой площади — это работа В.М. недели на две. Остальные в это время отдыхают: провожают студентов, веселятся, ловят рыбу, режутся в преферанс… Когда карта готова, на этой новой геологической основе составляют гидрогеологическую карту, после чего выезжают домой и на техсовете экспедиции защищают свои полевые материалы: информационный отчёт и карты. Так продолжается три сезона, после которых площадь листа обычно бывает закрыта. Составляется отчёт (текст) и вся необходимая графика, где главные карты: геологическая, полезных ископаемых, гидрохимическая, гидрогеологическая. В последней В.М. участвовал мало; продумывал и отдавал легенду, дальше ограничивался, в основном, редакцией. Остальные три карты готовил только сам.
Все отчёты рецензируются. Ясно, что геологическую часть отчётов В.М. его экспедиция была не в состоянии оценить. И он отдаёт отчёт на рецензию в ГСЭ; профессионалы были только там, включая и автора того листа, на который он представил теперь свою карту. На этом первом его листе за съёмку они выставили оценку «хорошо», за поиски «отлично». До его работ на листе не было ни одного проявления полезных ископаемых; на его карте их значилось 33, в том числе несколько золотосеребряных, медных, полиметаллических и единственная в регионе находка родонита. Потом выяснилось, что она представляет лишь минералогический интерес, но всё-таки — единственная в регионе за всю историю его исследований. Профессионалы ГСЭ, заслуженные и седые, стали уважать В. М. Ещё одним подарком для него стало то, что на общей съёмочной сходке-вечеринке в его экспедиции, с обильными возлияниями и яростными спорами до хрипоты и криков, его ребята дали слово отныне работать только так — вывести геологию на первые роли и сделать это традицией. В.М. там не было, передал это самый близкий ему в экспедиции человек — С. М. К. Слово они не сдержали, но В.М. за это их не осуждает, дело непростое, он понимал это и тогда — ребята погорячились.
За его второй лист в ГСЭ поставили обе оценки «хорошо». Третий свой лист, вероятно, самый трудный и красивый, он не отдал. Его начальники круто и по незначительному поводу его обидели, просто Езер или Макухин, или оба, встали не с той ноги, и он отказался отдавать лист. Формальных претензий никто ему предъявить не мог, никаких приплат он никогда за это не имел, формально отвечал лишь за гидрогеологическую съёмку и карту на изданной геологической основе. Остальное было только его личным делом: геология, тектоника, поиски рудных и нерудных ископаемых… — гидрология в его экспедиции такими мелочами не занималась. На техсовете Езер сначала его уговаривал, потом начал орать. В ответ орал и В.М., отказался наотрез и пригрозил уйти в техники, терять ему было нечего. На том всё и закончилось. Правда, гидрохимическую карту этого листа, очень изящную, он сделал на своей геологической основе. Сделал тайно, не имея на это права, поскольку она не сбивалась в границах и идеях ни с геологической, ни, естественно, с гидрогеологической картами. Но это мог заметить только внимательный и профессиональный взгляд. Таких поблизости тогда не оказалось.
После листов В.М. ушёл в тематику и занимался этим до выхода на пенсию. Написал и защитил кандидатскую диссертацию, первым начал разбираться с проблемами экологии и морально был готов к серьёзным и крупным обобщениям.
Последней работой В.М. была гидрохимическая карта на один из листов, где только что закончили гидрогеологическую съёмку. В полевых работах он участия не принимал, но на камеральную гидрохимию охотно согласился, материал там, как правило, обильный и благодарный. Тогда вошли в моду статистические машинные методы обработки. Незадолго перед этим на соседнем листе всю гидрохимию пропустили через машину и на этой основе выдали результат. В.М. читал гидрохимический раздел отчёта и поражался, из головы не уходил знаменитый афоризм, кажется, Наполеона: «Есть ложь, наглая ложь и статистика». Отчёту дали восторженную рецензию и выставили «отлично».
В.М. решил провести эксперимент. Отдал свой массив данных в машину и параллельно всё обработал сам вручную. Результаты отличались разительно. Машинными данными, её рисовкой пользоваться можно было только «для сведения», а лучше совсем не пользоваться: никаких новостей она выдать не могла, что-то решить тем более, а выигрыш в скорости никому не был нужен, поскольку исключал усвоение данных изнутри, эту необходимую рутину, которая только и давала пищу мозгу для последующего анализа. Машине можно было довериться только на уровне арифметики — для подсчёта средних параметров, квадратичных отклонений и т. п.
Всё это В.М. описал в тексте: анализ, критику и результат. Чтобы урок затвердили, схему изложения он до мелочей скопировал из того отчёта, которому год назад поставили «отлично», но чего он заслуживал на самом деле осталось неясным, оценку выставили машине. Ни сам этот отчёт и лист, ни его автор нигде им не упоминался. …Когда-то он работал у В.М. на двух листах и по званию был вторым после него человеком в партии (старший специалист), формальное образование ему это позволяло. Фамилия выдавала в нём возможную принадлежность к украм, но и только. Тихий, скромный и хотя очень старательный, но профессионально удивительно бездарный, он и сам это понимал. Глядя на его потуги, В.М. его жалел. Таким ни в коем случае нельзя идти в геологию, но он пошёл, правда в гидрогеологию (он стал теперь довольно большим человеком в администрировании, и это хорошо, можно надеяться, он найдёт себя, парень он неглупый). Уже где-то в конце их совместной работы случилось с его участием событие, которое поразило В.М. …Провожали студентов с их практики домой, с базы партии в поле в цивилизацию. Это шумный, весёлый, а для расстающихся пар, которых поле повязало любовью, и грустный праздник. Общее застолье, мясо, рыба, красная икра, всего вдоволь, припасённой на этот случай водки много…, язык развязывался у всех. Смеялись, пели под гитару песни, вспоминали курьёзы и снова смеялись, не таясь обнимались, не таясь говорили… Зацепили тему октябрьской революции, и В.М. выдал по этому поводу острый и резкий спич, пройдясь по вождю. Его старший отозвал его в сторону и, не глядя в глаза, тихо, монотонно и без выражения ему сказал: «В.М., если Вы ещё раз позволите себе такое, я Вас сдам». И повторил: «Я Вас сдам». Тогда, в конце 70-х такое было вполне возможно, КГБ своё дело знало. В.М., помнится, от неожиданности протрезвел. Потом он рассказал об этом С. М. К., но для того это новостью не оказалось. «Поосторожней», — только и сказал. И В.М. понял, что если бы не этот щит и заслон из единомышленников, его «сдали» бы давно.
…Наступил день защиты отчёта на НТС, и тут выяснилось, что на гидрохимию В.М. накатали отдельную рецензию; не на карту, не на текст, а на ту его часть, где анализировался результат машинной обработки и где машине выставлялась «двойка» за её работу. Выступал с рецензией профессионал-геохимик, говорил то, под чем подписался бы и сам В.М., он, собственно, и подписался, отвергнув машину, все контуры на его карте были заверены фактурой. Но геохимик в лицо В.М. бросал обвинения, по сути, в некомпетентности и этим самым лицом возил по столу и размазывал. Иронии в адрес машины и её слепых почитателей он, да и никто из дорвавшихся до этого аутодафе, не заметил. Езера на посту главного уже давно не было; сидел Макухин с каменной физиономией, с такой же сидел Компот, нынешний непосредственный начальник В.М., с чьей подачи, видимо, и случился этот разнос; во взглядах на профессию они принципиально расходились, и отношения между ними были очень натянутые.
В.М. снова размазывали, а он не мог и слова сказать в свою защиту. Не мог. Если бы он заговорил и ткнул их носом в соседний лист, разразился бы скандал. А скандала он уже не мог допустить, он от них зависел. 1993-й год. Все Чубайсы страны ринулись в аферы и спекуляции. В.М. оформляли на пенсию. Всё, что у него было, это его двухкомнатная квартира, которую ему только что дали и которую он ещё не видел. Он просил администрацию её купить, собираясь тут же перевести рубли в доллары, чтобы хоть что-то сохранить. На руках у него было две дочери-подростки, их надо было доучивать. Так в итоге и случилось. Он продал всё, что можно было, у него купили его квартиру, он перевёл это в зелень и увёз с собой 3200 долларов — всё, что он заработал за свою жизнь.
…Пришлось смолчать, утереться и постараться забыть. Он поздравлял себя с тем, что, будто предчувствуя, придержал и не отдал последние, самые важные, прямо-таки козырные выводы, козырные потому, что они основывались на его прогнозе. К тому времени он уже в целом закончил свои обобщения по региону. Из их результатов и следовал этот прогноз. Но материалами, которые перебывали у него в руках, прогноз не подтверждался. В.М. этому не поверил и полез в первичный материал, в полевые дневники. Копался довольно долго, но нашёл всё, чего ожидал. Чёрным по белому там это было записано и подтверждено полевыми анализами. Любой прорицатель, конечно, радуется сбывшемуся предсказанию, обрадовался и В. М. Удивился ли тому, что находка не дошла даже до полевого информационного отчёта? Нет, не удивился. Таков маргинал; даже то, что само пришло ему в руки, он бывает не в состоянии хотя бы озвучить, чтобы просто похвастаться. Ему и в голову не придёт, что лет через 200—300 его находка могла бы открыть здесь курорт на сероводородных источниках. Самих источников он не нашёл, но косвенные признаки видел и из дериватов мог отобрать хотя бы пробу.
Всплыла на этой защите и ещё одна деталь: контуры на гидрохимической карте плохо сопоставлялись с геологической рисовкой. В.М. столкнулся с этим сразу, понял в чём дело и с помощью космических и аэрофотоснимков выправил всю четвертичную геологию на листе, после чего всё пришло в норму. Повторялась история с его третьим листом, который он отказался отдавать. Но теперь профессионал нашёлся. Клара Ивановна, очень разумная женщина, которая всегда занималась только тем, в чём сама хорошо разбиралась, задумчиво заметила на защите: «Что-то тут не так…». Она увидела разницу в рисовке границ на гидрохимической, геологической и, как следствие, гидрогеологической картах. Её словам не придали значения, и всё на этом закончилось… Так проводила В.М. на пенсию его родная экспедиция, которой он отдал более чем 36 лет своей жизни.
На регион, занимающий 473 тысячи квадратных километров, В.М. собирал материалы всю жизнь. Собрал весь комплекс: ландшафтный, геологический, геофизический… на полистных кальках масштаба 1:200.000. Геологические листы были дополнены детализацией с работ более крупного масштаба там, где они были. Материалы были обобщены в региональных масштабах: 1:2.5; 1:2; 1:1; 1:0.5 миллионных. Обобщение делалось постепенно, последние лет десять; часть карт уже фигурировала на защите его диссертации. В конечном итоге, уже будучи на пенсии, В.М. собирался сделать исчерпывающую сводку по региону: геология, тектоника, полезные ископаемые (с каталогом), термальные и минеральные воды (с каталогом), экология (серия из нескольких карт). Главная рабочая серия выполнялась в масштабе 1:500.000, региональные карты в масштабе 1:2.000.000. Вчерне всё было готово, оставалось оформить в окончательном виде и дать текст — по сути, пояснение к картам и выводы.
И В.М. начал предлагаться. К кому только он с этим ни обращался, от фонда Сорроса до Березовского, от Ельцина до всех проживавших рядом губернаторов.
Никому не было нужно… Все материалы, уже разрозненно, но всё ещё хранятся в ящиках. Их ждёт большой костёр. В.М. его запалит перед тем, как соберётся уйти отсюда навсегда.
«…Россия нас не жалует ни славой, ни рублём, Но мы её последние солдаты. А значит надо выстоять, Покуда не помрём
Аты-баты, Аты-баты…»
13.05.2010. Степная
Слепая Сесилия
(мой первый гонорар)
Прихожу в мастерскую к художнику. Мы давние знакомые, но уже года два как не виделись. У него много новых работ и разговоров нам хватит на день.
Пьём чай, выкладываем друг другу новости, болтаем про общих знакомых. Потом он показывает мне новые холсты, они у него почти все большие, письмо размашистое, многоцветное, часто философское, «идейное», даже в натюрмортах. Слава Богу, «идея» не голая, не плакатная; она запрятана в добротной живописи и до сознания доходит вместе с ней ― в сюжете, композиции и красках, всё как положено хорошему художнику.
Я проникаю то в один холст, то в другой, что-то спрашиваю, заглядываю на оборотную сторону в названия, расхаживаю в этой другой жизни, во что-то вслушиваюсь… Что ж, это хорошая хорошая музыка, она близка мне…
Вдруг попадается небольшой холст, где-то 50×70 см, хорошо прописанный портрет дамы в шляпке, кого-то мне она напоминает. Сразу бросается в глаза своим блеском, прямо-таки Рубенс, XVII век: скульптурная шея, феерическая шляпка с перьями, в тон ей блуза или платье прозрачно окаймляет шею… Письмо пастозное, но это только добавляет портрету сочности. Дама почти красива, но она… слепая. На глазах желтоватые бельма… Я в недоумении поворачиваюсь к художнику.
Он пожимает плечами.
«Называется „Кубанская Джоконда“. Знаешь, кто это?»
«Нет».
«Сесилия».
То-то она показалась мне знакомой. Сесилию Ивановну, даму с этим странным именем и нормальным отчеством, я знаю довольно давно; когда-то показывал ей свои тексты про художников, но они её не заинтересовали. Меня это озадачило; художники были нашими общими знакомыми, они, собственно, и направили меня к ней, потому что им самим тексты пришлись по вкусу. Потом я понял, на литературу Сесилия Ивановна не откликалась, к ней она была глуха…
«И что с глазами?», спрашиваю.
«Не знаю. Не могу».
Портретов он обычно не пишет, у него другие жанры, куда более эпические. Но несколько его портретов я всё же видел, там у персонажей с глазами всё было в порядке.
Сесилия Ивановна ― владелица какой-то частной фирмы и художественного салона, типичный «средний класс»; с претензиями светской дамы, состоятельная, самостоятельная и вполне зрячая. Злые языки утверждают, что она поменяла имя-отчество: была прежде Евфросинья Ивановна; чтобы попасть «во дворянство», придумала себе Сесилию Иоанновну, но отчество в русской среде не прижилось, а имя стало кличкой ― никто её, кроме как Сесилия, или того хуже (варьируя гласные) за глаза не называет.
Салон у Сесилии Ивановны небольшой, уютный, с хорошим дизайном. Но экспозиции всегда меня удивляли, и я никак не мог понять, в чём дело. Кроме разных, там нередко были представлены и очень хорошие художники, может, лучшие сейчас на Кубани, такие как Архангельский и Паршков. Я хорошо их знаю, особенно первого; у них есть работы, от которых захватывает дух. Ни одной такой в салоне Сесилии Ивановны я никогда не видел; на стенах висело что-то, в общем, для таких мастеров посредственное, проходное. Говорю об этом художнику, он снова разливает по чашкам чай.
«Да она тупая», отзывается он, «ничего в живописи не смыслит. Ноль. Хватает, что ей самой нравится, может, что подешевле. Миша с ней не церемонился» (это он об Архангельском).
Туман рассеялся. К словесности глухая, в живописи слепая. Работает один язык…
Бог с ней, с Сесилией Ивановной. Удивительно другое, и это другое куда более важно. Поражает чистота и честность художника; мастер в нём знает о Сесилии самое главное и не может переступить эту грань правдивости и честности. Портрет написан под заказ, это деньги, это его заработок, на это он живёт. Но прописать глаза не может, потому что мастер видит, что глаз у неё нет, Сесилия ― слепая. Так что, может быть, и на Кубани всё не так уж безнадёжно, во всяком случае, пока живы ещё такие люди, как наш художник. Любопытно, что обычный, нормальный, человек в нём ― обыватель не подозревает, почему он не может вызвать к жизни глаза ― минутное дело, казалось бы, ремесло. Да вот только ремесленник портрет загубит, мастер знает и это. Круг замыкается, и Сесилия по-прежнему пылится, зажатая среди других холстов, благо она этого не видит… Никуда вы от художника не скроетесь, господа, и ничего не спрячете, он всё про вас знает.
*
Лично мне на Сесилию Ивановну грех жаловаться, мне она однажды помогла: нужно было проиллюстрировать мою книгу репродукциями художников, у неё репродукции были, и она разрешила их использовать.
Захожу к ней, чтобы подарить недавно вышедшее издание и ещё раз поблагодарить. Но снова приходится просить об одолжении: я только что почти закончил последнюю свою книгу «Круг Земной и Небесный»; часть текстов из неё набрана, часть остаётся в рукописи, их предстоит набрать, около 80 страниц (листов стандартного размера). Я не знаю, к кому с этим обратиться, прошу совета, показываю содержание книги.
«Не надо никого искать, мы наберём», говорит Сесилия Ивановна. «Оставьте Оксане небольшой текст, чтобы она ознакомилась с почерком».
Я страшно обрадовался, это решало все мои проблемы ― я по-прежнему в скиту на хуторе, в город выбрался только за этим, времени в обрез. Я заикнулся было об оплате Оксане за набор, но она замахала руками. «О чём Вы говорите, это наш долг ― помогать таким, как Вы. Оксана получает от меня зарплату».
Сесилия Ивановна листает мою книгу, читает Ремарку, возмущается.
«Сколько они Вам заплатили, Виктор Михайлович?, спрашивает она.
«Да что Вы, Сесилия Ивановна. Нисколько, конечно. Поначалу издатель вроде собирался. Определил гонорар в 10% от тиража, „как неизвестному автору ― обычная практика“, так он сказал и даже показал мне проект Договора со мной. Но потом речи об этом уже не было. У меня на руках никаких прав на мою книжку нет, только рукопись и 25 экземпляров, которые мне выделили, Вы же видите, я там вообще „Владимир Михайлович“, спасибо ещё, что в фамилии ничего не напутали. А лично мне книжка обошлась примерно в две пенсии: стоимость набора, рассылка-пересылка текстов и т. п. Спасибо спонсору, Бредихину В. Р., не устаю это повторять. Теперь хоть кто-то прочитает, для них писал».
Сесилия Ивановна выстреливает длинную ядовитую тираду в адрес издателей. Потом решительным жестом открывает боковой ящик стола, за которым сидит. Передо мной появляются три бумажки по 1000 рублей.
«Это Вам в возмещение дорожных расходов», говорит она.
«Да что вы, Сесилия Ивановна», протестую я. «Я не могу это принять, это выглядит как…»
«Или Вы берете, или нам не о чём разговаривать. Я просто возмещаю Вам дорожные расходы от Вашего хутора в город. Оставляйте Оксане текст и приходите завтра. Мне нужно уходить, у меня встреча».
Я покорно забираю три бумажки и прощаюсь.
На следующий день звонит Оксана и говорит, что текст набран, и она меня ждёт. Приезжаю. Правлю текст, Оксана на компьютере вносит исправления.
«Вы нашли кого-нибудь, кто будет набирать Вам тексты?», говорит вдруг Сесилия Ивановна.
«Кого-нибудь?», я оторопел. «Но Вы же вчера сами предложили набирать тексты у Вас. Это три-четыре дня работы, если заниматься только ими. Если между делом, то дольше, но время тут уже не имеет для меня значения. Главное ― написать тексты, потом главное ― отдать их в надёжные руки в набор».
«Вчера я не подумала», говорит Сесилия Ивановна. «У меня много работы. Кроме основной работы, я занимаюсь общественной деятельностью.»
«Я не набивался, Сесилия Ивановна. Первое, о чём я Вам сказал, была просьба порекомендовать, к кому я могу с этим обратиться».
«Я не знаю», говорит она. «Найдите бабушку, их много сейчас скучает за телевизором. Они с удовольствием наберут Вам ваши тексты».
«Где их искать? Бабушки на улице не валяются. Подскажите мне только адрес, больше я ничего от Вас не прошу».
«Я не знаю. Я не могу искать Вам бабушек. Оксана заканчивай. Набери мне этот счёт».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.