
Бесплатный фрагмент - Хрустальный замок
Роман. Рассказы
ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Роман. Рассказы
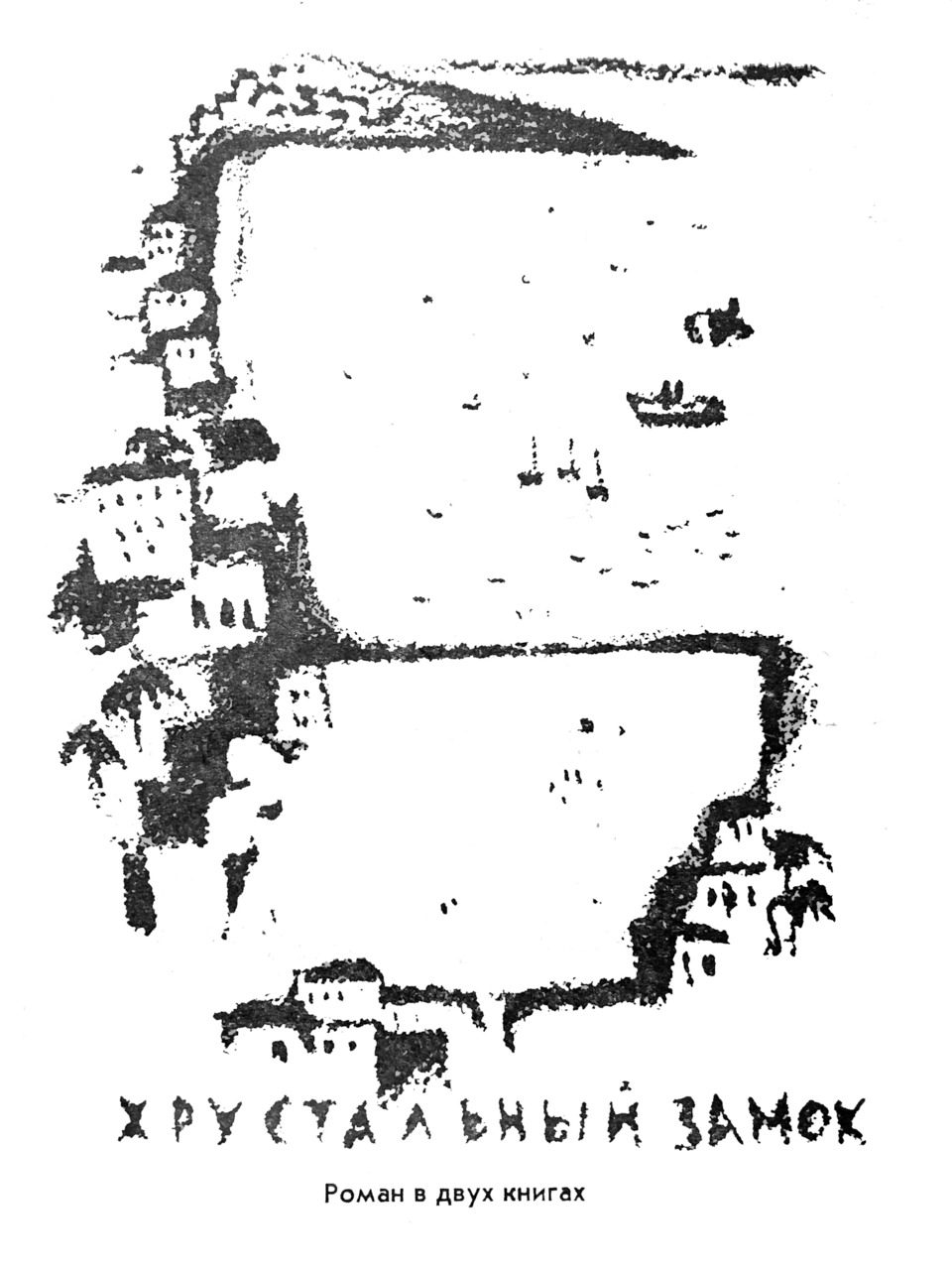
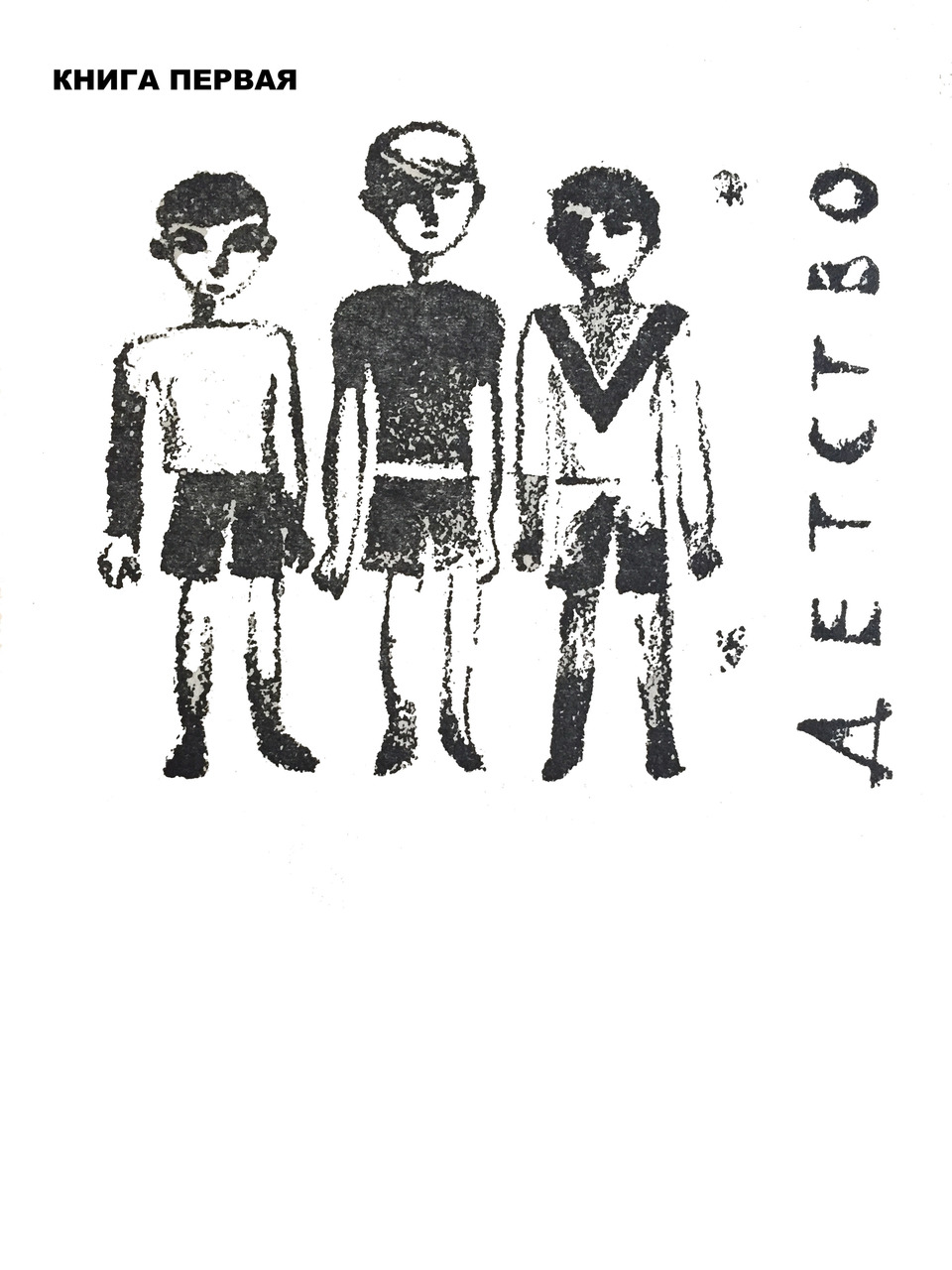
КНИГА ПЕРВАЯ
ДЕТСТВО
Моё синее безмятежное детство,
Ты похоже на серебряный диск
Луны, упавшей в пруд.
Ты было — и нет тебя,
Перед солнцем ты, слабое, не устояло, —
Но было ли ты вообще?
Е. Чаренц
ВСТУПЛЕНИЕ
Ночь, поздняя ночь. Миллионы звёзд на небосклоне и полная луна. Всё так спокойно, величественно. И мчится куда-то земля, словно празднично разукрашенный корабль, корабль из «Тысячи и одной ночи».
Уже очень поздно. Я сижу в своей комнате и не могу заснуть. Окно моё распахнуто в ночь. Я расстёгиваю рубашку и улыбаюсь. Кругом тихо… всюду тени. В комнате — я, моя сигарета и ещё кто-то третий, «незнакомый», — он здесь, совсем рядом. Мы говорим с ним шёпотом, потом мы молчим, мы понимаем друг друга без слов, и я спрашиваю у него:
— Ты судишь меня так строго, упрекаешь, сердишься… Скажи, как ты можешь осуждать человека, который не в состоянии, да, да, не в состоянии быть таким же искренним, как ты; человека, у которого завтра вместе с рассветом проснутся его обязанности, его заботы, у которого есть семья?! Человека, который живёт в обществе, где свободе установлены границы. Наконец, у меня есть дети, они просят хлеба, просят школы, просят одежды, просят крова, просят, просят, просят…
А сам я… мне нужно дело. И я хочу любить. Ко всему этому нельзя подходить с твоей меркой. Что? Бросить писать? Но как я буду жить в таком случае? Мои книги — высосаны из пальца? Ну, это ты оставь! Ты можешь сказать, что я не прежний, сумасбродный мечтатель — это правда. И как мне было остаться прежним? Жизнь сломала многое во мне, и жизнь заново сотворила меня — уже сильного и закалённого.
— А как же мечты?
— Ах, мечты! Но я живой человек и нервы у меня вовсе не железные! К сожалению! Не сердись, прости, пожалуйста, если я временами забывал про тебя или делал вид, будто ты не существуешь. Всё равно ведь мы не можем жить друг без друга, нам нельзя быть врозь, жизнь тогда только делается терпимой, когда мы рядом, вместе. Так должно быть всегда?
— Пожалуй. У юности были свои мечты, чистые, бесхитростные. Ты помнишь? Никакой фальши, подделок… Искусство тоже не терпит подделок? Согласен. Но я тебе не изменил, мои мечты сбылись отчасти, и, знаешь, только благодаря твоей требовательности.
Забыть среди этой суматохи о всяких неурядицах, обо всех будничных мелочах и суметь вновь пережить прошлое, счастливые дни детства, юности — это ведь тоже что-то значит. Как по-твоему, а? Неповторимые дни… Но ведь и тогда случались огорчения, разочарования.
— Но сам ты оставался чистым, верил в свои мечты?
— Я не знал, что такое жизнь.
— О, на жизнь всегда надо смотреть ясными глазами, её надо любить.
— Да. И доказательство тому — ты. Ты со мной. И пусть будут бессонные тревожные ночи, было бы только так много звёзд в небе, а земля казалась бы празднично разукрашенным кораблём с множеством пассажиров.
И чтобы ты, мой дорогой «незнакомец», мой внутренний голос, чтобы ты приходил иногда сюда, в мою комнату, и напоминал мне — обо мне… А сейчас давай поглядим вместе на эту красивую, на эту великолепную землю.
Какая глубокая ночь!
Но куда же ты? Так быстро… К луне? Погоди, подожди меня, я не могу угнаться за тобой, как прежде.
Это было давно, мы тогда мечтали — помнишь? Мы мечтали сорвать луну с неба, мы в этом видели смысл жизни.
Окно моё широко распахнуто.
Я вспоминаю тебя, моё детство, юность моя…
Армия с обручами
Немец Рути, югослав Мило, грек Христо и я очень дружили. Дружба эта переходила за обычные рамки, и причиной тому были два веских обстоятельства: все мы жили в одном квартале Четытие, и, во-вторых, у нас тогда был собственный филиал «Организации Объединённых Наций», в неизменных председательствах которой ходила наша четвёрка. Даже турецкие мальчишки и те признавали наше превосходство. Надо сказать, что в квартале Четытие в основном проживали христиане.
…Была у нас «армия», командовал ею Рути. Дело в том, что его отец был довольно значительным лицом в немецком консульстве. Этого оказалось достаточным, чтобы утереть нос турецким мальчишкам.
Армия наша оснащалась «по-современному» — каждый из нас обладал деревянным обручем и крепкой палкой. И когда соседние кварталы шли на нас войной, войско мгновенно приводилось в боевую готовность, и мы воинственным маршем выступали против врага — наша четвёрка всегда во главе. Правда, положение полководца позволяло Рути выходить ещё на несколько шагов вперёд. Внимание! Сигнал! — обруч на землю, палку в руки… И как только раздавалась команда «Вперёд!», мы бросались на врага, грозные и бесстрашные…
Войско наше насчитывало человек двадцать — тридцать. Местом сбора обычно оставалась тесная улочка перед домом Рути, а иногда ещё и акация, растущая посреди улицы.
Мы не случайно выбирали это место. И нас вело не только сознание, что дом этот — дом нашего «полководца», — нет, дело обстояло куда серьёзнее. Нами руководило безудержное желание блеснуть лишний раз своей ловкостью, своей доблестью перед сестрой «полководца». Кристина была поистине владычицей наших детских сердец, нашего пылкого, сказочного богатого воображения. Чудом очутившаяся на Востоке, золотоволосая принцесса была единственным предметом наших грёз. В неё — мы с горечью и гордостью сознавали это — были «влюблены» поголовно все мальчишки нашего квартала. Нам было лет по девяти-десяти. Кристине же было не меньше двадцати. Тоненькая и стройная девушка с красивым, чуть бледным лицом. А мы, по малолетству вынужденные щеголять в коротких штанах, — мы без памяти были влюблены в неё. Факт — нас неодолимо тянуло к дому Рути, хотя имелись куда более широкие возможности для проявления нашего боевого пыла.
Были, например, дома, к которым вели великолепные лестницы — на ступеньках их могло уместиться все наше войско; были такие просторы, где кроме нас могла спокойно бегать, орать и беситься ещё добрая сотня таких же сорванцов, — и никто бы ничего не сказал. Но всякий раз мы единодушно направлялись к тесному дворику нашего «полководца». И когда в окне появлялась сама Кристина с очаровательной улыбкой на устах — ряды наши охватывало смятение, каждый начинал командовать, каждый считал своим долгом, выкрикнуть что-то особенно воинственное, каждый старался обрести самый что ни на есть независимый вид. Мы мужественно боролись с искушением задрать вверх голову, чтобы взглянуть на нашу фею. И тогда предстоящий бой приобретал особую значительность в наших глазах. Но надо было выступать… Многие уже выражали вслух недовольство, что затягивались сборы, и, несмотря на это, «армия» не очень-то спешила сняться с места. А всё потому, что бледное лицо нашей Кристины привлекало нас больше всего на свете.
В те дни идеалом нашим была девушка с тонкими бледными чертами, прозрачная как воск, болезненная и даже… чахоточная (тогда мы понятия не имели о существовании порошка, именуемого пудрой).
Наше старое излюбленное место также имело свою магическую сторону. Там, за акацией, в двухэтажном доме жила озорная армяночка — Сатеник, наша ровесница.
Ничего особенного она собой не представляла. Но с именем этой девочки была связана целая история, задевшая наше достоинство, наши «национальные» чувства; говорили, будто Сатеник «влюблена» в среднего сына живущей напротив турецкой семьи — Рауфа. История эта была одной из скрытых причин нашей вражды с турецкими мальчишками. Избрав Рути «полководцем», мы страшно загордились своей сообразительностью — какой стратегический ход! Мы знали, что Рути тоже «влюблён» в Сатеник. На своих сугубо тайных армянских «сходках» мы, армянские мальчишки, конечно, не признавали «полководца» серьёзным конкурентом коварного Рауфа. Но в то же время… Рути ведь «отдал» нам свою сестру. И мы предпочитали уступить Сатеник немцу Рути. К тому же самих нас Сатеник — бойкая, жизнерадостная, с румянцем во всю щеку — интересовала мало. А что бы подумали обо всем этом наши родители — вопросы такого порядка нас не мучали. В те дни мы были всем: добро и зло, правду и ложь творили сами. Создавали жизнь мы, разрушали — тоже мы, «армия с обручами».
И небо в эти дни нам неизменно представлялось синим, безмятежно синим…
Христо
Из мальчишек мне больше всех нравился грек Христо, несмотря на то, что весь квартал относился к его семье с большим предубеждением. Моя мама наставляла меня:
— Не водись с этим мальчиком! Его мать плохая женщина.
— Ма, а что такое плохая женщина?
— Всё ему надо знать! Не дорос ещё, чтобы знать такие вещи.
На этом объяснения заканчивались. Но про себя я продолжал спорить с мамой: «Неправда, мадам Евдоксия очень хорошая женщина». Только в их доме я чувствовал себя свободно и мог хоть на голове ходить; только у них можно было вдоволь наесться сахару.
Очень красивой женщиной была мадам Евдоксия, молодая вдова с чудесным голосом. Она часто пела меланхолические греческие песни и сама себе аккомпанировала на гитаре. И когда я слышал трепетный голос мадам Евдоксии, у меня какой-то твёрдый комок подкатывал к горлу. Я не понимал, о чем песня, но мотив действовал на меня совершенно расслабляюще, и в такие минуты мне хотелось уткнуться в колени мадам Евдоксии и нареветься вдоволь. Я мучительно желал, чтобы пение прекратилось, и моему столь безысходному положению пришёл конец.
Но когда песня заканчивалась, мне до смерти хотелось услышать другую, такую же печальную и прекрасную.
Когда мадам Евдоксия пела, глаза её смотрели в одну точку, а моё воображение обретало необычайный размах и превращало весь мир в бесподобно грустную, очаровательную сказку.
Помню, однажды, я был совсем ещё маленьким, Христо сказал мне, что каждый день состоит из двенадцати часов. Я не соглашался и твердил, что все зависит от величины часов.
— Нет, — говорил Христо, — в сутках всего двадцать четыре часа: двенадцать — день, двенадцать — ночь.
Я твердил своё: мол, вовсе и не так — можно сделать большие часы, и тогда день будет длиться тринадцать, шестнадцать и — почему бы и нет? — сто часов!
Мадам Евдоксия очень смеялась и в каком-то порыве веселья расцеловала меня. И хоть было мне от силы каких-нибудь семь лет, я хорошо помнил, как мне стало приятно, и долго-долго я не мог забыть об этом случае.
И ещё мать Христо была на редкость гостеприимна, каждый раз она усаживала меня рядом с Христо — и чего только не бывало у них на столе!
Христо оставался главным поклонником Кристины. До сих пор ещё с необъяснимым восторгом вспоминаю я, как с замирающим сердцем, будто заговорщики, с риском для жизни, мы с Христо спускались к Пейоглы и с серьёзностью и достоинством взрослых протягивали деньги и покупали билеты в кино. Наслаждаясь сознанием собственной греховности, мы входили в зал: выбор наш всегда останавливался на фильмах с любовным сюжетом. Героиня фильма олицетворяла для нас Кристину, и каждый раз, когда герой обнимал и целовал героиню, мы цепенели от ненависти к нему.
— Я, если женюсь на Кристине, — говорил Христо, — можешь быть уверен, ни разу её не поцелую.
Но что это такое — жениться? Что такое любовь вообще? Стоять коленопреклонённо, молиться на любимую девушку, время от времени быть побиваемым войском «врага» и во имя любви молча сносить все тумаки и увечья, повторяя про себя имя любимой… Так мы думали в те дни. И я вторил Христо:
— Если и правда, то, что рассказывают турецкие мальчишки, как это всё недостойно!
«Недостойно» в моих детских устах звучало комически, но ведь действительно недостойно, недопустимо это — сжимать в объятиях девушку, да ещё целовать её в губы, — подумать только!
Нереальной, бесплотной представлялась нам наша любовь. И, несмотря на существование живой, из крови и плоти Кристины, нашу Кристину мы наделяли поистине неземными качествами; ей вовсе незачем было, например, питаться, все нормальные человеческие потребности для неё не существовали… Ангел и только, одних крыльев недоставало.
И потом, думали мы, к чему всё остальное, ведь для любви достаточно взглядов. Любовь — это шептать всё время: «Ах, Кристина, ах!», это с колотящимся сердцем, замирая от волнения, смотреть без устали на любимую, проливая обильные слёзы и петь грустные песни… скорее всего — греческие. О, какие песни сотворила любовь!
Ах, Кристина, ах!
Решение жениться
Паровозные свистки были для нас всем на свете. Пароходные гудки — мы были влюблены в них.
Югослав Мило, высокий худенький мальчик, часто рассказывал нам о своих путешествиях. И время от времени мы трое — Христо, Мило и я — удирали из дома, шли к морю.
Очень практичным и ловким был этот Мило. Он приносил с собой из дома аппетитную свиную колбасу, и мы, держа наготове по билету, бежали к пароходу, усаживаясь на деревянные скамейки на палубе второго класса и потом, ну а потом…
Море пахло дыней и арбузом. А мы — всегда грустный Христо, мечтательный я и самый «положительный» среди нас Мило — заводили разговор о Кристине. Мило говорил, что ему бы ещё немного подрасти, тогда он непременно женится на ней. Христо хмурился, глаза его горели, и когда Мило договаривался до того, как он увезёт Кристину к себе в Белград, у Христо вырывалось непреодолимое: «Ах, Кристина!»
Моё сердце сжималось при виде соперников, но каждый раз мне приходилось брать на себя роль примирителя.
Это я, увидев однажды слезы у Христо, сказал:
— Ребята, давайте поклянёмся, что никто из нас не станет единственным повелителем Кристины. Давайте женимся на ней втроём. Все вместе!
Это была новая идея, идея, заслуживающая внимания. Христо, Мило и я — мы все станем мужьями Кристины, и никто из нас не будет в обиде. И, кроме того, если нас будет трое, кто посмеет её у нас отнять!
Втроём мы заработаем больше денег, и Кристина останется довольна. Мы заведём себе лодку, — один будет править, а Кристина сядет между двумя другими, — и начнём ловить рыбу.
— Найти бы необитаемый остров и поселиться там. Жили бы в шалаше, песни бы пели всё время, — мечтательно говорил Христо.
— А Рути?
Нет, Рути нельзя было предавать. Впрочем, наш план должен прийтись ему по вкусу. Ведь это мы — не кто-нибудь другой — хотим жениться на его сестре. Рути тоже поедет с нами, и всё будет в порядке. Как чудесно мы заживём!
И вдруг как гром среди ясного неба.
— А если ребёночек родится, — сказал Мило, — кто тогда будет отцом?
— Все вместе.
— Не пойдёт!
— Почему это?
— А какой он будет национальности?
На минуту воцарилось молчание, потом Христо сказал:
— Грек!
Я:
— Армянин!
Мило:
— Югослав!
— А Кристина? Вдруг ей захочется, чтобы ребёнок был немцем? Ведь она мать — как скажет, так и будет…
— Ребёночек не родится, — провозгласил я с видом знатока.
Очень это был трудный вопрос… Ведь у каждого папы с мамой есть ребёнок. Ну, хотя бы мы сами. Правда, недавно произошла совсем удивительная вещь — у Христо не было отца, а мать родила ему братика…
— Говорят, девушки и без мужа могут заиметь ребёночка, — сказал Мило.
— Вот что, — заключил Христо, — пусть Кристина сейчас родит ребёночка. Потом мы на ней женимся, а ребёночка сделаем своим братиком.
Лишь бы Кристина узнала…
— Я решил жениться, — объявил я маме.
Мама удивлённо подняла брови и, стараясь придать своему лицу серьёзное выражение, сказала:
— Я что-то не поняла, мой мальчик.
— Вернее, мы трое, Христо, Мило и я, решили жениться.
— Не может быть, — еле выговорила мама, давясь от смеха. — На ком же?
— На сестре Рути.
— Втроём?
— Да, втроём. Только… мне надо выяснить одно дело…
— Какое, мальчик?
Я замялся.
— Как сделать, чтобы… это… ну, чтобы ребёночка не было?
И я застыл с раскрытым ртом.
— Чтобы в последний раз, — сказала мама рассерженно, — ты был на улице. Всё! Я запрещаю тебе водиться с этими испорченными мальчишками! И смотри у меня! Не послушаешься — пойдёшь «в гости к мышам»!
Я стоял как убитый. Это было страшно — не ходить на улицу, лишиться таких друзей, как Христо, Мило, Рути, не видеть Кристины. Особенно последнее. И потом назавтра предстояла ответственейшая битва с мальчишками соседнего квартала. Ходили слухи, будто сам Рауф со своей группой примкнул к ним. Что делать? Как истолкуют моё отсутствие? Трус, скажут все, трус и предатель. Тут я не выдержал и заревел во весь голос.
— Прекрати сейчас же! — сказала мама.
— Пойду! Пойду на улицу! — твердил я, захлёбываясь.
— Ах, ты ещё и кричишь? Ну-ка, проходи, быстро!
Строгой и неуступчивой была моя мама, и её «проходи, быстро!» значило, что мне надо проследовать в наш дровяник, «в гости к мышам». Ужаснее ничего не могло быть. Я панически боялся этих визитов к мышам.
— Нет, мамочка, — заревел я ещё сильнее, — прости меня…
— Пойдёшь ещё на улицу? Пойдёшь?
— Да… да… да-а-а…
— Скажите, какой упрямый! Ну-ка, проходи, быстро!
И потащила меня в дровяник, втолкнула и заперла на замок.
— Мамочка, хорошая моя, любимая, — взмолился я в ужасе, — выпусти меня, мамусенька, не пойду больше на улицу, открой дверь…
Долго я призывал маму сжалиться надо мной, под конец устал, замолчал и, не обнаружив мышей, почувствовал даже некоторое удовлетворение при мысли о том, как жестоко я наказан.
О, что это была за сладкая боль во имя чистейшей, невинной детской любви! Сколько слёз было пролито в далёкие безмятежные дни моего детства. Пройдут годы, и Кристина, подобно героиням виденных нами фильмов, узнает обо всём этом, узнает о наших мучениях… Лишь бы узнала, лишь бы она узнала, даже если не пойдёт за меня замуж…
— Ах, Кристина, Кристина…
Отступление
В последние дни я переживал много унижений и потрясений. Мама была неумолима. Отныне улицы для меня не существовало. От стыда я не осмеливался даже к окну подойти. Спрятавшись за занавеску, с тоской глядел я на проходившее мимо нашего дома «войско». Христо то и дело задирал голову и с любопытством смотрел на наши окна, и хотя я и знал прекрасно, что за укрытием меня не видно, каждый раз я невольно отскакивал от окна.
Не помню, на третий ли, на четвёртый ли день моего домашнего заключения в дверь к нам постучали. Открыла мама, и я услышал, как Христо спросил обо мне. Мама ответила, что я ни разу больше не покажусь на улице, что мне надо заниматься уроками и что она не желает видеть меня рядом с такими испорченными мальчишками, как он, Христо. Я почувствовал, как жестоко обидели моего друга, и сам в свою очередь оскорбился и собирался уже зареветь, да вовремя сообразил, подбежал к окну и позвал: «Христо!».
Христо обернулся — на лбу у него была белая повязка. Я забыл всё, что хотел сказать в своё оправдание, и сделал ему знак рукой: мол, что это с тобой? Он как будто ждал этого вопроса.
— От вчерашнего сражения, — сказал он небрежно, как и подобает говорить истинному герою.
Каким ничтожеством почувствовал я себя в эту минуту! А он продолжал:
— Лупили они нас — у Мило все руки и ноги в крови были, ты бы видел! Но им тоже досталось, особенно этому самому Рауфу.
Но тут в комнату вошла мама.
— Марш от окна, — рассердилась она, — быстро! Ты что, не слышал? Я запретила тебе разговаривать с ними!
Я оторвался от окна, бросился в свою комнату и там рухнул на постель и чуть не задохнулся от слёз. Я понимал, что Кристина для меня навеки потеряна. Ясное дело, она отдаст предпочтение Христо и Мило, когда те, раненые, с независимым видом пройдут под её окнами. Я даже на улицу не могу выйти. Кончено. Не будет больше острова, не поедем вчетвером кататься на лодке — я, Христо, Мило и Кристина.
Всё было ясно. Несмотря на мою горячую любовь, Кристина в одну минуту сделалась для меня уже «недосягаемой». Я почувствовал острую зависть к Христо и Мило. Я понимал, что настоящими героями были они. Да, они — настоящие мужчины. Я был уверен, я нисколько не сомневался, что если бы их матери поступили с ними, как моя со мной, они не стали бы «терпеть», тут же перебрались бы они на свой остров и зажили бы самостоятельно.
Но ведь я для мамы был, как она говорила, «всем на свете — и сыном, и отцом, и мужчиной в доме». Ведь моего отца давно уже не было на свете. Вместо него осталась у нас фотокарточка в траурной рамке. Эта карточка висела в нашей гостиной с тех пор, как я себя помнил. Отец сейчас пребывал на небесах, и, чтобы он всегда оставался любимцем бога, мы с мамой каждый субботний вечер курили ладан перед его портретом. Мама при этом очень плакала, и, глядя на неё, начинал плакать и я. И каждую субботу клялся себе: «Никогда больше не пойду на улицу, всегда буду слушать маму!»
Как стать великим
Мама часто рассказывала мне об отце.
— Отец твой, — говорила она, — был умный человек, его все уважали. Постарайся же и ты стать таким. Правда, у него не было особого образования, но он любил книги. Григор Зохраб и Вардкес (так звали моего отца) были большими друзьями. Патриарх Аршаруни был частым гостем в нашем доме. Это он тебя крестил, сынок. Если бы отец жил, он бы сделал из тебя человека. Веди же себя так, чтобы лишний раз не напоминать мне об его отсутствии. Перестань водиться с этими уличными мальчишками, сделай всё, чтобы стать великим человеком. Пусть друзьями твоими будут книги. Всё другое пустое, сынок. Мы — всего лишь несчастный осколочек большого народа, нас забросило на чужой этот берег, и нам нужно учиться, набираться знаний, потому что наступит, наконец, заветный день…
— Какой день, мамочка?
— Когда все будем вместе… — И разочарованно заканчивала, глядя на моё недоумевающее лицо: — Вырастешь, сам всё поймёшь. То, что я сказала, должно остаться между нами, — добавляла она, и всё принимало таинственные очертания, а в воображении моём вставали картины одна фантастичнее другой, и от приобщения к тайне у меня захватывало дух.
Теперь на улицу я выходил только с мамой, да и то лишь к соседям или, в лучшем случае, на рынок. О, как мучительно стыдно мне было переходить улицу за руку с мамой. Мои бывшие друзья, как всегда, стояли, выстроившись перед домом Рути, и когда мы с мамой проходили мимо них, лицо моё пылало огнём от стыда. Ведь я знал, как они в эту минуту жалеют меня. Или ещё хуже — считают маменькиным сынком.
Это я-то! Ведь совсем недавно я носился по улицам вместе с ними, весь в копоти и грязи, я — один из главнокомандующих «армии с обручами». Как же это получилось, что теперь я обречён на одни унижения? А Кристина?
И несмотря на то, что длинные брюки были мечтой каждого мальчишки, я не почувствовал никакой радости, когда мама принесла мне с рынка длинные ярко-синие брюки. Никакой радости не было. Однажды, когда я в этих новых брюках направился в школу, я заметил, как Христо, увидев меня, подтолкнул Мило, тот в свою очередь усмехнулся, ткнул в мою сторону пальцем, и все мальчишки уставились на меня…
И хоть я и не смотрел в их сторону, я чувствовал, с какой насмешкой они улыбались. В глазах моих друзей я был «дезертиром». Но больше всего я мучился оттого, что я был армянин. Я боялся, что моё поведение они объяснят этим: мол, известное дело, армянин. Но ведь всему виной была мама, моя горячая сыновья любовь к ней и мой отчаянный страх перед «мышиными апартаментами». К тому же мне не хотелось гневить бога, с которым имел дело мой отец.
Мы часто разговаривали с мамой о том, как мне стать великим человеком. Но разве можно стать великим человеком без улицы?
В те дни я многого ещё не понимал. Утешался мыслью, что настанет день — я буду великим, и тогда все увидят, какой я дезертир!
Но… хоть и действовали на меня слова мамы, словами они и остались. Быть великим означало для меня — идти одному против десятерых или даже против двадцати, ругаться время от времени скверными словами, петь любовные песни и, уставившись в одну точку, тянуть душераздирающим голосом:
— Ах, Кристина, ах!
Однако, мама моя была противницей подобных толкований величия, она не понимала всего этого.
«Был бы жив отец, — думал я, — я бы поглядел, как это можно завоевать уважение людей одной только любовью к книжкам!..»
Общество
— Пеламион! Пеламион! Э-эй, Пеламион!
Это был наш «дурачок», сумасшедший. Он проходил по улице, вызывая град насмешек.
— Пеламион! — кричали уличные мальчишки и дёргали его за полы пиджака, засовывали ему в карманы камни и бежали за ним до тех пор, пока он не выходил из себя.
Один только Христо заступался за него. Пеламион был грек. Впрочем, Христо однажды, сказал мне, чтобы я не думал, будто он любит Пеламиона потому, что тот грек, — просто он, Христо, не может издеваться над больным, и какое тут имеет значение — грек он или не грек. И потом, оказывается, Пеламион сошёл с ума от любви, а это очень возвышало его в глазах моего друга.
Отзывчивое сердце было у Христо. Когда Пеламион, отчаявшись, начинал браниться, приводя в неописуемый восторг мальчишек, Христо, не выдержав, вмешивался: он разгонял зевак камнями, брал за руку безумного и уводил его к себе домой. Там мадам Евдоксия кормила Пеламиона обедом, а мальчишки, облепив окна, заглядывали к ним в комнату. Мадам Евдоксия выходила на крыльцо и кричала на них, одной рукой удерживая Христо, потому что тот, побелев от злости, лез драться.
— Пе-ла-ми-он, Пе-ла-ми-он! — скандировала улица.
Тогда мадам Евдоксия поднималась на второй этаж и выливала на мальчишек ведро воды, и только после этого они разбегались.
Но тут одно за другим распахивались окна, в бой вступали уважаемые дамы нашего квартала, и улица оглашалась негодующими возгласами, весьма нелестными замечаниями по адресу мадам Евдоксии, слышались угрозы, соседки принимали единодушное решение жаловаться в полицию.
Мужчины с улыбкой наблюдали эти сцены. Кое-кто из них бесцеремонно разглядывал мадам Евдоксию, в гневе забывшую застегнуть пуговицы на лёгком халатике.
Но и перебранкой дело не кончалось: мальчишки, выстроившись перед домом мадам Евдоксии, терпеливо дожидались Пеламиона, и когда тот, озираясь, появлялся на пороге, с новой силой раздавалось:
— Пе-ла-ми-он! Пе-ла-ми-он!
И он отвечал ругательствами.
С семьёй Сатеник нас связывала многолетняя дружба. Во вторник (это был наш день) к нам приходили наши соседи и обязательно — семья Сатеник.
Вначале это были мучительные часы для меня. Сидеть при гостях чинно, вести себя как взрослый — что может быть скучнее! Я бредил в эти минуты улицей, свободой, сражениями. И как я ликовал, когда среди наступившего вдруг молчания в окна врывались с улицы шум и крики…
Какое было бы счастье освободиться от всех этих церемоний, от тошнотворной атмосферы лести вырваться и вместе с Христо помчаться к морю и долго смотреть на лодки, парусники, пароходы; дышать опьяняющим морским воздухом и мечтать о будущем; различать флаги на чужестранных судах, разговаривать о Кристине. Потом купить арбуз и, поделив его, уплетать так, чтобы сладкий сок тёк по рукам, а потом небрежным движением, размахнувшись, забросить арбузную корку далеко в море, в глубокую-глубокую синь, и услышать всплеск воды, и под конец лихо прицепиться к трамваю и ехать на подножке, упиваясь своей смелостью, — билетов мы никогда не покупали.
И, конечно, тратить, тратить не раздумывая, сорить деньгами направо-налево, «промотать» все собранные для этого случая капиталы, до последней монетки.
А сейчас? Сейчас я вынужден был сидеть паинькой рядом с гостями, слушать нескончаемые сплетни и длинные скучные истории.
— Какой чудный мальчик! Вот если бы и наш Вачик был таким, — сказала однажды одна из дам.
И тут все стали превозносить мою воспитанность и всякие другие подобные качества.
В эту минуту с улицы донеслось громкое:
— Пеламион! Пеламион! Э-эй, Пеламион!..
И мать Сатеник почему-то сказала:
— Этот паршивец Христо всё здесь оскверняет…
— Господи, а мать-то, мать, — сейчас же откликнулась другая гостья. — Каким ещё может быть сын у подобной матери!
— Не говорите, — подхватила третья, — это просто позор для нашей улицы.
— От случайного рыбака. Хорошо ещё — такой уродился…
— Бросили они друг друга, что ли?
— Муж, говорят, скрывается в Греции, политический беженец, а она тут с другими шуры-муры разводит!
— Говорят, здешнее правительство выслало его, как греческого подданного. Словом, подозрительная семейка. О, как вы умно поступили, мадам, запретив своему мальчику дружбу с Христо. Эти люди ещё ославят наш квартал.
— К ним всё время ходит полиция, — вставила моя мама.
— Какой ужас!
— А знаете, — захлёбываясь от восторга, еле проговорила одна соседка, — третьего дня Шувкра-ханум поймала своего мужа с биноклем: он смотрел в спальню Евдоксии, ночью!
— Не может быть! — ахнули все разом.
А мать Сатеник сказала:
— Как же, им ведь нравятся «такие».
— Пеламион, Пеламион! — отозвалась улица.
— Слышали про Ахмета-эфенди?
Я ничего не понимал, это были грозные и суровые слова: полиция, беженец, правительство… бинокль.
Всё же мне делалось обидно за Христо и за мадам Евдоксию, а в воображении моём каждый раз вставал мифический богатырь с огромной бородой — отец Христо.
Я решил обязательно спросить у Христо про его отца. При случае, разумеется…
— Мадам Хризантем двадцать тысяч даёт за дочкой.
— Ну, эта и так бы не засиделась…
У меня тоскливо сжималось сердце. Ничего привлекательного не было в этих разговорах.
— Слышали последнюю новость? У Мусхим-бея — любовница!
— Дети, пойдите, поиграйте в соседней комнате…
— А его жена с Григором-эфенди!..
В детстве у меня была такая особенность: я запоминал всё от слова до слова, даже если я ничего из сказанного при мне не понимал. И всё, что видел, тоже запоминал. От меня ничего не ускользало, я часто замечал, как взрослые — наши гости — то и дело обмениваются многозначительными взглядами, мне это очень не нравилось.
Сейчас, когда прошли годы, и многое стало понятно для меня, и жизнь подарила мне счастье — моих детей, — я пришёл к выводу, что нет ничего лучше улицы. И я знаю теперь, что мои «сорвиголовы» — друзья, про которых взрослые говорили — «наказание», в свои детские годы оставались куда чище и яснее душой, чем сыночки, запертые заботливыми мамашами в душных гостиных.
Жизнь нанесла нам много ударов, и ни разу победа не доставалась нам легко. Но в жизненной борьбе, в трудных испытаниях сильными оказались не те, которых взрослые хвалили и ставили в пример, а выросшие на улице, закалившиеся, как дикие растения.
Быть хозяином жизни… Это дело субъективное — кто как понимает. Это не имеет ничего общего ни с материальным достатком, ни с титулами, ни с наградами.
Жить полной жизнью… Это значит под бременем тысяч забот — верить в будущее. И, конечно, хранить любовь к своей Кристине…
Быть хозяином жизни… Ты это хорошо умел, мой далёкий, ставший воспоминанием, друг Христо. Быть хозяином жизни — значит шагать всюду с гордо поднятой головой, если понадобится — умереть от любви к жизни.
О Христо, друг мой, что же с тобой сталось?
Мелаат
Опять был день визитов. Опять одна из дам сказала:
— Пусть дети поиграют в соседней комнате.
И мы — два мальчика и две девочки — перешли в соседнюю комнату. Но во что играть? Сатеник предложила «в полицейских и воров». Что ж, мы были согласны. Я сказал им, что можно пользоваться двумя комнатами, кухней, передней и, наконец, дровяником — «мышиным царством». Про мышей я, конечно, промолчал. Мы разделились на две пары, я с Мелаат, Сатеник с Орханом. Орхан был одноклассник Рауфа. У него, как и у меня, была слава воспитанного, вежливого мальчика. Мелаат была младшей дочерью наших соседей-турков.
Первыми спрятались Сатеник с Орханом — они были «ворами». Мы с Мелаат отправились на поиски и очень быстро нашли их. Теперь была наша очередь прятаться. Мелаат предложила спуститься в дровяник. Не ронять же мне было своего достоинства, позориться перед девчонкой! Спустились. Дрова лежали высокими рядами, между ними оставались узкие проходы. Дальше шли запасы угля. Было темно. Мы стояли прижавшись друг к другу, затаив дыхание. Вдруг послышался какой-то шорох. «Мышь!» — пронеслось у меня в голове, и от страха я ещё сильнее прижался к Мелаат. Та в свою очередь перепугалась — тоже, наверное, про мышей подумала, схватила меня за руку. В первый раз я «обнимал» девчонку. И мне очень хотелось, чтобы мышь завозилась снова. Но тут раздался голос Сатеник: «Вон они, за дровами!» — и нам пришлось покинуть «мышиное царство».
В эту ночь я долго думал о Мелаат. Невольно в голову мне лезли всякие истории, которые рассказывали про девчонок турецкие мальчишки.
Наша игра «в полицейских и воров» возобновлялась каждый вторник. Я бывал в паре с Сатеник или Мелаат, и в обоих случаях игра мне очень нравилась.
Однажды мы с Сатеник были «полицейскими» и долго искали «воров» — нигде их не было. Вдруг я услышал, как под кроватью зашуршало что-то. Я нагнулся и увидел Мелаат. Но почему-то не стал кричать, что один «вор» найден… И она промолчала…
Всё это было странно и непохоже на моё «чувство» к Кристине. Я больше не думал о нашей «фее». Я даже мог теперь добровольно уступить её Христо или Мило. При условии, конечно, чтобы не прекращались игры «в полицейских и воров».
Снова всё по-старому
Но пришёл конец и этому счастью. Настал день, когда мне пришлось за всё расплачиваться.
Была большая перемена, я расхаживал по школьному двору, и вдруг со всего размаху наскочил на меня какой-то незнакомый мальчишка. Я сначала не обратил внимания, но мальчишка вернулся, стал передо мной и спросил:
— Ты меня знаешь?
— Нет.
— Вот тебе моя визитная карточка.
И замахнулся кулаком.
— Что тебе от меня нужно?
— Я — Товарищ Рауфа!
— Не понимаю.
— Сейчас все поймёшь… Получай!
И так двинул меня кулаком, что чуть нос не расквасил. Сцепились. Как назло, на правой руке у меня был нарыв. Мы катались по земле, и я думал, что плохо моё дело, что вот так, наверное, и пропадают ни за что люди. Но тут случилось чудо. Мальчишка, совсем было оседлавший меня, вдруг поднялся и тут же плюхнулся рядом. Кто-то нетерпеливо дёрнул меня за руку. Это был Христо. Оказывается, он ударил моего противника ногой в живот.
— Бежим, — сказал он, — их много, и Рауф с ними!
И мы припустились со всех ног.
— Ты не думай, пожалуйста, я вовсе не из-за тебя его стукнул, — сказал Христо. — Просто мне надо было кого-нибудь избить сегодня…
— Для чего?
— Кристина…
— Что — Кристина?
— Замуж выходит.
— Как замуж?!
— За старшего брата Рауфа.
Вот так новость!
— Я, — проговорил Христо мрачно, — я уверен, это против её воли. Надо что-то придумать.
— Что-то придумать?
— Надо похитить её. Да. И ты должен быть с нами в этом деле.
Я молчал.
— Значит, ты действительно дезертир…
— Нет, — ответил я, оскорблённый, — я буду с вами.
— Сегодня после обеда… спустимся к морю, обсудим положение.
— Мне в школу после обеда.
— Плюнь на школу!
Легко сказать — «плюнь». Но речь шла о Кристине, о «дезертирстве», наконец — это была наша «первая любовь», и я решился.
— Ладно.
— Значит, после обеда, перед кинотеатром «Тан».
Мы пожали друг другу руки, и Христо, посвистывая, удалился.
Наш план
До сих пор помню этот день — вторник: ровно в половине второго я был у входа в кинотеатр «Тан», в полной растерянности, чувствуя себя закоренелым преступником: в школе уже начались послеобеденные занятия… что я скажу маме? Но я не успел придумать спасительной лжи. Ко мне подошёл Мило, за ним Христо.
— Поехали!
И мы вскочили в трамвай. У меня появилось такое чувство, будто и не было никакого «домашнего ареста», и я тут же забыл про школу. Мы спустились к морю. Христо предложил покататься на пароходе, — мол, там всё и обдумаем, платит он.
— Что мне теперь деньги! — сказал Христо. — Я стащил их из маминой сумки.
На пароходе я опять забеспокоился — вдруг кто-нибудь увидит. Кто-нибудь из учителей. Что тогда будет со мной? Да меня на виселицу просто вздёрнут, вот что будет со мной.
Была осень, дни стояли холодные.
Молча поднялись мы на верхнюю палубу и устроились на корме. Наше излюбленное местечко. Поблизости никого не было — все пассажиры предпочли укрыться на нижней палубе.
Первым заговорил Мило.
— Надо предупредить её письмом, — сказал он, — чтобы она приготовилась.
— А кто напишет?
Вопрос был более чем щепетильный. Среди нас один я умел писать, да и то с грехом пополам.
— Письмо будет короткое, — сказал Христо, — если она душой с нами, то поймёт с полуслова.
— А Рути? — спросили мы с Мило.
— Что — Рути? — разозлился Христо. — Рути тоже дезертир, раз согласился отдать сестру за какого-то там брата Рауфа! Он нам больше не друг. И не главнокомандующий! Он теперь заодно с Рауфом, а Рауф — наш враг!
— Ты прав, — сказал я, — ты достойный сын своего случайного отца!
— Что-о-о?
— Ну да, ведь твоя мама сейчас с другими шуры-муры разводит!..
— Что ты болтаешь?
— Тогда скажи, скажи, где твой отец? — запальчиво крикнул я в ответ.
Христо отвернулся. Мне даже показалось, что он плачет.
— У меня, — сказал он, — нет отца.
— Есть! — настаивал я. — И наше правительство его арестовало!
Он весь побледнел, а я уже раскаивался в своей глупости, я видел, как больно задели его мои слова, и добавил:
— Знаешь, я это слышал от наших соседок… в гости к нам приходили…
— Чтоб их… — Сказал Христо.
И вдруг Мило, всё время молчавший, крикнул:
— Всё летит к черту! Сначала ты от нас удрал, потом Рути, пожалуйста, вон что выкинул, теперь Христо… Так у нас и Кристину отнимут.
— Нет, за Кристину я буду драться, — сказал Христо. — Кто хочет, пусть идёт со мной. Я уверен, что это замужество — дело рук Рауфа. Он, проклятый, всё подстроил. Хочет нашу армию изнутри ослабить, перессорить хочет нас. А ты попробуй ещё такое сказать про мою маму! Убью тебя, так и знай.
— Христо, — сказал я, — я очень люблю твою маму, совсем как свою.
— Если б любил, не говорил бы так.
— Клянусь богом, Христо, я не знаю, что это значит.
— И я не знаю, но раз соседки сказали — значит, плохое. Я потом как-нибудь спрошу у мамы, что это такое «шуры-муры». А теперь приступим к делу.
— Пишем!
— Что?
— «Завтра вечером в 10 часов ждём тебя под акацией».
— А куда мы её спрячем?
В самом деле, куда мы спрячем Кристину?
Я предложил наш дровяник. Там можно спокойно оставаться до утра. Но потом, как быть потом?
— Не будем сейчас ломать голову, — отрезал Христо строго и решительно. — Там видно будет.
И мы сочинили такое послание:
«Чтобы спасти тебя от этого замужества, мы готовы похитить тебя завтра ночью в 10 часов. Приходи к акации».
Христо предложил нарисовать внизу сердце, пронзённое стрелой. Эта идея пришлась нам по душе, и мы нарисовали три капельки крови — по капельке от каждого. Осталось поставить подписи.
— Напишем свои имена, — сказал Мило.
— Нет, — возразил Христо, — лучше «офицерский состав армии с обручами».
Так и сделали. Теперь надо было решить, кто вручит письмо.
— Я! — сказал Мило.
— Через кого?
— Прямо в руки.
— Подкараулю. Как только выйдет на улицу — подойду, отдам.
— Ладно.
Поистине грандиозный план наметили мы и, конечно, знать не знали, что за всем этим ещё последует. Главное было похитить Кристину, а там — будь что будет. Таково было наше единодушное мнение, а я… я просто изнемогал от счастья: ведь Кристина будет в нашем дровянике! И мы — с ней! И пусть не то что мыши — пусть нападают огромные крысы! Ничего не страшно!
Великое разочарование
Домой я вернулся с большим опозданием и с порога уже начал громко стонать:
— А-а-ах! У-у-уф!.. О-ох!
— Что с тобой? — спросила мама, бледнея. — Где ты был? Мы с ног сбились, весь город обшарили, в полицию обращались.
— Я болею, — прохрипел я с трагическим видом, — я очень тяжело заболел. Умру, наверное… Горяченького мне… и в постель…
Мама внимательно посмотрела на меня:
— Откуда ты сейчас?
— О-о-ох… из шко-олы…
— Где твой портфель?
(Забыл! Забыл портфель!)
— В школе остави-и-ил… в школе…
— Почему?
— Учительница сказала, нести будет тяжело. Иди, сказала, иди и ложись немедленно в постель.
— Лгун! — закричала мама вне себя от ярости. — Твою сумку принесли из школы и сказали, что после обеда ты не изволил туда являться. Выкладывай, где был. Ну!
— В школе.
Меня поволокли «в гости к мышам». В «мышиное царство», которое завтра должно было стать нашим счастливым убежищем.
— На всю ночь! — крикнула мам. — Всю ночь будешь как миленький сидеть, пока не выложишь мне правду.
Конечно, на следующий день в десять часов вечера я и думать даже не смел о том, чтобы пойти к акации. Но обрекать себя на дальнейшие муки тоже было глупо — пришлось во всем сознаться маме и таким способом вырваться «из гостей». Долго я боролся со сном и всё старался себе представить, как Мило и Христо, смогли ли они что-нибудь сделать; и всё же не выдержал — заснул глубоким, крепким сном.
На следующий день вечером Христо и Мило поджидали меня возле школы.
— Не ходи домой, — сказали они, — турецкие мальчишки устроили засаду.
— Почему?
— Письмо попало к брату Рауфа.
— Как?
— Кристина…
Нет, этого не могло быть. Чтобы Кристина, наша фея, наша мечта, изменила нам, да так вероломно?!
— Кто относил письмо?
— Я, — сказал Мило. — Я подошёл к ней в бакалейной лавке, отдал письмо и убежал. Из лавки она вышла весёлая, — согласна, подумал я…
— А ночью вы приходили к акации?
Мило стал смотреть себе под ноги, в отношении меня всё и так было понятно, а Христо проговорил со вздохом:
— Эх, ребята…
Он был бледный-пребледный. А ночью, вот что было ночью. Когда мать Христо с «дядей» прошли в спальню, Христо потихонечку выскользнул из дому и пошёл к акации, но не остался под ней, чтобы не вызывать подозрений у ночного сторожа. Вернулся, переждал немного, пошёл обратно, и каково же было его удивление, когда он увидел Кристину, Рути, их отца и мать, выходивших из дома Рауфа. Они все хохотали и показывали рукой на акацию… Христо едва успел спрятаться.
Значит, о письме всем было известно, Кристина постаралась… И теперь ещё эта засада!
— Что же делать?
— Переждём до ночи, а ночью как-нибудь проберёмся.
— Мне нельзя опаздывать домой, — сказал я.
— Почему?
— Мама убьёт меня на этот раз.
— А так тебя ещё быстрее убьют, имей в виду, они, наверное, уже пронюхали, чей это почерк.
— Ну и пусть, — сказал я, — я с ними не стану связываться, даже если ругаться будут.
— Молодец! — сказал Христо. — И я с тобой пойду. Будем вместе до самого конца. Не бойся, можешь на меня положиться, если будет драка.
Мы с Христо обнялись и посмотрели на Мило. Тот явно колебался.
— А ты? — спросили мы.
— Сумасшедшие.
— Значит, ты предпочитаешь сдаться врагу? — сказал Христо.
— Нет, — сказал Мило, — я тоже пойду с вами.
— Эх, ребята! — опять вздохнул Христо. — И отомщу же я им когда-нибудь.
Кристина изменила нам, и из-за Кристины мы шли на явную гибель. Ничего. Пусть хоть узнает, как мы трое пострадали из-за любви к ней.
Я чувствовал, что Христо ко всему этому относится гораздо серьёзнее, чем мы. В нем зарождались ростки настоящей сознательной мести. И я не ошибся. Спустя много лет я узнал о событиях, довольно трагических для него…
Бесстрашными и твёрдыми шагами двинулся я по улице, удивляясь в душе своей дерзости. Я жаждал «погибнуть» в этом неравном бою. Я был уверен, что Мило разделяет моё желание. Да, победа будет даже… неинтересной. Никакого эффекта. Победив, мы только отомстим Кристине, а нам хотелось причинить ей боль, чтобы она пожалела, раскаялась, увидев нас, истекающих кровью.
Первым приблизился ко мне Осман. Это был манёвр с их стороны. Осман был хилый, щупленький и никогда раньше не осмеливался даже близко к нам подходить, а тут он как двинет меня плечом.
— Послушай, отойди, — сказал я спокойно.
— Сам отойди, гяур! — крикнул он в ответ и свистнул. В меня полетели камни, из каждой подворотни показался мальчишка, я был уже в кольце, когда заметил, что на помощь мне бежит Христо.
Больше ничего я не помню. Нас били как попало и куда попало, и кто знает, чем бы это кончилось, если б на шум не сбежались взрослые. Камень рассёк мне лоб, но я даже не почувствовал боли. Поднял голову — мы сидели посреди улицы, Мило нигде не было видно. Но я увидел Рути — в обнимку с Рауфом он удалялся с поля брани. Теперь он был во главе наших противников.
— Рути, — прошептал Христо, — Рути с ними… Собака! — закричал он и тут же вскочил и бросился догонять их. Я увидел, как он ловко с разбега дал ногой Рути по заду. Солдаты Рауфа с воинственными воплями набросились на Христо.
Я всё ещё сидел на мостовой. Но разве можно спокойно смотреть, как избивают лучшего твоего друга, и разве можно бросать драку на половине?
Я поднялся и в следующую минуту был уже в самой гуще дерущихся.
Шум стоял невероятный, все орали и молотили кулаками. Так продолжалось до тех пор, пока нас опять не растащили чьи-то сильные руки.
Всё было разбито… Что такое раны и ссадины? Пустяки. Была разбита наша мечта… Мы были оскорблены и страдали от этого сильнее, чем от побоев. Христо в первый раз при мне плакал, а мать его кричала на Рути:
— Не стыдно тебе, щенок? Не стыдно? На своих товарищей напал!
Но с другого конца улицы в бой вступила мать Османа.
— Замолчи! — закричала она. — Шлюха! Лучше за своим недоноском присматривай!
А Шувкра-ханум со своего крыльца:
— Сами! — закричала она. — Сами бесстыжие! Не заставляйте меня говорить, не то всех на чистую воду выведу! Уважаемые! Почтенные! Знаю я вас, «почтенных»!
Народу становилось всё больше.
— Зовите полицию, она оскорбила наше государство!
— Ох, чтоб ваше государство… И самих вас…
Моя мам не стала слушать дальше, дёрнула меня за руку, втащила в дом.
— Бессовестный мальчишка! — обрушилась она на меня дома. — Опозорил нас на всю улицу! Ты получишь у меня, держись теперь!
Рана моя начинала пощипывать. Я ревел от боли и думал, почему всё так случилось, почему Рути пошёл против нас, почему женщины так кричали на мать Христо, чувствовал, что для неё это очень обидно.
Никто из моих товарищей не пришёл проведать меня, кроме… Мелаат.
Я всё ещё ревел.
— Очень больно? — спросила она шёпотом.
— Иди домой, детка, — сказала моя мама, — он наказан, и сегодня не будет играть с вами, я его запру в…
— Не запирайте его, пожалуйста!
Я смотрел на Мелаат… она тоже плакала!
— Я пришла спросить, — нерешительно сказала она, наконец, — будете ли вы сегодня дома? Мама хотела зайти вечером.
— Скажи своей маме, буду ждать её в гости, — ответила моя мама.
Меня она отвела на кухню, строго-настрого запретив выходить к гостям. Значит, заступничество Мелаат помогло! Мама раскрыла учебник по армянскому чтению, отметила две страницы.
— Сиди здесь. Выучишь уроки, начнёшь читать. Чтобы всё было сделано! — И ушла.
Что-то непонятное творилось со мной. Какие там уроки — я ни строчки не написал, я даже забыл, что наказан. Раскрыв для виду какую-то книжку, я смотрел мечтательно на полки с тарелками и мысленно произносил: «Очень больно?..»
Я всё время думал о Мелаат.
Ну а насчёт уличных дел — они на этом не кончились. На следующий день пришли полицейские и увели мадам Евдоксию. Как будто это она во всем была виновата!
Чего я лишился
Вся улица обсуждала последние «события». Все знали о нашем «рыцарстве», все смеялись над нами. «У самих молоко на губах, а поди же, в любовь играть вздумали! Девушку вздумали похитить!», «У такой матери… Что видел, тому и научился», — говорили про Христо. «И других с толку сбил», — это уже про нас с Мило.
Но худшее было впереди.
Соседки состряпали жалобу на мадам Евдоксию, выдвигая главным обвинением её оскорбительные слова, сказанные в адрес государства, а также её сомнительное поведение.
Кончилось это всё тем, что однажды я сам услышал, как сказали: «Мадам Евдоксия в тюрьме…»
Христо взял к себе один из «дядюшек».
Так я потерял своего самого любимого друга.
Соседки торжествовали:
— Избавились от «заразы»!
Из дому я опять выходил только под предводительством мамы. Улица для меня кончилась. Теперь уже навсегда. Мило? Мило избегал меня. Как, впрочем, и я его.
Наша «армия» осталась в прошлом. Правда, и через много лет в районе Четытие мальчишки бегали с обручами. Но чего-то им не хватало, что было у нас, у «армии с обручами».
Прошли годы. Девятилетние ребятишки выросли, повзрослели, стали… пятнадцатилетними. В начале второй мировой войны семья Рути вернулась в Германию. Кристина, вышедшая замуж за старшего брата Рауфа, осталась в нашем квартале. С годами всё больше хорошея, она привлекала к себе всеобщее внимание. Много слухов ходило о ней. С её именем связывали имя какого-то дерзкого и красивого «гяура», при этом добавляя: «Гяур — он всегда гяур!». И, о чудо, этим красавцем «гяуром» оказался мой Христо! Но об этом после… К Мило приходили совсем незнакомые мальчишки, я дружил со своими одноклассниками. Давно кончились наши игры «в полицейских и воров», и мы больше не ходили в гости со своими родителями.
На улице все мы здоровались друг с другом. Здоровались я и Рауф, я и Осман, я и Сатеник. Только с Мелаат не получалось — мы упорно избегали встречаться взглядами. Я знал, что по утрам, когда я иду в школу, она смотрит на меня из окна. Я в свою очередь, прячась за занавесками, ждал, когда она пройдёт мимо нашего дома. Она проходила, «случайно» поднимала глаза на наши ставни… конечно, случайно… Я ведь тоже смотрел в её сторону «случайно». Как это называется? До сих пор не могу найти названия этому чувству. Любовь? Нет как будто. Что же?
Прошли ещё годы, и я полюбил девушку-армянку, совсем из другого квартала.
И Мелаат тоже полюбила другого.
Эгей, чудесное детство, ты, которое знало бессознательно, быть может, все радости земные, всю прелесть гор и очарование каждого цветка, знало опьяняющую силу моря и, не выучив ещё алфавита, умело уже любить самоотверженно и преданно, ты, которое умело радоваться, не причиняя другим страдания, детство моё, полуголодное, босоногое, детство моё, устремляющееся вдаль бескрайнюю… детство… как ты умело наслаждаться!
И под чужим небом — золотое и раздольное, детство моё, мой хрустальный замок — ты смеялось в лицо всем ложным наставлениям…

ЮНОШЕСТВО
О счастливый возраст, в котором человек может
В бесконечности поцелуя забыть
И про существование своё, и про вселенную и про всё
И улыбаться миру небрежно и несведуще…
Р. Севак
Был я бездумным юношей Четырнадцати — пятнадцати лет…
Е. Чаренц
Мы мечтали издавать в школе свой собственный журнал. Мы с Робером учились в пятом классе подготовительной школы, и было нам от силы тринадцать лет.
В четыре часа пополудни наши занятия кончились, и мы на омнибусе удалялись от города, направляясь в сторону Шишли — большого парка с аллеями близ армянского кладбища.
Мы ехали туда, потому что не в школьной сутолоке полагается «решать» всевозможные серьёзные проблемы и дела.
Мой товарищ Робер — из богатой семьи и мечтает, когда вырастет, стать философом. А я? Я непременно сделаюсь писателем… великим писателем. И пусть тогда Мелаат жалеет о «случившимся», пусть исходит тоской, всё равно я буду неумолим, я не «вернусь» к ней больше.
Я напишу такие трогательные любовные романы, что Мелаат заплачет, читая их. Потом я напишу книгу о матери Христо — мадам Евдоксии, и она будет в моем описании совсем как сказочная принцесса.
Писатель, если он вырос, как я, без отца, если его мать, как моя, страдает тяжёлым желудочным заболеванием, вряд ли он сможет когда-нибудь стать человеком обеспеченным. Впрочем, великим писателям положено умирать от голода. Вчера наш учитель армянского сказал, что поэт Дурян умер от чахотки, совсем молодым.
Разве это плохо — лежи себе в какой-нибудь далёкой больнице на берегу моря или в глубоком лесу, в светлой комнатке, лежи и наблюдай, как ты привлекаешь всеобщее внимание, как посетители больше интересуются тобой, нежели своими родными, как они шёпотом сообщают друг другу, показывая на тебя: «Автор романа „Слезы любви“. Бедняжка обречён на смерть…»
И каждая из ухаживающих за тобой сестёр мечтает, чтобы ты полюбил именно её, а ты всегда печальный и грустный, у тебя вид совершенно больного человека, но при этом ты обладаешь хорошим ростом, привлекательной внешностью и… усами.
Чего-чего, а воображения у нас было предостаточно. И что из того, что мы сами никак не соответствовали нашим представлениям о себе…
Впрочем, впереди было ещё много времени, и в будущем можно было бы устроить все таким образом, чтобы мы выглядели под стать нашей славе. Пока же оба мы были небольшого роста — толстые, краснощёкие, жизнерадостные и беспокойные мальчики…
Робер сказал:
— Сегодня исторический день, мы с тобой должны сознавать, какая сейчас наступила великая минута… Когда-нибудь мы вспомним этот день… И не только мы одни вспомним.
Я был более мечтательным мальчиком и добавил:
— Робер, когда придёт день и ты станешь знаменитым философом, вспомни меня, вспомни, как я любил литературу. — Голосу своему я придал некоторую взволнованность.
— А где же ты сам будешь в это время?
— Неизвестно.
Мне не хотелось говорить про себя «умру», к тому же я вспомнил, как учитель армянского сказал однажды, что великие люди обычно «погибают».
— Погибне-е-ешь? И вправду, нас ждёт неизвестность, вспомни и ты меня, если эта участь достанется мне… если я умру раньше тебя…
«Умереть»… «Погибнуть»… — эти были слова, которые срывались с наших уст так же легко, как «убегать» и «играть». Впрочем, истины ради, я должен заметить, что все наши детские игры к тому времени мы давно позабыли.
Кроме издания собственной газеты или журнала нас могла занимать ещё разве что «любовь».
Как мы назовём наш журнал?
— «Следы».
— Нет, это плохо.
— «Океан».
«Океан»? Почему бы нет? Океан был безграничным, как наше воображение, и был синим, как наши мечты.
Объем журнала?
— Как тетрадки по армянскому.
Тираж?
— Один экземпляр.
Один экземпляр, полтетрадки пишу я, полтетрадки заполняет Робер. От руки. Мои статьи переписывает он, его — я.
Иллюстрации?
Да, это было серьёзное начинание.
И вот потекли наши трудовые дни. Каждый день после школы мы с Роббером — у нас или у них дома — часами просиживали над нашим журналом.
Иллюстрациями служили нам разноцветные вырезки из американских и французских журналов.
Мой рассказ «Кровавый поцелуй» получился невероятно впечатляющим, и когда мы снабдили его вырезанной из какого-то американского журнала картинкой — молодой человек на зелёном фоне страстно обнимается с полуобнажённой девицей, — результат был поразительным, я бы сказал даже… роковым.
По правде сказать, глядя на эту картинку, я и написал свой рассказ…
Нужно ли было назначить цену журналу?
— Несомненно, — сказал Роббер, представлявший деловую половину нашего содружества. Решено было с каждого читателя взимать по пять динаров. На этом неплохо можно было нажиться, а в один прекрасный день мы могли даже подумать об издании настоящей, большой газеты. Вот что принесёт нам славу, думали мы, вот как нам предстоит прославиться.
Но наши рассуждения оказались несбыточными. И эти наивные и ошибочные суждения насчёт книг и литературы сопутствовали мне всю жизнь!.. К счастью для меня.
Журнал был «конфискован» тут же, едва он попал в руки ко второму нашему читателю (да и то в долг).
Нас вызвали в кабинет директора. В кабинете слышалось бесстрастное и громкое «так-так-так» больших стенных часов виднелась безмолвная, вызывающая почтение, почтение и, пожалуй, ещё страх — фигура директора школы: он углублённо разглядывал наш «Океан» с голой танцовщицей с Гавайских островов на обложке.
Картинки эти, совершенно недозволительные для нашего глаза, были выбраны нами без всякого дурного умысла и, как говорится, задней мысли. Просто мы видели их на каждом шагу, чуть ли не с самого рождения, в витринах книжных магазинов, на лотках, в киосках — всюду…
Сердце у нас, покинув своё привычное место, ушло в пятки: директор, не спеша, словно для того, чтобы ещё более продлить наши мучения, перелистывал журнал страницу за страницей, внимательно вглядываясь в заголовки «статей». Вот и злополучный «поцелуй», — я готов был сквозь землю провалиться. Теперь-то я, конечно, сознавал, что такое поцелуй, к тому же ещё и «кровавый». Как же это я раньше не сообразил, что всё может быть дурно истолковано, — как же теперь было оправдать себя? Надо же!..
Впрочем, мучительные минуты эти не положили конца моей литературной «деятельности». Что ж, я повинился, и некоторое время не возвращался к прекрасному словотворчеству. Но я отнюдь не отказался от мысли издавать со временем свою газету и писать сногсшибательные повести и рассказы.
И всё оттого, что не писать я просто не мог. Эта любовь, непонятно откуда взявшаяся, была уже в крови моей, самовластная и неотступная.
Спустя многие годы, когда я стал серьёзным человеком, отягощённым заботами и чувством ответственности, я часто устраивал суд над собой, призывая себя образумиться и остепениться. Но вместо этого я делался грустным и раздражительным и озлоблялся.
А стоило мне начать писать — и если у меня все получалось, я преображался, превращался в ребёнка, безмятежного, озорного и счастливого, готового совершать всяческие глупости. Без этих счастливых минут моя жизнь была бы попросту лишённой смысла.
Допустим, я начал писать ради собственного удовольствия. Но позже, когда я понял, что литературой можно говорить с людьми, — это стало любовью.
В течение всей моей жизни я неоднократно призывался как ответчик за все мною написанное в самые различные инстанции, но я должен сказать, что ни разу я так не волновался и не умчался, как на первом «допросе» у директора школы.
И было это оттого, наверное, что поводом для порицаний служило то, что рождено было моей любовью, моей верой, моими надеждами. Ведь нет в мире родителя, который пожалел бы о том, что дал своему ребёнку жизнь, даже если это ребёнок «незаконнорождённый». О каком преступлении может идти речь, если преступление это — результат любви?
…Впоследствии пути наши с Роббером разошлись. Робер закончил юридический факультет, я стал писателем, и мы оказались людьми чужими и далёкими друг другу…
Но тогда оба мы стояли перед директором, дрожавшие и напуганные, и это запечатлелось в моей памяти навсегда.
— Кро-ва-вый по-це-луй, — произнёс насмешливо директор, оглядывая меня с ног до головы.
Словно шесть свинцовых пуль — по числу слогов — вонзились в моё сердце, и я поистине чудом устоял на ногах.
Потом рука директора с силой опустилась на стол. Я будто сквозь сон услышал его тихий голос:
— И ты, Брут…
Не помню, что ещё говорил наш директор. Помню только своё смятение и… слёзы — да, слёзы, тут уж ничего не поделаешь. Нас отлучили от школы на три дня. На четвёртый, рано утром, мы снова явились, но уже с родителями. Моей матери нет сейчас в живых, моей любимой, моей бесценной…
Сколько огорчений я ей доставил, сам того не желая, сколько слёз. Наши взгляды на жизнь глубоко расходились. Главной причиной её недовольства были мои литературные занятия — она раскаивалась, как она раскаивалась, что в детстве сама усаживала меня за книги! Я не оправдал её надежд, не стал «великим человеком», я сделался обыкновенной библиотечной крысой, с жадностью пожирающей всё, что попадалось в руки. Это потом только пришло сознание того, какая книга хорошая, а какая плохая, что тобой написано хорошо, а что плохо.
Спустя много лет мама моя сказала мне:
— Мальчик мой, ты не стал тем, кем я хотела тебя видеть. Не знаю, хорошо ли я делала, когда приучала тебя читать.
Нет больше моей матери, но жива во мне память о ней. И теперь, когда на улице ночь, поздняя ночь и на небе сияют миллионы звёзд, а луна в небе так спокойна и величава, я, даже, обременённый заботами и усталостью, могу смотреть в небо и думать и верить, и верить, что земля — это корабль, празднично разукрашенный, с миллиардом, целым миллиардом родных мне людей на борту.
Глядя на звёзды, даже в самые горестные для меня дни, я повторяю — жизнь прекрасна. И это сплошь покрытое цветами дерево и эта даль — опьяняюще прекрасны. Они придают мне силы, и мне хочется воздать хвалу родившей меня матери.
Научив меня читать книжки, ты научила меня любить жизнь, — если бы слышала это, мама.
Мои «левацкие» настроения
Она жила за нашей школой. Звали её Сона. Она не принадлежала к числу моих знакомых и не входила в число постоянных гостей Роббера, собиравшихся у него дважды в месяц.
Говорили, что она невеста Тороса — студента французского колледжа. С Торосом мы встречались иногда в доме у Робера.
Наша группа — Робер, я и Перч Фазлян из нашей школы — решили наряду с литературным кружком основать ещё и театральный и начать сразу же с серьёзных вещей… с Шекспира, скажем. На меньшее мы не согласились бы, ведь мы были уже прославленные «знатоки» искусства.
Со времени конфискации нашего «Океана» прошло уже два года. Теперь у нас была своя легальная газета «Двадцатый век», которую мы печатали на машинке. Кроме того, меня впервые напечатали в довольно популярной газете «Жаманак», и мать Сона, прочитав написанное мною, сказала Торосу, что меня ждёт большое будущее. Я всегда помню и никогда не забуду мой первый опубликованный «труд».
Это было сочинение, написанное для межшкольного конкурса на лучшее сочинение. Конкурс был объявлен в честь годовщины победы турецкой армии, не помню уже над кем.
Я накупил множество экземпляров газеты и, рассовав их по карманам, ходил надутый и важный. Мне казалось, вся Турция теперь узнаёт меня.
В эти дни на литературные наши занятия я приходил нарочно с небольшим опозданием и садился у входа с видом серьёзным и деловым, хотя мой вид никого, собственно, не интересовал. И вообще никто моей персоной и моими литературными успехами тогда не интересовался. Единственный отзыв исходил от матери Сона, и это показалось мне предзнаменованием… Я влюбился в Сона.
Не знаю, что думали о себе другие, а я был уверен, что мать Сона права, предсказывая мне судьбу писателя. Теперь, когда я видел Сона, я чувствовал, как у меня перехватывает дыхание. Единственным моим утешением были мои хитроумные козни против Тороса. Это я настоял, чтобы роль Яго в пьесе Шекспира дали Торосу. Я был Родриго, Перч Фазлян — Отелло, а Дездемоной была моя кузина Анаит. Как же я возликовал, узнав, что Торос влюбился в нашу Дездемону!
Был конец учебного года. Большинство моих товарищей со своими родителями уезжали на лето к Босфору или же на острова. Этим ученикам разрешалось пропускать два последних, не таких уж важных урока, чтобы поспеть на четырёхчасовой пароход. И пароход в 16:25 отходил от пристани битком набитый весёлыми мальчишками и девчонками. Вторая остановка была у острова Гнал, где отдыхала семья Сона. Езды до этого острова было час с четвертью.
Наш дом находился всего в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от школы, и на лето мы никуда не уезжали, не было денег. Но в то лето я обманул учителя и записался с учениками, которые переехали на лето жить на острова. Вместе с ними я уходил с двух последних уроков, садился на трамвай, потом на пароход. Наивысшим блаженством для меня было устроиться на пароходе напротив Сона и её подруг, тайком наблюдать за ней до той самой минуты, пока пароход не прибывал в Гнал. Сона и не подозревала обо всем этом. Что бы со мной сделалось, если бы Сона стало известно про мои проделки — я бы сгорел от стыда, в обморок бы, наверное, упал.
Каждый божий день я удирал с последних уроков и исправно нёс свою вахту, усевшись напротив Сона. Матери я объяснял свои двух-, а то и трёхчасовые опоздания подготовкой к экзаменам. Так продолжалось до тех пор, пока нас не распустили на летние каникулы.
Я был довольно впечатлительным созданием, и каждый раз возвращался домой в слезах. Прежде всего, я смертельно боялся на обратном пути встретиться со своими школьными товарищами (тогда раскрылся бы мой обман), кроме того, огненные блики, вспыхивающие при заходе солнца на золотых куполах Сарайпурну, действовали на меня расслабляюще, я начинал хлюпать носом, и все кончалось слезами. Белоснежная пена, бьющаяся о берег возле порта, и солнце, отражающееся на волнах, уводили меня в другие края, тоска по которым, как вы видите, стала снедать меня с очень ранних лет. Дельфины, время от времени появляющиеся за кормой корабля и плывущие наперегонки с ним, приводили меня в неописуемый восторг.
И всё чаще почему-то я вспоминал Христо, отчаянного и родного Христо, о котором я давно уже ничего не знал.
Я чувствовал, что стена между мною и моими теперешними товарищами растёт, в то время как Христо, я был уверен, — Христо понимал бы меня без слов.
Но мои одноклассники нисколько не походили на Христо — это были ребята совсем другого склада. Очень мне недоставало Христо.
Однажды я спросил у матери:
— Почему мы не едем в деревню на лето, как все?
— Мальчик мой, — сказала мама, — мы обязаны жить скромно.
Тогда-то я и написал рассказ «Следы на дороге».
…Ночь. Нищий мальчик идёт по зимней улице. Вдруг рядом с ним проезжает карета, в карете — счастливая пара. Карета обдаёт мальчика грязью, и единственная новая одежда мальчика вся запачкана…
Рассказ был на уровне школьного сочинения, не более. В полуобморочном состоянии, с колотящимся от страха сердцем, одолеваемый сомнениями, несколько раз спустившись и поднявшись по лестнице, я наконец сделал над собой невероятное усилие и вошёл со своим рассказом в редакцию газеты «Мармар». Редактором её тогда был Сурен Шамлян. Смерил он меня взглядом и сказал:
— Придёшь через два дня. Будет хорошим — напечатаем.
Через два дня, ещё больше волнуясь, я снова пришёл в редакцию. Ноги у меня были словно ватные, а голос сразу стал хриплым и глухим.
— Тебе что, мальчик?
— Я по поводу рассказа…
— А, вспомнил, вспомнил, — сказал редактор и, помолчав, добавил: — Сын мой, для начала это очень хорошо, можно было бы даже напечатать, но если бы не твои… левацкие настроения.
Я был неимоверно рад и вроде бы даже успокоился. Я не понимал, что значит «левацкие настроения», но был премного благодарен редактору за них, потому как могли просто сказать, что «никуда твой рассказ не годится» или ещё похуже — «чушь собачья». Нет, мне, пожалуй, даже льстило, я подумал, что «левацкие настроения» — это нечто вроде литературного течения.
Я не стал больше задерживаться в редакции, опасаясь обнаружить собственное невежество. Так или иначе, со мной говорили как с писателем, это было бесспорно. С рукописью в кармане я вышел из редакции и первым делом разыскал одного торговца, большого друга нашей семьи. Я спросил у него, что означает слово «левацкий».
— Такого слова не существует, — ответил торговец — он же председатель нашего околоточного совета. — Ты, верно, ошибся, где ты это вычитал?
— Мне так сказали.
— Наверное, хотели сказать «левша».
Я не стал спорить, согласился для виду, а злополучное слово «левацкий» оставалось для меня ещё некоторое время загадкой, несмотря на то, что творение моё было впоследствии напечатано, как я уже сказал, в газете «Жаманак» и я начал свой литературный путь именно этим «левацким» произведением.
Первое письмо
В течение года я повсюду безмолвно следовал за Сона. Под дождём ли, в метель ли, в жару ли — будь то летом или зимой, — я выходил из дому чуть свет и отправлялся в школьную церковь, где перед уроками каждое утро молилась моя Дульцинея.
Забившись в тёмный угол, я с благоговением следил за «своей» Сона.
В полном неведении обо мне и моем присутствии она вскоре уходила, оставив меня наедине с моими переживаниями и статуями святых. Некоторое время я ещё оставался недвижным перед фигурой святой Терезы — притихший, с шапкой в руках.
Мне казалось, эта неизвестная мне святая покровительница моей любви и словно бы в знак поощрения улыбается, слегка зарумянившаяся и вся такая доброжелательная. Да, да, честное слово, я каждое утро отмечал про себя и улыбку, и румянец на лице святой Терезы. И с довольным сердцем, ликующий и счастливый, я направлялся в школу, чтобы после обеда наблюдать, как возвращается Сона домой.
Надо ли приписывать мои посещения церкви религиозному пылу, овладевшему мной? Я не любил её, когда там шла обедня, когда там бывало шумно и многолюдно… Но утренняя, чистая и торжественная церковь со сладким запахом ладана мне нравилась. Даже теперь, правда очень редко уже, я люблю зайти в пустующую церковь и очутиться в её полутьме. Тишина и покой её мгновенно передаются мне, и я на минуту забываю о разных житейских неурядицах и уношусь мысленно в мир прекрасный и несуществующий, который грезится мне ещё с детства. То же самое чувство я испытываю в притихшем зрительном зале, перед театральным занавесом, который вот-вот поднимется, и я окажусь причастным к великому таинству искусства, и ещё такое чувство я испытываю иногда в звёздную ночь, когда брожу по безлюдным улицам совсем один…
Итак. Я уже считал Сона как бы своей собственностью. Естественно, это не ускользнуло от внимания моих школьных товарищей, и многие из них стали открыто дразнить меня. И представьте, мне это даже нравилось. А когда, например, мы сталкивались с Сона на улице или в школе и наши мальчишки тут же начинали подталкивать и дёргать меня за одежду, приговаривая «твоя, твоя», я чувствовал себя самым счастливым человеком на земле.
Так вот и обстояли мои дела.
Едва началась весна, я принялся уговаривать маму поехать на лето в деревню и снять там комнату, пусть даже самую дешёвую, самую что ни на есть плохую, но обязательно на острове Гнал.
И моя мама сдалась.
Остров Гнал, каменистый, с голыми скалами — сколько с ним связано горьких и счастливых минут.
Газета «Жаманак» к этому времени предоставляла мне одну из своих страниц и безоговорочно принимала всё, что я туда приносил. Печатали они меня без всякой правки, ничего не сокращая. А я… что ни неделя — у меня появлялось новое творение, которое я незамедлительно нёс в редакцию. Что представляли собой эти рассказы — можно понять по их заголовкам, казавшимся мне тогда чрезвычайно заманчивыми и многозначительными: «Раненые сердца», «Гитара надежды», «Цыганка», «Слёзы любви», «Пусть молчит занавес» ну и так далее.
В те далёкие времена я был настоящим мастером выдумывать разные трагические и душераздирающие сюжеты.
Я читал массу литературы и под впечатлением этого, зачастую низкопробного, чтива создавал собственные «шедевры». Я до сих пор ещё недоумеваю и не могу понять, почему газета «Жаманак» была столь снисходительна к моим весьма сомнительным опусам… Впрочем, чего только не делают зарубежные журналы и газеты для того, чтобы поддержать своё существование, на что только не идут они. Однако то, что газета беспрекословно печатала мои творения, придало мне веры в себя и тем самым предотвратило появление комплекса неуверенности, столь свойственного всей пишущей литературной братии. Быть может, эта вера в собственное литературное дарование — необоснованная вера, но судить уже будет другой «жаманак», самый неподкупный и беспристрастный на свете судья — «время».
И только однажды мне вернули рассказ — в нём трижды повторялось слово «свобода». Мне сказали, что это может привлечь внимание правительства. Ни больше, ни меньше. Я и сам уже не помню, в какой связи я употреблял эти высокообязывающие слова. Во всяком случае, рассказ был начисто лишён какой бы то ни было политической окраски.
Скорее всего, слова эти передавали какое-то неопределённое движение души. Стремление достичь луны, безумное желание спустить с неба звёзды, желание приобщиться к тайне вечности — вот что, пожалуй, значили эти слова. В них заключалась и мечта о жизни необычной и прекрасной, и смутная, ещё не осознанная жажда подвига. Свобода… это чаша с вином неиспитая, это женщина, недоступная и неуловимая… Это любовь, чистая, неосквернённая… И свобода — это родина, это жизнь, это ты сам.
Мой дорогой «незнакомец», моё второе «я», ты не станешь отрицать, что такое состояние души — нормально и что с этим надо считаться, потому что не признавать этого состояния — значит не понимать искусства. В моём рассказе прекрасное слово «свобода» не несло в себе никакой политической окраски, несмотря на то, что искусство — самый яркий выразитель политики, его пламень. Я бы сказал так: искусство — оружие справедливости, свобода же — условие, чтобы оружие это сработало.
Но отложим эти рассуждения, вернёмся к моему острову.
Вечереет, что-то около семи часов вечера, к острову приближается пароход, с него бросают толстый канат. Матрос у причала ловит этот канат… Все высыпали на пристань встречать отцов семейств, которые сходят на берег с довольными улыбками, со свёртками в руках. Они встречаются со своими домашними так, словно не виделись, по меньшей мере, год. Я стою в толпе совсем один и ещё острее ощущаю своё одиночество в этом мире. Я смотрю, как Сона рядом с матерью, в десяти шагах от меня, высматривает отца. Затаив дыхание, жду, когда Сона поднимется на цыпочки поцеловать его — тогда я увижу краешек её красной нижней юбки. Мне очень хочется увидеть эту юбку, но я прихожу в бешенство при мысли, что её могут увидеть и другие, особенно Торос. После всяких объятий и поцелуев жена возьмёт мужа под руку с одной стороны, дочь с другой, и счастливое семейство медленно направится вдоль набережной. Дома Сона заметит свежий номер «Жаманак», выглядывающий из отцовского кармана. Возьмёт газету в руки, раскроет её. На внутренней стороне она увидит мой рассказ «Слёзы любви». Но никогда, никогда она не узнает, что «слёзы» эти пролиты из-за неё…
Да, вот уже два года я люблю её, а она ни о чём и не догадывается.
Впоследствии время внесло свои правки — выяснилось, что я любил отвлечённо, слепо, я любил саму любовь! А Сона была обыкновенной девушкой, такой же, как все, со своими недостатками, со своими слабостями.
Впрочем, юность всегда живёт больше мечтами, чем реальной действительностью, и пусть оно так всегда и будет.
Да, я рос впечатлительным, мечтательным мальчиком. Волнения, разные наблюдения и переживания — всё это накапливалось во мне, чтобы вылиться однажды в какую-нибудь вспышку, которая удивит всех окружающих и ещё больше меня самого.
Итак, я был впечатлительным, мечтательным и любил Сона. В конце концов, думал я, эта любовь угробит меня, и я слягу от тяжелейшей чахотки. Вот, думал я, и пришёл мой черед. Но учитель биологии разочаровал меня, на мой вопрос он ответил, что любовь — не микроб и сама по себе чахотки не вызывает, что душевное состояние, вызванное любовью, и отсутствие хорошего питания расшатывают организм и делают его более подверженным всяким болезням, в том числе и чахотке.
В таком случае моя мама очень портила мне дело — я питался слишком хорошо, вся надежда оставалась на душевное состояние.
Помню, как однажды соседка наша сказала моей маме:
— Почему вы позволяете своему мальчику так много читать, это ненормально в его годы, может наступить переутомление…
О, как я тогда обрадовался, как возликовал.
У меня была нелёгкая юность. Моя мама тяжело болела, и я проводил у её постели долгие бессонные ночи.
Мама всё чаще говорила:
— Если я умру…
— Не говори так, мама.
Тёмное ночное небо в окне… Что я буду делать, если с мамой что-нибудь случится…
Начался новый учебный год.
Теперь и я вместе с остальными учениками нашей школы езжу на занятия и обратно на пароходе, но это не имеет уже для меня прежней прелести. Я стал взрослее.
Как-то я направлялся в школу, держа в руках маленькие фотокарточки: я снялся для каких-то документов. Вдруг ко мне подбежал Торос, выхватил одну карточку и передал своей сестре со словами:
— Отдашь Сона!
В ту минуту я не сообразил, хорошо это или плохо. Но через два дня ко мне опять подошёл Торос и насмешливо пропел мне в лицо:
— Сона очень рада, что ты её любишь, бедняжка не знала, не надеялась даже…
И тут я понял, что случилось непоправимое, такое, чего не должно было случаться. Ах, я дурак, думал я, мне давно следовало самому объясниться, — как же можно было так…
Теперь уже просто необходимо было написать ей письмо, рассказать, как её люблю и как мучаюсь. И я написал своё первое любовное письмо… на двадцати четырёх страницах. Кончалось оно довольно кротко: я хочу только одного, чтобы ты знала о моей любви и хотя бы холодно, хотя бы издали здоровалась со мной, и, если можно, прислала бы свою карточку — в обмен на мою…
Были приняты только первые два условия, о третьем не могло быть и речи. Я был счастлив как никогда и не понимал, что настал конец самому прекрасному, самому красивому периоду моей жизни. Я витал в облаках, и меня поспешили спустить оттуда. Прежде всего мои друзья. Сона не сумела стать всему противовесом и удержать меня в том неземном, переполненном чувствами и мечтами состоянии…
Я был беззащитным существом, брошенным в пасть жестоким превратностям, и если я нашёл свою дорогу среди всей путаницы жизни — стоит поблагодарить судьбу.
С тем же успехом я мог оказаться полным банкротом, пойти ко дну…
Христо стал преступником. Из меня вышел писатель. Могло быть и наоборот, не так ли?
Надеюсь, вы теперь понимаете, почему я люблю таких, как Христо? Их детство, и отрочество, и юность прошли в сложных ситуациях, в гуще жизни, и не их вина, что они погибли.
Им суждено было быть людьми искусства. А они стали преступниками.
Правда, между двумя этими полюсами пропасть, но…
Но ведь Христо с той же непримиримостью поверил в то, что существует на свете святыня, и он не сумел, не захотел поступиться этой верой. Христо потерпел поражение потому, что был неопытен, потому, что очень уж личная, очень субъективная была его «святыня».
Христо был простым и ясным человеком, наделённым большим сердцем. Он вырос в безнравственной, извращённой среде, как все мы, как я сам. Среда — это общественный строй, и единственным оружием против окружающей нас скверны была наша неистребимая вера в человека, наша юношеская бескорыстная любовь к жизни. Это моё глубочайшее убеждение, и нет надобности слишком долго распространяться об этом.
Было два пути для нас: либо валяться в грязи, либо вознестись к звёздам…
Моя несостоявшаяся «богемная» жизнь
Моей давнишней мечтой было завести собственную лодку, пусть даже маленькую — неважно, — но обязательно свою. Отправиться на этой лодке далеко в море и быть наедине с природой.
В Мраморном море было множество маленьких незаселённых островов. О, как я мечтал пристать к их поросшим мхом берегам, растянуться на прибрежных камнях и смотреть в синее-синее небо. Слушать шум волн и чувствовать запах соли. Больше всего на свете я любил природу — такую, как она есть, неприкрашенную, дикую. В такие минуты сердце моё готово было разорваться, всё мне представлялось тогда необычным и прекрасным, и воздух, казалось, был напитан любовью.
Как мне тебя недоставало, мой Христо!
Я боготворил две вещи — человека и природу. И людей я тоже любил, как природу, — таких, какие они есть, неприкрашенных… Но бывали минуты, когда даже природа казалась мне враждебной…
Да, моей заветной мечтой было завести свою лодку, и надо сказать, что таких сумасбродных, как я, во всяком случае, в дни моего отрочества, было немало.
Я нашёл себе товарища — мы сложили наши сбережения, упросили своих матерей не очень на нас сердиться и с шестьюдесятью золотыми отправились в Балат — и купили довольно-таки большую лодку, курсирующую до этого вдоль обеих берегов Воскеджура.
Самые радостные минуты, связанные с лодкой, были минуты, когда мы перегоняли её от Балата до Гнала, гребя попеременно.
Пригнали мы её и, счастливые и усталые, под завистливые взгляды друзей и знакомых вытащили лодку на берег.
А на следующий день, когда мы пришли к ней, солнце уже сделало своё дело. Впрочем, беду мы заметили, только спустив лодку на воду. Уставшая от многолетней работы, лодка эта словно бы нашла, наконец, повод «уйти в отставку». Она рассохлась под солнцем и сильно протекала. Хозяин её нас обманул…
И завистливые взгляды сменились улыбкой при виде наших торопливых попыток пристать обратно к берегу. Лодка наполовину была уже затоплена водой, и мы ладонями выплёскивали из неё воду, сконфуженные, красные от стыда и злости.
Одним из «несчастий» моей жизни было то, что чужие люди зачастую завидовали моим удачам и благам, не зная, какой горькой и дорогой ценой они мне достаются. Впрочем, все эти люди, если бы они только пожелали, могли иметь в тысячу раз больше этих самых благ.
Другим моим «несчастьем» было то, что я не умел пользоваться этими благами, достававшимися мне с таким трудом.
Скажем, мне нужны ботинки, я иду в магазин… «Дайте мне пару самых лучших, на ваше усмотрение» (что за кокетство, что за «ваше усмотрение»! ), и вот, пожалуйста, через два дня «лучшие» ботинки разваливаются. Я несу их к сапожнику, и новые ботинки в результате починки делаются старыми.
То же самое произошло и с лодкой. И теперь все мои знакомые, смеясь, называли её «Гегамова подводная». Для того, чтобы отремонтировать её как следует, нужна была куча денег, почти столько же, сколько она стоила. Несколько дней подряд я не мог заставить себя пойти на берег и обследовать, как следует «своё сокровище». «Гегамова подводная», — ах, как мне не везло в жизни. И когда десять дней спустя, мысленно уже видя лодку переделанной и обновлённой, я пришёл на берег, то увидел её… разобранной на дрова.
Мой друг, который оказался куда практичнее меня, продал лодку истопникам. На берегу печальным напоминанием о несбывшейся моей мечте лежали два одиноких старых весла.
Я подарил весла Торосу. Вдохновлённый моим примером, он тоже купил себе лодку, но совершенно новую и… за пятьдесят золотых.
Очень хорошая лодка была у Тороса. Он часто приглашал Сона кататься на ней. По вечерам, когда все высыпали на берег гулять.
Вот такая история произошла с моей лодкой. О, сколько же было смеху и сколько было отпущено шуток по поводу «Гегамовой подводной». Я смеялся вместе со всеми, но как горько мне делалось потом. Как горестно я оплакивал свою несостоявшуюся «богемную» жизнь…
Раздетая мечта
Как овладела Шамирам, убегавшим от неё Ара,
Так я овладел мечтой своей, убив её.
В. Текелян
…Хотя бы холодно, хотя бы издали здоровалась со мной — мне большего ничего не надо, и ещё пусть знает, что люблю её… Так я писал «своей» Сона.
Я не видел её уже несколько месяцев. И когда я наконец встретил Сона по дороге в школу, я почему-то отвернулся. Так мы и разошлись, не поздоровавшись, словно незнакомые.
Товарищи мои не оставляли меня в покое:
— Ну как, Гегам, целовались?
— В кино вместе ходили?
— Ну и как там у вас?..
— Нормально, — отвечал я на всё, закипая злостью и ненавидя их за циничные расспросы. Впрочем, высказывать вслух своё мнение по этому поводу я не решался. Я боялся, что надо мной станут смеяться. А мои сверстники не стеснялись, рассказывая про свои «любовные похождения». Был даже один мальчишка, звали его Арам, так тот вообще хвалился, что однажды в кино, сидя в ложе, он почти донага раздел свою девушку…
Раздел?.. Но зачем?.. Я недоумевал, я ровным счётом ничего не понимал.
Несвоевременно обнажённая девушка — это всё равно что «раздетая». Бесстыдно и безжалостно оголённая мечта, а «раздетая» мечта — не мечта уже.
Но, что греха таить, все эти рассказы передавались с таким жаром и темпераментом, что я невольно заслушивался ими.
Помню, был солнечный день. Мы с Арамом шли в школу, и вдруг навстречу нам показалась Сона.
— Иди, — толкнул меня Арам, — и назначай на завтра свидание…
Легко сказать — назначь свидание, я ведь даже и здороваться-то, как следует, не здоровался со своей возлюбленной. Если я сейчас не подойду, скандал на всю школу обеспечен. Нет-нет, надо было любым способом спасаться от насмешек Арама.
И, неизвестно откуда набравшись смелости, я громко поздоровался с Сона. Слава богу, она ответила улыбкой, заметно побледнев при этом.
Этого было достаточно, чтобы я совсем потерял голову.
Всё изменилось для меня в одну минуту. Земля, люди, школа. Я был полон любви ко всей вселенной. Даже Арам был мне теперь мил.
— Иди, дурак, — говорил он мне, — чего стоишь, назначай свидание… А грудь какая… иди же…
«Грудь какая…». Ну конечно, у неё должна была быть грудь, ведь она девушка. Но я никогда не думал об этом. Для меня Сона не была девушкой, она была моей любовью, моим счастьем, бальзамом к моему сиротству, моей литературе… всем.
Какое счастье — поступаться лучшими своими чувствами для того, чтобы не выглядеть смешным в глазах людей, ничего не понимающих в прекрасном!
Мы бываем в плену у таких людей… Пока ты, борясь каждую минуту, доплывёшь до берега и скажешь всем: «Погодите!» — бывает уже поздно. Всё несчастье в том, что человечество подчас представляют именно эти экземпляры рода человеческого, а в мире, где властвуют деньги, всюду они первые, так уж повелось.
Итак, я не задумываясь пошёл к Сона, чтобы не показаться ничтожеством в глазах товарищей…
Она ждала автобуса, как всегда. Я не посмел сразу подойти к ней. Так как она была в окружении подруг. Пришлось сесть в автобус. Он был полон народу. Я стоял как набитый дурак, зажав в руке деньги и два билета. И пока, набравшись духу, я наконец протиснулся к Сона, автобус был уже возле школы и Сона готовилась сойти.
— Куда это ты, Гегам?
— Я… пришёл сказать… Завтра буду ждать тебя у станции Гарпе, в час дня, — выпалил я и повернулся, пошёл, не дожидаясь ответа…
На следующий день я проторчал на станции Гарпе битых четыре часа.
Потом Арам всё приставал ко мне:
— Ну как, состоялось свидание?
— Состоялось.
— Хороша она телом?
— Хороша, великолепна.
— Ну, побалуйся немного, а потом уж мы примемся за дело…
Я дрожал от бешенства. И этот негодяй мог так говорить о Сона!.. А я… кто объяснит мне мою собственную подлость по отношению к девушке.
Я был обижен и в то же время втайне радовался, что Сона избавила меня от тягостной, неприятной мне «сцены» свидания.
Прошли месяцы. Я избегал встреч с Сона и даже ходил в школу другой дорогой. И горько сожалел о собственном бесстыдстве. Думал, что будет, если Арам возьмёт и расскажет ей о нашем с ним разговоре. Я уже хотел идти и просить прощения у неё, но не осмеливался.
И однажды вечером я встретил её.
Она держала в руках конверт. Я чувствовал, что Сона волнуется. На ней лица не было. Она сунула письмо мне в руки и убежала.
О, это непередаваемое волнение, пока я распечатывал конверт. Это было любовное письмо, она сама назначала мне свидание, в воскресенье. Обещала вместо церкви пойти со мной и просила не сердиться за то, что в прошлый раз не пришла. Просто у неё не было предлога, чтобы выйти из дому. А родители всегда знают, куда и зачем она идёт. Единственная возможность — это не пойти в воскресенье в церковь. Хотя и это, конечно, рискованно… Но всё же она должна встретиться со мной. И без того уже намучалась за эти месяцы. Первая ученица в классе, она перестала заниматься, стала посмешищем для всех. О, только бы я не сердился, не огорчался, она любит меня, вот и фото, которое она не дала мне тогда…
Я почувствовал себя ничтожеством. «Что же ты наболтал Араму про неё, отвечай теперь, — говорил я себе, — что же ты молчишь…».
За первым воскресеньем последовали другие — и так до лета. А летом мы не стали переезжать в деревню. Моя мама была очень больна. Мы сдавали наш дом жильцам и всё-таки очень нуждались. Я ездил на остров Гнал и давал там уроки ребятишкам наших знакомых.
После занятий я поднимался к голой вершине острова. Там стоял греческий монастырь с маленькой часовенкой. Я забирался туда и, задыхаясь от волнения, ждал Сона. И она приходила, непременно приходила.
Мы шли с ней на другую сторону острова, петляя по головокружительным и безлюдным тропинкам. Сона часто плакала. О, как я любил её и как невинны были наши прогулки.
Мы усаживались на каком-нибудь камне, устремив затуманенные счастьем глаза на далёкие горы.
Мы смотрели на парусники, на большие корабли, которые отплывали к безвестным и незнакомым берегам.
— Сона…
— Что?
— Можно я поцелую тебя?
— Нельзя…
— Почему?
Если ты поцелуешь и бросишь меня, я буду очень мучиться.
— Значит, ты не веришь мне?
И мы отворачивались друг от друга.
— Но я хочу тебя поцеловать. Если ты не позволишь, я не приду больше.
— Нельзя.
И, рассердившись, я в самом деле не приходил в следующий раз на условленное место.
Но спустя несколько дней, горько раскаиваясь, со слезами на глазах бежал туда, чтобы вымолить прощения себе. Она рукой закрывала мне рот.
Но дай мне сказать! — говорил я. — Ты же не знаешь, что я хочу сказать!
— Знаю. Ну хорошо, скажи, скажи…
— Нет, ты сама то-то хотела сказать…
— Почему ты не поцеловал меня в прошлый раз?
— Но ты не позволила.
— Ну так целуй теперь, целуй скорее!
И она сама прижималась ко мне и целовала меня в губы…
Прекрасные эти поцелуи, они были выражением невинной юношеской преданности друг другу. Мне тогда казалось, что мы владеем всем светом. Такая любовь в нашей среде была явлением, по крайней мере, непривычным. Мои товарищи слишком часто меняли свои «любови».
— Ты что, попал к ней в сети? — спрашивал Арам.
Все говорили о нас с Сона. Я был, по общему мнению, «расточительным, проматывающим отцовское наследство, гоняющимся за безделицами в жизни и слишком рано начавшим грешить юношей».
«Бедняжка, — говорили про Сона, — совсем он ей вскружил голову, шатаются в горах с утра до вечера».
И однажды мать Сона позвала меня к себе.
— Мальчик мой, — сказала она, — я знаю тебя, ты кажешься мне честным человеком, но ты понимаешь, эти разговоры… Видишь, я до сих пор молчала, но теперь вынуждена вмешаться. Тебе нельзя больше видеться с Сона. Если узнает её отец, будут большие неприятности. Ты сейчас иди и, если действительно любишь Сона, подумай о своём будущем.
— …Но это вопрос нескольких лет, мадам.
— Потому я и хочу, чтобы вы расстались, а то и так уже бог знает что говорят. Если бы знала обо всём, я бы не позволила вам так далеко зайти…
— Но мы… только любим друг друга, мадам, и больше ничего.
— Больше ничего? — повторила она как-то странно.
— И потом Сона…
— Насчёт Сона я всё сама решу. Я не хочу говорить об этом с твоей матерью, но если ты будешь упрямиться, мне придётся это сделать.
Через некоторое время я встретил Сона на улице.
— Мы должны встречаться, Сона.
— Невозможно, — сказала она, — подождём немного, потом поженимся.
— Поженимся?.. Но ведь это так нескоро — надо учиться, потом военную службу пройти…
— Я люблю тебя и буду любить всегда.
— Но мы должны встречаться!
— Невозможно…
И почему-то я радовался всему, что она говорила, даже тому, что нам больше нельзя встречаться. Если ей так кажется — значит, это правильно.
Воспоминания, связанные с Сона, более чем отвечали моим идеалам любви и жили во мне ещё долгие годы. К сожалению, это был обман, как являются обманом все сильно идеализированные вещи.
Наше материальное положение ухудшилось. Моей матери было совсем плохо, и я просто нуждался в любви и сочувствии. Я опять стал «украшением» роберовских вечеринок. Каждый тут имел свою «партнёршу». Только я один держался обособленно, держался со всеми как общий друг. Но однажды в моё одиночество вторглись, и я бы не сказал, что был недоволен этим.
Её звали Матильда. Интересная, высокого роста и… с красивой грудью. Она недавно рассталась с возлюбленным и теперь хотела «забыться».
Всё это было навеяно американскими фильмами, и, как следует из этих фильмов, я был призван помочь ей «забыться» и забыть «старую» любовь. Во всяком случае, таково было общее мнение моих товарищей, мнение, высказываемое с нескрываемой завистью.
Ну а чем она являлась для меня? Неискушённое моё сердце признавалось мне — ничем. Просто девушкой.
Во время очередного танца она спросила меня:
— Ты любил кого-нибудь?
— Я?
— Да.
— Нет…
— Ты говоришь неправду.
— Почему же?
— А Сона? Эта маленькая школьница?
В голосе её была насмешка. И я ответил, как опытный ловелас:
— Всё это в прошлом.
— Сона дружит с моей сестрёнкой, она просила спросить у тебя, любишь ли ты её по-прежнему. И знаешь, что она сказала? «Он мой, что бы ни случилось».
— Вот как?
— Да. Что передать ей?
И почему-то я сказал:
— Скажи, что я люблю тебя.
И выключил свет в комнате. Так было принято в этой компании. Я почувствовал, как губы её приблизились к моим.
— Мы, — сказала она, живём на Большом острове, у нас своя вилла, приезжай на будущей неделе. Я буду ждать тебя в пятницу с двухчасовым пароходом.
В пятницу я отправился на Большой остров. Я не волновался, напротив, какая-то решительность владела мною.
Она встретила меня почти голой — так одевались дочери богачей на Большом острове. В одних шортах и бюстгальтере.
— Погуляем немножко, — сказала она, — пройдёмся к кедрам.
Теперь сердце моё громко билось, какая-то волна поднималась в моём теле, и ладони у меня горели.
И когда мы дошли до кедровой аллеи, губы у меня совсем пересохли и дыхание перехватило. Мне ужасно хотелось пить. Мы присели на сухие кедровые ветки. Это был пустынный уголок, скрытый от людских глаз. И только птичьи голоса нарушали тишину.
Привычным, свободным движением она положила голову мне на колени и, взяв мою руку, прижала её к своему обнажённому животу.
Это прикосновение, первое прикосновение к женскому телу, заставило меня вздрогнуть. Она усмехнулась:
— А как была Сона — ничего?
Мне тут же захотелось встать и уйти.
— Сейчас, — сказал я, — не время говорить о ней.
— Что ты намерен делать? — спросила она с вызывающей улыбкой.
Я, чтобы совладать как-то с собой и выиграть время, растянулся рядом на кедровых ветках.
— Какой ты, — сказала она, — рассердился, да? Извини меня, я не хотела тебя огорчить.
Инстинктивно рука моя потянулась к её груди.
— Нет, — сказала она приглушённым и изменившимся голосом, — нет, глупостей не будет.
— Я тебя поцелую, можно?
— Об этом не спрашивают, — сказала она, — это делают.
Я больше ничего не говорили, грубым движением рванул застёжку у бюстгальтера, порвал его.
— Там ещё один, — еле слышно сказала она.
Рука моя теперь лежала на её груди, на тонком шёлковом лифчике.
Я положил голову ей на грудь, потом поцеловал.
Она вдруг вскочила со смехом.
— Нет, — сказала она, — это уже слишком.
Я тоже вскочил и побежал её догонять. Нога у Матильды поскользнулась, и, тяжело дыша, она упала навзничь. Я уже не владел собой. Я дёрнул её за шорты, одна из пуговиц сломалась, другие расстегнулись сами.
— Нет, нет, — взмолилась она, не двигаясь с места.
А потом губы мои целовали её тело, а она, обхватив рукою мою голову, тяжело дышала…
— Целуй, ещё целуй…
Её горячее обнажённое тело совсем парализовало меня. Я видел, что глаза Матильды всё ещё закрыты. Она приоткрыла их и прошептала:
— Целуй же…
Теперь эта обнажённая девушка казалась мне чужой и незнакомой, и я не понимал, что я тут делаю, почему я тут очутился, зачем…
— Злой, — сказала она вдруг, — ты сделал мне больно. Я расскажу про всё Сона.
Я мгновенно отрезвел. Тут же встал и отошёл от неё на несколько шагов.
Какая-то пустота завладела мной, и сожаление, мучительное сожаление не отпускало меня. И всё это не имело никакого отношения к той, которая «одевалась» сейчас и просила меня тихим голосом застегнуть ей пуговицы на лифе.
Ясно одно: мне было нанесено страшное оскорбление… мною же…
— Когда ты придёшь? — спросила она деловым тоном.
— Посмотрю, — ответил я, — тебя ведь нетрудно разыскать.
— Что, — сказала она, — маленькая школьница была лучше?
Возвращаясь на пароходе. Я смотрел кругом, и всё виделось мне чужим. Даже заход солнца показался лишённым своего величия, и солнечные лучи, отразившись на далёких куполах мечетей, напомнили мне, что я нахожусь в Турции. Какая была между всем этим связь?
Спустя много лет, читая «Детство» Горького, я натолкнулся на строки, вызвавшие у меня слёзы, строки, которые определили мои чувства, обрекли их в мысль. В них говорилось об истинной, человеческой и прекрасной любви.
«Маленькая школьница», как я тебя любил!
Спичечный коробок
Это был студент университета, с которым свёл меня случай. Жизнь моя вообще многим обязана случайностям…
Через год он кончал университет. Математический факультет, и был лучшим студентом на курсе.
— Я слежу за тем, что ты пишешь, — сказал он как-то, — ты мог бы стать настоящим писателем. Если бы отнёсся к этому серьёзно и продумал свою жизнь, свои идеалы.
— Мои идеалы, — ответил я высокопарно, — человек, природа, море…
— Прекрасно, — сказал он, — тогда что же ты думаешь о счастье человеческом?
— Надо, чтобы все были счастливы.
— Вот и хорошо. Ну а сам ты счастлив?
— То есть?..
— Я хочу сказать, как ты живёшь, как ты мыслишь своё будущее, прежде всего?
— Я стану юристом и писателем.
— Не возражаю, а где ты возьмёшь средства для этого?
— Я не думал об этом.
— И что же?
— Я постараюсь стать писателем, если не смогу продолжать учёбу.
— И ты думаешь, литература тебя прокормит?
— Пойду в учителя.
Он смеялся.
— Сдаётся мне, — сказал он, — не знаешь ты жизни. Учительство позволит тебе кое-как влачить существование, да и то если ты будешь покорным и тихим учителем. О желудке своём необходимо позаботиться хотя бы ради литературы.
Да, желудок становился проблемой.
— Возьми себя, — продолжал он, — думаешь, ты сможешь быть счастливым, если на руках у тебя будет голодающая семья? Хотел бы я знать, чем ты будешь кормить её — небесами или, быть может, луной?..
Странные были вопросы, посыпавшиеся на меня.
— Если, — сказал он, — ты действительно хочешь посвятить себя литературе, надо тебе поразмыслить о счастье, о своём счастье и о счастье всех людей.
— Но что мне для этого надо делать?
— Ты, дорогой мой, должен многое прочитать, прежде чем самому писать, — это, во-первых. И ты обязан понять жизнь. Вовсе не лёгкое дело быть писателем.
Никто до этого так не разговаривал со мной. Вначале я было невзлюбил его.
— Вот, — сказал он, — почитай, потом поговорим.
Он дал мне книгу Сапаато Али «Гахны Сэс», и это была первая серьёзная книга, которую я прочёл.
Потом я прочитал «Фонта-Маре» Игнацио Дзилоне, «На западном фронте без перемен» Ремарка. Эту последнюю книгу я читал не отрываясь, забыв про день и ночь. Потом были «Гроздья гнева» Стейнбека, его же «О мышах и людях» и другие… не менее интересные произведения. Тогда же я узнал русских классиков и прочёл Горького и Шолохова.
Русские писатели были особенные, и книги их тоже были особенные. Русские книги нельзя было читать быстро, они заставляли задуматься. Русский роман был так же велик и необъятен, как необъятна земля, как необъятно сердце его народа.
И когда я теперь перечитывал свои рассказы, мне становилось стыдно. Какая всё это чушь, и каким же я до сих пор был дураком. Я поумнел не по дням, а по часам, и во мне росло чувство собственной беспомощности. Я не был писателем, писателями были они, чьи книги исправно приносил мне мой новый друг. И откуда он свалился мне на голову!
— Я не могу быть писателем, — сказал я ему однажды.
— Почему?
— Всё, что я писал, — пустое…
— Я рад за тебя, — засмеялся он, — теперь я верю, что ты станешь писателем.
— Непонятный ты человек, я тебе говорю, что не умею писать.
— Уметь писать трудно, — возразил он, — но мне нравится твоё критическое отношение к себе. Никогда не поддавайся пустым похвалам. Литература — это борьба, в которой многие пробую себя. Ведь каждый из нас в детстве пишет сочинения. А ты знаешь, существуют писатели, чьё творчество мало чем отличается от уровня школьных сочинений. Особенно в нашей неразберихе их развелось столько, что хоть пруд пруди. Но не думай, что от них что-то останется. В литературу можно прийти, лишь наметив себе определённый путь.
Непростая у меня начиналась жизнь…
— Ты когда-нибудь слышал о Степане Шаумяне? — спросил он у меня однажды.
— О Степане Шаумяне?.. Нет.
— Я потом расскажу тебе о нём, — сказал он, — а пока я хочу, чтобы ты знал, что сказал о литературе один из великих сынов армянского народа Шаумян: «Литература — храм, в который можно входить только с чистой совестью и честными помыслами; когда же в этот храм входят люди корыстные и лицемерные, с мелкими честолюбивыми желаниями, то это величайшее преступление против народа».
— Что это значит? — спросил я оскорблённо.
— Я не говорю, что ты сознательно идёшь на поводу у своего тщеславия, нет, — ответил он, — но так может случиться, если в работе твоей не будет направленности и цели.
Литература, казавшаяся мне лёгким и праздничным делом, обернулась теперь чудовищем, страшным и привлекательным одновременно. Это было как наваждение. Я стал неспокойным, я почти заболел. Не знал, что делать. И вывел меня из этого состояния Горький.
Простые и близкие моему сердцу произведения Горького помогли мне обрести покой.
«Вот ведь, — думал я, — благодаря своей воле он достиг всего, не закончив даже начальной школы, его университетом являлась сама жизнь». «Да, Горький, — титан, но ничего, надо много работать, — говорил я себе, — может, что-нибудь и получится…»
Я читал рассказы Горького, и душа моя витала где-то над бескрайними степными просторами России.
В одну из наших встреч мой товарищ из университета сказал:
— Ты никогда не думал, что на свете живут люди, как бы родившиеся для страданий, и есть такие, будто у них на роду написано быть счастливыми.
— Да, а почему?
— Потому что жизнь у нас признает только два вида людей: тех, кто гнёт спину, и тех, кто умеет пользоваться их трудом. Вот возьми этот спичечный коробок, — и он вынул из кармана коробку спичек. — Вначале он не представлял собой никакой ценности или был сырьём, цена ему, предположим условно, равнялась единице. Но его сделал рабочий, и тогда он получил новую ценность — цена его, скажем, стала равняться пяти единицам. Дальше. Что делает фабрикант? Он покупает этот коробок у рабочего за пять курушей и продаёт его нам за шесть, взяв у нас, таким образом, один куруш, или продаст его нам за пять курушей, но обкрадывает на один куруш рабочего, заплатив ему не пять, а четыре куруша. Этот простой пример может служить схемой для всех взаимоотношений человеческих, и в результате мы увидим, что существуют миллионы обкрадываемых людей. Понимаешь?
— Правда.
— Ещё бы не правда. А теперь представь такой строй, при котором людям не приходится лгать и работа вознаграждается сполна.
— А как же фабриканты?
— К чертям фабрикантов! Знаешь, какую прекрасную жизнь можно было бы создать на земле, отобрав у них их миллионы…
— Что же делать?
— Бороться, чтобы изменить всё.
— Вдвоём?
Мой друг рассмеялся:
— Хочешь, мы будем чаще с тобой видеться?
— Хочу.
— У тебя есть друзья?
— Да, конечно.
— Вот что мы сделаем, — мы будем собираться вместе и учиться, как надо бороться.
Бороться?.. Мне это понравилось.
— Хорошо, — сказал я со всей искренностью, — у меня сохранилось отцовское оружие, а у одного из наших парней есть великолепный нож; скажу, чтобы он прихватил с собой.
Он с трудом сдержал улыбку.
— Ладно, — сказал он, — валяйте, но надо соблюдать тайну, нельзя болтать…
Это уже становилось совсем интересно. Сразу вся моя жизнь до этого показалась мне бессодержательной и никчёмной, и отношения с Сона и Матильдой тоже…
Что ж, случай играл свою роль в моей жизни. Я познакомился с коммунистом, вернее — он сам разыскал меня и терпеливо стал учить, не высмеяв меня даже за детское предложение обзавестись «для борьбы» ножами…
И начались наши систематические встречи со студентом. Мы ещё не понимали, что происходит с нами. Мы только чувствовали, что безграничные горизонты раскрываются перед нами, и юношеские мечты постепенно обретали облик ясный и земной. Но однажды, однажды из газет мы узнали о массовых арестах. Среди множества турецких имён было армянское имя, поразившее нас. Имя нашего друга-студента. Он обвинялся в активной деятельности в рядах турецкой компартии и был приговорён к трём годам тюремного заключения.
Но всё равно мы не понимали серьёзности всего происходившего, мы только удивлялись, почему арестовали человека, который хотел всем счастья.
Как наивны мы были. Мы не понимали, какое тяжкое, какое высокое это «преступление» — любить людей и посвятить себя борьбе за их счастье.
Большинство моих товарищей отошло после этого случая от меня. Со мной остался только один. Но я знал уже, что мне надо делать, я чувствовал себя сильным, и одиночество меня не пугало.
И опять, как прежде, бродил я по пустынным улицам. Бродил и думал, как мне жить дальше. Школьные занятия приходили к концу. И я решил, во что бы то ни стало учиться и поступить летом на юридический факультет университета.
А литература… литература стала моим любимым, моим каждодневным занятием — моим досугом, моим отдыхом, моими буднями.
Гой лу-лу!
Хочу и я иметь
Чернокожих друзей —
С именами непривычными,
С именами неслыханными.
С ними вместе
Хочу пройтись
С острова Мадагаскара
До далёкого Китая.
Хочу, чтобы один из них,
На мостик встав корабельный
И глядя на звезды,
Пел бы своё «Гой лу-лу»
В каждые сумерки,
Каждый день…
И хочу однажды
Встретить кого-нибудь из них
В толпе парижан.
Рубен Севак
Жизнь обрела для меня смысл. Были минуты, когда я чувствовал, что я способен выдержать лишения и нищету ради высоких идей, — пусть простит мне читатель эти «громкие слова».
Моим единомышленником теперь был тот самый товарищ, который не бросил меня, когда распался наш кружок. Мы часто бродили с ним по улицам. И как некогда с Сона, так и теперь с Ваче мы во время наших прогулок молчали. Мы понимали друг друга без слов, и хотя дружба наша не была скреплена никакими обещаниями, каждый из нас понимал, какая это была бы утрата для нас лишиться друг друга.
Ваче был племянником Рубена Севака. Он посещал немецкую школу и до безумия любил литературу.
Отец его объяснялся исключительно на турецком языке и имел ферму далеко в горах. Ваче часто дарил мне свои прочитанные книжки. В них я всегда находил помеченные карандашом места. Иногда возле пометок стояли цифры — 0, 10, 5, 6 и т. д.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.