
«История — это союз между умершими,
живыми и еще не родившимися»
Э. Бёрк
К читателю
За суетой повседневности мы не замечаем, как бежит время, а вместе с ним и история. Конечно, проживая определенный период времени, человеку трудно осознать, что настоящее когда-нибудь станет историей. Но это неизбежно, ибо история, как и время, бесконечна.
Неотъемлемой частью исторического знания было и остается краеведение, позволяющее на описании тех или иных событий прошлого, пусть даже и ничтожно малых, воссоздать полную палитру глобальных исторических процессов и явлений. Не всегда, кстати, краеведение укладывается в официальные исторические аксиомы, заставляя всматриваться в прошлое под иным, отличным от провозглашенных доктрин, углом зрения.
В жизни каждого краеведа рано или поздно наступает момент, когда накопленный багаж знаний и открытий, пусть даже и небольших, начинает требовать выхода этой информации к людям. Он может быть разным — статья в местной газете, выступление на какой-нибудь конференции, издание книги… Увы, последнее встречается нечасто в связи с личными финансовыми затратами авторов. Но не зря краеведов некоторые обыватели считают странными людьми. Вот и ищут они способы издавать свои книги.
Перед вами, уважаемые читатели, одна из таких книг. В ее основу легли разноплановые краеведческие работы, написанные в разные годы. Часть из них публиковалась и ранее, но некоторые материалы увидели свет впервые.
Буду искренне рад, если эта книга вызовет в читателях желание больше узнать историю своей малой родины, прикоснуться к прошлому родных поселков и городов, стать сопричастными к былому своих родовых корней.
А. В. Шалагин
Блеск и нищета Аркаима
«Вот здесь я закладываю прочное жилище.
Да стоит оно в мире, кропя жиром!
Да войдем мы в тебя, о жилище,
Со здоровыми мужами, с прекрасными мужами,
с невредимыми мужами!
Вот здесь стой прочно, о жилище,
Богатое конями, богатое коровами, богатое радостями…»
Атхарваведа (III, 12)
…Огненный диск светила, уставшего обогревать бескрайнюю равнину, замедляет свой ход и перед тем, как окончательно уйти на покой, замирает на какое-то мгновение над горизонтом. Где-то высоко-высоко в небе допевают свою песню жаворонок. Утомленные стада бредут к своим домам. Пройдет совсем немного времени и на степь ляжет ночная прохлада, успокаивая и убаюкивая натруженную землю. Так есть, и так было. И сто, и тысячу лет назад. Великая равнина познала великие народы, каждый из которых оставил на этой земле свой след…
Ты помнишь, как все начиналось?
Об Аркаиме за те 20 лет, что прошли с момента его открытия, написано немало. И сегодня уже трудно различить, где в этом море публикаций действительно революционные научные гипотезы, а где околонаучная шелуха, которая прилипает всегда, когда речь заходит об открытиях мирового масштаба.
Сегодня общепризнанной аксиомой считается имя ученого, открывшего для человечества Аркаим — Геннадий Зданович. Однако, если придерживаться точной хронологии событий 1987 года, следует вспомнить имена двух подростков, двух Сашек: Воронкова и Езриля. Именно эти парнишки обратили внимание археологов на странную гряду посреди степи. Уже позже станет очевидным, о гигантском колесе явно искусственного происхождения, затерявшемся на самой южной оконечности Челябинской области, лет за 20 до официального открытия Аркаима знали и военные, и строители. Но, как это нередко бывало в те годы, результаты аэрофотосъемки были засекречены.
В наши дни многие склонны считать сам факт открытия на Южном Урале протогорода своеобразным чудом. И дело тут даже не в значимости сенсационной археологической находки. В 1987 году государственная машина, которая никогда до этого не останавливалась перед какими-то абстракциями ученых, вдруг затормозила и пошла на попятную. Работы по возведению плотины на реке Караганке и водохранилища, призванного напоить живительной влагой прилегающие совхозные поля, были остановлены, а потом и вообще свернуты. Аркаим был спасен от затопления, хотя тогда никто из ученых даже и предположить не мог, какие открытия ждут их впереди.
…Итак, в 1987—91 годах в южноуральском захолустье был раскопан целый комплекс строений, датированный археологами XVII — XVI вв. до н. э. Удивление и восхищение ученых вызвал не только возраст находки, но и ее конструкция. Никогда раньше археологам не удавалось обнаруживать целый город, состоящий не из отдельно стоящих домов и сооружений, а город как единый комплекс, где наружная крепостная стена одновременно служила и стеной многочисленных лепесткообразных «квартир», располагавшихся по всей окружности города.
С высоты птичьего полета раскопанный комплекс походил на громадное «колесо» диаметром 145м. Внутри наружного обода располагалось еще одно кольцо, составляющее основу внутреннего ряда жилых помещений. По утверждению ученых, весь этот комплекс был покрыт одной общей крышей за исключением главной «улицы» и центра, где находилась городская площадь.
И нарекли его Аркаимом
В специальной литературе обнаруженный доселе неизвестный науке вид древней архитектуры назвали протогородом и даже квазигородом синташтинской культуры. А для людей, далеких от археологии, это место стало Аркаимом. Именно такое звучное имя носит близлежащая к раскопу сопка.
О названии комплекса следует сказать особо. И по сей день не утихают споры (заметим, нередко к чисто научным лингвистическим дискуссиям присоединяются и националисты всех мастей) об истинном значении слова «Аркаим». Башкиры считают, что основу названия составляет родное для них слово «арка», означающее хребет, спину или основу. Славянистам за названием Аркаима видится образ древнего божества в облике медведя (арк (др. слав.) — медведь). Все эти споры теряют всякий смысл, если вспомнить хронологию исторических событий, протекавших здесь на протяжении тысячелетий.
Протогород бронзового века был возведен почти 4000 лет назад. Просуществовал он относительно недолго: 150, максимум 200 лет. Названия же здешних (как, впрочем, и многих других) географических объектов появились значительно позже, в VI в. н. э. И эти названия — тоже памятники, но только другой эпохи. Эпохи тюрков. Зычные и протяжные тюркские слова прочно закрепились в топонимике географических объектов на громадной территории от Алтая до Волги. Эти названия в видоизмененном виде дошли и до наших дней. Аркаим — одно из них.
А вот как называли свой город сами «аркаимцы», никто не знает. Как, впрочем, никто сегодня не может точно сказать, какой народ основывал Аркаим? Откуда пришли на эти земли основатели города и куда исчезли? И самое главное, почему люди покинули обжитые места?
Троянский конь — забава молодых
Ученых, раскопавших протогород, удивила скудность обнаруженных артефактов. Сколько-нибудь ценных предметов на раскопках найдено не было. Так, одна мелочь: осколки керамической посуды, каменные формы для выплавки меди и бронзы, немного домашней утвари и все. Складывалось впечатление, что «аркаимцы» попросту оставили свой город, предварительно забрав из него все самое ценное и необходимое. Анализ грунта показал, вся конструкция города, построенная из дерева, глины и дерна была сожжена. Но кем? Агрессорами, под натиском которых «аркаимцам» пришлось срочно покидать обжитые места? Однако следов разрушений, свойственных осаде крепостей, обнаружено не было. Может быть, город сожгли сами таинственные обитатели Аркаима? Кто знает, может быть именно верховный жрец таинственного племени, исповедывающего культ огня, поднес к стене родного города пылающий факел? Теперь об этом не скажет никто.
Однако, с уверенностью можно сказать, обитатели протогорода были представителями древней цивилизации, ни в чем не уступавшей городам крито-микенской культуры и даже в чем-то превосходящей ее. Аркаим на целую тысячу лет старше легендарной Трои, воспетой Гомером. И этот факт не может не вызывать восхищения знаниями и умениями «аркаимцев» — они владели секретами металлургии, познали закономерности астрономии, успешно вели строительство, которое без математических расчетов было немыслимо. Чего, например, стоит обнаруженная в Аркаиме система «центрального отопления», когда горячий воздух из многочисленных металлургических печей поступал в специальные воздуховоды и отапливал жилые помещения? Или сложная система ливневой канализации, эффективности которой могли бы позавидовать и некоторые современные города.
Уже считается общепризнанным фактом: Аркаим помимо прочего сооружался и как обсерватория для наблюдения за небесными светилами. И это обстоятельство ставит его в один ряд со знаменитыми Стоунхенджем, пирамидами египтян и ацтеков. Но в отличие от «сородичей», где местом наблюдения за Солнцем и Луной служило отдельное сооружение, Аркаим весь целиком выполнял функцию обсерватории. Владели ли астрономическими знаниями все жители города или это были тайные познания только местных жрецов, наверное, уже и неважно. Сам факт обнаружения одной из самых древних обсерваторий в южноуральской степи говорит о многом.
Открытие Аркаима и других сооружений синташтинской культуры перевернули столетиями формировавшиеся представления о степи, как задворках человеческой цивилизации. Стало очевидным: не Средиземноморье, а точнее не только Средиземноморье, было колыбелью многих современных народов.
Маленькая страна
…Оставим на время Аркаим и оглянемся вокруг. На протяжении многих тысячелетий громадная территория между южными отрогами Уральских гор и северного побережья Каспия служила естественным «коридором», позволявшем народам совершать свои переселения. Именно поэтому в «коридоре» обнаружено громадное число археологических памятников различных эпох и культур. Случайно или нет, но Аркаим располагается практически в самом центре своеобразного пантеона, возведенного в степи древними народами на протяжении тысячелетий. Саки, скифы, сарматы, юэчжи, аланы, гунны, тюрки… Путь этих народов проходил мимо стен покинутого Аркаима и подобных ему городов.
По современным представлениям Аркаим был составной частью системы больших и малых поселений, образующих некий союз — прообраз ранней государственности. Синташта, Устье, Куйсак, Аланды, Берсаут, Кизил… — это «собратья» Аркаима, обнаруженные на Южном Урале в последнее десятилетие. Все они — составная часть феномена, получившего название «Страны городов». Нигде в мире больше нет места, где бы обнаруживалась такая высокая плотность поселений бронзового века. Сегодня в этой «стране» уже около двадцати «городов» и с полсотни «деревень». И сколько их еще будет?
Эту «страну» не найти ни на одной географической карте. Однако, ученые уже определили ее четкие границы и размеры. Немного-немало «Страна городов» занимает площадь 60 тыс. квадратных километров — вполне приличные размеры для древнего государства.
Обнаруженные «города» служили своеобразными центрами экономической и духовной жизни для всего населения «страны». В случае опасности за городскими стенами могли укрыться соплеменники, проживающие в «деревнях», коих в окрестности городов было немало. Места в городах хватало всем. Ведь площадь одной городской «квартиры» достигала 150 -180 кв. м. Возможно, древние города выполняли и своеобразные функции административных центров. Эдакие сельсоветы бронзового века. А коли существовало государство, должна была быть и столица. Только где она?
Истинные арийцы
Если взглянуть на макеты Аркаима, сконструированные современными мастерами по результатам раскопок, то невольно ловишь себя на мысли: эту картинку ты где-то уже видел. Два круга, в центре — квадрат… Да это же Мандала! Символическое изображение представления древних людей об устройстве гармоничного мира.
А стоит попытаться соединить все городские ворота, а их было 4, и они были ориентированы строго по сторонам света, с центром городской площади, то невольно можно отпрянуть от полученного рисунка. Вам в лицо смотрит… свастика, символ Солнца многих древних народов, в том числе и легендарных арийцев.
Поначалу многим казалось, что с открытием Аркаима поставлена точка в многолетнем споре историков о прародине древних ариев. Газеты с подачи ура-патриотов запестрели броскими заголовками, мол, прародина арийцев найдена на Южном Урале… Конечно, в такое приятней было верить. Но нужно отдавать себе отчет в том, что Аркаим и «Страна городов» — очень важное, но всего лишь звено в тысячелетней истории арийцев, положивших начало многим народам Евразии.
То, что основателями Аркаима были арийцы, теперь сомнений ни у кого не вызывает. Однако, вопросы об их появлении здесь остаются.
Сооружения, подобные Аркаиму, были обнаружены в районе Большой излучены Евфрата. Именно там предположительно и располагалась прародина ариев. До сих пор в этих местах живут их потомки — курды. Однако, арийцы — лишь одна из ветвей многочисленных индоевропейских племен, которые еще в эпоху неолита начали свою миграцию из Передней Азии в Европу. Арийские (индоиранские) племена отправились в «странствие» значительно позже. Они уходят из Восточной Анатолии на юг около III тысячелетия до н.э., формируясь на ходу в особую племенную общность. Ввиду отсутствия у индоевропейцев в этот период письменности, сведения об этих событиях очень скудны.
Однако вскоре упоминания о таинственных ариях начинают появляться в литературных источниках древнего Двуречья. В эпических песнях царя Саргона говорится о неком «воинстве Манда».
На стыке III и II тысячелетий арийцы устремляются в Египет и порабощают его. Примерно в это же время их собратья двигаются в Среднюю Азию, овладевая Маргианой и Бактрией (территория южного Узбекистана и северного Афганистана). Закрепившись здесь, они в XVIII веке до н.э. начинают захват полуострова Индостан. Первой пала блестящая хараппская цивилизация в долине Инда.
В более поздних индоарийских гимнах «Ригведы» и в иранских текстах «Авесты» нашли свое отражение легенды о прародителе Яме, который вел ариев на юг:
«Яма первым нашел наш путь.
Это пастбище назад не отобрать,
Где некогда прошли наши отцы,
Там живые найдут свой путь».
А в это время севернее другие арийские племена проникли в Иран, дав начало народностям медян и персов. Часть племен пересекает Закавказье и, перевалив через Большой Кавказский хребет, устремляется через Восточную Европу на Урал.
Общеизвестно, что еще раньше арийцев в здешних краях жили древние финно-угорские племена, которые под натиском воинствующих пришельцев ушли на север.
Территория, освоенная ариями на севере, непрестанно росла. На западе она достигает Днепра, а на востоке Енисея. Северные окраины владений урало-сибирских арийцев достигают таежной зоны. Южная граница проходит по территории Северного Казахстана.
Однако, империя «северной» ветви арийцев постепенно приходит в упадок. Это весьма красноречиво подтверждается оскудением некогда пышных захоронений. Погребение арийцев уже не сопровождается наблюдавшейся ранее укладкой в могилу колесниц, жертвенных коней и оружия. Причин обнищания некогда богатейшей империи было несколько. И одна из них — резкие климатические изменения, сопровождавшиеся морозами и снегопадами. Часть арийцев, ассимилировавшихся с финно-угорскими племенами, остается на Урале, приспосабливаясь к суровым условиям, а вот основатели Аркаима сожгли свой город и двинулись к югу.
Продвижение боевых колесниц «северных» ариев в более теплые края поначалу было относительно успешным. Но наступил момент, когда их армада уперлась во владения своих братьев по крови, ранее обосновавшихся в Средней Азии. Так произошло первое столкновение Ирана и Турана. Битвы были кровопролитными, о чем находится немало подтверждений в литературе различных народов:
«Небывалое, приводящее в трепет поле
превосходной богатырской битвы,
костями и волосами устланное,
залитое потоками крови:
Много тысяч тел там лежало повсюду…»
Тот город, которого нет
Человек, знающий об истории Аркаима, но впервые попавший сюда, скорее всего, испытает нешуточное разочарование. Никаких развалин и громадных раскопов сегодня здесь нет. На удивленный вопрос: «А где же Аркаим?» вам ответят, что раскопанный город… закопали обратно. Современная наука, увы, пока не придумала способа, как сохранить древние изваяния, сооруженные из дерна, глины и дерева, от пагубного влияния дождя и ветра.
Но, может быть, когда-нибудь древний Аркаим будет реконструирован во всем своем величии. И тогда можно будет пройти по его главной улице, заглянуть в его многочисленные жилые помещения, посидеть у жертвенного костра… В это хочется верить. Ведь сегодня Аркаим — это историко-культурный заповедник, где небезуспешно реконструируются сооружения различных исторических эпох и культур.
А пока многочисленным туристам здесь предложат полюбоваться древними жилищами финно-угорских племен, воочию увидеть усыпальницу сарматов — легендарный Темир-курган. Не меньший интерес у туристов вызовут и казачья усадьба, и рассекающая аркаимское небо ветряная мельница. А если повезет, то можно посетить и археологические раскопки многочисленных захоронений, которые ведутся неподалеку.
Однако, и это особо бросается в глаза, Аркаим постепенно превращается из научно-исследовательского центра в отчетливо выраженный бизнес-проект. Бренд «Аркаим» сегодня уже неплохо раскручен. И на нем делаются деньги. За 1500 рублей вас могут «прокатить» на дельтаплане. Правда, обалдевшему туристу в полете будет не до созерцания здешних красот. Все уходит в ощущение восторга и страха от самого парения.
За умеренную плату уже на земле можно приобщиться к эзотерическим знаниям, прикупив кучу всякой оккультной макулатуры, обещающей вылечить все ваши хвори…
Это нужно видеть! По крутому склону Змеиной сопки (при молчаливом согласии ученых «эзотерики» переименовали ее в гору Шаманку) поднимаются согбенные старухи, жаждущие обретения вечной молодости. Оголтелые родственники тащат на сопку инвалидов-колясочников…
Особым спросом у людей XXI века пользуется «гора Любви» (тоже выдумка бизнесменов от науки), где исцеления ищут импотенты. Странное дело, на эту самую гору «восходят» и стар, и млад. Говорят, особым эффектом эта гора обладает в полнолуние. Так это или нет, никто не скажет.
А еще в «Аркаиме» (специально беру это слово в кавычки, нынешний Аркаим не имеет никакого отношения к своему легендарному тезке) есть гора Разума и гора Покаяния. И бродят по выложенным из камней на вершинах сопок лабиринтам (заметим, эти камни укладывали современные ученые) тысячи паломников в поисках вечной Истины. А, спустившись в долину, они уверяют друг друга, что в них проснулись недюжинные силы, открылись чакры, и появился третий глаз. А если вы осмелитесь сказать, что ничего не ощутили после посещения сакральных мест, то тут же найдется с десяток экзальтированных теток, которые убедят вас в обратном.
Грустно все это видеть. Уникальное археологическое открытие породило массу предрассудков, граничащих с элементарным сектантством. И кто знает, может быть, через века археологи будущего, будут ломать голову над новой загадкой Аркаима, выясняя, каким богам поклонялись люди XXI века?
2008г.
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ ЧЕСМЫ
История России знает немало славных страниц. И многие из них написаны языком мужества воинов, одерживавших убедительные победы над превосходящими силами неприятеля. В этом году с особенным чувством мы вспоминаем Чесменскую баталию 1770 года, в которой особенно ярко воссияла немеркнущая слава России и её военно-морского флота. В истории русско-турецких войн было много сражений. Но нет никаких сомнений, что именно Чесменская битва достойна быть вписанной золотыми буквами в летопись русских побед. Ибо сложно припомнить другого случая, когда турецкому флоту наносилось бы столь внушительное поражение со столь малыми потерями со стороны русского флота.
Увы, приходится признать, по каким-то непонятным причинам победа, ставшая в свое время полной неожиданностью для недругов России, а их всегда у нас было предостаточно, и принесшая нашей стране славу великой морской державы, почему-то незаслуженно забыта. День победы в Чесменской бухте до сегодняшнего дня не включен в перечень Дней воинской славы современной России. Хотя, в этот самый перечень вошли куда более скромные победы русского оружия.
Итак, в 1768 году началась очередная война России с ее «закадычным» врагом — Оттоманской империей, которая ой как не хотела видеть у себя под боком мощного соседа, рвущегося к тому же в мировой океан. Как это нередко бывает, война разразилась по воле подстрекателей, ими были французские тайные агенты, уже давно обосновавшиеся в Константинополе. Именно они уговорили верховного правителя Оттоманской империи нанести удар России. Главные боевые действия поначалу велись на суше, маломощный русский флот, располагавшийся, главным образом, в Азовском море, сколько-нибудь существенного влияния на ход войны оказать не мог. И тогда в столице принимается беспрецедентное по тем временам решение: отправить в обход Европы несколько эскадр российского флота, базирующегося на Балтике. Даже по сегодняшним меркам такой маневр современных морских судов — сложное дело. А что уж говорить о парусных фрегатах, которым предстояло пройти тысячи морских миль по весьма сложному маршруту?
В успех этой фантастической операции в окружении императрицы Екатерины II мало кто верил, считая все задуманное легкомысленной авантюрой, грозившей погубить почти весь Балтийский флот России. Но нужно отдать должное настойчивости братьев Орловых, которые смогли уговорить самодержицу рискнуть. Конечно, сами Орловы, даже при всей их находчивости и особом отношении к царствующей особе, самостоятельно не смогли бы организовать и, самое главное, осуществить, как говаривали тогда при дворе, «aventure».
Рискованную экспедицию за тридевять земель возглавил лично Алексей Орлов — младший брат фаворита императрицы Григория Григорьевича Орлова, который уже давненько нашептывал Екатерине идею освобождения греков и южных славянских народов от турецкого ига. Это, собственно, и было одной из целей русско-турецкой войны 1768—1774гг.
****
Алексей Григорьевич, будучи человеком решительным и даже иногда бесшабашным, тем не менее понимал, что во время сложного морского перехода к далеким берегам Турции управлять кораблями должны опытные флотоводцы. Поэтому командовать тремя эскадрами, отправленными в Архипелаг, были назначены контр-адмиралы, за плечами которых уже было немало экспедиций и сражений. Самую первую эскадру, отчалившую из Кронштадта 18 июня 1769 года, возглавил Григорий Андреевич Спиридов, начавший свою морскую карьеру еще 15-летним гардемарином. Из 18 судов, входивших в состав флотилии Спиридова, через полгода (!) до Средиземного моря добрались лишь 4 линейных корабля и 4 фрегата. Остальные суда были оставлены на ремонт в портах по пути следования эскадры.
Вторая флотилия ушла в поход в июле 1769 года под командованием недавно принятого на российскую службу английского капитана Джона Эльфинстона. Эта небольшая эскадра, состоявшая из 8 кораблей, прибыла в место назначения без потерь.
И, наконец, в начале июня 1770 года к турецким берегам отправилась третья группа российских кораблей под командованием контр-адмирала Арфа. Этой эскадре не суждено было принять участие в Чесменском сражении, но она сыграла свою роль в последующей блокаде Дарданелл.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться русским морякам во время долгого перехода, были немалыми. Непривычные к долгому пребыванию на море, моряки очень сильно болели, часть из них умерла. Но все же «aventure» состоялось: русский флот прибыл в Архипелаг!
К этому следует добавить, что весьма ревностно за перемещением русского флота следили турецкие союзники Франция и Испания. Они даже помышляли потопить русские суда в районе Гибралтара. Но, и тут нужно отдать должное дипломатическому мастерству Екатерины и ее сановников, на сторону России неожиданно для многих встала Англия, давно уже враждовавшая с французами. Немного немало английский престол заявил, что если хоть одно российское судно будет потоплено французами и испанцами, то Англия вступит в войну на стороне России. А такого «тандема» боялись уже все.
…А где же в это время был Орлов? Он не бороздил тяжелейшие морские мили, он ждал «свой» флот в итальянском Ливорно. Однако не следует думать, что граф преспокойно наслаждался жизнью в живописном уголке Европы. Орлов в это время сплетал весьма хитроумную комбинацию по вовлечению в войну греков и славянских народов, живущих под турецким гнетом. По задумке графа, восстание угнетенных в тылу Оттоманской империи должно было автоматически привести к успехам русской армии на сухопутном театре военных действий. А сигналом к началу восстания должно было послужить морское сражение, которого русский флот в буквальном смысле слова жаждал.
Орлов весьма внимательно следил и за многотрудным походом русских кораблей к Архипелагу. Причем, информацию о походе русских эскадр он получал раньше, чем императрица. Замечу, получаемые графом сведения отличались от доставляемых к престолу помпезных рапортов. Шифровки, приходившие в Ливорно непосредственно с борта флагманского корабля Спиридова, содержали в себе всю горькую правду о трудностях похода русских флотилий. А автором этих откровенных посланий был давнишний приятель графа по совместным кутежам, о которых в столице даже складывали легенды, Самуил Грейг — шотландец, верой и правдой служивший российскому престолу.
…Итак, после долгих скитаний русская флотилия все же вошла в Средиземное море и взяла курс на турецкий берег. К этому времени Алексей Григорьевич Орлов уже перебрался с берега на флагманский корабль и принял общее командование на себя. Поначалу его богатырский организм весьма трудно привыкал к морской качке, и большую часть времени граф проводил в своей каюте.
16 мая 1770 года группа кораблей под командованием Эльфинстона обнаружила турецкую морскую армаду вблизи бухты Наполи-ди-Романья. Шанс заблокировать турок в западне и методично их уничтожить подвернулся, скажем так, исключительный, но Эльфинстон… развернул русские суда в обратную сторону. Когда об этом узнал Спиридов, ярости адмирала (к тому времени он уже был удостоен этого звания — прим. авт.) не было придела. Обозвав англичанина трусом, Григорий Андреевич приказал всей русской флотилии двигаться к заветной бухте, но когда русские корабли прибыли на место, турок и след простыл.
Граф Орлов, превозмогая очередной приступ морской болезни, произнес, обращаясь к Эльфинстону: «Ни за тем мы сюда с такими трудностями и бедами добирались, чтобы бегать от басурманина».
История, как известно, не знает сослагательного наклонения. И нам не дано знать, как бы изменился дальнейший ход событий, случись разгром турецкого флота в бухте Наполи-ди-Романья. Вполне возможно, в XIX веке на южноуральской земле появилось бы станица с названием типа «Наполидироманская», но не было бы Чесмы…
Охота за турецким флотом продолжилась в Эгейском море. Орлов, уже попривыкнув к «болтанке», тем не менее, особо не вмешивался в повседневное руководство русской эскадрой, понимая, что лучше его с этим делом справятся Спиридов и Грейг. А сам он продолжал «дирижировать» подготовкой восстания на Балканах, ведя весьма интенсивную переписку со своими соратниками, ждавшими сигнала к началу боевых действий.
Погоня за турецким флотом длилась целый месяц. И вот, 24 июня (по старому стилю — прим авт.) в Хиосском проливе случился пролог будущей Чесменской виктории. Турецкая армада состояла из 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 51 прочих судов. Русская эскадра была куда более скромной — 9 линейных судов, 3 фрегата и 18 вспомогательных судов. Однако, на стороне русских было единство и бесстрашие. Команды же турецких судов, хотя и были опытными, но состояли в основном из наемных матросов различных стран. Были среди них греки и славяне, которые особо воевать против русских не хотели. Как тут не вспомнить Орлова и его тайную дипломатию, направленную, между прочим, и на ослабление боевого духа матросов неприятельского флота.
В 11 часов граф Орлов отдал приказ о начале атаки. Бой был довольно скоротечным — в два часа по полудню турецкий флот второпях начал покидать поле сражения и укрылся в Чесменской бухте.
Самым трагичным для русской эскадры моментом боя в Хиосском проливе был взрыв передового корабля «Святой Евстафий», на котором развивался штандарт адмирала Спиридова. Адмирал и его команда проявили потрясающее мужество и выдержку, в буквальном смысле протаранив 80-пушечный флагманский корабль турецкого флота «Реал-Мустафа». Русские матросы и офицеры по мачтам и реям перебрались на неприятельское судно, которое к тому времени уже полыхало, и учинили настоящий сабельный бой с турками. А пока шел этот бой, горящая мачта «Реал-Мустафы» рухнула на палубу русского корабля. Буквально через несколько минут один за другим раздались два мощнейших взрыва: сначала на воздух взлетел «Евстафий», а за ним и «Мустафа».
Орлов, видевший все это, был потрясен. Зрелище завораживало своей ужасной красотой. Однако, главная причина потрясения графа состояла в другом — на борту «Святого Евстафия» помимо Спиридова находился и брат Орлова Федор. Когда все улеглось, и турецкий флот ушел под прикрытие своей береговой артиллерии, выяснилось, что среди немногих, чудом уцелевших после взрыва, оказались и Григорий Спиридов, и Федор Орлов.
На следующий день русские методично обстреливали турецкий флот с дальнего расстояния. На своем корабле Орлов провел совет, на котором решалось, как уничтожить раненого, но все еще очень опасного врага. Было решено турецкий флот сжечь. Для этого из вспомогательных судов были сооружены четыре брандера (специально обустроенные легкие суда, начиненные горючими материалами — прим. авт.).
Общее руководство операцией в Чесменской бухте было возложено на Самуила Карловича Грейга. Выбор Орлова был неслучаен. Адмирал Спиридов получил ранение при взрыве «Святого Евстафия», но, как и подобает настоящему воину, рвался в новый бой. Графу даже пришлось утихомиривать старого вояку, подыскивая нужные слова, чтобы успокоить адмирала. Операция по уничтожению неприятельского флота требовала несколько иных подходов, чем бой в открытом море. Найти эти подходы мог только молодой и энергичный Грейг.
Итак, четыре русских брандера должны были подойти к турецким кораблям вплотную, намертво сцепившись с ними крючьями. Потом экипажам брандеров следовало поджечь свои суда и успеть при этом вовремя унести ноги. В противном случае русских моряков ждала неминуемая гибель.
Первый брандер под командованием капитана Гагарина был расстрелян турками на подходе к турецкой эскадре. Та же участь постигла и второй брандер, возглавляемый капитаном Дагдейлом. Более удачным, но малоэффективным, был маневр брандера под командованием капитана Маккензи. Его суденышко угодило в уже полыхающий турецкий корабль, подожженный палубной артиллерией русской эскадры.
Самым, определившим успех всей операции, стал маневр четвертого брандера, которым командовал лейтенант Дмитрий Ильин. Русское судно незаметно подкралось к 84-пушечныму турецкому фрегату, и вцепилось в него своими крючьями. Лейтенант Ильин отдал команду экипажу срочно пересесть в шлюпки и поджег брандер, который вспыхнул как спичка…
В своем дневнике Самуил Грейг чуть позже запишет: ««Пожар турецкого флота сделался общим к трем часам утра. Легче вообразить, чем описать, ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем. Турки прекратили всякое сопротивление, даже на тех судах, которые еще не загорелись; большая часть гребных судов или затонули или опрокинулись от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду; поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся и топивших один другого. Немногие достигли берега, цели отчаянных усилий. Командор (граф Орлов — прим. авт.) снова приказал прекратить пальбу с намерением дать спастись по крайней мере тем из них, у кого было довольно силы, чтобы доплыть до берега. Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда, еще не загоревшиеся, и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесьмы, оставленных уже гарнизоном и жителями».
Потери турецкого флота были ужасны — около 11 тысяч погибших. А те, кому посчастливилось доплыть до берега, в ужасе бежали прочь. Следом за ними в бегство устремились жители и гарнизон Чесмы. Все они бежали в Смирну, куда и принесли страшное известие о гибели всего турецкого флота.
***
Последствия Чесменской победы для России и ее международного престижа были уникальными. Весь мир теперь воспринимал нашу страну как морскую державу, способную мощью своего военного флота решать геополитические вопросы.
Воодушевленный оглушительной победой Орлов испрашивал разрешения императрицы о походе русского флота на Константинополь — столицу Оттоманской империи. Для успешной реализации этого грандиозного плана были все предпосылки, но…
Историки прошлого, да и современные тоже, не могут найти ответа, почему же русский флот не пошел к вечному городу с его христианскими святынями, колыбели великой Византии, чьей духовной преемницей считалась Россия?
Одной из версий, проливающих свет на дальнейший ход событий, явилось предположение о заговоре масонов, не желавших допустить православных воинов к бывшей византийской столице. По их разумению, если бы это произошло, то влияние православия существенно бы подорвало позиции католицизма в Европе. Так ли это было на самом деле, сегодня уже не скажет никто. Однако, следует вспомнить, что в последующую за Чесменской победой блокаду русскими Дарданелл контр-адмирал Джон Эльфинстон (опять он! — прим. авт.) неожиданно для Спиридова и Орлова отвел свои суда от линии блокады и пропустил турецкие транспортные суда с многотысячным десантом в Эгейское море. За этот поступок, граничащий с предательством, Эльфинстон был разжалован со службы. А позже выяснилось, что он состоял в тайной масонской ложе.
Победа под Чесмой обеспечила господство русского флота в восточном Средиземноморье. Она же способствовала заключению в дальнейшем выгодного для России Кючук-Кайнарджийского мирного договора (заключен 10 июля 1774г. — прим. авт.). Согласно этому договору Крымское ханство получило независимость (в следующую войну Крым станет частью России — прим. авт.), Россия оставляла за собой отвоеванные Керчь, Ени-Кале, Азов и Кинбурн, закреплялось право Российской империи на защиту и покровительство христиан в дунайских княжествах и прежде всего в Молдавии.
Пожалуй, самым важным итогом Чесменской виктории стало право России на создание своего полноценного Черноморского флота и беспрепятственный проход русских военных и торговых кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Именно после Чесмы влияние России на Балканах начало стремительно расти, и это, в конечном итоге, привело к обретению независимости многими народами южной Европы.
Сегодня мало кто уже помнит, что в период пребывания русских эскадр в Средиземноморье на многочисленных островах было создано Архипелагское княжество, центром которого стал остров Парос. Новое государственное образование изначально создавалось под протекторатом России. Конституцию для вновь создаваемого княжества собственноручно написал адмирал Спиридов. Увы, эти «русские» владения просуществовали недолго, всего 4 года. Но и за это время русскими было сделано немало по обустройству островов — строились школы и больницы, церкви и пристани…
***
Первые известия о колоссальной победе русского флота поступили в Петербург уже в июле. И новости эти шли от русских послов, работавших в Париже, Лондоне, Копенгагене… Конечно, Екатерину эти вести не могли не радовать, но на сколько они были верны, мог сказать только Алексей Орлов. А от него пока реляций не было.
Все встало на свои места, когда наконец-то к концу августа во дворец была доставлена депеша, подписанная графом. Орлов в своем письме императрице весьма подробно описал ход боевых действий, особо подчеркивая мужество и умения своих подчиненных — офицеров и рядовых матросов. Радости, охватившей Екатерину, не было предела. В сентябре она устроила грандиозные торжества по случаю Чесменской победы. Да такие, что находящиеся при дворе послы европейских стран ахнули.
В своем ответном письме, адресованном Орлову, самодержица начертала: «… Блистая в свете не мнимым блеском, Наш флот под разумным и смелым предводительством вашим нанес сей наичувствительный удар Оттоманской гордости. Весь свет отдает вам справедливость, что сия победа вам приобрела не отменную славу и честь…»
В ознаменование величайшей в истории России морской победы по указанию Екатерины в большом Петергофском дворце был создан мемориальный Чесменский зал, который украшали картины со сценами сражения. В 1775 году в Гатчине был возведен Чесменский обелиск. А в 1778 году в Царском селе вознеслась знаменитая Чесменская колонна, чья мини-копия сегодня украшает село Чесма на Южном Урале.
Кроме этого в столице были построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи. В память о Чесменской победе по специальному указу императрицы были отлиты золотые и серебряные медали. В этом указе говорилось: «Медаль эту жалуем мы всем находившимся на оном флоте во время сего Чесменского счастливого происшествия как морским, так и сухопутным нижним чинам и позволяем, чтобы они в память носили их на голубой ленте в петлице».
К слову замечу, медаль за участие в Чесменском сражении стала первым отличительным знаком в наградной системе России, когда награда носилась на груди. До этого все награды представляли собой крупные по размеру монеты, выполненные, впрочем, из драгметаллов.
В будущем (в 1883 г. — прим. авт.) в русском флоте появится броненосец с гордым именем «Чесма». А полувеком ранее указом внука уже покойной императрицы Николаем I одной из казачьих станиц, строящихся на Новой линии в южноуральской степи будет дано название «Чесменская».
Словом, память о великой победе в Чесменской бухте была увековечена и поддерживалась правящей династией Романовых вплоть до 1917 года. День 26 июня (7 июля по новому стилю — прим. авт.) в течение почти полутора веков был официальным государственным праздником.
***
Как это нередко бывает при свершении великих событий, вокруг Чесменской виктории почти сразу стали появляться легенды, которые не имели под собой никакой фактической основы. Но, тем не менее, легенды жили, обрастая всякий раз новыми подробностями. Парадоксально, но факт: многие легенды, связанные с Чесменской победой и ее героями, дожили и до наших дней. Об одной из них следует сказать особо.
И в веке XIX- ом, и в наши дни появлялись и появляются околонаучные публикации, повествующие о, якобы, имевшем место событии, последовавшем уже после сражения при Чесме. Согласно этим публикациям граф Орлов, находившийся на отдыхе в Ливорно, решил устроить для своей очередной любовницы представление и показать, как происходило великое сражение. Немного немало Алексею Григорьевичу приписывается поистине безумный поступок. Он, якобы, в угоду своей пассии сжег половину российского флота. Конечно, Орлов был горяч и, порою, по молодости вытворял бесшабашные поступки, но на сожжение флота он никогда бы не решился. Граф прекрасно понимал, что значит для России каждый военный корабль. И сколько этот корабль стоит.
Откуда пошла эта молва, сказать сегодня трудно. Думается, что истоки этой легенды лежат в несколько другом событии, которое действительно имело место. Выше уже упоминалось, что в ознаменование великой победы Екатерина распорядилась создать в Петергофе Чесменский мемориальный зал, который по ее задумке должен был быть украшен полотнами с изображениями сцен Чесменской баталии. Эти картины через пять лет после победы под Чесмой были заказаны известному в ту пору немецкому художнику Якобу Филиппу Хаккерту. Мастер выполнил заказ, но глянувший на полотна Орлов заявил, что изображенные на картинах горящие турецкие суда «горят» неправильно. На эту реплику графа художник ответил, что никогда раньше не видел, как горят корабли. Присутствующая при этом Екатерина предложила выход, позволявший исправить великолепные, но неточные полотна. Она разрешила Орлову сжечь на глазах у художника один из русских военных парусников, стоявших на рейде в Ливорно. Идя на это, самодержица российского престола рассчитывала напомнить Европе, да и Турции тоже, о Чесменской виктории. Но, видимо, людская фантазия пошла еще дальше и приписала Орлову сожжение половины российского флота.
***
Но вернемся к героям Чесменской победы. Все они были награждены и обласканы Екатериной. Но даже эти награды стали предметом обсуждения в дворцовых кулуарах, и постепенно придворные пересуды перекочевали в народ, превратившись со временем в очередные легенды и предания.
Конечно, главные почести и награды достались Алексею Григорьевичу Орлову, как руководителю всего сложного проекта. Он был награжден недавно учрежденным орденом Пресвятого Георгия Победоносца I степени. Ему было даровано право приписывать к своей фамилии приставку «Чесменский». В 1775 году граф вышел в отставку и в своем имении занялся разведением лошадей, которые теперь известны как «орловские рысаки». На закате своей жизни граф опять был приближен ко двору (при Александре I — прим. авт.) и именно ему было поручено формировать народное ополчение во время первой войны с Наполеоном, за что он был награжден орденом Святого Владимира I степени. Умер А. Г.Орлов в 1807 году. Его хоронила вся Москва.
Адмирал Григорий Андреевич Спиридов за победу при Чесме был награжден орденом святого Андрея Первозванного. В 1773 году 60-летний адмирал ушел в отставку. Он выпустил книгу своих воспоминаний, где главным событием своей жизни, конечно же, называл победу под Чесмой. Жил отставной адмирал затворником. И только один раз вышел в свет при полном параде. Это случится в 1789 году, когда станет известно о победе русского флота над турками у острова Федониси. В том же году великого адмирала не станет.
Самуил Яковлевич Грейг после победы под Чесмой был возведен в потомственное дворянство и награжден орденом Пресвятого Георгия Победоносца II степени. В 1775 году в Италии именно Грейг помогал графу Орлову заманить на корабль и вывезти в Россию самозванку «княжну Тараканову», объявившую себя претенденткой на русский престол. Вся его дальнейшая жизнь была неразрывно связана с Балтийским флотом. Он дослужился до звания командующего флотом, принимал участие во многих походах, был награжден орденами Святого Александра Невского и Святого Владимира I степени. Грейг так и умер на капитанском мостике в 1788 году. Императрица, очень ценившая адмирала, учредила по этому печальному поводу специальную памятную золотую медаль. А на его могиле самодержица повелела начертать: «Самюэлю Грейгу, шотландцу, командующему Российским флотом. Родился 1735, умер 1788. Его восхваляет Архипелаг, Балтийское море и спасенные от вражеского огня берега. Ему — вечная песнь и признание его заслуг и непрестанная скорбь великодушной Екатерины».
Отдельного рассказа требует судьба лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина. Долгие годы считалось, что именно его Екатерина обделила своими милостями. Мало того, людская молва разносила о жизни и судьбе героя Чесмы всякие небылицы. Долгое время в отечественной исторической литературе и даже в энциклопедических словарях по поводу Дмитрия Ильина преобладала одна единственная точка зрения, мол, сразу после победы в Чесменской бухте карьера его полетела кубарем вниз. А причиной этого, якобы, стали козни завистников и безудержное пристрастие лейтенанта к алкоголю. Свою лепту в поддержание этой, не подкрепленной никакими фактами, истории, увы, внес и признанный мастер исторической прозы В.С.Пикуль, опубликовавший в свое время миниатюру «Лейтенант Ильин был». В этом, без преувеличения сказать, образцовом историческом произведении автор почти слово в слово повторил циркулировавшие на протяжении XIX века слухи и сплетни об Ильине, которому Пикуль искренне сочувствовал.
Суть этих сплетен состояла в следующем. На Ильина, после совершенного им подвига, обрушилась настоящая слава. По прибытию в столицу он стал желанным гостем в домах многих знатных вельмож. И, конечно же, везде ему подносили бокалы вина и водки, от которых лейтенант не отказывался. А меж тем за его спиной началась возня завистников, которые любой ценой хотели принизить роль Ильина в Чесменской победе. И вот однажды пьяного героя привезли в Зимний дворец, чтобы представить его в непотребном виде Екатерине. А та, якобы, взглянув на пьяного в стельку лейтенанта, распорядилась убрать его с глаз долой. Ретивые царедворцы приказ императрицы интерпретировали по-особенному. Взяли и отправили Ильина на вечную ссылку в его имение, где он и умер в полном забвении и нищете. Так гласит легенда, оформленная Пикулем в литературную форму.
А реальность была иной. И она сегодня подтверждена документально. После Чесменского сражения Дмитрий Сергеевич продолжал служить в Архипелаге. 9 июля 1771 года по представлению графа Орлова императрица подписала указ о награждении Ильина орденом Святого Георгия Победоносца IV степени. В 1774 году ему было присвоено звание капитан-лейтенанта. Полученная в боях контузия отразилась на здоровье 37-летнего офицера — у него появились приступы падучей (эпилепсии — прим. авт.), и Ильин был вынужден вернуться в Россию. В Санкт-Петербурге он был причислен к корабельной команде. В 1775 году его произвели в капитаны 2-го ранга. 7 июля 1776 года императрица произвела в Кронштадте смотр эскадры, вернувшейся из Средиземноморья. После вручения наград на борту флагманского корабля «Ростислав» был дан званый обед, куда были приглашены офицеры, участвовавшие в Чесменской баталии. Был среди них и Дмитрий Сергеевич Ильин. В череде обязательных в подобных случаях тостов и здравиц Екатерина подняла бокал и предложила всем присутствующих выпить за славного героя Чесменской виктории Дмитрия Ильина.
В 1777 году в связи с ухудшением здоровья Дмитрий Сергеевич Ильин вышел в отставку. За особые заслуги ему было присвоено звание капитана 1-го ранга и назначен пожизненный пенсион. Всю оставшуюся жизнь герой Чесмы провел в своем родном сельце Демидиха. Жил он, и вправду, небогато, но не от кого ничего не просил и не требовал. Умер Д. С. Ильин в 1803 году, было ему 65 лет.
А потом о герое действительно начали забывать. Вспомнили о нем лишь много лет спустя. На стол императору Александру III лег доклад о месте погребения лейтенанта Ильина и о заброшенности его могилы. Император высочайше соизволил пожаловать из собственных средств тысячу рублей на постановку памятника славному герою. Вскоре на могиле Д. С. Ильина к 125-й годовщине Чесменской победы вознесся ввысь гранитный обелиск, увенчанный бронзовыми вызолоченными шаром, луной (полумесяцем) и восьмиконечным крестом. На пьедестале памятника высечены две надписи: на лицевой стороне — «Герою Чесмы лейтенанту Ильину». На противоположной стороне — «Сооружен по высочайшему повелению государя императора Александра III в 1895 году в воздаяние славных боевых заслуг». На боковых гранях помещены два медальона. На одном — бронзовый профиль Императрицы Екатерины II. На втором — копия медали в честь победы русских моряков при Чесме. На ней изображен горящий турецкий флот и вверху лаконичная надпись «Былъ». Стоит этот памятник и сегодня…
2010г.
Чесма
Весной 1843 года по степному бездорожью запылили многочисленные обозы. Костяк этих обозов составляли переселявшиеся с Волги казаки упраздненного царским Указом ставропольского калмыцкого войска. К ним присоединились изъявившие желание вступить в казачье сословие семьи белопахотных солдат из четырех уездов Оренбургской губернии. Обозы шли на строго обозначенные места, которые были определены геодезической экспедицией, прошедшей в этих краях годом раньше. Станице Чесменской «достался» участок №27. Кто были первыми чесменскими поселенцами? Считается, что основателем Чесмы, как впрочем, и Тарутино, был хорунжий Брябрин. Именно он руководил закладкой этих двух станиц. Однако, среди других первопоселенцев следует назвать и ряд других фамилий — Сойновы, Котельниковы, Щелоковы, Чухвачевы, Ерахтины, Голиковы, Кошарновы…
Жизнь первых поселенцев Новолинейного района была крайне сложной и неспокойной. И хотя к середине пятидесятых годов XIX века острота приграничных столкновений между казаками и киргиз-кайсаками пошла на убыль, жизнь на границе была тревожной. Да и быт поселенцев был пока неустроенным. Казаки на новых землях поначалу строили землянки. Делалось это не столько из-за бедности и отсутствия строительных материалов, а из соображений прагматизма. Суровый климат здешних мест заставлял казаков «закапываться в землю». Землянки меньше продувались ветрами и требовали меньше топлива на обогрев. Да и с точки зрения определенной конспирации, необходимой в приграничье, землянки были менее приметными, чем срубы. С установлением относительного мира на Новой линии в казачьих станицах начали строиться деревянные дома. На эти цели поселенцам специально выделялась строевая древесина.
Первоначально пос. Чесменский располагался на левом берегу Средний Тогузак. Примерно там, где сегодня располагается пос. Натальинский. В 1847г. чесменцы получили разрешение перебраться на новое место. Причиной переезда стало плохое качество питьевой воды. Новое место для своей станицы чесменские казаки выбрали весьма удачное — левый берег реки Тай-Аткан. Почти вплотную к реке на противоположном берегу располагался большой березовый массив. Его «осколком» в наши дни является березовая роща за Черемушками. А на восток и на юг от поселка тянулась ровная степь.
Обосновываясь на новом месте, поселенцы начали возводить свои жилища. По началу — все те же землянки, служившие времянками. А рядом закладывались уже капитальные жилища. Первые такие дома были неказистыми, т.н. однокамерными с пристроенными сенями. Такие дома долгое время ставились на «сохи» — вкопанные в землю толстые лиственничные пни. Но нередко, в виду определенного дефицита лиственничной древесины, сохами служили обожженные сосновые бревна. В целях экономии строительных материалов зачастую казаки строили свои дома из сосновых плах (разрубленные вдоль бревна — прим. авт.). В 60-70-ых годах XIX в., когда семейства первых поселенцев «разрослись», началось возведение более сложных по конструкции домов — «связей», «пятистенков», «крестовиков». Такие постройки сохранились в Чесме и поныне. Они прилегают к центральной площади районного центра, которая в свое время именовалась «плацем». Как и подобает плацу любого казачьего поселка, здесь располагались церковь, станичная управа, школа. Дома строились вдоль улиц. Более поздние постройки выходили на улицу своими торцовыми сторонами. Покрывались дома «лубьями» (деревом — прим. авт.), соломой и камышом. Специальным указом предписывалось: «…пропитывать крыши домов глинистым раствором, дабы не допустить возгорания…». Позже зажиточные казаки покрывали свои жилища кровельным железом. Центральное место в домах казаков занимала печь. Она, как правило, располагалась слева от входа в дом. Над входом располагались полати. «Красный» угол, в котором размещались иконы, наградные грамоты, а позже и памятные фотографии, располагался по диагонали от входа.
Именно в те далекие годы были заложены современные чесменские улицы Ленина (долгое время, даже после революции, эта улица называлась «Большой» — прим. авт.), Советская, Волошина, Колхозная, 50 лет ВЛКСМ. Квартальная планировка, заметная в центре Чесмы и сегодня, создавалась многочисленными переулками. Одним из таких переулков, называемым Амбарным, была современная улица Чапаева.
Заметим, что вплоть до революции Чесма располагалась только на левом берегу Туеткана. Правый берег стал осваиваться гораздо позже. Приведем документальное описание Чесмы, датированное 1904-ым годом. «Поселок, расположенный на местности ровной, удобной для поселения, и окружен с трех сторон речкой Таяткан и логом Калмыцким. Речка, представляющая границу с южной стороны поселка и которая образуется из близ находящихся от поселка родников, имеет берега пологоспускающиеся и при самом значительном скоплении воды, весною во время таяния снега, как сказалось из расспросных сведений, речка не наносит вреда поселению. Относительно же лога, упомянутого выше, который граничит поселение с северной и восточной стороны можно сказать то, что он, как речка, имеет берега пологие и вода бывает в нем только весною, во время стока, почему относя описания урочища к разряду неопасных для построек…» (здесь и далее стилистика, орфография и пунктуация оригинала документа сохранены — прим. авт.).
Долгие годы расширение казачьих станиц и поселков сдерживалось существовавшим запретом на поселение в этих краях лиц неказачьего происхождения. К началу ХХ века в Чесме насчитывалось лишь 267 дворов. Размеры поселка в то время по нынешним меркам были невелики. Так, в деле «по распланированию поселка, ведения в лета 1904 года младшим землемером Зыковым» сохранился интересный документ, имеющий название «Общественный приговор». В нем в частности говорится: «… Мы, нижеподписавшиеся,… быв сего числа на поселковом сборе при поселковом правлении, в присутствии кандидата (так в то время называлась должность заместителя атамана — прим. авт.) по атамане нашего поселка казака Василия Корюкина постановили настоящий приговор в том, что добавочные поместья для постройки домов желаемо, чтобы были нам прирезаны в низ по речки Таяткан до второго лога в ширину от берега речки до заднего конца поместья Степана Щелокова и частию в верх по речки в линию всего поселка, в том подписуемся…».
К сожалению, пока мы не знаем имен первых атаманов поселка Чесменского. Заметим, изначально атаманы (тогда они назывались начальниками — прим. авт.) станиц и поселков Новолинейного района назначались «сверху». Это было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, Оренбургское казачье войско было первым, которое создавалась не стихийно, а по решению властей. Во-вторых, поселенцы были «разноплеменными» и попросту не знали друг друга, и выбрать из своей среды «вожака» не могли. Но уже в 60-ых годах XIX века казаки выбирали себе атаманов сами, но их утверждение проводилось и на уровне полков, и на уровне войскового правления.
В приказе по Оренбургскому казачьему войску от 13 июня 1858 говорилось: «…назначен начальником Чесменской станицы хорунжий Ларион Бектюев». Заметим, что через три года в другом уже приказе упоминалось: «…произведен из хорунжих в сотники начальник Чесменской станицы Бектюев». Интересны, на мой взгляд, и такие приказы: «…20 июня 1859 года перемещен старший писарь №7 ОКП урядник Захар Тотовцев в Чесменское станичное правление, отчислен старший писарь казак внутренней службы Филипп Токарев из Чесменского правления…»; «…28 июня 1860 года определен на полевую службу №7 ОКП младший писарь Чесменского станичного правления казак Александр Казанцев, перемещен в №7 ОКП полковой писарь Чесменского станичного правления Илья Захаров»; «…22 января 1861 года произведен в урядники ученик военной школы для офицерских детей №7 ОКП Александр Казанцев. Урядник Остроленской станицы Яков Казанцев определен младшим писарем в Чесменское станичное правление…».
Если говорить о статусе Чесмы, то за всю ее многолетнюю историю положение поселения в административном устройстве не единожды менялось. Изначально это была станица, позже она стала центром станичного юрта. К слову заметим, раньше считалось, что такой статус в свое время имела только Березинская станица. Но вот архивные данные свидетельствуют: «…Полковое Правление №7 полка, от 22 февраля 1864 года за №1173 доносит мне, что существовавшая в Чесменском станичном юрте на людях эпидемическая болезнь горячка прекратилась» (Выписка из рапорта наказного Атамана Оренбургского казачьего войска на имя Генерал-губернатора №536 от 17 марта 1864 г. — прим. авт.). Потом Чесменский поселок вошел в состав Березинского юрта, а после 1917 года он в составе Тарутинской станицы. Короткое время поселок Чесменский относился к Бородиновской станице. В 20-ых годах поселок входил в состав Калиновского сельсовета. Свой современный статус и название «Чесма» (именно Чесма, а не Чесменская, Чесменский и даже Чесминский — прим. авт.) получила 18 января 1935 года в день основания Чесменского района.
Мирские и духовные власти Оренбургского казачьего войска понимали, казакам, несшим свою ратную службу, была нужна поддержка церкви, способной укрепить дух поселенцев и способствующая выполнению ими обязательных религиозных обрядов. Первое упоминание о церкви в Чесме относится к 1851 году. Именно 5 октября этого года в Чесму были направлены первые служители местной церкви — священник И. А. Темперов и дьячок К. А. Андреев. Служили они в часовне, установленной на том самом месте, где сегодня размещается районная детская библиотека. Заметим, та, первая, часовня, позднее освещенная во имя Святого Николая Чудотворца как временная церковь, была куплена в одной из старых казачьих станиц и перевезена в Чесму. Постоянная церковь здесь была построена в 1894 году.
Важное место в жизни казаков занимала забота о грамотности детей. Инициированное командованием войска обучение детей было поддержано на местах, и это позитивно отразилось на уровне грамотности не только детей, но и всего населения. Первая школа в Чесме была открыта в 1848 году. На должность учителей назначались казаки из числа грамотных. Время нахождения их при школах засчитывалось за действительную службу. К исполнению своих обязанностей учитель мог приступить только после принятия специальной присяги, текст которой был утвержден наказным атаманом Оренбургского казачьего войска. К присяге учителя, как правило, приводил священник местной церкви, а при его отсутствии — поселковый или станичный атаман. В своеобразной «должностной инструкции» учителей той поры говорилось: «Каждый учитель обязан на вверенных ему учеников равно обращать свое внимание и всегда помнить, что он приготавливает членов целого Отечества, а потому должен работать с желаемым благовоспитанием юношества. Таким образом, объясняя ученикам своим святые истины христианской веры и правило добродетели, он должен стараться, чтобы вверенные ему дети не только без затруднений понимали его наставления, но и привыкали чувствовать всю важность оных и важность своих настоящих и будущих обязанностей к Богу, Царю, поставленным над ними властями, к самому себе и ближним». Архивы сохранили для нас имена некоторых учителей, работавших в Чесме в дореволюционный период: «…3 ноября 1860 года определен в №7 ОКП урядник Илья Темников учителем Чесменской станичной школы, а учитель урядник Иван Абдиев — из Чесменской школы в Вернинскую отрядную школу…»; «…За отличия неслужебные серебряной медалью на Александровской ленте всемилостиво пожалован Чесменской мужской школы Березинской станицы учитель казак запасного разряда Владимир Смяткин».
Экономика Новолинейного района на первоначальном этапе была неразвитой. Собственно, в условиях полувоенного положения иного и не могло быть. С установлением мирной жизни в казачьих поселениях начали развиваться торговля и ремесленничество. Заметим, этот процесс также начинался по инициативе властей. Изначально поселенцам помимо несения караульной службы было необходимо заботиться и о «хлебе насущном». Они должны были обрабатывать свои земельные наделы. Заметим, наделы были немалыми. И приходится только удивляться трудолюбию наших предков. Казаки Новолинейного района кормили и себя, и отправляли выращенный хлеб и скотину на продажу. Для Чесменской станицы были официально установлены дни проведения ежегодных ярмарок — 9 мая и 6 декабря, а каждый вторник здесь проводился базар. В 1913 году «график» ярмарок и базаров в поселке Чесменском изменился: «…Приказом номер 748 от 30 октября 1913 года разрешено жителям Чесменского поселка Березинской станицы открыть в их поселке трехдневную ярмарку с 1 по 3 ноября каждого года и еженедельный базар по воскресеньям».
С отменой запрета на поселения в Новолинейном районе лиц неказачьего сословия торговля значительно расширилась. В Чесме открылись торговые лавки, которые значительно стимулировали денежное обращение. Особо знаменитыми были лавки купца третьей гильдии Дмитрия Ивановича Харитонова. На всю округу они славились не только своим товаром, но и, как сегодня принято говорить, рекламными акциями. Каждый, купивший в лавке товар на сумму более 1 рубля, награждался купцом различным галантерейным ширпотребом. В начале XX века в Чесме уже работало 3 мельницы, одна из которых была паровой. Ее хозяином был Павел Дмитриевич Котельников. Услуги по выработке сливочного масла оказывали сразу три маслобойни, принадлежавшие Тихону Рыжкову, Алексею Тихонову и Сергею Капустину.
Одним из событий, случившихся в Чесме и попавших на страницы губернских газет и войсковые приказы, стал сильнейший пожар, произошедший 22 июня 1911 года. Эта трагедия в свое время была подробно описана А. Н. Беликовым. К ней добвлю следующее. 24 июня 1911 года поселковым атаманом С. И. Ильиным было издано распоряжение о создании поселковой пожарной дружины. В том же году здесь была построена первая каланча. Так что 24 июня можно по праву считать днем рождения Чесменской пожарной охраны.
Рассказ о Чесме был бы неполным, если не вспомнить о Матушкином хуторе. Этот населенный пункт в административном плане входил в состав Чесменского поселка. История его возникновения такова. Земельный надел в размере 150 десятин в свое время был дарован вдове офицера Березинской станицы Никиты Матушкина, находившегося в строю с 1822 по 1857 гг. и принимавшего участие во многих боевых походах. Этот надел перешел по наследству одному из сыновей бравого казака Георгию, тоже человеку незаурядному. Дослужившись до звания войскового старшины, Георгий Никитович Матушкин стал атаманом станицы Степной. О заслугах этого человека говорят и его награды — ордена Святого Станислава и Святой Анны. Причем, каждый из орденов Матушкин получил за боевые заслуги сразу двух степеней. Вот на этом-то наделе и жили крестьяне, которым земля была сдана в аренду. В 1916 году здесь располагалось 15 домов, в которых проживало 125 человек. А сам Чесменский поселок подошел к 1917 году достаточно крупным населенным пунктом. Тогда здесь было 349 домов, в которых проживало 2447 человек.
В историю Чесменской станицы вошло и имя есаула Николая Федоровича Толхаева, которого сегодня бы назвали крепким хозяйственником. Он долгие годы служил смотрителем складов второго военного отдела Оренбургского казачьего войска. А в Чесме Толхаев владел одним из самых больших домов, построенном по «городской» моде. После революции второй этаж особняка был разобран. Из этих бревен возвели здание, где сегодня размещается пограничная комендатура. А в самом «толхаевском» доме в свое время размещались школа и военкомат. Сегодня здесь — центр социальной защиты населения.
Революция расколола наш край на два враждующих лагеря. Мы не будем углубляться в эту тему. Заметим лишь, поселок Чесменский оказался в некоторой стороне от полей сражений. В доступных на сегодняшний день источниках Чесма упоминается лишь единожды. В дневнике военного комиссара 214-го Симбирского полка Н. И. Кирюхина говорится: «…утром (13 августа 1919 года — прим. авт.) посылали взвод конной разведки для занятия отрога Чесменского, откуда можно было связаться с бригадой Каширина, но тоже неудачно: разведка, отъехав на 5—6 верст, тоже наткнулась на белых, которых было 70 — 80 человек…».
В нашем районе до сегодняшнего дня существует «легенда» о некой приверженности казаков отдельных станиц «красным» или «белым». В действительности реальность была иной. Тогда была такая сумятица, что было и не понять, кто за кого. Судите сами. В самом начале 18-го года по призыву войскового круга казаки наших станиц должны были выступить против большевиков, захвативших к тому времени власть в Троицке и Оренбурге. На этот «клич» отозвался только небольшой отряд казаков Новоеткульского поселка, который выдвинулся к Троицку, но «переморозившись», повернул домой. В июне того же года началась насильственная мобилизация казаков в армию Колчака и Дутова. После их разгрома пошел другой процесс, мобилизация в Красную Армию.
С установлением советской власти в Чесменской станице (статус станицы Чесме был возвращен в октябре 1917г. — прим. авт.) начали формироваться новые органы власти. Председателем станичного ревкома был избран Петр Мефодьевич Чернышев, председателем поселкового ревкома — Яков Григорьевич Крохин. Ревком на Матушкином хуторе возглавил Иван Харитонович Перерва, а в Преображенских выселках — Зосим Ильич Лычагин.
Революция и последующая за ней гражданская война существенно подорвали хозяйственный комплекс поселка, торговля была свернута, производство зерна и мяса резко сократилось. Если к этому добавить введенную советским правительством продразверстку и неурожай 1921 г., то станут понятны причины голодного мора 1921—1922 гг. Чесменцы, как, впрочем, и жители других станиц и поселков, вымирали целыми семьями. О тех страшных временах красноречиво рассказала газета «Советская правда»: «…в Чесменском поселке Троицкого уезда население с самой осени кормится древесными листьями, суррогатом всех сортов, едят падаль. Сейчас и суррогата все меньше и меньше. Люди умирают от голода. В открытой столовой (сегодня в этом здании располагается местное отделение судебных приставов — прим. авт.) кормятся только 250 детей. Нужна столовая еще на 1500 человек. Если помощь, хотя бы самая маленькая, оказана не будет, половина населения умрет, не дождавшись урожая». В старой части местного кладбища есть большой безымянный холм, заросший травой. Это братская могила наших земляков, умерших во время голода.
20-ые годы вошли в историю Чесменского поселка, как время восстановления и развития. Постепенно начинает осваиваться правый берег Туеткана, появляется т. н. Белорусский поселок, который заселили плановые переселенцы из Белоруссии. Поначалу местное население встретило «новоселов» настороженно, на почве чего иногда возникали бытовые неурядицы. Но постепенно этот разлад сошел на нет.
В 1928 году в близлежащем березняке застучали топоры и завизжали пилы. Здесь началось строительство больницы. Заметим, что кирпич, крепость которого восхищает многих и сегодня, для новостройки изготавливали на месте. Для этого неподалеку был построен кирпичный завод.
Не смотря на большую бытовую и хозяйственную занятость, местное население умудрялось еще и развлекаться. Конечно, зачинщиками развлечений была молодежь. Но нередко к этим «забавам» подключались и зрелые мужики. Еще с давних времен переулок, который сегодня называется Школьным, служил своеобразной границей между «микрорайонами» поселка. И этот «рубеж» был местом проведения кулачных боев, в которых нередко принимали участие и стар, и млад. Поводы для стычек были самыми различными. Нередко «бои» проводились ради развлечения. И эта «традиция» выяснения отношений «стенка на стенку» сохранялась в Чесме вплоть до 30-ых годов. Другим развлечением, особенно молодежи, стала своеобразная карусель, которую еще до революции установили на «плацу». Устройство «карусели» было весьма примитивным. На длинный столб сверху закреплялись длинные веревки с петлями. Катающийся вставлял одну ногу в петлю, другой отталкивался от земли и крутился. Согласитесь, весьма рискованное развлечение. Детвора играла в «чижика», «ножички», подростки увлекались «бабками» или «асиками».
После закрытия в 1930 году Никольской церкви у чесменской молодежи появился клуб. Взрослое население поначалу считало неприличным устраивать какие-либо развлечения в храме. Но постепенно бывшая церковь стала центром культурной жизни всего поселка. Особой популярностью у всех слоев населения были спектакли, которые устраивали комсомольцы. По воспоминаниям старожилов, наиболее яркой постановкой самодеятельных артистов стал спектакль «Стенька Разин». Молодежь играла настолько горячо и вдохновенно, что по ходу действия «княжну» выбрасывали в окно точно так же, как лихой атаман в свое время бросал несчастную за борт своего челнока.
Имена первых комсомольцев сегодня уже почти забыты. Поэтому считаю своим долгом вспомнить их поименно, тем более что многие из них погибли в годы Великой Отечественной войны. Геннадий и Степан Щелоковы, Матвей Вьюшкин, Тимофей Романов, Вера Лазарева, Егор Ляпунов, Анна Назарова, Фома Щукин… На счету первых комсомольцев станицы было немало славных дел. Сегодня уже мало кто помнит, как подростки разбивали сиреневый сад, устанавливали скамейки во дворе клуба, строили танцплощадку. Все это будет уничтожено в 1966 году, когда начнется строительство районного Дома культуры, который, между прочим, изначально носил имя 50-летия ВЛКСМ.
Другим знаменательным событием той поры стало создание в Чесме колхоза «Красный партизан». Его первым председателем был избран Александр Семенович Антонников. Это его имя сегодня носит одна из улиц районного центра.
В конце 30-ых годов в Чесме строятся два деревянных здания для школы, которая получает статус средней. Одно из этих зданий сохранилось и сегодня, в нем располагается служба вневедомственной охраны. А на месте второго здания в 60-ых годах было построено здание Чесменского РОВД. Первый свой выпуск Чесменская средняя школа сделала 21 июня 1941 года…
2008г.
Казаки из Сеитовской слободы
У большинства россиян, да и иностранцев тоже, сложилось устоявшееся представление о внешнем облике казака. Эдакий русоволосый парень, как принято говорить, славянской внешности с ниспадающим чубом и, как обязательный атрибут, пышные усы. Во многом этот образ был сформирован отечественными произведениями художественной литературы и кинематографа. Однако, далеко не всегда казак выглядел именно так…
Казачество, как известно, зародилось на Руси еще со времен Запорожской Сечи. Бежали на Дон крепостные крестьяне в поисках лучшей доли и справедливости, уверовав, что там, за Доном, и есть она, настоящая свобода.
Однако век казачьей вольницы был недолог. Русские государи, даровав казакам относительную свободу и землю, взамен потребовали верной службы престолу.
Первым казачьим войском, формировавшимся не по воле «низов», а по указанию «сверху», стало Оренбургское казачье войско (ОКВ). Оно, пожалуй, самый яркий пример многонациональности казачьего сословия, вобравшее в себя представителей многих народов.
В 1744 году после упразднения так называемой Закамской оборонительной линии последовало высочайшее повеление о переселении во вновь созданную Оренбургскую губернию самарских, уфимских, алексеевских и исетских казаков. Особо подчеркивалась необходимость переселения в степной край торговых татар из Казанского и других уездов. Так на реке Сакмаре поселилось 176 татарских семей (на тот момент это составляло около тысячи человек). Своеобразным «предводителем» татарской диаспоры в Оренбуржье стал Сеит Хаялин. Именно он считается основателем Сеитовской (Каргалинской) слободы.
По задумке властей торговые татары должны были сыграть решающую роль в налаживании торговых и иных связей с государствами Средней Азии. И эти планы полностью оправдались. Торговля процветала, несмотря на постоянные нападения киргиз-кайсаков (казахов) на торговые караваны, да и на саму слободу тоже. К концу XVIII века в Оренбуржье уже проживало более 6 тысяч татар.
Власти по началу принялись, было, приобщать «инородцев» к христианству. Эта кампания порою принимала анекдотические формы. Мордва, переселившаяся в свое время на новые места, вроде бы, новую веру приняла. Но в тайне от властей продолжала поклоняться идолам в оврагах и лесной глуши. А в домах их висели православные иконы с перевернутыми верх ногами божественными образами. На все увещевания и даже угрозы представителей властей и православного духовенства ответ был один: «Дак, он же Бог, поэтому и висит, как хочет».
Насильственная христианизация не прошла бесследно и для татар. Она стала первопричиной формирования субэтноса нагайбаков.
Жителей Сеитовой слободы этот процесс миновал. В столице вовремя остановились, поняв, что крещение магометан (термин, официально используемый в российском делопроизводстве дореволюционного периода — прим. авт.) чревато религиозными войнами на территории не только самой России, но и в среднеазиатском регионе, где российская корона не безосновательно рассчитывала получить влияние и поддержку.
Однако, «сеитовцам» не удалось избежать другого. 12 октября 1799 года император Павел I издал указ, по которому ясаичные татары Оренбургской губернии причислялись к Оренбургскому казачьему войску. А дальше последовало переселение части жителей Сеитовской слободы в казачьи поселения. А сама слобода была переименована в Каргалинскую станицу.
Конечно, даровав казакам-татарам определенные привилегии (главным образом речь идет о земле, в ОКВ размер земельного надела достигал 30 десятин на каждого члена семьи мужского пола — прим. авт.), власть потребовала от них и преданного служения по защите интересов империи на южных рубежах.
Среди тех, кого павловский указ объявил оренбургскими казаками, были потомки темниковского мурзы князя Дашки, принимавшего активное участие в народном ополчении Минина и Пожарского. Эти потомки и стали основателями прославленного казачьего рода Дашкиных. Отметим, ко временам революций и гражданской войны этот род был одним из самых крепких, но и, пожалуй, самым «разношерстным». В нем были и князья, и рядовые казаки. Объяснялся такой «казус» канцелярской неразберихой, увы, творившейся в многочисленных столичных заведениях и коллегиях. Кто-то из потомков Дашки смог доказать свое дворянское происхождение, а кто-то и нет.
22 июня 1861 года у хорунжего ОКВ князя Шангарея Дашкина и его жены Бибифатимы, дочери муллы Ряева, родился мальчик, которого нарекли Зюлькарнаином. Отец новорожденного в это время служил младшим офицером ОКВ. И служил он весьма достойно, хотя, и звезд с неба не хватал. Дослужившись до звания войскового старшины, и получив от государя два ордена, в 1876 году он вышел в отставку.
А его подросший сын Зюлькарнаин в этом же году был зачислен младшим писарем 3-го военного отдела войска, расположенного в г. Троицке. Уже через год юноша успешно выдерживает вступительные экзамены в Оренбургском юнкерском училище. Заметим, это испытание выдерживали далеко не все претенденты. Одаренный Дашкин за успехи в учебе вскоре производится в урядники. А ведь к тому времени ему еще не исполнилось и 18 лет! После окончания училища он зачисляется на службу в 5-ый Оренбургский казачий полк. И уже через год ему присваивается звание хорунжий. В то время 19-летний Зюлькарнаин Дашкин был самым молодым хорунжим ОКВ.
Уже в юности за Дашкиным закрепилась слава отменного стрелка и наездника. В документах той поры сохранилось немало свидетельств его многочисленных побед в различного рода скачках и стрельбах.
Дашкин, помимо прочего, обладал и такими качествами, как справедливость и требовательность, принципиальность и сострадание. Поэтому он пользовался неизменным уважением как среди офицеров, так и рядовых казаков. Черты его характера во многом способствовали избранию его атаманом одной из самых крупных станиц ОКВ — Ключевской. А было тогда атаману чуть больше 30 лет, что само по себе было довольно редким явлением, обычно возраст атаманов был значительно старше.
Но жизнь Дашкина «на гражданке» была недолгой. В 1895 году Дашкин вновь в войсках. На этот раз в Ташкенте в составе 5-го Оренбургского казачьего полка, где князь выполнял не только воинские обязанности, но и общественные, являясь членом полкового суда и суда офицерской чести. Заметим, не все удостаивались этого права. Именно в Ташкенте Дашкин получил первую свою государственную награду — серебряную медаль «В память царствования Императора Александра III». Ну и, конечно же, все призы за стрельбы и скачки были тоже его.
А наград в жизни князя было немало. Орден Святой Анны 3-ей степени, золотая Бухарская звезда 2-ой и 3 –ей степени, орден Святого Станислава 2-ой степени…
Вот содержимое лишь одного из наградных листов Зюлькарнаина Дашкина, датированного 1906-м годом: « Ввиду уз дружбы и согласия, связывающих Бухару с могущественным РОССИЙСКОИМПЕРАТОРСКИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ на благо и спокойствие народов, пожаловали Мы Командиру конвойной сотни 5-го Оренбургского казачьего полка Есаулу Дашкову Бухарский орден Золотой звезды третей степени, дабы он, украсив ею грудь свою, пребывал к Нам доброжелательным. Эмир Сеид Абдул Аханд 1323 год Месяц Радзан. г. Ташкент».
…А потом наступило 17 июля 1914 года. Именно в этот день в 7 часов вечера в Оренбурге узнали о начале мобилизации, начиналась вторая Отечественная война (именно так изначально в официальной и народной среде, именовалась первая мировая война — прим. авт.). А в судьбе и военной карьере Дашкина начался новый этап, полный побед и поражений. Однако, заметим, первых у князя было больше. О чем красноречиво свидетельствуют теперь уже боевые награды: Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Святой Анны 2 ст. с мечами, Святого Станислава 2 ст. с мечами и бантом, Святой Анны 3 ст. с мечами, Святого Станислава 3 ст. с мечами.
Конечно, победы достигаются не только благодаря мудрости командиров, но и мужеству рядовых воинов тоже. Возглавляемый Дашкиным 14-ый оренбургский казачий полк, в котором служила немало казаков-татар, отличался от многих других воинских соединений относительно низкими потерями и большим числом награждений рядового состава. Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями (эти награды особо ценились в казачьей среде — прим. авт.) были награждены Мухамедзян Масков, Газиз Мусин, Камалетдин Юсупов, старший урядник Насретдин Усманов, санитар Нурмухамед Дельмухаметов, казак Сагит Абдуллин, Самигулла Суюндуков, Искак Аюпов, Хабибулла Габясов, Сеитгалей Апсалямов, Ахмутдулла Калимуллин Абдулвагапов, Файрук Абдрашитов Махмутов, Гилязетдин, Сыразетдинов Манцуров, Рахматулла Мухамедов, Хусаин Мунасыпов, Нигматулла Забиров, Гариф Бибиков, Газильхак Искаков и многие другие.
За скобками этого повествования заметим, под командованием Дашкина в составе 14-го полка воевали и были награждены Георгиевскими крестами два ближайших предка будущего премьер-министра России Виктора Черномырдина.
После свержения самодержавия Дашкин был отозван в Оренбург. В последнем своем приказе по полку князь писал: «…Расставаясь ныне с полком, считаю долгом службы объявить
искреннюю мою благодарность всем гг. офицерам и молодым станичникам за их верную и честную службу на пользу дорогой Родине».
А потом случилось то, что случилось. По началу Дашкин не вмешивался в «революционные разборки», считая, что не гоже военному влезать в политику. Но гражданская война втянула в свой водоворот всех. Так генерал-майор Зюлькарнаин Шангиреевич Дашкин (это звание ему было присвоено в 1917 году — прим. авт.) оказался в рядах атамана Дутова и до конца испил горькую чашу поражения и изгнания. Увы, до сегодняшнего дня нет точных данных о месте и времени его смерти. По одной из версий он дожил свой век в Турции. Однако, это только версия. Дни прославленного генерала могли оборваться и во время «голодного» перехода в Китай (отступление белоказачьих соединений в Среднюю Азию и Китай — прим. авт.)…
В наши дни на территории бывшего Оренбургского казачьего войска живет немало потомков тех казаков-татар, которые на протяжении веков верой и правдой служили своему Отечеству. Увы, зачастую об этой странице нашего прошлого уже мало кто помнит. В свое время тема казачества вообще, а тем более мусульманства в казачьей среде, была под неофициальным запретом. Но к счастью времена меняются. И наш долг вернуть из небытия имена далеких предков.
2009г.
Мастеровые казаки
Одной из наиболее острых проблем в жизни оренбургских казаков на первоначальном этапе колонизации Новолинейного района и существования войска, как военно-административного образования, в рамках Высочайше утвержденного 12 декабря 1840 года Положения об Оренбургском казачьем войске (ОКВ), была нехватка мастеровых людей.
Согласно упомянутому Положению, на обширной территории войска запрещалось селиться людям неказачьего сословия, что, естественно, существенно ограничивало развитие ремесел в ОКВ. Но если в первые годы таких ограничений проблема решалась за счет крестьян, пожелавших перейти в казачье сословие и имевших навыки в ремеслах, то в последующем прослойка мастеровых людей среди казаков неуклонно сокращалась.
Повседневные потребности казаков в услугах ремесленников были немалыми. В данном случае необходимо учитывать, что казак был обязан иметь полностью снаряженную ездовую лошадь и личное обмундирование, соответствующее многочисленным регламентам. Все это приобреталось за счет собственных средств казака и ложилось существенным финансовым бременем на казачьи семейства. Но те же седло, сбрую, шинель, сапоги еще нужно было кому-то заказать. К этому следует добавить, что услуги ремесленников казакам были необходимы и в быту.
К середине 50-ых годов XIX века ситуация с нехваткой ремесленников обострилась до предела. В те годы в обширном и многочисленном ОКВ было всего лишь 10 седельников, 10 шорников и 65 портных.
Понимая всю остроту проблемы, Оренбургский и Самарский генерал-губернатор Александр Андреевич Катенин «…заботою о распространении между казаками Оренбургского казачьего войска ремесел…» обратился к Санкт-Петербургскому военному генерал-губернатору Павлу Николаевичу Игнатьеву с письмом, в котором просил его содействия «… о помещении к тамошним мастеровым нескольких казачьих малолетков для образования из них преимущественно седельников, шорников, сапожников и портных…». И такое содействие было оказано: Игнатьев дал согласие на обучение в столице 50 оренбургских казачьих малолетков.
11 мая 1858 года наказной атаман ОКВ генерал-майор Иван Васильевич Подуров подписал циркулярное письмо, в котором всем полковым правлениям предписывалось «… родителям малолетков внушать пользу обучения детей их мастерствам, так как они после сего могут быть им более полезными…». В этом же письме указывалось, что обучение малолетков в столице будет бесплатным, родители должны были оплатить лишь питание своих сыновей в дороге до Оренбурга. Свое согласие на отправку в Санкт-Петербург родители должны были дать не позднее 15 октября. В циркулярном письме Подуров особо предписывал начальникам станиц при формировании групп учеников отдавать предпочтение сиротам.
Во всех полковых округах был организован поиск желающих направить своих сыновей на учебу в столицу. В разных станицах результаты этой работы были неодинаковыми. Так, например, в станицах Верхнеувельская, Полетаевская и Кичигинская не нашлось ни одного желающего, а из Еткульской станицы в Санкт-Петербург отправилось сразу три малолетка.
Всего в ОКВ для учебы ремеслам была собрана команда из 121 малолетка, среди которых сын казака Каратабанской станицы Федор Викторович Петров, казачьи малолетки станицы Еткульской Иван Гордеевич Устинов, Илья Трофимович Салегаев и сирота Александр Ульев, подростки из Еманжелинской станицы Федор Владимирович Подшивалов и Артемий Павлович Печеркин…
В конце ноября 1858 года группа оренбургских малолетков выехала в столицу. На содержание учеников в дороге, оплату их обучения в Санкт-Петербурге и обустройство юных оренбуржцев в столице из войсковых сумм было выделено 4853 рубля 85 копеек серебром.
По прибытии в столицу малолетки были распределены по учебным группам. Их наставниками стали портной мастер Василий Ташкунов, портной иностранного цеха Преяр, мастер шорного цеха Иван Бурундуков, мастера сапожного цеха Иван Михайлов и Василий Чудов, мастер кузнечного цеха Александр Жидков…
Непростой была жизнь казачьих малолетков в Санкт-Петербурге, но они с успехом постигали азы ремесел, которым должны были посвятить свою жизнь. И уже через год новоиспеченные мастера-оренбуржцы вернулись на родину. Именно они стали родоначальниками династий казаков-ремесленников в Оренбургском казачьем войске.
2013г.
К вопросу «лености» оренбургских казаков
Впервые о «лени» оренбургских казаков я узнал, читая роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб». По сюжету произведения, сибирские крестьяне, проезжая станицы Новодинейного района, отмечали особенную неухоженность казачьих поселений. «Гонять этих лодырей некому» — изрек один из них…
Весной 1858 года, объезжая прилинейные станицы и редуты, наказной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-майор И.В.Подуров приказал своим адьютантам вести дневник, который позднее лег в основу циркуляра №2446 от 31 декабря 1858 года. В этом письме, адресованном всем командиров полков, было отмечено:
«… В станице Краснохолмской дома плохи, под соломенными крышами, и только во всей станице не более 4 домов крыты тесом. Жители не стараются об улучшении своих жилищ. Между тем, как известно, они в 1857 году продали зерном до 90 тысяч пудов. Следовательно многие из них имеют достаточно средств для улучшения домов, а близость реки Урал дает им возможность приобретать по умеренным ценам сплавленный строевой лес. Поэтому гг. Командующим полками приохочивать казаков строить хорошие дома, и убеждать оставлять принятое ими еще в крестьянском звании обыкновение крыть дома соломою и камышом».
Не лучше дела обстояли и в других поселениях Новой линии. Например, в станице Константиновской «… дома без сеней и даже без крыш…», в отрядах Надежденском и Веренском «… много плохих домов с весьма ветхими крышами, некоторые полузакрыты дерном, без дворов…», в выселке Александровском Николаевской станицы «… некоторые дома полураскрыты, а другие вовсе без крыш…», в станице Кваркенской, заселенной переселенцами из Илецкого района, местные жители «… строят дома не на фундаментах, даже не подкладывая камней под углы, а кладут нижние венцы прямо на землю. Стены рубят без моха, который без затруднения можно получать из ближайшего озера…». Главной причиной подобного состояния поселков Подуров считал «нестарание жителей».
Наряду с замечаниями по строительству жилых домов наказной атаман обращал внимание на устройство дорог между поселками. В районе Великопетровской станицы им было замечено: «… от Великопетровской до Варны, а оттуда к Кулевчи и до Николаевской нет на дорогах пирамид, а зимой выставляются вехи из камыша, но на всем пространстве есть лес, и вехи можно выставлять из валежника…». В Ново-Орской станице дела в этом отношении обстояли, видимо, еще хуже. Во всяком случае, после обнаружения развалившихся пирамид на дороге Подуров распорядился «…станичного начальника урядника Вяскова удалить от должности». И опять упоминается «нестарание».
Понимая, что залогом благосостояния поселков являлось благосостояние всех жителей, наказной атаман особо интересовался тем, сколько хлеба сеют казаки? И в этом вопросе им было обнаружено немало вопиющих, по его мнению, фактов. Например, в Воздвиженской станице «… многие казаки, преимущественно из магаметан, даже большесемейных, имеют самое ничтожное хозяйство, некоторые семейства, заключающиеся из 8 душ, имеют по 1 лошади и засевают хлеба не более 1\2 десятины; другие же вовсе не имеют скотоводства и из-за своей лености нисколько не засевают хлеба». В Михайловской станице «… есть семейства, не имеющие лошадей и не засевающие нисколько хдеба, а именно 10 семейств не имеют лошадей, 37 семейств, у которых только по одной лошади; 17 семейств в 1858г. высеяли хлеба только по 1 десятине, 8 семейств по 1\2 десятине, 16 посева вообще не имели…». И далее в дневнике: «… из отзывов же станичного правления узнаю, что некоторые из казаков, не занимающихся хозяйством проживают в Троицке в работниках».
Трудно заподозрить наказного атамана в предвзятом отношении к жителям казачьих поселений, ведь сам он прослужил в этих краях уже два десятка лет и не понаслышке знал о всех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться новопоселенцам. Но вместе с тем атаман не мог не замечать, что царящая в казачьих поселках неустроенность, противоречащая всем Положениям о планировке и застройке казачьих поселений, являлась следствием недостаточного надзора со стороны командиров полков и явной нехваткой специалистов, способных грамотно распланировать и, что не менее важно, своевременно проконтролировать выполнение норм строительства.
Так были оренбургские казаки как-то по-особенному ленивыми? С одной стороны, безусловно, проявления относительной лености у части казаков имели место быть. Но при определенном административном воздействии на нерадивых эти проблемы, как правило, преодолевались. Но при этом важно учитывать, что значительное число поселений в Новолинейном районе заселялись разноплеменными людьми, каждый из которых имел свое представление о порядке и благоустройстве. Кроме этого, они имели и различный опыт обустройства жилых домов и надворных построек. Нельзя забывать и о том, что немало отрядов долгое время не могли найти удобного места для своего размещения. Общеизвестно, что изначально местоположение новых поселков было определено властями в соответствие с Высочайше утвержденными Правилами о переселении на земли Оренбургского казачьего войска казаков упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, белопахотных солдат и солдатских малолетков. Однако малоизвестны случаи, когда поселки переселялись с указанных в Правилах мест в более удобные для проживания местности Новолинейного района. И такое случалось довольно часто. Причем, в некоторых случаях новые поселки переселялись по несколько раз. Понятно, что частые переезды сказывались на отношении жителей поселков к вопросам благоустройства населенных мест.
Возвращаясь к реплике сибирского крестьянина о «лени» оренбургских казаков, важно напомнить, что на казаков, в отличие от других сословий, возлагалось немало общественных повинностей. Ежегодно они отвлекались на военные сборы и нередко участвовали в военных операциях. Иными словами, до своего хозяйства у казаков часто не доходили руки.
За три года до описываемых здесь событий при Войсковом правлении были введены должности войсковых землемера и архитектора, которые должны были «… наблюдать за правильной постройкой общественных зданий, а также к устройству войсковых поселений по изданным в 1821г. правилам о порядке построения в казачьих войсках станиц и хуторов». Однако, как показывает циркуляр Подурова, на практике многое не соответствовало «правилам». Относительный архитектурный порядок в станицах будет наведен лишь в середине XIX века. Что же касается пресловутой «лености» оренбургских казаков Новолинейного района, то она в целом будет преодолена лишь к концу 80-ых годов XIX века их жизнь войдет в относительно спокойное русло, и станицы станут зажиточными.
2013г.
Наши
В 1835 г. императором Николаем I был утвержден план переноса государственной границы вглубь степи. Граница была выпрямлена по линии Орск-Троицк. Этот участок государственной границы официально стал именоваться новой линией. Громадное пространство (более 10 тыс. квадратных верст) между старой и новой линиями получил название Новолинейного района, целиком присоединенного к землям Оренбургского казачьего войска.
В 1838 — 1848гг. на новолинейных землях было построено более 50 казачьих населенных пунктов, в том числе и поселки, ныне входящие в состав Чесменского района: Березинский, Натальинский, Тарутинский и Чесменский. Первопоселенцами этих поселков (поначалу их называли отрядами) стали казаки «старых» станиц ОКВ, переселявшиеся на эти земли казаки упраздненного Ставропольского калмыцкого войска, и белопахотные (безземельные) солдаты и малолетки, пожелавшие войти в казачье сословие.
Позже (вторая половина XIX- начало ХХ вв.) в границах современного Чесменского района были возведены казачьи поселки Углицкий (основан в 1860г. казаками Тарутинского поселка), Михайловский (современное название — Порт-Артур, основан казаками поселков Алексеевского, Судаковского, Чалкинского и Репина Донецкой станицы 1 военного отдела в 1903г.), Резутовский (современное наименование — Редутово, основан в 1903г. казаками пос. Никитинского Пречистинской станицы 1 военного отдела, Московский (основан в 1912г. казаками пос. Павловский той же станицы 1 военного отдела), Новоеткульский (основан казаками поселков Белоусовский и Тимофеевский станицы Еткульской 3 военного отдела в 1913 г.), Преображенский (современное название — Беловка, основан в 1915г. казаками пос. Беловский Уйской станицы 2 военного отдела), Черноборский (основан казаками пос. Уйский той же станицы 2 военного отдела в 1916г.).
Административное подчинение казачьих поселков, ныне расположенных на территории Чесменского района, не единожды менялось. К началу 1 мировой войны пос. Тарутинский находился в составе Михайловской станицы, Новоеткульский — в Кособродской, Черноборский — в Степной. Все остальные поселки до 1914г. входили в состав Березинской станицы. 24 декабря 1914г. наказным атаманом Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенантом Н. А. Сухомлиновым был подписан приказ №766 о разделении станицы Березинской на две самостоятельные станицы — Бородиновскую и Куликовскую. В состав первой были включены помимо прочих поселки Чесменский, Московский и Резутовский, а к Куликовской были отнесены поселки Березинский, Порт-Артурский, Натальинский и Углицкий. Однако, деятельность Березинского станичного правления продолжалась вплоть до 1917г., и все выше перечисленные поселки продолжали находиться в подчинении атамана Березинской станицы. Такое положение отразилось и на наградных приказах: казаки формально разделенной станицы продолжали числиться за Березинской станицей.
Эти особенности административного устройства ОКВ легли в основу поиска Георгиевских кавалеров, результаты которого изложены в данном издании. Станицы Березинская, Кособродская, Михайловская и Степная — это те военно-административные образования Оренбургского казачьего войска, к которым были приписаны наши предки.
2010г.
Малиновый звон на заре
В конце XIX века пассажирам почтовых тарантасов, отправляющиеся в довольно хлопотное по тем временам путешествие по столбовой дороге от славного города Троицка до станицы Степной, предстояло столкнуться с захватывающим дух от восторга эффектом. По благоухающей разнотравьем степи на десятки километров разносился перезвон больших и малых колоколов православных храмов. Заводилой этой прекрасной многоголосицы выступал большой соборный колокол Свято-Троицкого кафедрального собора. Ему вторили колокола всех двенадцати православных церквей Троицка, а вскоре к этому «хору» присоединялись и колокола церквей Новолинейного района. И, как описывают свидетели этого чуда, в хорошую погоду где бы не находился путник в эти минуты, он обязательно слышал звон колоколов. Настолько много было церквей в степи. Для чего и когда они появились здесь?
В тридцатых годах XIX века в столице империи было принято решение о переносе южной границы вглубь степи. С чем было это связано — тема отдельного разговора, но развернувшиеся вслед за этим события имели важнейшее историческое значение, как для России, так и проживающих на севере Казахстана родов киргиз-кайсаков (так в то время именовались казахи). Собственно, Младшая Орда еще в 1731 году добровольно вошла в состав России, но сей факт мира на границе не прибавил, хотя к тому времени Россия уже разрослась до побережья Тихого океана. С переносом границы громадный треугольник земли Орск — крепость Уйская — Троицк, который с этого времени именовался Новолинейным районом, стал заселяться людьми казачьего сословия. Для местного населения появление на этих землях россиян (а это были этнически не только русские, но и калмыки, нагайбаки, мордва, башкиры и другие народности) не было неожиданностью. Кочевавшие в этих краях казахские роды уже сто лет жили рядом с россиянами в мире и согласии. Свою роль в мирном вхождении России в Новолинейный район сыграли и хитрости дипломатии, которые проявляли чиновники оренбургского военного губернатора В. Перовского.
Отнюдь немирно встретили россиян роды, кочующие гораздо южнее. Подстрекаемые английскими резидентами, которым покою не давал набирающий силу металлургический центр Урала, вожди этих родов нередко направляли своих джигитов на погром строящихся новых поселений русских. От этих набегов нередко страдали и мирные соплеменники нападавших, которые вырезали сородичей целыми семьями, или, как тогда выражались, «кибитками». Словом, прибывающим на эти земли казакам приходилось не сладко. Нужно было строить станицы и редуты, но нельзя было забывать и о хлебе насущном, ведь казаки должны были кормить себя и свои семьи сами, при этом отражая атаки лихих кочевников.
Для современной молодежи, наверное, будет новостью узнать, что поселок Натальинский в свою бытность станицей в 1838 году подвергался набегам отрядов самопровозглашенного султана Кенисары Касимова. И таких станиц и поселков в Новолинейном районе было десятки. Служба первопоселенцев было опасной и трудной. К тому же нередко в одно поселение приезжали на службу выходцы из разных краев и волостей России, что естественно не могло не сказаться на взаимоотношениях людей.
Военный губернатор Оренбургской губернии В.А.Перовский, понимая важность создания для поселенцев не только бытовых, но и духовных условий, обратился с письмом на имя императора Николая I и Священного Синода, в котором просил мирские и духовные власти решить вопрос о строительстве храмов в Новолинейном районе. Его просьбу в столице услышали, но, как это нередко бывает, письма и циркуляры стали «гулять» из одного ведомства в другое. Бюрократов в России хватало всегда. В конечном итоге к 1851 году на Новой линии было всего лишь 3 одноклирных церкви и один молитвенный дом. Этого было явно недостаточно. Отсутствие в казачьих поселениях постоянно действующих культовых сооружений создавало почву для появления религиозных сект. А это могло привести к развалу всего Оренбургского казачьего войска. И тогда Перовский едет в столицу, и на аудиенции у Николая вновь подает прошение. Мы не знаем, о чем тогда говорили самодержец и губернатор, но после этой встречи в Новолинейном районе церкви стали возводиться одна за другой.
Первые упоминания о церкви на чесменской земле относятся к 1852 году. Но тогда это была еще не церковь, в прямом понимании этого слова, а молитвенный дом, или как написано в документе, «учебный сарай с земляным полом». Однако, в этом самом «сарае» уже служили священник и причетник (псаломщик), которые в 1952 году провели церковные обряды в отношении пятерых «духовного ведомства исповедавшихся и причастившихся». В 1854 году в отчетах появляется упоминание часовни в станице Чесменской, которую освятили как временную церковь, и дали ей имя Николая Чудотворца (Николаевская). В то время к церкви в Чесме были приписаны жители населенных пунктов станиц Тарутинской, Лейпцигской, Березинской и Бородиновской, в том числе « 933 души мужеского пола и 929 душ женского пола». Первые метрические книги для Николаевской церкви были приобретены в Москве, а церковная утварь — на Нижегородской ярмарке. Сегодня трудно судить, где и как долго стояли эти временные сооружения. Но, если учесть православные традиции строить храмы на «намоленных местах», то можно предположить, что и молитвенный дом, и часовня стояли там, где сегодня располагается районная детская библиотека и памятник Павшим Героям.
А в 1894 году на Атаманской площади Чесменской станицы, там, где сегодня стоит районный дом культуры, была построена уже постоянная деревянная церковь, которой, как и ее предшественницам, дали имя Николая. Увы, сегодня мы не можем назвать имена всех священнослужителей Николаевской церкви. Но все же часть имен история сохранила. Это Иосиф Левицкий, Константин Андреев, Константин Покровский… Последним настоятелем Николаевской церкви был Захар Петрович Пристинский, который в 1930 году по решению Троицкого райисполкома был раскулачен и выслан за пределы Троицкого района.
Архивные источники свидетельствуют, что церковь в Тарутинской станице была «…тщанием жителей Тарутинского поселка и с разрешения Преосвященнейшего Митрофана, Епископа Оренбургского, освящена в 15 день февраля 1873 года… во имя Архистратига Божия Михаила». Располагался этот храм в том месте, где сегодня стоят памятники воинской славы. Какой же была церковь, купола которой отражались в водах Тарутинского озера? Удивительно, но архивы сохранили и эту информацию не только для нас, но и для наших потомков. Читаем: «…храм деревянный, холодный, в один этаж, с решетками на окнах, с тремя деревянными дверьми. Полы в храме деревянные, церковь о двух главах, покрытых железом, кресты гладкие, железные позолоченные. Наружная поверхность опалубленная, крашенная по дереву, колокольня соединена с церковью, деревянная, всего колоколов 5. Ограда деревянная. Решетки у алтаря нет, иконостас деревянный, покрытый бронзой, двухъярусный, размером в 12 аршин, последний раз обновлялся в 1910 году, количество икон — 27. Киотов в храме 6 из резного позолоченного дерева…». Документы донесли до нас и имена священнослужителей Тарутинской церкви. Первым священником Михаилархангельской церкви был Иван Чулков, а дьяконом — Александр Разумов. Далее в храме служили Михаил Иванович Понамарев, Филипп Петрович и Михаил Петрович Юстовы, Особо следует сказать о последнем настоятеле церкви Иване Филипповиче Юстове. Свою «карьеру» он начинал дьячком в Чесменской церкви, а потом более 30 лет служил в тарутинском храме, вплоть до его закрытия. Наверное, не трудно себе представить, что творилось на душе у старого батюшки, когда с его родного храма снимали колокола. Сердце его не выдержало, он умер незадолго до своей предполагаемой высылки за пределы Челябинской области, и прах его покоится на местном кладбище. Но остались дети, которые вдоволь хлебанули судьбины «детей попа».
Чуть младше Тарутинской была Христорождественская церковь в Березинской станице, которую освятили в 1872 году. Этот храм, хотя и строился по типовым для того времени проектам, все же несколько отличался от своих «собратьев». За счет высокого фундамента и своего расположения, а он находился на холме, там, где сегодня разместился Березинский дом культуры, храм казался очень высоким. Церковь в Березинке, как, впрочем, и все храмы на территории современного Чесменского района, была одноштатной, т.е. в ней служил один священник. И это при том, что сама станица, являясь административным центром казачьего юрта, играла роль своеобразного районного центра. Иными словами, нагрузка на причт была очень большой. Последним настоятелем Христорождественской церкви был Лапшин (имя неизвестно — прим. авт.). Судьба его ничем не отличалась от судьбы его «коллег», священник был репрессирован. Память об этом батюшке жива и поныне. И это благодаря стараниям жители Березиновки В. В.Голикова, который сберег фотографию настоятеля храма. Сегодня ее можно увидеть в экспозиции районного краеведческого музея.
В 1894 году в поселке Углицкий была построена церковь во имя апостолов Петра и Павла). Церковь мало чем отличалась от своих «сестер» по внешнему облику. Но, если судить по единственной фотографии 30-ых, которая сохранилась в архиве, храм снаружи был частично отштукатурен и выбелен. Поэтому нетрудно себе представить, как красиво смотрелся белоснежная церковь на фоне зеленого леса. Увы, никакими документальными свидетельствами о Петропавловской церкви мы сегодня не располагаем.
Самым молодым храмом в нашем районе была Казанская церковь в поселке Порт-Артур, освященная в 1910 году. Первым и единственным настоятелем церкви был Курбатов (имя не сохранилось — прим. авт.). Судьба у этого храмам была более счастливой, чем у других церквей Чесменского района. Нет, его тоже закрыли, но в отличие от других культовых сооружений здание, хотя и перестроенное, осталось стоять на своем месте. Сегодня в нем располагается школа. Мало того, жители Порт-Артура сберегли и… купол храма. Как им это удалось, осталось загадкой. Но и по сей день на территории поселкового погоста можно увидеть этот, уже обветшавший от времени, купол с крестом. Даже в самые атеистические годы к этой святыне приходили люди и молились.
Неоднократно приходилось слышать, что церковь была и в поселке Натальинский. В фотоархиве упомянутого В. В. Голикова сохранилось фотография, на обратной стороне которой написано: «п. Нат-ка, церковь». Действительно на фотографии храм, который внешне, вроде бы, не отличается от церкви. Но в книге Н. Чернавского «Оренбургская епархия в ее прошлом и настоящем», изданной в 1902 году (а именно этот источник сегодня является одним из основных, на который ссылаются исследователи — прим. авт.), упоминаний о церкви в Натальинке нет. Однако, в Адрес-календаре Оренбургской губернии за 1909 год упоминается, что в поселке Натальинском существует деревянная часовня.
Церкви помимо чисто бюрократических процедур, связанных с регистрацией браков, рождений и смерти, проведением религиозных обрядов, занимались главным своим делом — укреплением духа жителей станиц и поселков. Конечно, с наступлением мира на границе жизнь казаков стала спокойнее и размереннее. Но даже в мирных условиях священнослужителям приходилось наставлять паству на путь истинный. Ведь мирная жизнь нередко искушала ни одну буйную головушку. Яркой иллюстрацией работы священнослужителей дореволюционной эпохи служат их решительные действия во время эпидемии холеры, которая разразилась в середине 80-ых годов XIX века в Троицком уезде. Эту заразу в наши края завезли купцы из Хивы и Бухары. Мор был сильнейший. Иногда, вымирали целые семьи. И началась паника, подогреваемая многочисленными слухами и сплетнями. Запаниковали даже врачи уезда. Они в спешке начали покидать Троицк, и это обстоятельство еще больше усилило панические настроения у людей. И тогда к православному люду обратились священники. Мы уже никогда не узнаем, какие слова утешения и успокоения они нашли, но паника, которая была страшней самой эпидемии, миновала. Кстати, именно к этому периоду относится появление легенды о Святом источнике, водой которого кропили все дома Троицкого уезда. Легенда эта жива и поныне.
Наступил 1917 год. Революционные бури, которые бушевали в столице, поначалу не коснулись Новолинейного района. К тому же новые власти объявили все 10 главных церковных праздников выходными днями и особых препятствий для верующих не чинили. Но грянула гражданская война, которая внесла раскол и в ряды духовенства. Хотя, иерархи церкви призывали не вмешиваться священников в мирские разборки, тем не менее, именно участие определенной части служителей храмов в белом движении станет в последующем одной из причин гонений против православия.
Гражданская война привела к упадку экономики и хозяйственного комплекса Новолинейного района. К этому добавилась печально знаменитая продразверстка. И произошло то, что и должно было произойти. Наступил голод. Почти в каждом дореволюционном населенном пункте нашего района есть братские могилы тех, кто пал жертвой той страшной трагедии. Церковь не могла остаться в стороне от этой беды, и помогала голодающим, как могла.
Церковь в целом спокойно отнеслась к экспроприации церковных ценностей. Только в одной провинциальной Тарутинской церкви в 1922 году было конфисковано драгоценностей общим весом 10 фунтов 59 золотников (примерно 6 кг- прим. авт.). Голод отступил. Началась относительно спокойная и размеренная жизнь. Но стала набирать обороты антирелигиозная пропаганда. Религия стала «опиумом народа». Методы атеистической агитации были самыми различными. Моя бабушка, жившая в Репьевской волости Оренбургской губернии, рассказывала, как по деревням ходили «голые» парни и девушки с табличками на груди: «Бога нет, стыда нет». В те годы «голый» и «одетый в исподнее» означало практически одно и то же. Нетрудно себе представить, какой общественный резонанс имела такая агитация. Но церкви действительно стали пустеть.
Здесь я приведу без комментариев достаточно обширную цитату из запрещенной ранее книги Николая Евсеева (комиссар дивизии, член Оренбургского Губисполкома, репрессирован в 1937 году по делу маршала Блюхера — прим. авт.) «О прошлом и настоящем оренбургских казаков», изданной в Самаре в 1929 году. Итак, «… в современной станице в праздничный день вы не увидите в церкви ни одного молодого казака. Казаки охотно учувствуют во всех антирелигиозных кампаниях, чего не было в первые годы революции. Наиболее религиозной частью казачества надо считать старух, стариков и часть молодых женщин казачек. Но очень часто можно встретить и стариков и старух, не верящих в бога. Казаки имели особое отношение к попам еще до революции; это отношение к настоящему времени обострилось, и часто казаки называют попов всякими оскорбительными именами. Бедняков-казаков, настроенных религиозно не так много: у нас нет точного учета их, но характерно такое обстоятельство, что при призыве на военную службу, на всяких телесных осмотрах и в других случаях соприкосновения с казаками по количеству крестов, до известной степени, можно судить о социальном положении и степени религиозности казаков: кулаки-казаки приходят с крестом на груди, реже середняки, а бедняки — крайне редкое исключение. На допризывников рождения 1907 года из 120 человек казаков станицы Н.-Павловской только один был с крестом (его подняли на смех товарищи, и он снял его): «Что же товарищ, наверное, в попы или дьякона метишь…».
А потом по всем весям пошла волна закрытия храмов. 27 августа 1933 года Троицкий райисполком издает постановление №995, в котором запрещался колокольный звон на территории уезда. Сами колокола подлежали демонтажу и отправке на переплавку. Вместе с колоколами зачастую снимались и кресты. И по сей день по нашим поселкам из поколения в поколение передаются рассказы очевидцев, как это происходило. Храмы «не хотели отдавать» своих колоколов. У разрушителей постоянно что-то не ладилось и ломалось. Кого-то шибануло тросом. Будто вселенская сила сопротивлялась вандалам. Но «ломать, не строить», колокола были сняты.
К рассказу о колоколах следует добавить, что для каждого храма колокола отливались не по шаблону, поэтому колокольный звон церквей был различным. И прихожане даже в многоголосии звуков безошибочно узнавали свой родной колокол. В этой связи весьма показателен рассказ все того же В. В. Голикова который, вспоминая своего отца, переехавшего в начале 30-ых годов из Березинки в Магнитогорск (с началом кампании раскулачивания многие середняки, опасаясь репрессий, вырезали скот и выезжали в город — прим. авт.), поведал удивительную историю. Суть ее такова, однажды на металлургический завод для переплавки была доставлена очередная партия колоколов. Перед отправкой в печь колокола необходимо было разбить на куски, что делалось кувалдами вручную. И вот наш земляк, работая в совершенно другом цехе, сквозь грохот станков и прессов услышал набат родного березиновского колокола. Он побежал к тому месту, где разбивали колокола и точно, на одном из осколков прочитал: «Церковь Рождества Христова. 1872. ст. Березиновская».
Долгие годы в обезглавленных и онемевших храмах были склады, школы, клубы… А потом и их снесли. Хотя и сегодня еще в нашем районе стоят дома, которые были построены из церковных бревен. Говорят, что в этих домах царят мир и согласие.
2008г.
Участие казаков второго и третьего военных отделов Оренбургского казачьего войска в сражениях первой мировой войны
Накануне Первой мировой войны (1 МВ) казаки 2 и 3 военных отделов (2 ВО и 3 ВО) Оренбургского казачьего войска проходили действительную службу в 1-ом Оренбургском казачьем Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку (1 ОКП), 3-ем Уфимско-Самарском казачьем Оренбургского казачьего войска полку (3 ОКП), 4-ом Исетско-Ставропольском Оренбургского казачьего войска полку (4 ОКП) и 5-ом Оренбургском казачьем атамана Магутова полку (5 ОКП). Первые два дислоцировались в Киевском, остальные — в Туркестанском военных округах.
Наряду с этим казаки 2 ВО проходили службу в 2-ой Оренбургской казачьей батарее, входившей в состав 1-ой Туркестанской дивизии, и в 5-ой льготной Оренбургской казачьей артиллерийской батарее, дислоцировавшейся в г. Верхнеуральске.
За счет казаков 3 ВО комплектовались Оренбургский казачий дивизион в составе 22-го армейского корпуса с дислокацией в г. Гельсингфорсе (Хельсинки), 3-ья батарея 1-го Оренбургского казачьего дивизиона 2-ой сводной казачьей дивизии 12-го армейского корпуса Киевского военного округа, 2-ая Оренбургская казачья отдельная сотня 24 армейского корпуса Казанского военного округа, расквартированная в гг. Кустанае и Иргизе, а также 6-ая льготная Оренбургская казачья артиллерийская батарея в г. Троицке.
Кроме этого казаки 2 ВО и 3 ВО, прошедшие специальный отбор, проходили действительную военную службу во 2-ой Оренбургской сотне Лейб-гвардии Сводно-казачьем полку, расквартированном в г. Гатчина.
Общая численность казаков 2 ВО и 3 ВО, находившихся на действительной военной службе к началу 1 МВ, составляла около 2650 человек.
В ходе 1 МВ Оренбургское казачье войско прошло через тотальную мобилизацию: было выставлено 18 конных полков, 40 отдельных и особых сотен, отдельный дивизион, 8 конных батарей; в действующую армию было призвано более 35000 оренбургских казаков.
Казаками 2 ВО были укомплектованы 9-ый и 10-ый полки второй очереди, 15-ый и 16-ый полки третьей очереди, а также 12-21-ые особые конные сотни и 5-ая конно-артиллерийская батарея.
3 ВО в военное время комплектовал 11-ый и 12-ый полки второй очереди, 17-ый и 18-ый полки третьей очереди, а также 22-33-и особые конные сотни и 6-ую конно-артиллерийскую батарею.
Объявленная мобилизация в целом была завершена уже к концу первой недели августа 1914г. В телеграмме, адресованной военному министру, оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-адъютант Н.А.Сухомлинов сообщал: «… все полки второй и третьей очереди и все батареи благополучно собрались и своевременно выступили на поле брани. Царевы станичники готовились к походу спокойно, уверенно и с благоговением. На войну хотят идти все без исключения. С гордостью докладываю, что общая мобилизация прошла в безупречном порядке и не вызвала никаких затруднений… В настоящее время все полки и батареи войска находятся на театре военных действий, многие — на земле супостата-немца и бьют его».
Начало войны, названной современниками великой и второй Отечественной, породило в российском обществе высокие патриотические чувства. Иногда это принимало довольно необычные формы. Оренбургское казачье войско не стало исключением. Уже через 3 недели после начала боевых действий казаки Оренбургского казачьего войска обратились с прошением к властям с просьбой «… снять с войска немецкое название и наименовать его другим именем, по воле и желанию своего Державного Вождя». Эта инициатива имела продолжение — 14 апреля 1915г. Оренбургская городская дума рассматривала вопрос «О переименовании Оренбурга».
Но самым ярким проявлением патриотических настроений стало стремление нестроевых казаков попасть в действующую армию. Прошения о призыве подавали и те, кто еще не подлежал призыву, и те, кому в силу возраста призыв не грозил. Так, добровольцами на фронт отправились подхорунжий Звериноголовской станицы 3 ВО, Георгиевский кавалер, награжденный в период русско-японской войны, Николай Петрович Пономарев, 62-летний казак Березинской станицы 2 ВО Иван Тимофеевич Труфанов, награжденный знаками отличия Военного ордена 2, 3 и 4 степеней за среднеазиатские походы и многие другие.
С первых дней войны оренбургские казаки принимали активное участие в боях. Находившийся в составе 3-ей армии Юго-Западного фронта 1 ОКП участвовал в Галицийской битве (05.08.-08.09.1914г.), в ходе которой русская армия овладела восточной Галицией и Буковиной, захватила г. Львов и осадила крепость Перемышль (Пшемысль).
08.08.1914г. у с. Ярославица между русской 10-ой кавалерийской дивизией генерала Ф. А. Келлера и австрийской 4-ой кавалерийской дивизией генерала фон Заремба состоялся встречный бой, в ходе которого конница врага была полностью разгромлена. За этот бой более 30 казаков 1 ОКП были представлены к награждению Георгиевскими крестами и медалями. И это неслучайно — казаки проявляли стойкость и героизм. Например, казак Березинской станицы 2 ВО Федор Ильин «… раненный пулей в спину оставался в строю и предупредил обход сотни с правого фланга», а казак той же станицы Василий Кожевников «… во время атаки личным примером храбрости увлекал казаков в рукопашной схватке». К началу декабря 1914 года Георгиевскими крестами 2, 3 и 4 степеней было награждено 146 нижних чинов 1 ОКП.
В Варшавско — Иваногородской операции (28.09. — 27.10.1914г.) активное участие принял 16-ый Оренбургский казачий полк, сформированный из казаков второй очереди 2 ВО. За бои при форсировании рек Висла и Сан, а также за героизм, проявленных в боях на левом берегу р. Висла, Георгиевскими крестами и медалями были награждены более 20 казаков полка. В этой же операции проявила себя и вторая сотня Лейб-гвардии сводного казачьего полка, в составе которой служили казаки 2 и 3 ВО.
Сформированный из казаков второй очереди 3 ВО 12-ый Оренбургский казачий полк входил в состав 11-ой (Блокадной) армии и принял участие в боях за австрийскую крепость Перемышль. 14 декабря 1914г. в адрес оренбургского губернатора Н.А.Сухомлинова из штаба 11-ой армии поступила телеграмма: «Во вчерашнем бою, в горах, вторая и четвертая сотни 12-го полка атаковали в конном строю противника в окопах и всех искрошили. Командующий армией назначил по пять крестов на сотню». В специальном приказе по Оренбургскому казачьему войску, посвященном этому событию, наказной атаман отмечал: «…12 Оренбургский казачий полк только на днях прибыл из Петрограда на театр военных действий и, следовательно, с первых же встреч с противником показал врагу, что ни окопы, ни засевшая в них вражья сила, ни горные трущобы казаку не страшны».
С доблестью и мужеством воевали казаки 2-ой Оренбургской казачьей батареи, формировавшейся из казаков 2 ВО, в ходе Сарыкамышского сражения (09.12.1914г. — 04.01.1915г.) на Кавказском фронте. За героизм, проявленный в тяжелейших боях, проходивших в условиях зимнего высокогорья, 20 казаков были награждены Георгиевскими крестами и медалями, а 7 человек — серебряными медалями «За усердие».
Многим казакам 2 и 3 ВО, воевавшим в составе Юго-Западного фронта, было суждено принять участие в знаменитом Луцком прорыве, больше известном как Брусиловский (22.05.-31.07.1916г.). За мужество и героизм, проявленных в боях против неприятеля, сотни оренбургских казаков удостоились награждения Георгиевскими крестами и медалями. Следует отметить, нередкими были случаи групповых награждений. Так, по 18-му Оренбургскому казачьему полку к награждению Георгиевскими крестами были представлены казаки Березовской станицы Василий Синельников и Василий Булатов и казаки Ключевской станицы Трофим Величков, Иван Хлуденев, Прохор Зверев, Николай Чигвинцев и Петр Иванов за то, что «… находясь на передовом пункте, будучи окружены со всех сторон превосходными силами противника и обстреливаемы сильным огнем, все время отстреливались и в конце концов бросились в атаку и лихо пробились, а потом присоединились к штабу дивизии…».
В течение 1914—1917гг. за героизм, проявленный на фронтах, Георгиевскими крестами и медалями были награждены не менее 6574 казаков 2 и 3 ВО, в т.ч.:
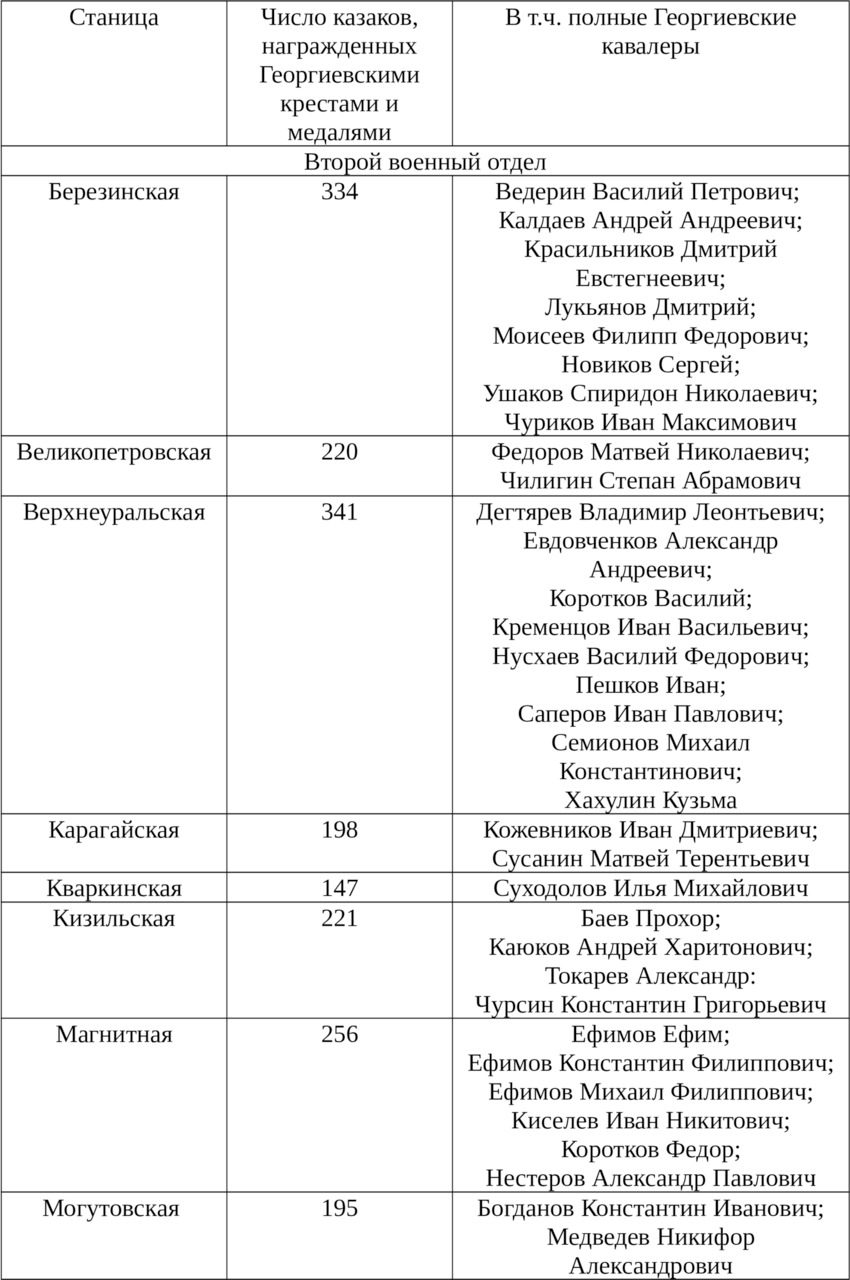
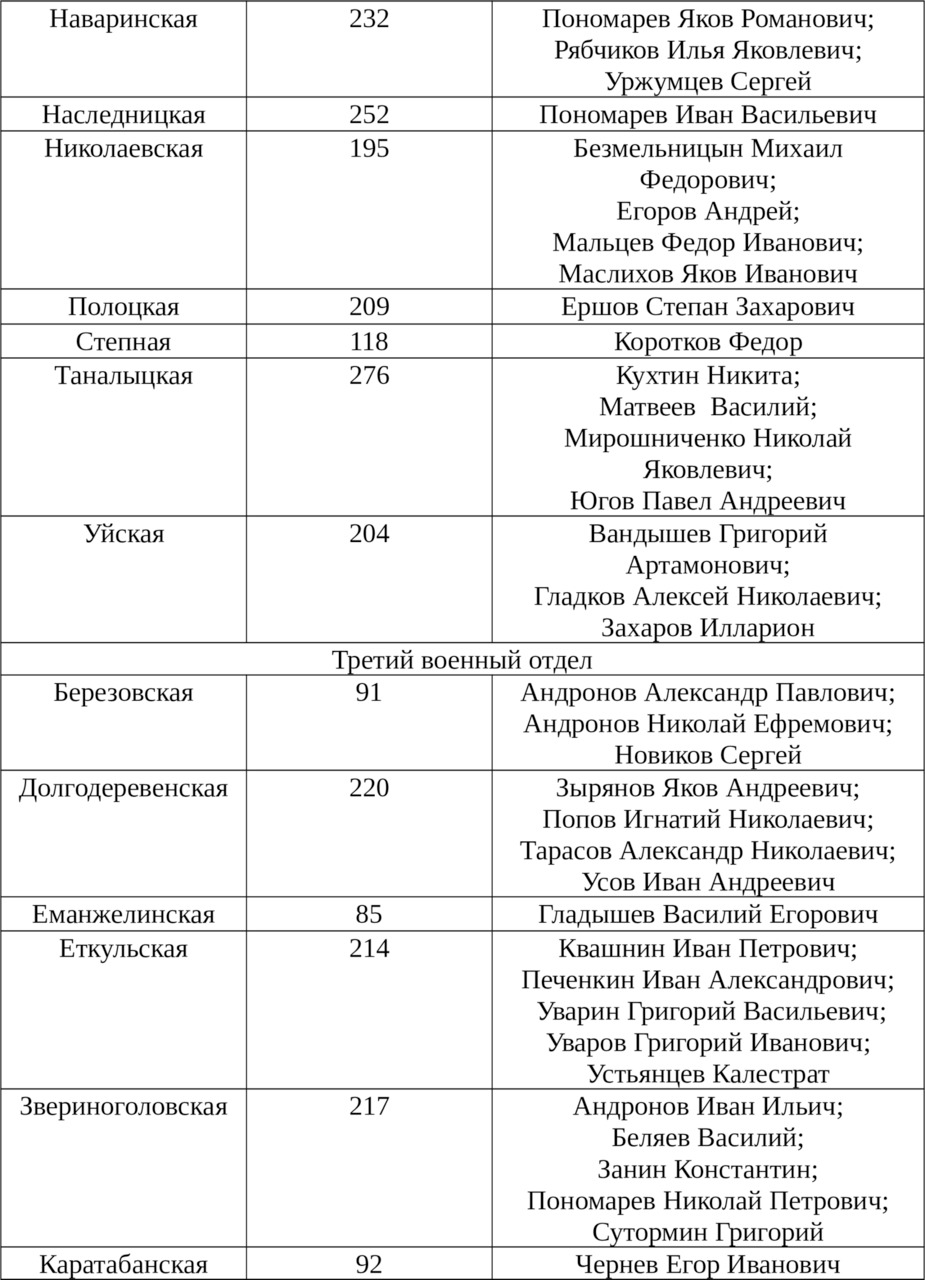
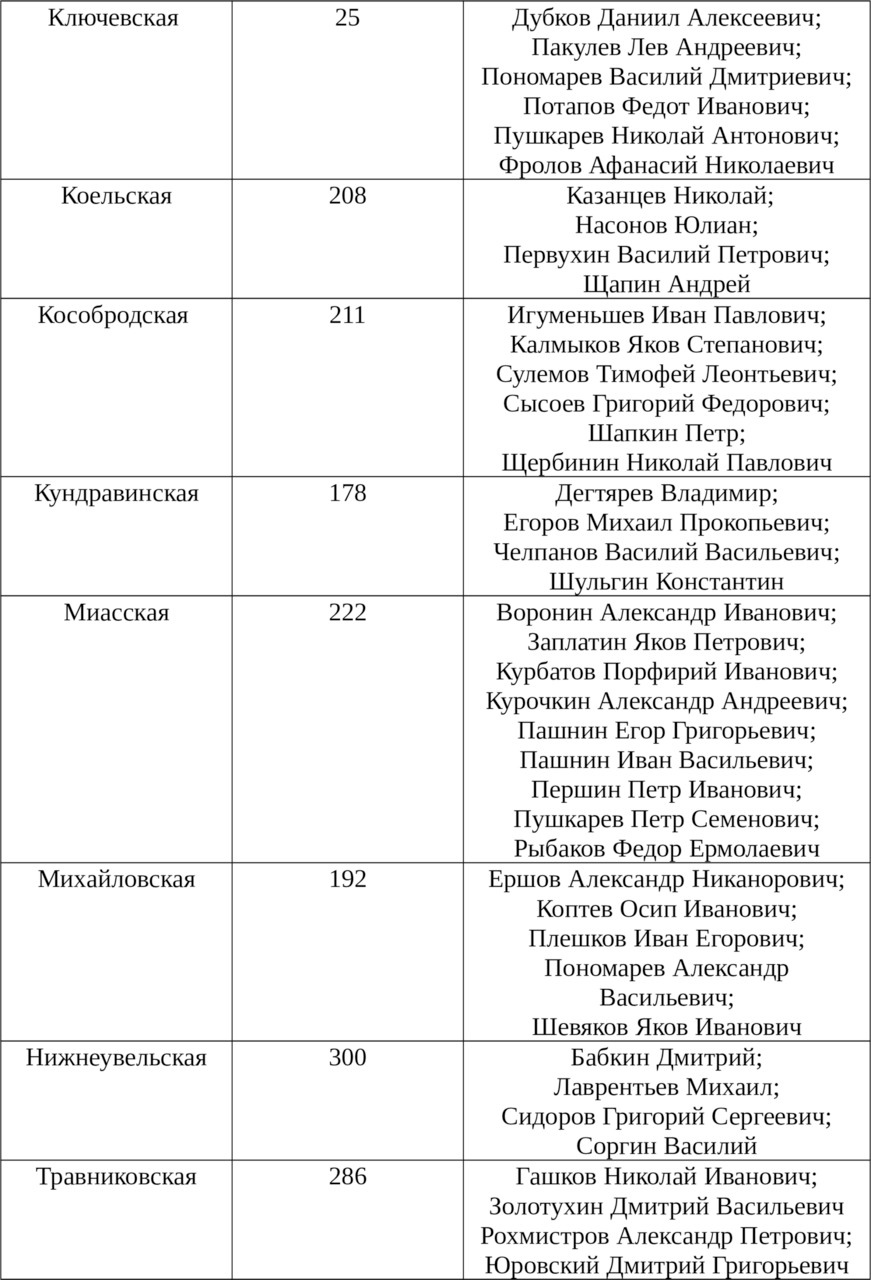
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.