
Бесплатный фрагмент - Исповедь «иностранного агента»
Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет
Подкупает летящая легкость слога, которая, надеюсь, не исчезнет при переводе на другие языки. Рекомендую всем, потому что хотя и пунктиром, но очень ёмко в этих тире и умолчаниях между ними видна жизнь как в СССР в хрущевскую «оттепель» и в период застоя, так и в перестроечный период «лихих», но таких живых 90-х и уныло стабильных годах путинского режима.
Павел Меньшуткин
Экс-глава Пинежского района
Архангельской области,
Советник министра сельского хозяйства Архангельской области
_________________________________
Эта книга в общественной своей части очень важна для понимания свинской сущности постсоветской и, следовательно, нынешней власти (и пусть свиньи на меня не обижаются).
Власть продолжает оставаться глухой и манипулятивной в вопросах общественного развития, паразитируя в то же время на добровольческих и экспертных ресурсах третьего сектора.
Пока это будет продолжаться, взаимодействие с этой властью будет приводить к новым и новым разочарованиям. В этом смысле «Исповедь…» — очень важный пример описания точечного (в личном и организационном плане) опыта взаимодействия со столичной и федеральной властью. Каждому, кто в общественном секторе вступает во взаимодействие с ними должен иметь ввиду этот опыт. Эта книга была важна и для меня в этот момент жизни для переосмысления и своих собственных попыток и их результатов.
Нодар Хананашвили, к.ю.н.
вице-президент фонда
«Нет наркомании и алкоголизму»,
Член Общественного совета при правительстве Москвы
________________________________
С большим удовольствием прочитал книгу Игоря Кокарева «Исповедь «иностранного агента». Эта книга вмещает в себя период от 60х годов прошлого века до наших дней, и является очень верным зеркалом всего этого времени… Здесь много мест действия — и Одесса, и Москва, и США.
Автор обладают острой наблюдательностью, и феноменальной памятью: он сохранил для читателей многие детали времени: сотни, если не тысячи, героев появляются на его страницах, и всемирные знаменитости, и совсем простые обыкновенные люди. И все вместе они создают очень точный и искренний портрет эпохи, портрет очень разный, порой нежный, порой трагический, всегда точный. Мне кажется эта книга будет бесценна для людей нашего поколения, и безусловно, будет интересна и для тех, кто идет за нами…
Александр Журбин, композитор
К читателю
Совместная Победа над фашистской Германией, смерть Сталина, хрущевская оттепель, брежневско-черненковский застой, горбачевские гласность и Перестройка, сопротивление реформам и распад СССР, неудавшиеся попытки демократизации послесоветской России, чекистский реванш и агония империи — эти исторические вехи России на протяжении сознательной жизни моего поколения, моей жизни.
Она стоит того, чтобы о ней рассказать, осмысливая жизнь в потоке этого времени, потому еще что с младых ногтей выгребал на стремнину. Миру известны истории знаменитых диссидентов, вступивших в открытую борьбу с репрессивным социализмом и терявших свободу или родину, а то и жизнь в этой борьбе.
Моя история другая. Она о невидимой, мучительной борьбе с самим собой, о драме выдавливания из себя по капле раба чудовищного социального эксперимента, совершенного в моей стране партией, которая называла себя «умом, честью и совестью нашей эпохи». Почти пятьдесят лет выпало жить при социализме, находя смысл и удовлетворение в попытках его очеловечивания.
А потом пришел как-то легко и вдохновенно Михаил Сергеевич Горбачев. Он привел в движение «новым мышлением» всю страну, включил рычаги экономических интересов, закончил бессмысленную и затратную холодную войну, открыл границы и выпустил на волю слово. Но оказалось, что созданная большевиками система ремонту не подлежит. Путч 1991 года доконал СССР. Горбачев гордо ушел, оставив Россию Ельцину.
Как сухие листья, осыпались республики, и обнаженная Россия на семи ветрах истории, подхваченная вихрями экономических бурь в пустыне демократических институтов, закружилась, завертелась, теряя дорогу, сбитая с пути яростным сопротивлением недобитых строителей коммунизма.
Будучи непоколебимым сторонником демократических реформ, я искал свой путь в стороне от большой политики и большого бизнеса, там, где закладывались основы гражданского общества. Следуя совету Солженицына, увлекся территориальным общественным самоуправлением — самоорганизацией жителей вокруг коммунальных и прочих проблем местного значения.
Инфраструктуру низовой демократии в кризисной России помогал создавать Запад в надежде на то, что власти подхватят энергетические потоки гражданской активности, идущие снизу. Но время было упущено. 20 лет застоя сделали свое черное дело. Если бы Горбачев пришел сразу после Хрущева, и если бы у него хватило решимости на трибунал над КПСС, мы бы спасли страну.
Но нарождающееся гражданское общество, не получив поддержки от слабого, мятущегося аппарата власти, окажется раздавленным катком репрессий. А на место советской идеологии как-то незаметно, с черного хода большой политики вползет идеология «русского мира», «русской православной цивилизации», «Третьего Рима», призванного спасти загнивающий западный либерализм. Жертвой и носителем этой идеологии и стал получивший из рук беспомощного уже Ельцина верховную власть в стране полковник КГБ Владимир Путин.
И все же гражданское общество как-то проклюнулось. Уже первые общественные организации социальной сферы в 90-х заложили основы гражданского общества, доказав желание и способность рядовых граждан вырваться из оков патернализма и сделать личные, коллективные интересы мотором общественного развития.
Мой долг сохранить свидетельства того, как странная эта наша власть на всех своих уровнях сопротивлялось демократическим инициативам низов, как вопреки ей рождались формы территориального общественного самоуправления, как начинал работать социальный капитал местного развития.
Что такое совесть и откуда она берется, не знаю. Знаю только, с ней шутить нельзя. Можно потерять не только покой, но и самого себя. Можно пережить неудачи, даже чью-то ненависть стерпишь, когда твердо знаешь: жил и действовал по совести. По совести подставляли мы плечо под не окрепшую российскую демократию. Мы были там, внизу, где под слоем пепла тлела похороненная большевиками и затоптанная их наследниками русская демократия — чеховское земство.
Нас было ничтожно мало для такой огромной страны — тех, кому пришлось взять на себя миссию социального аниматора искаженного идеологией общественного сознания, у которого частный, личный интерес был задавлен государством-Левиафаном, созданным партией большевиков и ее чекистами сначала под лозунгами светлого будущего, потом под камлание о «русской духовности» и «особом русском пути».
Не отрицая роли государства, мы добивались его десакрализации, продвигая на историческую сцену нового для России посредника между населением и властью — гражданское общество как организованную силу.
И сегодня, оставшись в меньшинстве, мы остаемся верны правам человека, верховенству закона, разделению властей, национальному государству и демократии места. В них будущее России.
Моя благодарность Агентству международного развития США, фонду Форда, фонду Евразии, фонду Ч. С. Мотта и Британскому Совету. Они помогали делать то, что я считал нужным для своей родины.
Спасибо моему другу, физику и лирику, Виктору Косогорову, а также моей спутнице жизни в изгнании, любимой женщине и умнице Еве Андреевой, без которой жить дальше не имело бы смысла, за их творческое участие в многочисленных редакциях этой книги, а также издательству Ридеро.ру, открывшему фантастические возможности книгоиздания XXI века.
Много добрых слов хочется сказать моим коллегам и соратникам, всем хорошим людям, с которыми прожита лучшая часть жизни — незавершенное обновление России. Спасибо вам.
Боль моя, ты покинь меня…
Что осталось от этих возвышенных чувств сегодня в этой протухшей, зашедшейся от ненависти ко всему миру жестокой и злобной стране? Плачу…
И не надо обвинять меня в русофобии, предательстве, неблагодарности — вся моя сознательная жизнь отдана ей. Как оказалось, зря. Для нее. Не для меня. Ибо иначе я не мог, и мне нечего жалеть. Если бы все начать сначала, я бы прожил ее так же…
А ее жалко…. Какая возможность потеряна, надолго. Если не навеки…
Микаэл, ты, конечно, сделал больше, намного больше. Но тогда, когда ты наигрывал мне, нащупывая, эту мелодию, мы чувствовали с тобой одинаково. Любовь к ней захлестывала нас…
Июнь 2025, Лос-Анджелес
ЧАСТЬ I: ВРЕМЯ НАДЕЖД…
Глава 1. Одесса 60-х. оттепель
Да, город этот мечен нами,
И запах держит старый двор…
И только крепнет он с годами
И тянет нас на разговор…
Что я оставлю детям? Не деньги, их у меня никогда и не было. Откуда деньги у советского человека? Другие ценности, на которых держалась жизнь, как на прочном фундаменте, важнее денег. Может быть, это гены… А что знаю я о своих генах? Сожжены, уничтожены все следы — даже письма и фотографии деда, казачьего офицера, погибшего в 1905 году под Мукденом. Да и в истории моего народа много чего скрыто, уничтожено, запутано… Пусть хоть дети мои узнают, от кого они…
Так случилось, я родился в Одессе. Между Оперным театром и городским сквером. Это много значит для тех, кто понимает. Но еще важнее, когда. Сразу, как закончились кровавые тридцатые. Подумать только, как повезло: выскользнуть из жутких лап коллективизации, из молотилки Большого террора, из мясорубки страшной войны, но до самой мужской зрелости ничего не знать об этом. Счастливчик…
Здесь, от Оперного через бульвар, открывавший весь порт и море, к колоннаде Воронцовского дворца и к школе Столярского у Сабанеева моста с видом на далекую Нефтегавань, глаз привыкал к красоте и морскому простору.
А вот детства у нас не было. Его отняла война. В Одессу из эвакуации мы вернулись из Владивостока в 1945-м. Полподъезда было снесено бомбой вместе с квартирой соседей. Наша с остатками лестницы сохранилась. Первое время поднимались на пятый этаж, держась за перила и не глядя вниз. За городской баней, где мылись по субботам всей семьей, был известный только нам, пацанам, подземный ход в катакомбы с костями не то людей, не то каких-то животных.
Потом была Румыния, отец принимал на Дунае разные суда в счет репараций. Мотался с ним на студебеккере по горам Трансильвании, в Бухаресте в генеральском особняке возле Военной Академии на улице Хереску ненавидел уроки музыки, читал первые книжки. За три месяца на улице научился румынскому. Там, на Хереску, нас и обокрали ночью цыгане из табора, светившегося кострами за Академией. В Браила, где мы жили позже с отцом, украли уже меня, семилетнего. Но я сбежал из табора и спрятался в нашей воинской части, в клетке с кроликами. Потому что там была морковка.
Зимой 1947 года видел из окна короля Михая, которого заставили отречься от престола. Красивый, молодой, в сопровождении конной гвардии, он стоял в открытой машине и прощался с народом, уходя в эмиграцию. Зима была неспокойной, вечером около посольской школы выстрелом в затылок убили одноклассника сестры.
После этого советских детей приказано было отправить на родину. Нас с сестрой, уже кончавшей в Бухаресте девятый класс, пароходом в Одессу — на попечение бабушки Мани, Марии Степановны, родившейся еще до революции в болгарском поселении под Одессой. Её брат, добрейший дядя Спира, командовал одесской железной дорогой.
Для счастья нам достаточно было знать, что впереди ждет, не дождется светлое будущее всего человечества. Мне предстоит его приближать. Жизнь в стране только что победившей Германию — это кусок черного хлеба с жесткой конской колбасой, стакан чая с куском сахара перед школой и песни советских композиторов. Ни холодильников, ни телевизоров, ни телефонов, ни ванн у нас не было. Воду носил из колонки во дворе на пятый этаж ведрами. Но был горд, что родился в СССР, а не в загнивающей Америке, где негров вешают.
А еще у одесских мальчишек было море — чистое, зеленоватое у заросших мидиями осколков скал. Море и книги. Аккуратным почерком записывал каждую прочитанную… Вот она передо мной, полуистлевшая тетрадка, которой 70 лет. В ней целая библиотека, огромный мир, в который предстояло войти и сделать его справедливым, красивым и счастливым. Если партии удалось вывести породу советского человека, то это я. Будущее звало за пределы планеты Земля, завораживало романами Ефремова. Про Оруэлла мы ничего не знали. В бога не верили.
Ранним летним утром добегали пацаны до Ланжерона, влетали в прохладную плотную воду и легко проплывали всю дикую, заросшую степным пахучим ковылём Отраду, выбрасывались на горячий уже песок в Аркадии и спали под палящим солнцем, черные, как сухие коряги, до обеда. Просыпались, чтобы с наслаждением проглотить за двадцать копеек четыре пирожка с потрохами, выпить на пятак газировки. И обратно морем. Но, уже не торопясь, выходя к рыбакам в Отраде похлебать из солдатского котелка юшки.
Дома баба Маня уже наготовила миску салата из степных помидоров, с луком, с картошкой, с огурцами и с постным маслом. Набьешь голодное пузо — и в городской садик у Дерибасовской. Там летняя эстрада, концерт московских звёзд. Через забор — и на тёплый еще асфальт перед первым рядом: пой, Ружена Сикора, мы здесь. Счастливые, вечно голодные, советские дети пятидесятых, строительный материал коммунизма во всем мире…
Потом вернулись из Румынии родители, и отец сразу ушел в море. А бабушка вернулась в Москву, в Томилино, к другим детям. Мы остались с мамой. Рита училась в музыкальной школе, а от меня, наконец, отстали с этой музыкой. Когда умер Сталин, гудели заводы, сигналили автомашины, я стоял, держа руку в пионерском салюте. По маминым щекам текли слезы. Все ожидали конца света. А Юрка Бровкин зло выковыривал глаза на портрете в учебнике. Нам было по тринадцать, мы дружили. До этого дня. До кровавой драки. Тогда и сказал что-то странное разнимавший нас учитель химии, печально обводя взглядом класс:
— Кто знает, может быть в таких драках и вырастают будущие вожди.
…Осенняя слякоть, старушка несет с базара в обеих руках кошелку, авоську, бидон с молоком. Помню крышку бидона, нечаянно сброшенную полой пальто прохожего прямо под ноги, в жидкую, чавкающую грязь. Я поднимаю ее, протираю сначала рукавом, потом своей белой рубашкой насухо и прикрываю ею бидон. Смотрю, а старушка плачет, глядя на мои неуклюжие старания. Обожгло меня. И у самого слезы. Что это было? «Стрела добра пронзила его сердце». Из книжки фраза. Не из Библии.
Да, мы книжные дети. Читать было страстью: «Как закалялась сталь», «Тимур и его команда», «Люди с чистой совестью», «Молодая гвардия», «Двенадцать стульев», «Спартак», «Овод», «Белый клык», «Старик и море», Диккинс, Бальзак и Маяковский… Горьковское «Человек — это звучит гордо!» представлялось как образ всечеловеческий, планетарный. А лермонтовское: «А он, мятежный, просит бури…» волновало и требовало жертвы.
Прочитанное, услышанное, впитанное живет в какой-то таинственной конфигурации в подсознании, создавая разных мальчишек и девчонок. Я не думал тогда о том, что Юрка Бровкин мог знать то, чего не знал я. И что вообще-то люди все разные, и мир они могут видеть иначе, не так как я. Не знал пацан, что где-то, спрятанная по спецхранам, существовала и другая литература — Замятина, Бердяева, Бунина, Платонова, Набокова…
Томик Есенина мать рассерженно вырвала из рук и выбросила с балкона. Он летел прямо на головы прохожих:
— Не смей читать эти декадентские стихи! О самоубийстве думаешь?
Оберегала от чего-то, одной ей ведомого. Она была мне и отцом и матерью. В городе моряков это не редкость. О своей молодости она не рассказывала, о голоде, о продразверстке, об ужасах процессов 30-х годов ни она, ни отец никогда — ни громко, ни шёпотом — не вспоминали.
О деле врачей мы уже узнали и сами. Неужели и там? Опять враги? Мы же всех победили! Но раз в «Правде»… Как не верить! Маму лучше не спрашивать, у нее самой ужас в глазах. И заботы: сберечь детей. Вот и крутилась по дому — одеть, обуть, обстирать, накормить, чтоб друзья были нормальные, и все с неизменной папиросой в зубах. Сколько помню, она всегда курила, с самой войны. Курила «Приму», полторы пачки в день.

— В бараний рог скручу, но сделаю вас счастливыми! — твердила она эту непонятную мне фразу.
Она была в ответственности за нас перед отцом. Мама, бросившая из-за войны медицинский, спасла нас с сестрой, вытащив на себе малышей из горящей Одессы через всю воевавшую страну аж на Дальний Восток. По дороге за блюдечко манной каши отдала золотое обручальное кольцо. И тем спасла мне жизнь.
Отец, ходивший в 1942-м механиком в караванах с грузами лендлиза из Ливерпуля в Мурманск (те самые «караваны смерти»), отлежав полгода в госпиталях, нашёл нас во Владивостоке только в 1944. И всю жизнь был благодарен матери, сохранившей детям жизнь в то невероятно, немыслимо тяжёлое время. Охраняла она нас и теперь, в 50-х. Умрет мама рано, в 66 лет от разрыва сердца. Я тогда упал на гроб и, запоздало рыдая, долго не отпускал ее.

Отец в дальних рейсах, но он влиял на меня самим фактом своего существования. Авторитетом, которым пользовался на флоте. Инженер-механик, «дед», механик-наставник, парторг, ордена за труд. Не в торговле все же… В машинном отделении, в его каюте все было на своих местах. И ни пылинки. Его любили все, кто с ним работал. Он не пил, но у него было много друзей, может быть из-за его мягкого характера? Он это умел, дружить. И я это перенял от него. Неосознанно, конечно. Вот и выбирали старостой класса, председателем совета пионерской дружины школы. Доверяли и учителя и товарищи.
Моими подшефными в 7-м классе были тертые хулиганы братья Лысенки. Мне, не ударившему в жизни ни одного человека, были страшны их кулаки, хотя и защищавшие меня. Я видел, как старший брат, вызванный к директору школы за хулиганство одного из младших, тут же в кабинете ударом ноги в живот вплющил пацана в стенку, и тот сполз на пол, теряя сознание.
Пробьет час, и один из братьев в составе элитных войск КГБ будет штурмовать дворец Амина в Афгане, и умрет от ран в неполные 50 лет. Прощаться с Мишей приедет весь класс постаревших одноклассников.
С корешем моим, Юркой Марковым, на заросшем виноградом балконе, с которого была видна синяя полоска моря и Военная гавань, готовились к выпускным экзаменам. Размышляли о будущем, о науке, вырвавшей человечество из лап религий, о смысле жизни, овладевающей Космосом, о едином человечестве без оружия и войн, и ощущали себя частью вселенского разума, несущегося к коммунизму.
В аттестате у меня одна четверка и одна тройка. Четверка — по украинскому языку, на него внимания особого не обращали. Говорили на одесском. История Украины — такого предмета не было, а Сковорода, Коцюбинский, Леся Украинка, Тарас Шевченко и даже Павло Григорьевич Тычина — все как-то в пол уха. Про язык шутили: «одичавший русский». И демонстрировали карикатурным переложением пушкинских «Паду ли я стрелой пронзенный»: «Чы гэпнусь я дручком пропэртый…» И нам за это ничего не было.
В голову не приходило, что мы живем на Украине. Одесса — наша Родина, свободная и чертовски обаятельная Одесса, а потом уже СССР и дальше планета землян. А Украина была нашим воздухом, напоенным запахами свежевыловленных бычков и мидий, ковыльной степи, степных помидоров и певучим сельским говором Привоза.
Мы родились и жили в СССР, где партия выводила особую человеческую породу «советского человека» — без бога, без буржуазного индивидуализма, без страсти к наживе и болота мещанства. Все мы, русские, евреи, украинцы, молдаване, болгары, цыгане, должны были стать новой исторической общностью — советским народом, где все люди братья. И сестры. А что говорят по-русски, так это же само собой. Мы же всех объединяем, оно и понятно!
А тройка — уже по поведению. Только за что? Да, ударил учительницу по голове ботинком. А зачем человека за руку дергать, когда он стоит вниз головой на руках на перилах в пролете третьего этажа? Если б не на училку упал, так внизу пятном кровавым. Я даже гордился этой тройкой, хотя именно она и закрыла дорогу туда, куда так хотелось.
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала тут же профессионально избили. Ни за что.
Представить, как власть может любого человека превратить в корчащееся от боли животное, было невыносимо. Только спросил его:
— Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
— Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его, хотя уже был ХХ съезд КПСС, разоблачен культ личности Сталина.
— Значит, вы им простили?
— Кому? Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере… Значит, я был нужен ей там.
Тогда мы еще не знали многого. Книги и песни, фильмы и живопись учили любви к Родине. От гражданской войны осталась героика, а стройки коммунизма звали на подвиги. Отец, который привел меня к своему другу, молчал. А когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросит на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он гордо отправится ремонтировать комбайны. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием, а директор машино-тракторной станции в Молдавии, в Дубоссарах. И орден Трудового Красного знамени на красной подушечке.
Придет время, и я по призыву комсомола в степи казахские на Всесоюзную стройку рвану с флота. Добровольно! С энтузиазмом!
— Идиот, — усмехнутся бывалые, глядя вслед сходящему по трапу товарищу.
— Романтик, — напишут в газетах.
Только добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я вернусь, и даже буду неожиданно вознагражден…
ХХ съезд обнулял кошмары прошлого, возвращал репрессированных и обещал: теперь все будет иначе. Знать бы будущее… А с другой стороны, что бы это меняло? Знать, что власть, обманувшая раз, обманет еще раз и еще раз? И как бы ты с этим знанием жил, строитель коммунизма? Нет, лучше не знать! Юность должна быть вдохновенной…
А жизнь между тем уже вносила кое-какие поправки. В том году объединили мужские и женские школы, и эта внезапная близость, случайные прикосновения, лукавые взгляды, девичьи запахи слегка наехали на жажду подвига. Стало неловко ходить по улицам, взгляд сам собой забегал под юбки длинноногим девчонкам. Субботние муки по вечерам: книга или танцы? Битва духа с плотью.
Спас отец. Догадывался ли он, не знаю. Но это отец отвел меня к своему товарищу, директору детской спортивной школы — ДСШ №1 на спортивную гимнастику. И этот простой шаг оказался судьбоносным для всей будущей жизни. Тогда спорт не только отвлек от игры гормонов, но и пустил в рост мышцы, подарил ощущение полета. Непередаваемо это чувство превосходства над толстым, неуклюжим человечеством. Вечерами в Воронцовском переулке, что возле Дюка и Потемкинской лестницы, разгонялся на турнике в большие обороты и сальто прогнувшись. На какое-то время мысли о человечестве вытеснит большой спорт.
Гимнастический зал уже в Москве, во взрослой жизни останется для меня родным домом, поможет справляться с сомнениями, которых только прибавлялось, а потяжелевшее тело и в 60 вынесет меня на двойное сальто, и в 70, привычно вложив ладони в кольца, поднимусь из виса в упор и в угол, и выжму стойку, не дрогнув.

Лысенко, Моисеев… Сборная Одессы по спортивной
гимнастике 1956 года
После тренировки — два стакана томатного сока и рондат-фляк-сальто прямо по брусчатке Пушкинской на оторопевшего милиционера. Не ходили по земле, летали. Саша, Зорик, Фред — сборная Одессы по спортивной гимнастике из Воронцовского переулка — крепкие ребята. С ними мы еще увидимся, в Москве, в Одессе, в Америке. Через много лет.
Девчонки из 8 «б» заглядывали в окна спортзала, шептались, хихикали, привлекали внимание касаниями колен под партой, я же видел только Её, пружинистую и гибкую, мелькавшую рядом на вольных, на брусьях, на бревне. Тогда и потекли сами собой струйки стихов. Я отправлял их ей почтой, анонимно. Она отвечала кому-то, она полагала взрослому, и эти ее коротенькие письма до сих пор со мной. Той первой любви, платонической и поэтической, обязан я своим благоговейным отношением к женщинам, которых выпадет любить. Спасибо тебе, Лара…

Мальчишки были хозяевами Черного моря, одесских пляжей и улиц. В Оперный мы залезали на балконы второго этажа по фонарным столбам, на Привозе весело переругивались с торговцами, таская на пробу большие куски чего угодно, и презирали курортников, устилавших жирными белыми телами наши пляжи. Гимнасты и акробаты, мы расчищали площадку на песке Ланжерона и на глазах публики вытворяли такие трюки, что нынешние мускулистые мулаты на Променаде Санта Моники кажутся мне салагами. Пока курортники, раскрыв рты, глазели на сальто и стойки, карманники тихо делали свое дело, слегка проходясь жадными пальцами по сложенной в кучки одежде. Одесса мама…
Как и почему в моей школьной жизни появился он? Просто вышли вместе после тренировки из спортзала и шли рядом, разговаривая. Он был старше лет на десять, умён и образован, одинок и печален — Гера, гимнаст и философ. Он говорил о Космосе, о Разуме.
Кипящая плазма в миллионы градусов — это неустойчивое состояние материи, нормальное бытие Вселенной. Так говорил он. И взрыв атомной бомбы для частиц, вступивших в цепную реакцию, втянутых в ядерный взрыв — это не катастрофа, а форма их жизни. Она там, в плазме, бушующей в звёздах, — вот истинное лицо материи. И там нет разума. Он только здесь, на планете Земля — как кратковременная случайность на пути движения бесконечной Вселенной к энтропии.
Что он творил со мной, вознося незрелый разум к таким высотам?
Он говорил, обнимая меня за плечи, о том, что пошлая суть нашей жизни лишь в продлении ее: родиться, чтобы родить другого и умереть, а рожденные нами повторят тот же цикл. И другого смысла в нашем существовании нет и не может быть. Я же робко возражал, видя смысл жизни как раз в разуме, в познании законов Вселенной.
— Зачем? — он пожимал плечами, — ради праздного любопытства? Там плазма в миллионы градусов. Нам там нет места.
Я тужился, рождая мысль:
— Знание законов мироздания поможет нам оценить нашу жизнь как жизнь разума…
— Знание рождает лишь печали. К счастью, большинство человечества не знает этих печалей. Это — доля немногих, умеющих и любящих думать, пользоваться разумом, беспокоиться. Их мало. Тебе не повезло, ты из них, из этого меньшинства. Будешь ли счастлив, не знаю…
Наши встречи прекратились как-то внезапно, когда я понял, что Гера нетрадиционной ориентации. Голубой. Так тогда называли этих жрецов тайной, преступной по советским законам страсти. Он не преступил черту, и я остался ему навсегда благодарен.
Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Аромат еврейской мудрости с привкусом украинской хитрости и щемящей красотой украинских песен. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти.
А нынешнее время надежд форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая словом сохранять себя, свою внутреннюю свободу.
Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им грелись, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня уже тогда значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, не переведенное в слова, растворяется без следа. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и слегка огорчусь. Оказывается, не я один…
Время выбора профессии между тем наступало на пятки. От этого выбора зависит, получится жизнь или нет. Свербило неясное беспокойство: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл. Рожать детей? Кому ума не доставало… Любовь? Это пропасть, в которую я только заглядывал.
А пока листал справочник учебных заведений, искал судьбу по названиям. Не в армии же терять три года! Почему в школе не учат, как жить и кем быть? Сколько людей можно было бы спасти. Способность раннего выбора, как знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания — великая сила, данная ли от природы или внушенная, не важно.
Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и соблазнов. Я же жил с такой естественной и несокрушимой верой в какое-то чудо, что особенно не волновался. Главное, быть готовым. Читать, слышать, всматриваться, думать, записывать. Жизнь сама тебя найдет.
Другой мой одноклассник, с которым мы будем дружить всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику. Будет любоваться рослым, красивым и умным внуком.
Уже в независимой Украине получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее. И знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.
Да, я любил свою Одессу, ее бульвары, одесские дворики с бельем на веревке через весь двор, ее европейские дворцы вроде бывшей биржи на Пушкинской, Пассажа и Оперного. Мила Фарбер на переменке подкармливала спортсмена бутербродами с колбасой от ее мамы. Олечка Александрович приносила домой заболевшему куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они меня. Это и было счастье.
Но где-то в Москве был журфак МГУ, Институт философии, Институт международных отношений — ключи к огромному миру, в котором Одесса была гнездом, уютным, ласковым гнездом, из которого…
В Москву уже улетела Рита, старшая сестра, оставив одесскую консерваторию ради МВТУ им. Баумана. Сказала на прощанье:
— Лучше быть средним инженером, чем средним пианистом.
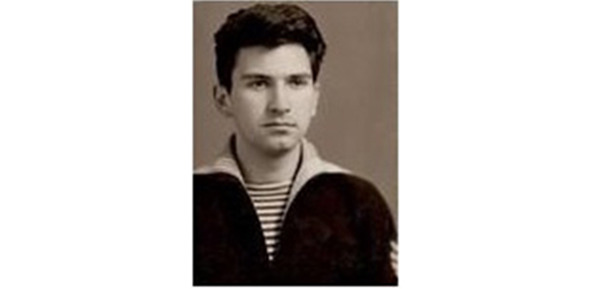
Но теперь мать стояла насмерть, как панфиловцы под Москвой:
— Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали, сел на пять лет за анекдот…
Не понимал их страхов. Моя жизнь, как на ладони — учеба, книги, тренировки, сбор макулатуры и металлолома, походы, стенгазета, шефство над двоечниками. Какая тюрьма, мама?
Родители победили. Высшая Мореходка, Одесское Высшее Инженерное Морское Училище — мечта любого пацана в этом городе стала моим первым университетом. Высшая математика, сопромат, дизеля, турбины, котлы, насосы, прочие железки. И все на шпаргалках, доведенных до совершенства. Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…
После поступления я ей открылся. Ночью, наверху, на прогулочной палубе белоснежного лайнера «Украина», под свист ветра в вантах и шорох разрезаемых сталью волн я решился. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом — в моем сердце». Говорил цитатами из «Дипломата» Олдриджа, сидя у ее таких желанных, божественной красоты ног, глядя в звездное августовское небо и не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.
А я буду выращивать в себе моряка, стараясь выбросить из головы иное. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова», писать шпаргалки перед экзаменами и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:
— А не пора ли нам поссать, любезный?
Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.
Наверное, из уголовного мира пришло к нам это — кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет, как волчонок, маленький резкий в движениях Мерзавчик, что опять напился всегда молчащий Уголок, что опять стырил сухари в баталерке вечно голодный Чилона, куда-то делся шустрый, как австралийский зверек на задних лапах, Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок, оглядывая всех своим веселым наглым взглядом. Меня тоже окрестили, но как-то по-человечески: Идеалист-утопист. Так и приклеилось на все пять лет учебы.
А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?
А вот что. Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:
— Дай снаряд!!
И я ползу к нему через весь зал, окровавленный, тащу ему тяжелый, последний снаряд. А как иначе?
Однажды Санька Палыга ткнул в книгу пальцем:
— Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то что можешь?
— Подожди, Санек, — тормознул я его, — все впереди. Не знаю что, но должен. Смогу.
И продолжал читать. Пока профессор Фокин стучал мелом по огромной доске, вычерчивая какие-то интегралы, читал под партой Станислава Лема, который как раз и размышлял, куда нас приведет развитие науки и технологий.
Потом зачем-то поступил на городские курсы английского языка, где сидел за партой с очаровательной женщиной, приглашавшей заниматься к ней домой. Политэкономию проходил вместе со всеми. Но это привело лишь к конфликту с преподавателем. На вопросы вроде устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы, ответа так и не получил Сбегал с лекций в городскую библиотеку напротив корпуса «Б», читал в ее торжественной тишине, поселившейся под зелеными настольными лампами, московский литературный журнал «Новый мир».
А вот спортивную гимнастику пришлось оставить. Нет времени на пять тренировок в неделю. А меньше уже не имело смысла. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных не умеющих летать, приносило некоторое удовлетворение.
Накатывало лето, а с ним практика по Крымско — Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от грузинских вин, несет на танцы. Ночью переходы, днем стоянка. Ялта, Сочи, Батуми — красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев.
Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку. Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. Она прятала от посторонних взглядов сумку, доверху набитую деньгами. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.
Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…
Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:
— А хотел бы ты жить в таком?
Я отвечал совершенно искренне:
— Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.
Удивляются:
— А машину собственную?
Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:
— Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.
— А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?
В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»
Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родине служим. Потому что любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…
Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:
— Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.
Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не этот тухлый взгляд из-за угла…
Экипаж наш у подножия города, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с пятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, уже скоро!
По субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:
Была традиция такая:
Сойдя с гремящего трамвая,
Зайти в закусочную с края
И взять, не думая, сто грамм
С хвостом селедки пополам.
И так два раза. Автомат
Всегда давал курсанту шансы…
А после этого — на танцы!
И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки. С одной такой охнувшей целовались до одури душными летними ночами. В ночном парке сгоняли нас со скамейки дежурные милиционеры.
И тогда однажды она привела меня к себе домой. Родителей не было. Отец служил где-то в Германии. На мягкой кровати уже все было дозволено. А что все? Я и не знал. Просто сгорал в пламени, вырвавшемся на свободу, и не знал, что делать. Показала. И вдруг все куда-то делось. Подо мной лежала потная растрепанная женщина с закрытыми глазами. Пламя исчезло. Тихо встал, оделся и вышел на предутреннюю спящую улицу. Мимо громыхал трамвай. Я вскочил на подножку, сел, держась за поручни, на ступеньку и смотрел, как мелькало сквозь деревья поднимающееся из-за моря солнце. И это все? Разочарование, стыд и молчание в ответ на любопытные вопросы товарищей по кубрику. Больше мы с ней никогда не встречались. А ведь хотели, как лучше…

По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда, бывало, сами собой заползали рифмы. Это было, как ныряние вглубь себя, в прорубь волнующих открытий. Вот одно: любовь только до. После — одна пустота. Странно. А у других, как? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, не завидуя простоте их отношений.
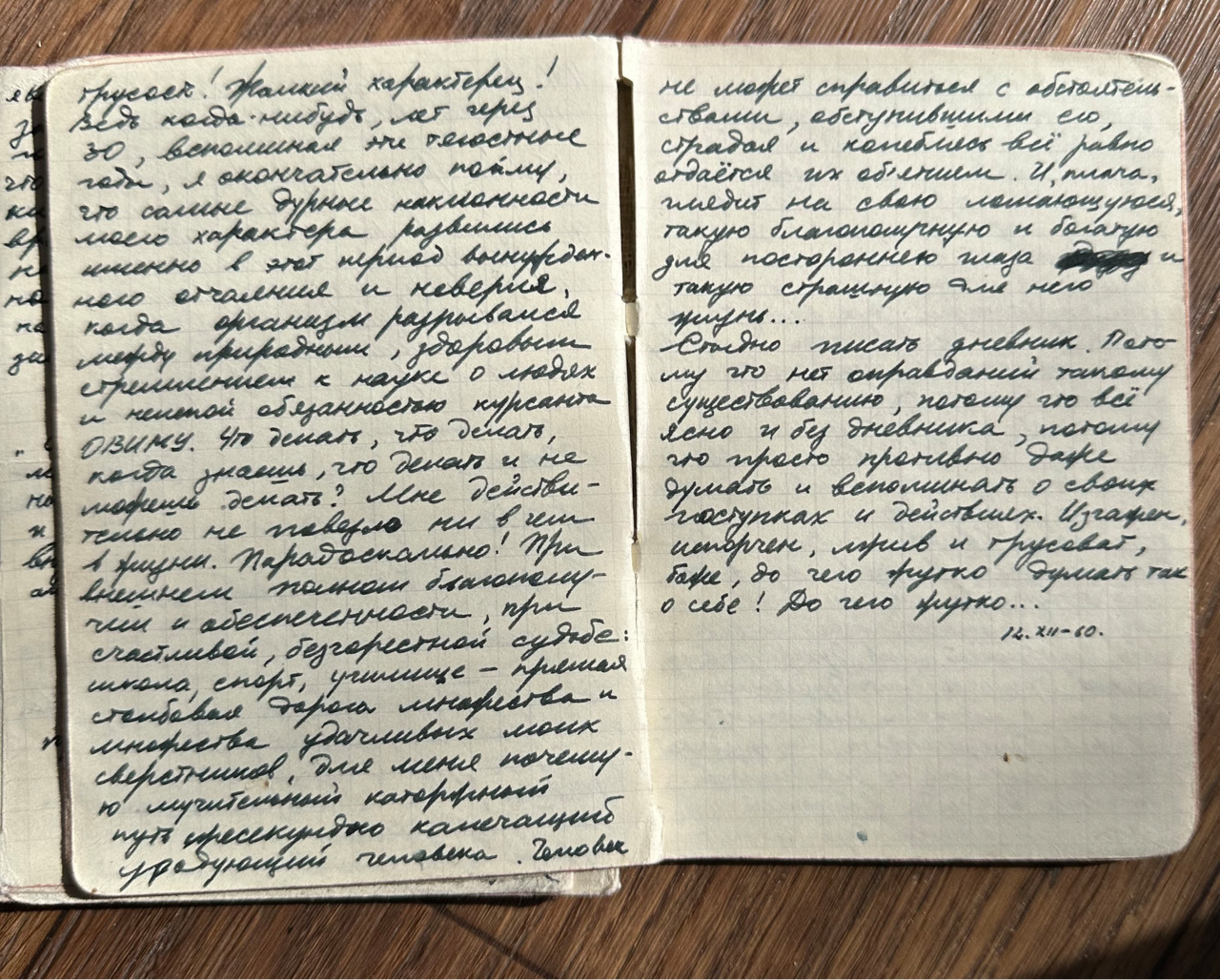
Строчки из дневника. 1960.
Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.
— Что ты здесь делаешь? — спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.
— А ты? — ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.
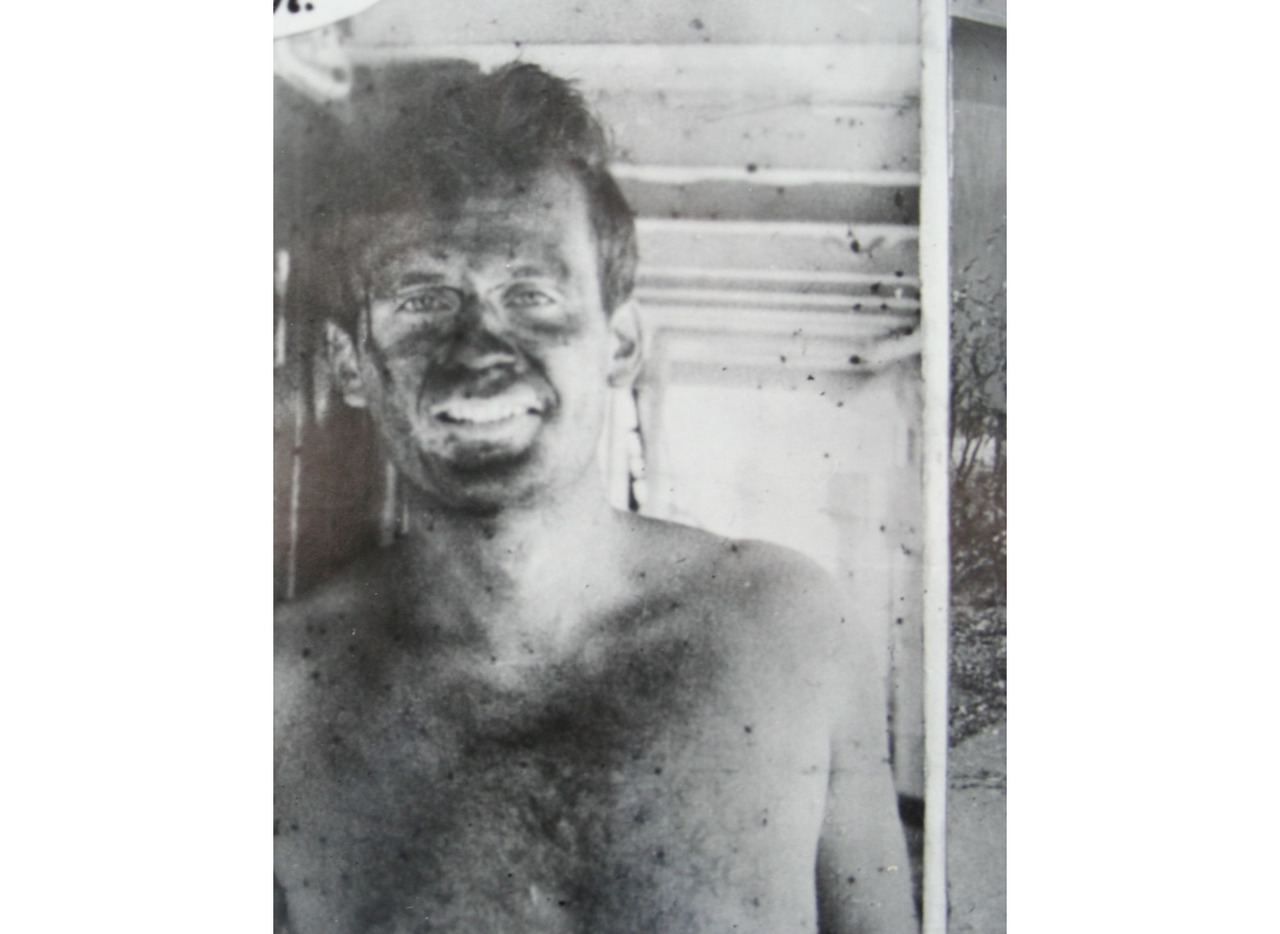
Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту.
Светлая моряку память…
А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:
— А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…
Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине и трудовых подвигах…
Вечерами, грустя, бывалые пели под баян шальное курсантское танго:
«С тихим звоном сдвинулись бокалы,
Каплю на подушку уронив,
Брошенный мужской рукой усталой,
Шлепнулся на пол презерватив.
А муж твой в далеком море
Ждет от тебя привета…»
Знали о чем поют морские бродяги, воображая себе свое уже близкое будущее…
Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Их юность только мне видна
Сквозь их седины и морщины.
Да разве знали мы тогда
Зачем мы Родине, мужчины?
Что дружбу разорвет вражда,
Погибнут города от «Града».
А мы, скучая без труда,
Лишь помолчим, усевшись рядом…
На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире». После дневников папиного друга, написанных в лагерях, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, новый шок. И эта та же партия моего Павки Корчагина? Партия, которая «ум, честь и совесть нашей эпохи»?!
Ощущал какую-то кошмарную причастность, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Я бы никогда! Но приснилось же… Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:
— Стреляй! В затылок! Ну?!…
И я просыпаюсь в ужасе, мокрый от холодного пота. Неужели смог бы?…
Никогда уже, ни сейчас, ни потом не избавлюсь от страха перед этой непостижимой силой, которая превращает убийство из преступления в доблесть. Перед силой, заставляющей одних истязать и убивать беззащитных других просто потому, что у них работа такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, встретив на улице. И все. А я все ждал, ждал. До сих пор жду…
Второе случившееся вскоре событие чуть не кончилось исключением из комсомола. Причиной тому стал эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, на вечере невест. Номер такой: на табуретках были представлены предметы курсантского быта — мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари — спутники вечного нашего голода; модный клёш на сорок сантиметров и вытравленный гюйс на худом гибком красавце Гургене Нариняне, который отплясывал сумасшедший рок под запрещенную музыку. Сатира, значит, такая. Причем довольно тепло встреченная публикой.
Но такую шутку не поняло командование училища. Автору инкриминировалось «очернение курсантского быта». На заседании комитета комсомола от исключения из рядов меня спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.
— Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! — сказал он, и все почему-то успокоились.
С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я — пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.
Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как и он, не догадываясь, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, тоже моем товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…
Третье событие ошеломительное. После того персонального дела вдруг вызов в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:
— Пойдёшь на работу в горком комсомола?
Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:
— Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.
Вот это да-а-а… Судьба выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и сразу меняла все. Что-то теперь будет… Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я еще не знал.
Дома, однако, настоящая паника:
— Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!
Мать в слезы. Отец только из рейса, он молчит. В общем, обманул я их. Тайком перевёлся на заочный и… По утрам забегал к Юрке, менял форменку на его цивильный прикид, и на работу в Горком, в огромное здание у железнодорожного вокзала на Куликовом поле, которому суждено будет стать через много лет трагически историческим.
Началась моя работа с того, что начальник городской милиции взял меня с собой в инспекционную поездку в рыбсовхоз. Это так называлось, инспекция. На самом деле пьянка с руководством за длинным столом под открытым небом на берегу лимана. Но было и нечто серьезное. По дороге домой майор ввел меня в курс дела о состоянии преступности в городе и объяснил:
— Мы рассчитывал на помощь комсомола.
Одесса — город портовый, соблазнов хоть отбавляй.. Здесь гуляет валюта, шныряют фарцовщики, работают карманники, продаются женщины. Кто знает сегодня, что такое БСМ, бригада содействия милиции? Ну, или «легкая кавалерия»? Это не отчеты и справки о членских взносах писать. Нам выдавалось оружие на ночное патрулирование на Приморском бульваре и внизу, в районе порта и Пересыпи. Наши клиенты — фарца и проститутки.
В моих советниках — бывший уголовник Володя, теперь он асс оперативной работы. Брали с ним карманников, даже щипачей, бывало всякое. Только тяжкий труд домушников уже не нашего ума дело. Володя как-то спас меня. Передали ему, будто вечером будут меня ждать заказанные люди в подъезде с железной трубой. Ночевал у Юрки, а трубу потом видел, валялась неподалеку.
Алла, Аленушка, проститутка четырнадцати лет от роду, глуха к моим искренним, желающим ей добра нравоучениям. Алые пухлые губы, синие глаза под светлой непослушной чёлкой:
— Что ты меня уговариваешь? Где твоё счастье — в будущем? А моё — здесь, сейчас. Я только выйду на шоссе под Ялтой, как первая же машина распахнёт дверцу, и начнётся такая жизнь, которой ты и не видывал, комсомолец: ноги целуют, магазины, рестораны, отели, курорт круглый год. Дай же хоть чуть-чуть пожить, не терзай душу!
И умолкну я после этих взрослых слов, сникнет пафос строителя коммунизма перед бесхитростной правдой ее жизни. В камере предварительного заключения, где она будет ждать отправки в детдом, мы встретимся еще раз. Я приеду, и она уткнется носом мне в грудь и тихо заплачет. И все. Больше я ее не увижу. Никогда.
Тогда сам готов был рыдать от беспомощности помочь ей, многим другим людям вокруг. Я вдруг остро ощутил, что должен делать по жизни. Как прозрение открылась другая ее сторона, которой я прежде не знал и которую я пришел сюда изменять к лучшему. Такой казалась мне миссия власти, вложенной в руки случаем.
С тех пор с так называемыми трудными подростками уже не расставался. Договоривался с бригадами коммунистического труда на одесских заводах, приводил к ним пацанов, просил взять на трудовое воспитание. Их много было на учете в милиции, и сирот, и беспризорных. Директора шли навстречу, увеличивали лимит по несовершеннолетним, и кого-то из этих пацанов, я надеюсь, мы все-таки спасли.
Родители догадались о том, что я их обманул, лишь тогда, когда нам вдруг ни с того, ни с сего поставили домашний телефон, большую редкость в ту пору в Одессе. Но на этот раз они уже промолчали. Просто смотрели со страхом. То на меня, то на черный аппарат.
На улицах Одессы в это время появилось много загорелых и темнокожих кубинских студентов, заполнивших наши одесские учебные заведения. Это было время кубинской революции Фиделя Кастро, сбросившей режим Батисты и установившей социализм под боком цитадели капитализма США в 1959 году. Мне было поручено развивать дружбу одесской молодежи с симпатичными кубинскими парнями. Хотя одесситок и уговаривать не приходилось. Перспектива оказаться на Кубе привлекала самых смекалистых.
А вскоре началась эта знаменитая на всю Одессу битва. Битва за городской Дворец студентов. На Маразлиевской, возле парка Шевченко, пустовал старинный особняк под зловещей вывеской: Клуб КГБ. Что там внутри, никто не знал. Темно и тихо. Опустел клуб после ХХ съезда. А я все ходил вокруг да около: вот бы здесь и сделать студенческий центр, где бы бился пульс активности городского студенчества!
Вопрос решался на бюро горкома партии. Я держал речь, свою первую публичную речь, очень волновался и не контролировал свои эмоции. Ну, и пусть! Или меня выгонят из Горкома или майор Совик, директор клуба КГБ, сдаст партбилет за безделье. Я размахивал руками, как Ильич на броневике:
— ХХ съезд КПСС обращает внимание партии на нужды молодежи, призывает нас к гражданской активности…
Замолк и ждал приговора. И тут случилось необыкновенное. Я услышал аплодисменты. Аплодировали члены бюро. Майор не потерял свой партбилет, а трехэтажный особняк был передан студентам Одессы. 22 декабря 1960 года на 5-й студенческой конференции ВУЗов был принят «Наказ» и избрано правление Одесского Дворца студентов, а 1 января 1961 года состоялось его торжественное открытие. Этот Дворец стал нашей грандиозной победой, настоящим символом свободы и перемен, провозглашенных ХХ-м съездом.
В «Наказе» было сказано, что ОДС ставит своей целью выявление дарований студентов, создание университета общественных профессий, любительской киностудии, радиогазеты, школы танцев, изостудии, туристского клуба, организацию творческих вечеров, концертов, устных журналов, карнавалов, лекториев и диспутов на актуальные темы. Залы ОДС будут предоставляться одесским ВУЗам для проведения их массовых мероприятий.
И, конечно, сюда из подвала на Малой Арнаутской переехал «Парнас-2», знаменитый уже студенческий театр миниатюр Жванецкого. Сразу начались репетиции спектакля «Главная улица». Теперь я возвращаюсь домой за полночь. И было мне счастье…

демонстрации.
Сценка из эпохи немого кино стоит перед глазами и сейчас: толстяк Додик Макаревский на стуле на авансцене. Он зритель, смотрит в зал, как будто там экран. А за его спиной суетятся, фехтуют Витя Ильченко и Рома Кац, как в «Трех мушкетерах» с Дугласом Фэрбенксом. Додик то замирает от ужаса, то хохочет, то плачет, вытирая большое свое лицо клетчатым платком. За ним, в свою очередь, хохочет уже весь зал. Это был Театр и моё первое прикосновение к живому искусству.
Надо быть гением, чтобы выделиться на фоне одесской манеры прикалываться по любому поводу. Эту ехидную улыбочку с прищуром, которую лет через 10 — и уже навсегда — узнает вся страна, мы видели каждый день. Через несколько лет уже в Москве мы встретимся как добрые друзья и он подарит эту фотографию, которая теперь украшает мою коллекцию нечаянных автографов на солнечной стене квартиры в Лос-Анджелесе.
А Одесса уже смеялась во весь голос, сползая от смеха с кресел на пол. Жванецкий — это тонкая ирония там, где раньше был пафос и официоз. Одесситы это ловили на лету.

Мы беззаботно кувыркались в волнах полусвобод хрущевской оттепели. Меня тянуло к художникам не совсем идейной ориентации. Бывал в гостях у странного Олега Соколова, любовался тазом посреди комнаты, куда набиралась вода с потолка во время дождя. Догадывался, что это эстетический акт, и благоговейно молчал. На мой не заданный вопрос Олег многозначительно отвечал:
— Зато видно небо.
У меня на стене долго висели его замысловатые абстрактные миниатюры на темы «Алых парусов» Грина.
Как-то в Одессу залетел из Москвы на стареньких «Жигулях» Владимир Николаевич Турбин, автор уже нашумевшей у нас книжки «Товарищ время и товарищ искусство». Как обычно теперь, москвичи сами заглядывали к нам в Горком. Так мы познакомились. Серьезный разговор на другой день мы начали на Дерибасовской, а закончили к вечеру уже на проспекте Ленина в Кишиневе.
— Хочешь поговорить? Поехали со мной в Кишинев! — пригласил он, закончив менять пробитое заднее колесо.
Всю дорогу, не отрываясь от руля, он забрасывал меня замысловатыми мыслями о загадочной силе искусства, удовлетворенный эффектом, который они производили на его случайного слушателя. Он подарил мне свою книгу. Эта встреча, эта книга перевернули мое легкомысленное отношение и к кино и к искусству вообще.
Тому способствовала и выпускница ленинградской Академии живописи Ира Макарова, как-то подсевшая ко мне в библиотеке и оставшаяся на долгие годы очень близким человеком. Это она умела нестандартно поливать советский официоз изобретательным матом. С неподражаемым сарказмом издевалась она и над моей общественной активностью.
— Что ты там делаешь в своем Горкоме? Это же абсолютно бесполезная банда бездельников! Один ты чего-то суетишься. Когда тебе уже надоест, Бенвенуто?
Это она меня так назвала — именем скульптора, ювелира и скандалиста эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Я отшучивался, пропуская мимо ушей ее язвительные шуточки. На день рождения гомеровским гекзаметром на настоящем пергаменте, в свитке, перевязанном голубой ленточкой, она подарила мне свою саркастическую оду.
Ира и ввела меня в круг одесских поэтов и художников. Олег Соколов, Юрий Егоров, Саша Ануфриев, Лёша Стрельников, поэты Юрий Михайлик, Леня Мак — где-то рядом существовал полуподпольный мир инакомыслящих задир, к которым тянуло любопытного комсомольца. Конечно, они не представляли никакой опасности для общества, но на всякий случай находились под присмотром КГБ.
Мак, культурист и поэт, писал свои непонятные стихи: «…и тихо куришь в отдушину чужой души…» Плевался при слове комсомол. В споры не вступал, тихим был. Но однажды на улице двое пристали к женщине. Он взял обоих за шиворот, легко приподнял и свел лбами. Аккуратно положил обмякшие тела на тротуар, и мы пошли, куда шли.
Читал, закрыв глаза, нараспев:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы…
От стихов вдруг сладко заныло сердце. Привиделось, будто я среди них.
Учился Лёня в политехе, где папа его заведовал кафедрой. Да не доучился. Стихи оказались важней. В конце концов, бросил он Политех, поссорился с родителями и укатил в Ленинград. Подружился с Бродским. Укатил на Памир в экспедицию, тюки таскать. Потому что был он штангистом, бугристым, как валуны послеледникового периода. Тогда, в горах, попала экспедиция в снежный завал. Двое суток отогревал собой тщедушного академика, снег руками раскапывал. Вытащил-таки! Академик его в благодарность перевел к себе на океанографический.
Брал и в кругосветку, в морскую экспедицию. Тут его тормознули органы, ясное дело, по пятому пункту. Кому ясно, а ему нет. Друг мой выбросил свой студенческий и уехал в Воркуту изучать жизнь зэков. Там и закончил, наконец, свое образование, но уже в Горном институте. На него там смотреть ходили: он со штангой в 100 кг приседал как раз 100 раз.
Потом Одесса, грузчиком в порту, грузчиком на кондитерской фабрике. И все стихи писал. Жену взял русскую, миниатюрную статуэтку — Ирку нашу, Макарову. Не сиделось ему в Одессе. Подался в Москву на Высшие сценарные курсы. Попал в класс к Тарковскому. Обалдел, по его словам.
На одесской киностудии со Станиславом Говорухиным работал над сценарием «Вертикаль», где и познакомился с Высоцким. И писал, писал стихи. Пока его в КГБ не вызвали с подачи одного одесского поэта. Лёня на очной ставке в лицо этому поэту и плюнул смачно. Тогда его не били. Может, боялись, кабинет разнесет в щепки? Но требовали отречься от своей антисоветчины. Он там им тоже нахамил. Ну, его и выслали из страны. Развели с Иркой и выставили. Осталась Ира с двумя детьми терпеть позор и унижение от соседей.
В Нью-Йорке работал Леня таксистом, потом инженером в нефтяной компании. Зачем-то женился, пока ждал Ирку. От второго брака еще двое детей. Нужно было их кормить — стал риелтером, толкал дома в Лос-Анджелесе. Риелтер, если не дурак, это деньги. Вот и дом купил себе двухэтажный. Пришло время — развелся. Дом с прудом под балконом отдал жене и детям. Вернулся к стихам. Одинокий. Гордый. Одержим глобальными идеями и проектами. В России вышел том его стихотворений. Утверждает, что счастлив. Уже в следующем веке мы с ним будем рядом в Лос-Анджелесе доживать наши беспокойные и такие крутые жизни…
А Ирка, что ж Ирка… Дети уже выросли, переженились. Она будет жить там же, на Фаунтейн, близ русской церкви, которая и приютила ее много лет назад. Ничего американского к ней так и не прилипло. Пройдут годы, и она еще станет крестной матерью Ивана, моего второго сына, которому суждено будет родиться в Америке.

Тогда, в обманные 60—е, я робел и помалкивал в их компании, стремясь вникнуть в смысл абстрактных полотен Олега Соколова, за дружбу с которым чуть не схлопотал выговор в личное дело. Но меня все равно влекли эти люди, тревожил их глухой, как мычание, протест. Чего-то, наверное, знали они, как и Юрка Бровкин, что не доходило до меня.
Про ОВИМУ уже почти и не вспоминал. Диплом по судовым холодильным установкам мне чертила бригада добровольцев из трех студенток Водного института, и защищался я вместе со своим курсом, и липовый госэкзамен по военному делу на звание младшего лейтенанта сдал вместе со всеми. Липовый, потому что посвятили товарищи в хитрую систему, которая позволяла на глазах важной государственной комиссии из Генштаба вытянуть свой билет, единственный, который надо было выучить наизусть. Ну, и выучил. Стыдно было обманывать родной Генштаб, но ведь были уверены, что эти знания никогда не пригодятся.
Потом, в завершении нашего военного «образования» была стажировка в Балаклаве под Севастополем уже на настоящих подводных лодках. Взял отпуск и присоединился. Болтались по городку, встроенному в скалы, ели вкусные местные чебуреки, смотрели кино в кубрике прямо с коек. И вдруг… Боевая тревога!
Настоящим оказался поход, затянувшийся почти на месяц, в течение которого моя лодка 614-го проекта куда-то шла под водой, по ночам заряжала батареи, высунув гусиный нос из-под волн, потом замирала на заданной глубине, выполняя какие-то таинственные приказы. В это время требовалось соблюдать абсолютную тишину, казалось, было слышно, как борт царапают какие-то стальные щупальца. Было ужасно холодно, так как в целях экономии энергии отопление и освещение были отключены кроме нескольких аварийных лампочек. Команде запрещалось передвижение за пределы своих отсеков. Оставаться на боевых постах, разговаривать шёпотом, в туалет ходить по разрешению, еду получать на месте сухим пайком и в свободное от вахты время просто лежать на койках, завернувшись в суконное тонкое одеяло. От одних этих приказов было не по себе.
Домой возвращались тоже скрытно, лодка всплыла только на траверзе Балаклавы, и команда, высыпав на палубу, облегченно отливала уже в родное Черное море. На берегу мы узнали, что там, на поверхности над нами, мир в эти дни стоял на грани ядерной войны, а мы выполняли боевое задание в районе Карибского моря. Впрочем, о чем я? Это же была военная тайна. На дворе стоял октябрь 1962-го…
Так и не осознав масштабов исторической драмы, безвестным участником которой нам, курсантам — выпускникам ОВИМУ, суждено было стать, вернулся младшим лейтенантом запаса к мирным делам в комсомоле.
Теперь главное — Дворец студентов. Как тяжелые волны, бились страждущие толпы в тяжёлые дубовые двери на концерты и танцы. Здесь выступал симфоджаз Евгения Болотинского из клуба Промкооперации, выступал Жванецкий, зарождалась команда одесского КВН.
В уютном полумраке нашего фойе с диванами я впервые услышал грустный «Последний троллейбус» Булата Окуджавы, открывший что-то более глубокое и важное, чем светлое будущее, за которое отчаянно билась с невидимым врагом наша великая держава. Весенним ветром из Москвы занесет к нам и самого Булата Шалвовича. Ему понравится моя подружка, и она уйдет с ним после концерта, чтобы не вернуться.
А еще была у нас изостудия, которую как-то по особому вела Зоя Ивницкая, жена главного художника Русского драмтеатра Михаила Ивницкого. Про эту студию отдельный рассказ. Валерий Цымбал, студент политеха, влюбился в нее, хотя она была не только женой известного в Одессе художника, но и старше Валерки чуть ли не на двадцать лет. В ужасе метались его партийные родители:
— Игорь, вы должны с этим что-то сделать! Это же аморально!
А Валера пер на меня и стучал кулаками в грудь:
— Стари-и-к, я теряю сознания от счастья, как они не понимают? Что где? В постели, конечно! Скажи им, чтобы они от нее отстали, а то я сделаю с собой что-то ужасное.
Зоя мне доверяла:
— Никто ничего не понимает, это моя последняя любовь. Я нужна ему, понимаешь? Это наше счастье.
Валера виртуозно шил себе брюки. И они действительно влито сидели на его тонкой фигурке. Мама с папой — обкомовские работники, а он себе шил брюки. Зоя что-то в нем поняла и подготовила его к поступлению в знаменитое ленинградское Мухинское училище, на факультет театрального художника. Да еще на курс к Акимову. Со второго курса его забрили в армию, так как в Мухинском не было военной кафедры.
Через полгода он приехал на побывку в Одессу и уговорил Лёню, поэта и культуриста, сделать ему сотрясение мозга. Эта гора мышц взяла его за голову, нагнула и двинула об трамвайные рельсы лбом. Не знаю, сильно ли, но две недели в больнице художник пролежал. И добился своего. Его комиссовали. Он вернулся в Питер доучиваться. Доучился. Халтурил в Худфонде, оформляя доски почёта в колхозах и совхозах Ленинградской области.
Иркутский драмтеатр пригласил его художником. Руки у него оказались золотыми: он изумительно делал театральные макеты, мельчайшие детали. Успел жениться на однокурснице, она родила ему чудную девочку. Уже в перестройку они оба улетят в Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе после смерти мужа окажется и его Зоя. Зоя напишет прекрасную добрую книгу про театрально-художественную Одессу, посвятит ее своему покойному мужу Михаилу Ивницкому и умрет в 92 года в своей маленькой квартирке в Вест Голливуде среди друзей и учеников…
А Валера будет шить на заказ костюмы для олимпийских чемпионов, бывших советских танцоров на льду в подслеповатой комнате, окно которой выходит на знаменитую брайтонскую деревянную набережную, виднеющуюся в узкую щель между грязными стенами каменных громад. Полгода шьет, полгода пьет. Язык так и не выучит, компьютер возненавидит. Верная жена Мила будет подрабатывать социальным работником, ухаживать за пожилыми американцами. Как государственная служащий, она получит на себя и мужа медицинскую страховку. Это многое значит в Америке. О чем мечтаешь теперь, Валера?

— Стари — и—к! Как только получим паспорта — сразу домой, в Питер. Не хрен здесь делать без языка и работы.
— А зачем же паспорта ждать?
— Ты чо? А вдруг операция? Я что, ее в России буду делать?
Но этот разговор случится уже в другом веке. И в другой стране. Между пожилыми людьми. А потом Валера вернется в Питер и там скончается, так и не увидев перед смертью свою первую безумную любовь…
Бурлила Одесса 60—х молодым задором Дерибасовской, Ланжерона и Аркадии, веселилась в подвальчике у «Бабы Ути», шумно встречала возвращавшуюся с путины китобойную флотилию «Слава», звучала мелодиями Дунаевского из «Белой акации» в исполнении любимца публики Водяного, радовалась победам футболистов «Черноморца», атаковала иностранных туристов прилипалами-фарцовщиками. Позже назовут нас поколением хрущевской оттепели, шестидесятниками, детьми ХХ съезда, хотя настоящие шестидесятники были все же там, в Москве, они понимали свое значение. Или в Питере в среде рокеров и завсегдатаев знаменитого «Сайгона». У нас все было скромней и естественней.
Кто бывал на Дерибасовской, тот знает кафе «Алые паруса». Мы дали обычному учреждению общепита это гриновское имя и убедили Горком партии освободить первое в стране молодежное кафе от пресловутого финплана. Освободили! И так теперь получилось, что по одной стороне Дерибасовской утюжили тротуары бичи, портовая Одесса, а на другой стороне, на углу Екатерининской в «Алых парусах» собиралась творческая молодежь вроде неуёмного Даниила Шаца, драматурга и заводилы. Он, никогда не видавший заграницы, так описывал Париж, его бульвары и улицы, кафе и музеи, что становилось как-то неловко за советскую власть. Вот с кем всегда было о чем поговорить…
Туда и приехал из Москвы Александр Асаркан, легендарный корреспондент «Литературной газеты». Тогда я еще не знал о его гулаговском прошлом, но чувствовал какую-то драму в его облике. Небрежно одетый и элегантно циничный, равнодушный к еде и комфорту, без возраста, но в морщинах, без столичного высокомерия, он открыл мне «Современник» и «Таганку», а о кино говорил, как о высоком искусстве, чем-то напоминая Владимира Николаевича Турбина, совсем недавно прочищавшим мои мозги по дороге из Одессы в Кишинев. Мы подружились.
Саша будет писать из Москвы на разрисованных вручную почтовых открытках. А во время Первого Всемирного Форума молодежи вытащит в Москву, приютит в своей каморке темной коммунальной квартиры в Замоскворечье, а кофе пить приведет в Артистическое кафе, что в проезде Художественного театра. С ним всюду пускали, и мы сидели рядом с Олегом Табаковым, Игорем Квашой, Татьяной Дорониной, Олегом Ефремовым. Он о чем-то их расспрашивал, а они, в свою очередь, бесцеремонно рассматривали его спутника в морской форме.
Был среди них и шутник, студент института восточных языков Игорь Ицков, который зарабатывал тем, что на коленке сочинял какую то халтуру на антиколониальные темы, и продавал её как переводы стихов своих сокурсников из Азии и Африки. Поразил тогда меня его веселый цинизм, да и вся эта атмосфера насмешливого отношения к вещам для меня все еще серьезным.

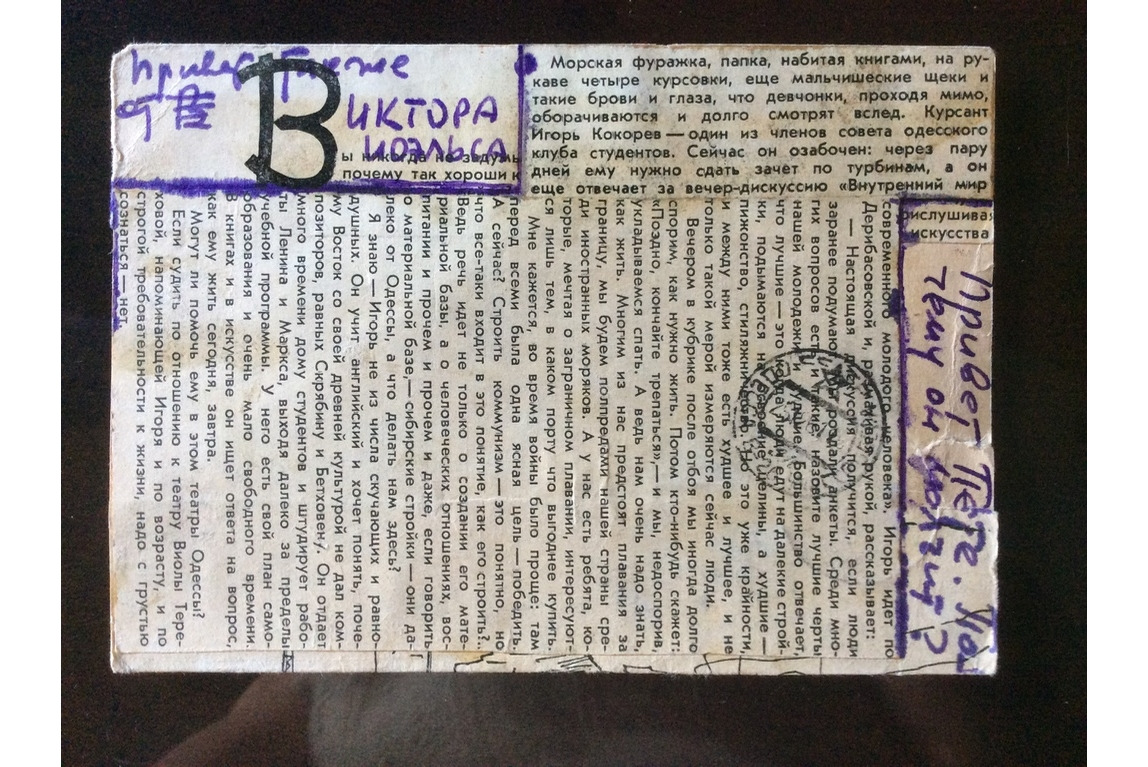
Володя Белов, московский обозреватель журнала «Театр», ловивший в одесском театральном сезоне пульс свободы, пытал меня с журналистским пристрастием пока мы бродили с ним по весенней Дерибасовской, Пушкинской, по Приморскому бульвару.
Кусок той статьи Володи об Одессе в журнале «Театр» пришлет мне не сам автор, а Асаркан, причем тем же оригинальным способом — наклеенный на почтовой открытке. Из нее я узнал, «что девчонки, проходя мимо, оборачиваются и долго смотрят вслед», а также, что я «не из числа скучающих и равнодушных». Что правда, то правда. Журнал «Театр» мне в руки не попался, а открытка сохранилась на всю жизнь.
А Володя отправит в Одессу Аду, свою воспитанницу. Попросит показать ей мою Одессу. Написал: «Она о тебе уже знает».
Красивая, успел отметить я, а она усмехнулась, заметив оценивающий взгляд, и сказала:
— Володя утверждал, что ты заблудившийся романтик революции.
Ада оказалась внучкой Сергея Лазо, и я теперь смотрел на нее, живого потомка героя гражданской войны с восторгом и боялся прикоснуться. А что она думала тогда обо мне, когда мы катились с ней кубарем по крутому склону Отрады к пляжам? Может быть, мелькнул где-то образ комиссара в сером шлеме? Я тогда еще бредил революцией.
Не знаю, знала ли она о том, что через 8 месяцев после ХХ съезда советские танки вошли в Будапешт? Я не знал. Осенью 1956 года Хрущев жестоко подавил венгерскую революцию против сталинского режима установленного там после победы над фашистской Германией. Не знал я, как и все в Одессе, и о жестоком расстреле рабочих по приказу Хрущева в Новочеркасске в ответ на повышение цен в 1962 году. Потому и оставался наследником комиссаров из песни Окуджавы.
Спустя годы мы снова встретимся, уже в Москве, во ВГИКе. Ада станет сценаристкой и женой режиссера. Мы будем общаться по профессии и так просто. И почему-то никогда не вспоминать о том лете в Одессе.
Оно, кстати, было и последним в моей одесской комсомольской карьере, которая оказалась короткой. Не прижился я в трудовом коллективе. Единственный из аппаратчиков, кто сочувственно, с пониманием относился ко мне, был зав. отделом идеологии Петр Кондрашов, человек внимательный, умный, осторожный. Я всегда приходил сначала к нему с очередной идеей за одобрением. Он насмешливо спрашивал:
— Когда ты угомонишься, Кокарев?
Хорошо, выговора не схлопотал за свои инициативы, но в партию меня тогда так и не приняли. Не той крови…
Годы спустя мелькнет Петр в Москве, в высшей партийной школе. И исчезнет. Я думаю, по спецзаданию партии где-нибудь в Латинской Америке. Или в Африке.
Так же бесцеремонно, как выслали из страны строптивого поэта Лёню Мака, секретарь обкома КПСС Синица, проходя мимо «Алых парусов» и услышав рок-н-ролл, запретил это безобразие лично. Осталось от парусов одно название.
— Слушай, ты знаешь, что Снигирев телегу на тебя накатал Бельтюкову? — спросила меня вскоре после этого Люба, пышнотелая наша смешливая секретарша. Она недавно родила, и ее соски сочились мокрыми пятнами через платье.
Я отвел глаза:
— За что, спрашивается?
— А за то, что ты ни разу не был в первичных организациях, ни на одном заводе.
— Так они у меня все здесь, в Горкоме почти каждый вечер! Что мне делать на заводе?
— Ну, смотри. Как знаешь. — И она все-таки прижалась ко мне своей плотной, выпирающей грудью. А кляузу липкого, как Урия Гип, Снигирева, она куда-то затеряла, не дошла телега до Бельтюкова.
Я чувствовал, что меня как-то прикрывал и пенсионер-чекист из комиссии старых большевиков в горкоме партии. После того бюро по Дворцу студентов, он иногда тормозил меня в обкомовской столовой и, внимательно глядя из-под нависших седых бровей, спрашивал:
— Как, брат, борьба с мировым злом продолжается?
Михаил Карлович Волховышский. Кто его знает, что скрывал он в своем прошлом, но ко мне Волховышский присматривался, видимо, чтобы убедиться, что они делали все правильно, и мы продолжим их дело. Ага.
В одесском горкоме приоткрылись мне тайные пружины советской партийной власти. Банкеты на весь рабочий день в рыбацких совхозах Отрады и Люсдорфа в так называемых инспекционных поездках милицейского начальства, спецпропуска, служебные машины, торжественная тишина роскошного буфета в здании Обкома, тринадцатая зарплата в отдельном конверте и бесплатная путевка в Крым в санаторий Четвертого управления, и эта тоненькая волшебная книжечка — телефонный справочник для служебного пользования с именами и отчествами всех должностных лиц города. Эти имена известны только нам, и только мы можем решать важные вопросы телефонным звонком. Это и есть так называемое телефонное право, применяемое вместо закона. И все бумаги на моем столе секретны, для служебного пользования. И осторожность, как бы чего не ляпнуть, неписаные правила. Какие? Почему? Есть, что скрывать?
А заседания бюро горкома партии, больше похожие на инквизицию? Сидят по обе стороны длинного стола члены бюро, только что не в мантиях, судят чем-то провинившихся. И теряли сознание здоровенные мужики, лишенные партбилетов. Знали дальнейшее…
Тайна власти упорно ускользает от меня. Не понять, как слуги народа становятся его хозяевами? И почему ими становятся именно посредственности с дурным характером? Или на людей так действует сама власть? О, эта сладкая, полная скрытых привилегий и открытого раболепия жизнь египетских жрецов, надувающих щёки! Стал присматриваться к самому себе. Вдруг заметил, что мне подсознательно больше нравятся люди, которые с уважением смотрят мне в рот, и раздражают те, у кого свое мнение. Это происходит сплошь и рядом, на автомате, если не сдерживаешь себя окриком изнутри.
Это случилось, когда я вернулся из командировки по обмену опытом из Днепропетровска. Прямо с поезда пошел не к себе, а решил подняться в Горком партии, располагавшемся на втором этаже того же обкомовского здания возле железнодорожного вокзала, где на первом были мы, комсомолята. В голове бурлили новые революционные идеи, которые не терпелось предложить партийному руководству города.
Итак, в просторный кабинет первого секретаря Горкома партии вошел молодой человек с фибровым спортивным чемоданчиком, в трикотажных рейтузах-трениках с пузырями на коленках и сияющей физиономией. Так ходили, наверное, ходоки к Ленину.
И вдруг издалека, где виднелся необъятный стола с телефонами, раздался визгливый голос:
— Ты кто? Ты куда пришел в таком виде, сопляк? Это Горком партии, а не Привоз. А ну, вон отсюда!
Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, пока доходили хлесткие, как кнут, слова, горячая краска заливала лицо и шею. Я не видел его лица, его глаз. Так и ушёл, пятясь, тихо притворив за собой тяжёлую дверь, не смея взглянуть на секретаршу. Жгучий стыд и одна единственная мысль: все кончено. Я сюда больше ни ногой. Какой Днепропетровск? Через день я подал заявление с просьбой направить меня в пароходство на работу по специальности.
Пройдет целая вечность, жизнь своими жерновами перемелет зерна веры в муку сомнений, пока горький вывод большого русского писателя Виктора Астафьева не поставит в этих сомнениях точку: «Власть всегда бессердечна, всегда предательски постыдна, всегда безнравственна…»
Прошла молодость, а с ней и краткие шестидесятые. Нет уже кафе на Дерибасовской угол Екатерининской с чудным названием «Алые паруса». Нет и Горкома в той каменной громаде у железнодорожного вокзала. И двор, где родился, кажется маленьким, едва вмещающим воспоминания… Но тянет туда занозистая память, живет в далеком уголке души свободный дух оттепельных скоротечных лет.
Брожу по Одессе, ласкаюсь к камням…
Да здесь я, да здесь я! — шепчу я ветвям.
Бреду, спотыкаясь о мягкий асфальт…
Мой голос не тенор, не бас и не альт,
Мой голос… Пусть стены услышат мольбу! —
Я жить без тебя не могу, не могу!
Глава 2. Прости, батя
В одной руке диплом инженера-механика судовых силовых установок, в другой — заявление об уходе:
«Прошу направить на работу по специальности.» Какая смелость, однако. Надеюсь, мотористом я особой опасности для безопасности судна не представляю.
Бельтюков подписал заявление, кажется, тоже с облегчением. На его круглом лице ничего не отразилось. Так расстаются с ненужными вещами. Потом я сдал их волшебную красную корочку — удостоверение инструктора Горкома комсомола, вспомнив напоследок, как оно работало.
Дело было в Москве, на Зубовской, где сестра приютила меня на несколько дней командировки. Из этого ветхого деревянного строения забрала меня милиция за избиение ее ревнивого мужа. Не бил я его, конечно. Просто когда увидел замахнувшуюся на сестру руку, поднял его за воротник и выбросил в закрытую дверь. Дверь выпала вместе с ним на улицу. Тщедушный орал, рвал на себе одежду и звал милицию.
У меня забрали паспорт, уволокли в отделение, сунули в клетку, как бродягу без прописки. Очнувшись, я на всякий случай показал дежурному через решетку мое удостоверение Одесского Горкома. Дежурный уставился на красные корочки, заморгал всеми глазами:
— Так что ж вы сразу не сказали, Игорь Евгеньевич?
И все сразу изменилось. Меня с извинениями доставили обратно к сестре, а в камеру затолкали его, психа трусливого. Так ему и надо, думал я, но сестра задала мне еще ту трепку. Тут волшебный мой документ не помог…
Ладно, обойдусь как-нибудь своими силами. Главное, я кое-что узнал про соблазны власти, чего не ведают другие. А зря, могли бы и укоротить. Если б знали.
На пассажирском лайнере «Литва» буду ишачить мотористом, зарабатывать стаж для рабочего диплома механика. В пропахшем горячим маслом машинном отделении время меряется не днями и ночами, а вахтами по четыре через восемь. А недосягаемая соотечественникам и всегда почему-то солнечная и теплая заграница открывается урывками и издалека, когда мы носимся в пятерке таких же охотников за шмотками по дешевым магазинам специально для советских моряков. На остальное ни времени, ни разрешения. Известны и места на борту, где прятать от таможни контрабанду — модные плавки, отрезы, шариковые ручки, блузки на продажу. Если свой не заложит, за короткий двухнедельный рейс можно годовую зарплату перекрыть. Моряки загранплавания были вполне обеспеченными людьми в Одессе.
«Литва» ходила короткими рейсами по портам Средиземного моря: ночью — переход, днем — стоянка. Стамбул с запахами жареной рыбы на причалах, Латакия с солнечными длинными пляжами, Хайфа с ее висячими садами, шумная Александрия с египетской экзотикой, золотой Бейрут с уличными базарами, Фамагуста с легендарным замком Отелло, древние Афины, зеленоводный Дубровник с крепостной стеной и прозрачными бухтами — что успевает увидеть человек, носящийся с высунутым языком по давно известным адресам? Но все это безумно интересно для двадцатитрехлетнего с замыленными глазами парня. Заграница, оказывается, не так уж и загнивает? Или я чего-то не вижу?
«Литва» германской постройки, кстати, тоже заграница: немецкая мебель салонов, полумрак баров с иностранными бутылками, голубой бассейн, сауна, импортная музыка, не говорящие по-русски блондинки в шезлонгах. Пожилых глаз как-то не замечал, болезнь юности. Вокруг все новенькое блестит чистотой и медью, пока не свинтит дверные ручки, краны, унесет туалетную бумагу, посуду, бокалы советский турист на внутренних рейсах. Тогда ободранное судно поплетется в Болгарию на ремонт, зализывать раны… По весне — все сначала.
В Средиземном море жарко, в малюсеньких четырехместных каютах без кондиционера делать нечего, даже спать. Спим на двухъярусных койках, завернувшись в смоченные под краном простыни. Успеть заснуть, пока они не высохли. Проснулся, и сразу вон из душегубки в рай на палубы к бассейну. Туристы в городе, можно загорать.
Моя вахта «собачья», с 4-х ночи до 8-ми утра. Отстоишь, примешь душ, поспишь до 12, и гуляй до 4-х дня. После обеда снова в машину до 8-ми вечера. Потом душ, ужин с командой, и вечер твой. Не очень засвечиваясь, проникаешь в бары, и жадные до приключений одинокие пассажирки отдаются прямо в танце.
Года хватило, чтобы одуреть от этого разврата. В отделе кадров удивились, но просьбу удовлетворили и отправили на танкера. В Хиросиме, на верфи Мицубиси вскоре уже ползал под пайолами только что выстроенного для СССР танкера серии «Л» — «Луганск».
Всюду автоматика и лабораторная чистота. Гигант в 64 тысячи тонн дедвейт, это водоизмещение. Два главных двигателя в 20 тысяч лошадей и два огромных винта дают до 32-х узлов, это 60 км в час. Акулы не угонятся. Длина корпуса — 217 метров, по палубе можно на мотоцикле гонять. Лифт — на восемь палуб. У каждого члена экипажа каюта с иллюминатором, с душем и кондиционером. На верхней палубе бассейн, волейбольная площадка, настольный теннис, гири, штанга.
На пишущей машинке, подарок старпома, пишу краткие заметки, ищу свои слова о Стране Восходящего солнца. Перво-наперво из головы не выходит 1946 год, Хиросима и Нагасаки. Где следы атомного Армагедона — в воздухе, в атмосфере, в сознании переживших этот кошмар? А нигде! Американская музыка в барах, английская речь на улицах, улыбки и вежливые, изящно резкие в движениях японцы. Быстро заживают раны в стране самураев.
Жизнь японской улицы — скороговорка. Несутся из метро на работу и рассасываются по дороге. В полдень в сотнях окон поднятые вверх руки — обязательная физзарядка. И снова за работу. Работа для них — не наша с перекурами. С полной отдачей. После 6-ти вечера выбегают в рассыпную из всех дверей. Как насосом, их всасывает метро. Четкий ритм этого огромного организма поражает. Что заставляет их так стараться? Вот нам бы такой народ, давно б перегнали Америку.
Лучи осеннего японского солнца ласкают загорелое тело. Рядом на нагретой солнцем палубе кто-то с приблатненными интонациями поет про девушек из Нагасаки, не подозревая, что сочинила эти стихи советская поэтесса Вера Инбер. Бассейн на судне маленький, но глубокий. А слабо ласточкой с вентиляционной трубы? Высота метра три, глубина бассейна — два. Вхожу в воду почти плашмя, руками успеваю оттолкнуться от дна. Никто повторить не решался. И хорошо. Кому нужны сломанные шеи?
Второй помощник капитана, однокашник Валера Борисов хвастается покупками:
— Смотри, чем комсостав подтирается!
Впервые вижу рулоны нежнейшей туалетной бумаги. Интересно, а куда они газеты девают? Играем на спор партию в настольный теннис. Я ставлю комплект пластинок Поля Анка. Он — рулоны. Проигрываю.
— Заходи, дам подтереться.
Дружно жили, весело. Put your hand on my shoulder… Поль Анка.
Наконец, прошли ходовые испытания. Теперь мотористу в машинном отделении практически делать нечего. Только следить за приборами. Скучаю на вахте. Прилетела из Москвы остальная команда, всего нас теперь 57 человек. Капитан подписал документ о приемке, и «Луганск» взял курс на Сингапур. Прощай, Япония! Каждый везет сбереженную валюту до Сингапура. Там, говорят бывалые, есть знаменитый «малай базар». Сингапур, город без тени, солнце в зените, жара за сорок — уже на траверзе. Бросили якорь. Стали на рейде.
И вдруг… Радист принял экстренное сообщение: сегодня, 22 ноября 1963 года в Америке убит президент! Убит Джон Кеннеди. Задержан убийца — Ли Харви Освальд. Как такое возможно? В цивилизованной, такой благополучной стране… Радист сообщает, что говорят. А говорят, что американец этот был подготовлен в СССР. Команда ничего не понимает, только все боятся, что и мы попадем под раздачу. Вот уже капитан со старпомом таможенным катером доставлены в полицию. А как этим азиатам обьяснить, что сбросить атомную бомбу, это мы можем, это понятно. Но убить президента? Мы же не дикари какие-то! Но кок на всякий случай сушит всем нам сухари. Тюрьмы тут ох, какие страшные.
Тем временем наше судно атакует тот самый «малай-базар». Как пиявки, присасываются к бортам десятки джонок, летят вверх из них стальные крюки, цепляются на фальшборт. И по шкотам быстро карабкаются и лезут на палубу, не обращая никакого внимания на нас, темнокожие проворные малайцы. Быстро-быстро теми же крюками втаскивают тюки с товарами. Так же молча и шустро огораживают свои делянки, разбрасывают прямо на палубе плавки, майки, рубашки, джинсы, пестрые женские кофточки, обувь. И откуда только столько трепья? Стою, раскрыв рот.
Наглый малаец сует мне колоду карт:
— Гоу, — говорит, — туалет!
Кому туалет? Зачем в туалет? Мельком вижу — это порно картинки, они жгут руки, стыдно глаза поднять. Бросаю их прямо на тряпки. А по трапу уже поднимаются живьем они, юность планеты. Идут, играя бедрами, навстречу нашим жадным взглядам. Ой, что делать?
— Каюта? Туалет? Мне очень нужно, сэр! — передо мной длинноногое, открытое любви загорелое тело. Оливковые ее глаза насмешливо смотрят прямо в душу.
Дался ей этот туалет! К себе? В каюту? Как вести себя в подобных случаях, ччерт!! Ну, впущу, а дальше? Что с ней делать? Даже угостить нечем…
Сигнал громкой связи выводит из ступора:
— Внимание экипажа! Всем свободным от вахты выдворить шлюх с судна!
Какое облегчение. И вот они уже дисциплинировано спускаются по трапу, всем своим видом показывая, чего мы лишились.
— Russian оnanist! — я уже слышал эти обидные выкрики от европейских красоток вдоль узкого Кильского канала в Балтийское море. Мы единственные во всем мире, кому не разрешены их соблазнительные услуги. Но онанизмом мы не занимались, как ни странно. Кто-то говорил, судовой врач бром в компот подливал…
Командование вскоре вернулось на борт. Войны, кажется, не будет. Шипшандер уже доставил на борт запасы продуктов, палубная команда подняла якоря, и «Луганск» взял курс на Южную Америку. Плывет стальная громадина, не тонут ее шестьдесят четыре тысячи тонн, как ни странно. А вокруг океан до горизонта и такое же, без границ, синее небо. В Атлантике погода штилевая, идем ходко, 23 узла. Это под сорок км в час, как авто. Только белый буран за кормой. В машинном отделении прохладно, кондиционер работает бесшумно. На приборах трепещет стрелками напряженная жизнь судового сердца. Делать на вахте нечего.
Стакан рислинга после обеда (положено на экваторе!) и загорай до вахты, думай о смысле жизни, готовься в аспирантуру… Только учебники, захваченные с собой в рейс, валяются не открытыми. Здесь мы другие. Аргонавты мы. С виду нормальные граждане, а на деле аргонавты, сшивающие своими кругосветками, как пенистыми нитками города и страны. Туда-сюда, стежки такие белые за кормой. Но след исчез, и нитка порвалась. Постепенно истлеют и порвутся связи с прошлой береговой жизнью, забудутся увлечения, вычеркнут тебя из телефонного списка твои знакомые, перестанут ждать близкие, а когда вдруг вернешься, и разговаривать будет не о чем. Не всякий годен для такого.
Большой мир где-то там, а ты, загорелый и просоленный, появишься мельком на берегу, набросишься на эту ускользающую от тебя жизнь, припадешь к ней, как умирающий от жажды к источнику, напьешься, промотаешь зарплату и… отвалишь. Снова в море! А если задержишься, будешь томиться на берегу, даже заболеешь, выбитый из привычной колеи судового расписания, не зная, как жить иначе, чем по четыре через восемь…
Бразилия началась с того, что ночью на рейде у порта Сантос нас ограбили. Пока перекачивали нефть бортом к борту в маленький местный танкерок, поднимая осадку для входа в мелководье, шустрые бразильцы забрались в наши спасательные мотоботы и обобрали их под чистую. Капитан махнул рукой: ладно, чего мелочиться? Братская помощь третьему миру.
Солнце встало, и сквозь золотистый туман показалась мечта Остапа Бендера. Пришли в порт узким проливом, по обе стороны зеленые болота, наверное, с крокодилами? Открылся грязный порт, пакгаузы, краны. Пришвартовались среди таких же танкеров. Первая партия счастливчиков сразу рванула в увольнительную, вон они уже на трапе, нарядные, хрустят долларами в карманах.
А мы пока на вахте. Открыли стальные двери в боках гигантских цилиндров, полезли в еще не остывшую их утробу с железным шкребком — сдирать жирный чёрный нагар на раскаленном металле. В телогрейке, с ушанкой нахлобученной по самые брови, с фонарём на поясе и со шкотом, привязанном к щиколотке, ныряю в пекло. Веревка, это чтобы вытащили, когда сознание потеряешь. Выдержать можно минуты три, не больше. Вытянут, окунёшь голову в ведро с холодной водой, ушанку на уши, и обратно. Требует русских рук японская технология.
Но пришла, наконец, и наша очередь в увольнительную. Отмылись под душем. Мыло копоть не берет, только едкий антинакипин, от которого вылезают волосы. Но зато отмывает, оставляя только черные ободки вокруг глаз.
Вдохни этот маслянистый воздух, пропахший кофейными зернами, загадай желание. Чего ты хочешь, молодой, здоровый, полный сил? Чего хочешь, парень? Вот ты и в Бразилии, на краю Ойкумены, трясешься в открытом трамвайчике без стен из порта Сантос куда-то в центр иной цивилизации. Может быть здесь откроется, наконец, тебе тайный смысл твоего собственного бытия?
Он, правда, скорее закроется, когда два веселых смуглых парня на центральной площади в Сан-Пауло, по-братски похлопывая меня по плечу, вытащат из заднего кармана кошелек с тремя тысячами долларов, всю зарплату за почти год заграничного плавания.
В другой раз в моей пятерке (по одному не пускали) оказался Вася, кок судовой, бывалый моряк. Он и повел нас сразу, куда надо. А именно в аптеку, спирт покупать.
— Чудак, а где же ещё по такой цене, дешевле семечек?
Хозяин аптеки долго не врубался, чего хотят эти иностранцы. Потом принес запылённую бутылку. Вася узнал, обрадовался, как ребенок. Давай, говорит, пусть стакан принесет.
Хозяин удивился:
— Зачем стакан? Вот тряпочка.
— Зачем тряпочка? Пусть стакан.
— Но у нас спиртом лошадей протирают.
— А у нас желудок полируют. Скажи ему.
Я не знал, как это перевести, но хозяин уже догадался сам. Шмыгнул в заднюю дверь, прибежали мать и дочь, стоят втроем, таращатся. А Вася свинтил крышку, налил в стакан и просто слил 200 грамм в горло. Обтерся рукавом и сказал хозяину:
— Давай ящик, 12 бутылок!
— И мне, и мне! — загалдела наша пятерка.
Аптекарь допытывался, кто мы, откуда. На слово «русские» никак не реагировал. Такая глушь, эта Бразилия! Только имя Терешковой пробудило что-то в его сознании:
— А-а-а, коммунисты!..
Пока мы по очереди прикладывались к «лошадиной жидкости», обалдевший хозяин помчался на машине за товаром. Смотрим, возвращается, а за ним толпа. Любопытные. Как дикари, честное слово. Ну, мы им показали. Затем грузили ящики в его машину и медленно поплыли в порт. Куда спешить? За нами процессия, поют, танцуют. Карнавал какой-то устроили из серьёзного дела. У проходной довольный аптекарь вручил нам каждому по мешочку бразильского кофе.
Но тут случился конфуз. Оказывается, вывозить из Бразилии кофе мешками нельзя.
— Маленькими же!
— Not allowed, sir. Все равно нельзя!
Темнят бразильцы чего-то. Но Вася опять всех выручил. Достал припасенные мерзавчики «Столичной» и вручил с краткой, но выразительной речью таможенникам. Те сразу как будто поняли, и ворота открылись. Но на трапе уже нас ждал помполит:
— Ящики ставим вот сюда. Вахтенный, отнести это добро в баталерку. Ключ мне. Дома получите!
Что ж, целей будут. Этим спиртом я буду спаивать Ленинградский комсомол, который полюбит ходить в гости к вернувшейся на родину из дальнего рейса команде… Тогда и возникнет человек из ЦК ВЛКСМ Вадим Чурбанов, которому суждено будет развернуть мою жизнь на 180 градусов. Но это еще впереди, в будущем, которое надвигалось как бы само собой, никого не спрашивая и не перед кем не отчитываясь.
Пока берем в Сантосе сырую нефть и идем на Кубу. Снова океан и огромный гриф, тяжело опустившийся на теплую палубу. Сидел, нахохлившись, спрятав стальной клюв свой, пока кок не вынес ему кусище сырого мяса на лопате. Мясо сглотнула птица мгновенно, а следующим ударом клюва перебила черенок лопаты и, лениво расправив гигантские черные крылья, улетела куда-то в сторону невидимого берега.
Под Кубой, у американской военной базы Гуантанамо настиг нас ураган. Флора — так его уже назвали по радио. А для нас что Флора, что не Флора — просто при полном штиле и ярком солнце перед самым носом «Луганска» стеной встал на дыбы океан. И ушел наш танкер в гигантскую волну, закрывшую небо, как подводная лодка. Вынырнул. Опять нырнул. Где-то в каюте мотористов напор океана пробил неплотно закрытый иллюминатор. Пока закрывали второй стальной крышкой, вода заполнила каюту и понеслась рекой по длинному коридору. Так и не вынырнуть можно, мелькнуло, пока вода стремительно заполняла пенал коридора.
Течь обнаружилась в кормовом отсеке, где гребной вал. Я как раз на вахте. Значит, мне в рыло водолазный костюм, ключи, набивку для пробитого водой сальника, и пошел! Бьет струя в маску, вырывает из рук пропитанный солидолом фитиль, но конопачу, закрываю течь миллиметр за миллиметром. Сделано. И снова в машинное отделение — мотаться вслед за качкой от одной бортовой переборки к другой, следить за приборами. Вахта кончилась, но сменщика нет, он блюет, принайтованный тремя ремнями к койке. Надрывались дизеля, оттягивая киль огромного танкера от рифов. Но танкер медленно, неотвратимо несет на рифы Острова Свободы.
Завис над нами американский военный вертолет. Пилоты уже сбросили веревочный трап:
— Давай, русские, спасайся!
Но команды спасаться не было. Значит, будем стоять до конца. К счастью, ураган Флора ушел дальше на север, как и пришел — внезапно, покрыв Сантъяго де Куба толстым слоем желтого ила. Странно так, был город и нет его. Только торчат верхушки деревьев и трубы. Так что сходить на берег так и не пришлось.
Нефть быстро откачали, тут же начали мыть танки, отмывали, драили, сушили огромные ёмкости. После этого «Луганск» загрузили кубинским сахаром, и почапали мы домой. Снова бескрайний океан, теперь Атлантический.
И тут навалилась непрошеная, незаметно копившаяся тоска: где-то далеко крутятся маховики истории, приближая светлое будущее без моего участия, пока я здесь в бескрайнем океане ишачу, сырую нефть туда-сюда. Лежу после вахты на теплой палубе, хоть лижи ее, соленую, остывающую после тропического солнца. Подрагивает палуба — это урчат в утробе гигантской стальной сигары дизеля. Запрокинув голову, смотрю на Южный Крест на синем бархате ночного неба и ищу среди мерцающих звезд свою. Где она, моя путеводная?..
Ворочалась на прокрустовом ложе обстоятельств душа, требовавшая участия во всем, чем занято устремленное в будущее человечество, и маялась, невостребованная. И впадал ум в тоску. Ни есть, ни спать. Лежал в судовом лазарете, бессмысленно смотрел в белый потолок. Судовой врач записал: «Нервное истощение, глубокая депрессия…» Такие долго не плавают.
А Одесса хоронила своих сынов. Гробы стояли в фойе Дворца моряков на Приморском бульваре. Люди запрудили Дерибасовскую, от нее и Пушкинскую, медленно двигаясь к гробам. Безмолвно расступалась толпа и пропускала сквозь себя моряков, опустив глаза, отдавая вековую дань скорби по не вернувшимся. И уважения тем, кто снова уходил в море. Утонула в Бискайском заливе «Умань» с грузом железной руды. Перевернул шторм шестнадцать тысяч тонн железа, и ушли на дно наши товарищи с капитаном Бабицким на мостике. Спасшиеся молчали. С них взяли подписку не рассказывать, как грузили в Туапсе мерзлую руду, и как растаяла она в Средиземном море и сползла ее шапка на правый борт, и как в левый борт била волна и кренила и кренила судно, и как закачали баласт почему-то в верхние, а не нижние баластные танки, и как почему-то не стали кормой к волне и не взяли курс на ближайший порт Кадис, всего-то в тридцати милях.
Много лет спустя в далеком Лос-Анджелесе узнаю трагические подробности той ночи от 87-летнего Рудольфа Банта, стармеха «Умани», отправленного в отпуск как раз перед этим злосчастным рейсом. Старый моряк, он не только помнил моего отца, механика — наставника Черноморского пароходства. Он рассказал мне надтреснутым старческим голосом, как протестовал против неряшливой погрузки мерзлой руды второй механик, отказавшийся идти в рейс и тихо уволенный из пароходства после кораблекрушения. Как сцепились на мостике два авторитета, капитан и капитан — наставник, отвечавший за доставку груза, как из — за гордости не давали они SOS, как забыли закупорить гусаки вытяжной вентиляции баластных танков, и именно через них захлебнулась «Умань», способная сохранять плавучесть даже на боку… Пароходство списало все на шторм, уголовного дела даже не открыли. А оно надо, отчетность портить?
А меня, горемыку, списали с танкера и отправили опять на пассажирские, где от недостатка общения уж никто не страдает. Вот уже и трясусь на верхней полке в купе международного вагона, еду в ГДР, на приемку другого судна — на верфи в Варнемюнде. Опять белый пароход, новехонький лайнер «Башкирия». В судовой роли видел знакомую фамилию — старпом Вадим Никитин. Вон он, машет мне рукой с капитанского мостика, а рядом моя девчонка. Бывшая моя. Теперь его. Он красив, силен, да и постарше меня на два курса. Имеет право.
Месяцами буду ползать под пайолами — рифлеными листами палубы машинного отделения, проверяя на герметичность километры трубопроводов, прокручивать клапана, заглядывая в чертежи, стараясь полюбить эту работу. А наверху будет светить солнце и жить своей жизнью страна, переварившая и выплюнувшая фашизм и позорную ту войну…
Картошка и сосиски у хозяйки по утрам, пиво в соседнем баре под немецкие песни по вечерам — вот наша заграница. Вижу, как Паша, второй моторист, зажимает в углу прилавка бара молоденькую немку. Он тискает ее, а она только жалобно шепчет:
— Их ангст зи! Их ангст зи-и…
И жалко так улыбается. Уж сколько лет прошло с 45-го, а их женщины до сих пор боятся нас. И отдаются безропотно…
Здесь встают в пять утра, ложатся в девять вечера, после пяти закрывают магазины, после семи — ставни окон, городок вымирает до утра. На работе немец — без четверти шесть уже в рабочем комбинезоне. И никто ж вроде не заставляет? Ровно в три — он в душе. Чистая рубашка, костюм, велосипед и — домой. Как часы.
Спросил как-то Ганса, пожилого грустного работягу:
— Как же вы, такие культурные, демократические, допустили Гитлера?
Он будто споткнулся в разговоре. Потом сказал хмуро, подбирая слова:
— Мы за это поплатились. У нас никогда больше не будет фашизма. А вот у вас, не знаю.
И замолчал, отвернулся. Я еще долго буду гадать, что он имел в виду.
Новенькая «Башкирия» третий месяц стоит на приколе то в Вентспилсе, потом в Калининграде. Делать нечего. В магазине «Янтарь» открываю для себя чудо желтой, на века застывшей смолы. Хочется самому взять девственный кусок в руки.
В поселке Янтарный под Светлогорском огромное голубое блюдце карьера пустынно. Воскресенье. Только под одним земснарядом спят двое рабочих. Демонстрирую две бутылки бразильского спирта. Один из них понимающе кивает и исчезает ненадолго. И приносит два огромных полукилограммовых куска янтаря. Очарованный тайной дымкой в прозрачной глубине, торчу теперь часами в машинном отделении в токарке, пытаясь не разрушить тайну, не раскрошить теплую ее плоть, режу из прозрачной желтой смолы то кольцо с каплей дегтя, то амулет с прожилками, всегда теплый и отзывчивый.
В Ленинграде нашел и Валеру Цымбала, он все еще студент оформительского факультета на курсе, как он говорит, самого Акимова. Валера водит меня в Малиготу, это Малый оперный театр, где он проходит практику, в знаменитый «Сайгон», пристанище рок-музыкантов и неформалов андерграунда.
Между тем на судне ломают надстройку, пристраивают каюту суперлюкс, расширяют радиорубку. Зачастили разные комиссии, среди которых были и из Горкома комсомола. Спирт опять же к месту. Выпиваем, беседуем. Мне понравился Вадим Чурбанов, он из Москвы, завсектором культуры ЦК ВЛКСМ. Спокойный, рассудительный, умел вывести на откровенность. Я ему и наговорил всякого… про то, как хорошо было бы, если бы все люди… Тогда он сказал:
— Люди, моряк, бывают разные. И во власти тоже. Тебе просто не повезло.
А потом и вовсе утащил меня в командировку в город Калач в творческой бригаде ЦК ВЛКСМ. Просто пришла телеграмма на имя капитана: отправить комсорга теплохода «Башкирия» Кокарева в командировку в Москву, ЦК ВЛКСМ.
Мастер удивился, махнул рукой:
— Езжай, все равно мы еще долго будем здесь кантоваться. Не опоздай только, рейс правительственный, будет потом о чем детям рассказывать.
Это была незабываемая поездка в компании с писателем Леонидом Жуховицким, с корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Клямкиным, с архитектором Андреем Боковым, с парой питерских социологов и самим Вадимом во главе. Только что вышел на экраны фильм «Застава Ильича» о поколении шестидесятых, и мы как бы продолжали разговор в заводских общежитиях без штампов и лозунгов о вещах простых и понятных, как совесть, любовь, и смысл жизни. Я слушал, кожей чувствуя, что вот-вот и найду свой.
Тогда, видимо, и пришла эта мысль: менять надо не суда, а свою жизнь. Примерно так говорил и Чурбанов. И когда спустя месяц после той поездки он прислал «Комсомолку» с передовицей: «Комсомольск 60-х годов начинается» об ударной стройке где-то в Казахстане, я не колебался. Строится город будущего Каратау, жемчужина сельского хозяйства. Хрущев звал молодежь на комсомольскую стройку. Вадим звонил из Москвы:
— Ну, моряк, ты как? Поедешь коммунизм строить? Или шмотки из-за границы возить интересней? — как будто дразнил.
Вот и настал момент выбора. Теперь уже все знали, что судно готовят к рейсу с самим Хрущевым. Команде выдали новое обмундирование, и премиальные. Ни за что, просто так. Народ приосанился, заважничал. Еще бы! А я кидал скудные свои шмотки в старый спортивный фибровый чемоданчик… Прощай, море. Извини, батя, моряк из меня не вышел.
Спускаюсь по трапу на глазах свободных от вахты товарищей. Задираю голову: стоит на мостике Никитин, что это он показывает? Понял. Он крутит пальцем у лба… Я засмеялся, счастливый и свободный.
Свободу захочет и он, когда станет мастером Никитиным, капитаном уже на другом белоснежном красавце, теплоходе «Одесса». И та свобода дорого ему обойдется.
Никто не знает своей судьбы…
— Не разбрасывайся, хлопчик. Потеряешься, — говорила еще в 9-м классе любимая учительница литературы Ольга Андреевна Савицкая. Высокая, рыжеволосая, властная, она открыла нам настоящую литературу, раздвинула горизонты. Она серьёзно относилась к нам, позволяя вольности в школьных сочинениях. Собирала дома литературный кружок, поила чаем с печеньем и учила думать. Опасное занятие. Мы с ней оба обожали Маяковского. А я еще и верил: «здесь будет город — сад». Она, на глазах которой фашисты раскроили головку ее ребенку — уже нет. Но не мешала верить мне.
А что значит, потеряешься? Потеряешься, если не искать, не пробовать. Жизнь потеряешь. Сказал же Чурбанов: власть надо очеловечивать! Вот и пойду ее очеловечивать в степях Казахстана, строить город будущего. Сходя по трапу «Башкирии» на берег, я с ужасом и восторгом осознавал, что ломаю свою жизнь, предаю профессию и мою Одессу. Но уже ничто не могло удержать, остановить. Или сейчас или уже никогда.
От рейсов тех дальних, от бескрайней сини океанов на всю жизнь останется в памяти этот томительный дух вечного бродяжничества от порта к порту, от страны к стране, когда мир кажется уже маленьким и круглым, а друзья, дом, семья, дети вырастающие без отца, вспоминаются все реже и туманней. Они ведь тоже уже привыкли встречать Новый год и праздновать дни рождения без тебя. Надо иметь особый характер, чтобы принять эту судьбу, отнимающую жизнь. Отец унес характер с собой…
О чем думал, летя в далекую Алма-Ату, ощупывая в кармане командировочное удостоверение ЦК ВЛКСМ и готовясь ко встрече с еще незнакомыми людьми, жизнь которых мне предстояло изменить к лучшему? Как пятно от вина на белой скатерти расползалось по радостному ожиданию чувство вины перед своими товарищами, оставшимися делать свою морскую работу. Я, выходит, предал их, выбрав себе легкий путь? Лёгкий? Еще неизвестно, кому будет легче.
Но что сказать Сане Палыге, лучшему нападающему футбольной команды училища, которому в первый же день работы отрезал ноги и правую руку прямо в порту заблудившийся в утренней темноте маневровый паровоз? Саня героически перенес десятки тяжелейших операций в Москве, вернулся в Одессу и продолжил работать уже только на берегу инженером-конструктором в НИИ. Он отказался калекой даже увидеть свою любовь, ночи проводившую под окнами его палаты. Теперь он воспитывает дочь от встреченной в больнице подруги и браво танцует на протезах на наших редких встречах.
Прости меня, Виталий Лабунский, сделанный тобой красочный выпускной альбом нашего курса стоял у меня в каюте на видном месте. В шторм под Ждановом перевернется баржа с агломератом температурой в 900 градусов, и сварится в том кипящем соленом котле Виталий на глазах плачущего от беспомощности сокурсника, тянувшего эту проклятую старую баржу на буксире.
Прости, батя, моряк из меня не вышел. Простите меня, мореходы, меня не будет с вами все эти годы. Но пусть услышит Саня Палыга, бросивший мне когда-то в кубрике:
— Что ты все других цитируешь? Ты свое придумай, тогда и выступай!
Я придумаю, Санёк. Я обязательно придумаю! Теперь уже точно…
Глава 3. Моя любовь, Каратау
От прощального взгляда Вадима Никитина на капитанском мостике до этих грустных мыслей в самолете рейсом Москва — Алма-Ата, прошли два месяца подготовки культурной революции на комсомольской стройке. Мы задушим этот город в объятиях культуры!
Москва! Живу в гостинице «Юность», бегаю по морозным улицам в бушлате с отмороженными ушами под фасонистой мичманкой, сижу в офисе между двумя Чурбановыми (оказывается, здесь есть еще один, Юрий, будущий муж Галины Брежневой). Собираем библиотеку для ударной комсомольской стройки, закупаем технику для фото и киносъемок, спортивный инвентарь. Договариваемся о лектории по истории искусства, о командировке студенческих бригад творческих вузов Москвы в Каратау.
Жизнь кажется бегущей строкой в телетайпе: бесконечной чередой события, новые лица, знакомства… Телефон в ухе, звоню то в консерваторию, то в библиотечный институт, то в ГИТИС, объясняю про город будущего. Все всё понимают, все двери открываются, все готовы помочь. Но ведь и то правда: какой город будущего без библиотек, без кинотеатров, без музыкальных школ, без спортзалов, без плавательных бассейнов, без молодежных клубов, без театров и театральных студий?
Разговариваю, стараясь не спотыкаться на особо умных оборотах речи, с ректорами и профессорами. Вот это жизнь! Сюда, в наш кабинет на четвертом этаже здания ЦК на углу Маросейки, приходит знаменитый актер Кирилл Столяров, и мы обсуждаем с ним съемки фильма о Каратау. О стройке, о людях, о трудовых подвигах. Почему заглохнет эта идея, я так и не понял. За ним появляются лауреат международных конкурсов скрипач Андрей Корсаков с неземной красоты альтисткой, и мы составляем программу концерта для шахтеров.
А солидный профессор ВГИКа киновед Ростислав Юренев так уважительно советуется со мной по поводу кинонедели советских фильмов для комсомольской стройки, что становится неловко. Так и хочется сказать: да я ж пока еще матрос, типа Железняк, со мной можно попроще! Но молчу, делаю изо всех сил умный вид.
Вадим поглядывает со стороны, не вмешиваясь. Все бы хорошо, только уж больно холодно в бушлате и мичманке по Москве бегать. И вдруг в самый морозный день в гостиницу «Юность», где кантовался второй месяц, раздается звонок. Знакомый одесский говорок Валеры:
— Привет, я в Москве! Алка тоже. Она хочет тебявидеть и предлагает пойти вместе к ее подруге. Посидим, поокаем. Хочешь?
С бойкой однокурсницей Аллой Каженковой он познакомил меня, когда «Луганск» пришел с Кубы в питерский порт. В тот вечер я и не заметил, как отрез на костюм, с которым я шел к портному, пошел ей на платье. Мохеровый свитер взамен скрепил наши короткие встречи.
— Ну, пошли. За мной две кисляка.
Шли по улице Горького от метро, что у Белорусского вокзала. Ветер морозный прошивал бушлатик до костей. Дом с мемориальной доской, это я запомнил. Ее подружка Наташа, вроде тоже художница, хотя сошла бы и за актрису, проворно достала стаканы. Подружки болтают, мы молчим. Видимо, чтобы включить нас в разговор, она вдруг непринужденно садится мне на колени:
— А правда, вы моряк? И что, везде поплавали уже?
Сижу красный, как рак, стараясь не смотреть на круглые коленки. Не знаю, куда руки деть. А она, как ни в чем ни бывало поерзала, приготовилась слушать.
Ну, мямлил что-то про Сингапур, где солнце не отбрасывает тени, и про зиму в Бразилии, где босоногие пацаны в меховых куртках на голое тело, про веселых ребят в Сан-Пауло, которые дружески похлопывая по спине, вытащили бумажник с валютой за год.
Вижу слушает, и все на меня уставились, как на витрину. Постепенно увлекаясь, понес пургу про летающих рыб, падающих с неба на горячую палубу, и про цунами, когда океан вдруг вертикально встает перед тобой, закрывая небо, про Южный Крест в черном бархате тропической ночи, про вспученный винтами пенистый белый след за кормой, и про друзей, который уже никогда не вернутся из дальних рейсов.
Хозяйка вдруг посерьезнела, пересела на кровать, смотрит не отрываясь. Вот я и влюбился… Или приснилось все это в московской суете?
Просыпаюсь уже в рабочем поселке Чулактау, недавно переименованном в город Каратау. Горстка домов, жмущихся друг к другу, а вокруг безлюдные казахские степи. Здесь с 1946 года согласно Генплану СССР строился и не достроился комбинат химических удобрений. Брошен был долгострой за недоглядом. Теперь он стал «жемчужиной сельского хозяйства».
Так назвал недавно Хрущев этот фосфоритоносный бассейн в Джамбульской области. Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!». И возобновилось строительство шахт для горнообогатительного комбината. Стройка торжественно была объявлена всесоюзной комсомольской, и потекли сюда ручейки молодой силы со всех концов необъятной державы.
Каратау с воздуха открывался красной от мака безграничной степью Южного Казахстана, в которой было видно небольшое озерцо и неподалеку одинаковые пятиэтажки, сгрудившиеся вокруг площади, как иголки вокруг магнита. И ни одного деревца или куста зелени. От чего и возникло вдруг это совершенное неуместное ощущение безжизненности пространства. Его и предстояло очеловечить.
Очеловечивание, правда, началось с того, что мощный слепок с Венеры, комсомольский секретарь Вера, встретила у трапа и без лишних разговоров повела к себе на пельмени. Горячие, в сметане, они были поставлены на грубый стол без скатерти в большом тазу, подобном тому, в котором в Одессе стирали белье.
— Разве можно это все съесть? — спросил я растерянно. Но Вера щедрой белой рукой налила водку в стакан, точь-в-точь как в одесской закусочной, перед танцами. Я понял и принял. Инициатива была за ней. Она рассказала за этот первый вечер почти все, что знала про этот поселок и про его людей.
— Ты, главное, не торопись, здесь надо сначала пожить, понимаешь? У нас здесь в поселке все тихо, мирно. Только курды иногда безобразничают.
— Какие курды? А сама откуда?
— Я из Сибири, уже четыре года здесь. А курды… Сам узнаешь. Ты ешь, пельмени-то наши, сибирские.
Так что первый день в Каратау прошел хорошо. Не очень, правда, помню, как провожала меня Вера в общежитие, как уложила спать и ушла. А наутро первое ощущение — растерянность. Как, с чего начать? Вроде долго готовился, а прилетел и что?
Встал, пошел бродить по городу, вглядываясь в лица, вслушиваясь в русскую речь, ища глазами казахов, уже понимая, что Каратау вполне русский, вернее, советский город, поскольку ни церкви, ни мечети тут не было. В центре площади оказался клуб «Горняк», культурный центр всего поселка. Кроме него жители развлекались в чахлом скверике на окраине у речушки, скорее ручья, по имени Тандинка. Местом притяжения был и вещевой рынок, популярное место, где собираются все, хотя не понятно, чем здесь вообще можно торговать. Сам комбинат строился в другом месте, в поселке Джанытас возле шахт.
Сквер с речушкой мог бы быть культурным оазисом, сразу отметил я про себя. Если бы не был так запущен. Как выяснилось, территория была на балансе рудкома, и, видимо, потому волейбольная площадка была без сетки, футбольные ворота перекосились, качели заперты, летний кинотеатр заколочен досками, трава между одинокими деревьями вытоптана, но есть одинокий сторож без определённых занятий.
На озере было веселей. Нашлась даже байдарка, в которую сел, несмотря на сильный степной ветер. Оттолкнувшись от берега, потерял равновесие и тут же перевернулся. Дна не достал, но понял, что тут можно проводить соревнования.
Главное городское развлечение — фильм по субботам в клубе «Горняк». И танцы до упаду по воскресеньям в городском сквере. И водка в субботу, воскресенье и все остальные дни. Один книжный киоск, один детский сад, одна школа и ни одной библиотеки.
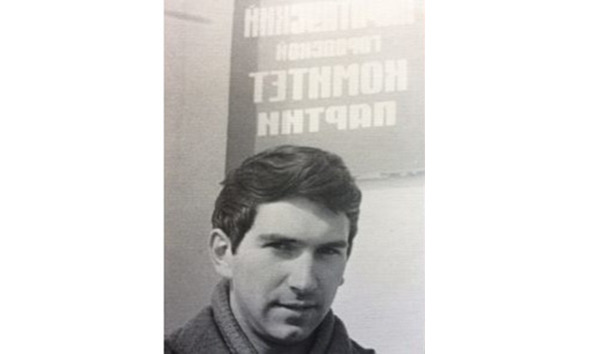
В общем, жить можно. Но именно так — нельзя. Ни переселившимся сюда русским и украинцам, ни родившимся здесь казахам. Человек имеет право на счастье не только в Москве. Сбросив вещи в скрипучий шкаф, сел за стол, задумался. С чего начнем, господа присяжные заседатели? А не написать ли в Одессу, позвать своих друзей, бунтующих художников и поэтов? Вот где раздолье для творчества, никто не будет мешать, и мы засеем этот городок семенами доброго и вечного! Без доброго и вечного, зачем нам эти фосфориты?
Первым откликнулся Лёня Мак. Но, увидев пыльную улицу пятиэтажек, просвистел мимо. Нашел где-то в степях конезавод. Решил объезжать скакунов вместо того, чтобы возвышать нас своей поэзией. Ирка ответила, но с таким сарказмом, что было ясно: не барское это дело. Потом проявился Саша Ануфриев с товарищем, тоже художником, из тех самых авангардистов, за которых я когда-то схлопотал выговор.
С ними тоже, правда, не получилось. Вадим Чурбанов позвонил прямо в Горком:
— Игорь, твои художники получили командировочные удостоверения ЦК ВЛКСМ, билеты на самолет до Алма-Аты и слиняли в неизвестном направлении. Я объявляю их во всесоюзный розыск.
Еле отговорил его:
— Вадим, да что с них взять? Свободные художники…
Зато на призыв сеять прекрасное в казахских степях откликнулись два самых необыкновенных человека — учительница и одноклассница Бэлла. Узнав про мой выбор, Ольга Андреевна купила билет и приехала поездом дальнего следования. Это ж надо так верить тем, кого она воспитала! Но, увы, не оказалось для нее работы, не было еще десятилетки в Каратау. Приехала, благословила, в Одессу уже не вернулась. Одинокая и сильная, она будет уже до конца жить и работать в Алма-Ате.
Потрясла меня и Бэлла. Она просто прислала короткую телеграмму:
— Я твой солдат. Вылетаю. Встречай.
Бэлла, по-грузински красивая, загадочная, умная, появилась в Одессе и в нашей школе вместе с приехавшим к нам цирком. Она была дочерью циркового артиста, человека без рук, но при этом реального грузинского князя. Пацаны из соседнего класса рассказывали про нее грязные истории, и я, не сводивший с нее глаз, однажды не выдержал и спросил прямо:
— Это правда? Скажи мне, это правда?
Ожидал чего угодно. А она вздрогнула, посмотрела в глаза жестко:
— Раз ты такой, идем, я расскажу тебе.
И вдруг по ее щеке поползла слеза:
— Только не бросай меня!…
Сидя на скамейке Приморского бульвара, долго мучительно рассказывала про тайную жизнь цирка, про его жестокие нравы, про то, как на ее животе играли пьяные артисты в карты… Потрясенный, я сказал ей:
— Я тебя вытащу! Ты уедешь к своей бабушке в Рязань, только захоти!
И пошел в свой райком комсомола. Меня успокоили, сказали защитят, купили ей билет до Рязани. В тот день после школы мы пошли на вокзал, она снова плакала и целовала меня куда-то в шею. Потом она прислала свой почтовый адрес. Прошло семь лет…
Я встретил ее у самолета и сразу повел прямо с вещами на субботник. Она ко мне, а я ей лопату. И вот теперь она в моей комнате на кровати с продавленной железной сеткой. Глаза ее сияют, мы, наконец, обнимаемся. Ее губы горячие и жадные.
Но как обьяснить, что у меня нет сейчас другой страсти кроме вот этой безответной пока, к mon amour Каратау? Мы лежали, разделенные одеялом, которое я держал чуть ли не зубами, она что-то шептала, она не понимала, что случилось, зачем она здесь, и как же теперь… Снова знакомая слеза на её щеке. Прости меня, Бэлла.
Она уедет в Алма-Ату к Ольге Андреевне, которая ее обожала. В итоге я остался виноватым, как будто обманул того, кого когда-то спас. Или считал, что спас… Обманул. Как и Ольгу Андреевну, которой не нашлась работа в Каратау. В общем, не удалось мне создать колонию одесситов в казахских степях. Дальше — один.
Хотя и не один. На знаменитую в 60-х годах комсомольскую стройку под песни Пахмутовой, под грусть гитарной струны съезжалась молодежь со всей страны. Не было бы этих песен, не полетели бы сюда из домашних гнезд тысячи русских девчонок и мальчишек. Великая духоподъемная сила, эти песни. Целина, БАМ, Каратау — вот адреса, по которым устремлялись романтики 60-х и накрывали эти просторы русской волной после той, военной, эвакуационной. Чего искали, о чем мечтали, на что надеялись? Не за деньгами же в самом деле…
Издавна жили в этих краях еще и насильно переселенные народы: немцы с Поволжья и чеченцы с Кавказа. И почему-то даже греческие колонисты с паспортами греческого своего королевства. Наезжали и трудолюбивые китайцы, собирающие неплохие урожаи на местных плодородных землях. В Каратау на стройке трудились русские, и даже попадавшиеся среди них казахи говорили между собой исключительно по-русски. Религиозные различия совершенно не ощущались. Как и местные греки, и курды, и китайцы. Советский, словом, народ. Но заметней всех здесь все же были красавцы курды.
Вот теперь и я среди них затесался. То спортзал в клубе делаю, то водную станцию на озере требую открыть, то место для библиотеки ему подавай. Местную власть пугаю. Кто их знает, этих уполномоченных из ЦК, какая у них там в Москве маза. Я и правда в городе никому не подчиняюсь, отчитываюсь только перед ЦК, хотя формально я работаю горным инженером на руднике.
Хорошо, что сразу наладились отношения с первым секретарем Горкома комсомола, сверстником моим, ровесником. Выпытываю его про местную жизнь, щупаю, так сказать, ее пульс на его запястье. По своему опыту знаю, что его работа собирать взносы, проводить комсомольские собрания, знакомить с постановлениями ЦК комсомола и партии — это только первый пласт.
А второй, посерьезней — это про людей. Кто, откуда, как устроились, чего хотят. Тут он меня и огорошил. Оказывается, не только романтики собрались в этих местах. Приехал народ и за длинным рублем. Здесь же зарплаты с коэффициентом. Но стройка движется медленно, в основном лопатами.
— Вот Комсомольск в тридцатых строили, так люди ж горели, планы перевыполняли. А сегодня… только деньги и интересуют. Молодые приезжают парами, чтобы заработать на семью и домой вернуться. Мало кто остается.
Я забрасываю ему мысль на пробу:
— А если создать нормальные условия жизни? Скажем, культурный досуг и прочее — детсады, музыкальные, спортивные школы? Может быть, Каратау и станет их домом. Не Заполярье все же…
Секретарь, поглаживая по стриженной голове сына, пацаненка лет 8—9, посерьезнел:
— Дело не только в этом. Бардак на рабочих местах, вот в чем дело. Я вот здесь с войны, с эвакуации. И без музыкальных школ здесь жить было можно… Пока не началась стройка. Народу понаехало, и все в эти бараки… Как были, так они, родимые, и стоят, пока не развалятся.
— А люди, которые понаехали? Им что, все равно?
— Люди здесь разные, казахов, кстати, мало. Казахи больше в колхозах, в степи. Здесь все из России, притерпелись, приспособились. Живут как-то, не жалуются. Из Китая много, так те вообще неприхотливые.
— Так, значит, ничего сделать нельзя и не нужно? Зря я сюда со своими мечтами?
— Никому не говорил, а тебе скажу: нет будущего у этого комбината. Потому что воды здесь нет для него.
В общем поговорили. И не раз в том же духе.
А вскоре в Каратау пришел поезд с 240 добровольцами из Ленинграда. Горком встречал их цветами и оркестром. И в этот торжественный момент, заглянув в сопровождающие документы, я понял, что прислали нам не добровольцев, а так называемых «тунеядцев», высланных из города на Неве решением суда.
Питер, ты что, охренел? Это же комсомольская стройка, а не концентрационный лагерь! Хотел послать им туда пару теплых слов, но посмотрел в испуганные глаза прибывших проституток и передумал. Потом поговорим, когда освоятся.
А речь тогда я держал такую:
— Перво-наперво вы должны понять, что здесь все же не Магадан, здесь, во-первых, тепло, а во-вторых, никаких бараков с колючей проволокой и вертухаев с овчарками. Общежития в пятиэтажках с горячей водой, свет, туалет, пусть и в конце коридора. Кухня, правда, общая, тоже в коридоре, ну так мы все из коммуналок, чем тут удивлять… А дальнейшее все в наших руках, как захотим жить, так и будет.
Привирал, конечно.
Позже, воюя с местным начальством за помещение для библиотеки, за байдарки и очистку берега озера для пляжа, за ставку руководителя художественной самодеятельности в клубе, я действительно убедился, что им не только глубоко наплевать на нас, но что им совершенно искренне непонятно, зачем это все нам.
В производство я не лез, но уже догадывался, что своем раже выполнять и перевыполнять они воспринимали нас именно так — как дурачков, готовых добровольно заменить собой заключенных, строивших и Комсомольск на Амуре, и Беломорканал, и многое чего еще тогда строили на Севере для войны, для победы. Во всяком случае ни в какой энтузиазм эти взрослые дяди, прошедшие войну, не верили и человеческие условия для жизни для рабочей силы создавать не собирались. Да и не умели, как я понял. Они служили партии.
Скоро я понял, что и местный, казахский колорит будет мало способствовать очеловечиванию жизни на краю советской Ойкумены. Возьмём например, комсомольского второго секретаря горкома, это всегда казах. И вот батыр едет на служебном газике в степь, берет барана у колхозного пастуха, как свою собственность, отдает забить его и, сварив дома мясо в прокопченной, мятой алюминиевой кастрюле, гостеприимно сует мне большие куски в рот руками. Уважение оказывает сын степей. Он в юрте жил сотни лет, ему там хорошо, уютно. И будет еще столько же, если не мешать.
Да и собеседник мой, чубатый русский первый секретарь (здесь первый — всегда русский) от него недалеко ушел. Я вижу, как он подливает водку своему семилетнему сыну, приговаривая:
— Учись, сынок, коммунизм строить. Пригодится!
Так нужен им всем здесь город будущего? Какие-то неведомые силы сплетали истории разных народов в одну серую, тягучую жизнь вдали от цивилизации. Такая вот получалась жемчужина сельского хозяйства огромной державы.
Когда-то меня поражала пропасть между сверкающими витринами Италии и улицами и магазинами Москвы. Сейчас потрясает еще больший культурный разрыв между Москвой и Каратау, между центром и провинцией огромной страны. Я бы понял, если бы видел просто две разные культуры — извечную казахскую и по соседству русскую. Но в том-то и дело, что ни той, ни другой…
Мы встретились с ней через год, как и обещал. Прилетел в Москву в ЦК с отчетом и позвонил с фразой из нового фильма:
— Здравствуй, это я!
Наташа рассмеялась своим смехом со спрятанной иронией, сразу узнала. И вот мы уже сидим в кафе на улице Горького, в дальнем углу на втором этаже. Она рассказывала мне, как снималась в кино, как после художественного училища работает художником в Московском театре оперетты под руководством знаменитого театрального художника Григория Львовича Кигеля, о котором говорила с искренней любовью.
Потом зачем-то описывала своих бывших женихов, в числе которых оказались и будущий знаменитый генетик Костя Скрябин, и Борис Маклярский, кандидат наук, сын известного сценариста, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», и брат Майи Плисецкой Азарий Плисецкой, и модный поэт Игорь Волгин. Будто извинялась.
А я звал ее с собой. Будешь, мол, степь писать, казахов учить живописи. Она смеялась:
— Откуда ты такой взялся?
Хорошо, однако, что не уговорил. А то как стыдно было бы в конце концов.
В ЦК комсомола, наконец, выбил книги, целую библиотечку по своему вкусу. С ними и улетел, отчитавшись за проделанную работу. Прилетел, расставил их на полках, сняв дверь в платяном шкафу, потом сочинил объявление. И потихоньку потянулся народ за Солженицыным и Дудинцевым, Хэмингуэем и Ремарком, Евтушенко и Вознесенским, Аксеновым и Кузнецовым. Эти книги воспитали меня, и я хотел теперь, чтобы они поработали в Каратау.
Пришли и журналы «Новый мир», «Юность», «Иностранная литература». Тщась стереть грань между столицей и провинцией, таскаю их с собой на комсомольские собрания, раздаю желающим, чего-то рассказываю. Дай, говорят, почитать. Раздаю, потом собираю и спрашиваю:
— Ну, как?
— Да, ничего. Интересно.
— А подробней?
И тут начинается хирургическая операция по высвобождению из зашитого сознания каких-то эмоций и мыслей. Тут главное не перестараться, кого-то удается разговорить, а кого-то нет. Но и две-три фразы уже — клуб книголюбов. Название пышное, на самом деле привычка просто обмениваться впечатлениями от прочитанного между собой или как придется.
А еще пришло заказанное заранее оборудование для кино-фото лаборатории: фотоаппараты, фотоувеличители, даже одна 16-ти миллиметровая кинокамера с запасом кинопленки. У меня до нее руки так и не дошли, но нашелся энтузиаст, инженер Виталий, с которым мы иногда играем в шахматы у него в квартире.
— Давай мне. Разберусь, только скажи, что снимать.
— Знаешь, было бы классно снять заседание бюро горкома.
— Да кто ж меня туда пустит? Всех чертей перепугаем.
И, наконец, главный мой сюрприз: приезд студентов! О студенческих бригадах было договорено еще в Москве. И вот первой прилетели девчонки и сам Андрей Корсаков из Московской консерватории. Альтистка Галка, нежная душа, русая красавица с обложки журнала «Огонек», сдержала слово. Привезла с собой будущих знаменитостей в нашу глухую степь.
— Вот и мы! А ты не верил! — торжествовала она. И плавилось солнце в дрожащем от жары воздухе. Мы трясемся в автобусе по пыльной дороге в Джаны Тас, где шахты. Надев каски, спускаются консерваторки в клети, пригнувшись, осторожно оглядываются в темном и душном шурфе. Экскурсия перед концертом для душевной настройки. В обеденный перерыв в столовой собираются сто или больше шахтеров. Галка, на которую, не отрываясь, смотрят заскорузлые шахтеры, говорит по моей просьбе всего несколько слов:
— Сейчас будет чудо. Вы просто слушайте и молчите. Обязательно молчите. Не отвлекайтесь.
И божественные мелодии Сарасате из скрипки юного дарования Андрюши Корсакова полились прямо в сердца, открытые ожиданием. Вот, клянусь, ТАК эти здоровые мужики слушали музыку первый раз.
А за музыкантами месяц спустя прилетели и вгиковцы, привезли с собой кино. Мой любимый «Девять дней одного года» о нравственной, духовной красоте человеческих отношений, смотрели в клубе «Шахтер» при полном зале. Честный такой фильм в духе модных дискуссий о физиках и лириках со Смоктуновским и Баталовым, интеллектуальный коктейль для любителей. Поймут, не поймут? Примут, не примут?
Дискуссию вел самоуверенный киновед Юрий Гусев, комсорг ВГИКа с той же фамилией, что у героя фильма. Он начал было длинно подводить к научно-технической революции и ее последствиях для человечества, как его перебил голос из зала:
— Ты парень нам лапшу на уши не вешай. Мне завтра не к синхрофазотрону твоему, а к лопате с утра вставать! У вас своя жизнь, у нас своя. И не надо ля-ля про высокие материи.
— Но вы же хотите видеть свой завтрашний день, правда? Вы же строите город будущего! — нашелся Гусев. И смотрит на меня.
А ему снова из зала другой голос:
— Мы может быть бы и построили… Да только с одной лопатой без раствора и инструментов ни хрена не выходит. Да и город этот никому тут не нужен. Лишь бы комбинат сдать к сроку.
Теперь уже я смотрю на Юру. Вступить или промолчать? Вместо обсуждения высокого искусства зал тянул к низким истинам жизни. А что, в этом может быть и есть в конце концов миссия искусства? Не знаю. Но вмешиваться не стал. Меня и так здесь уже слышали. Решил, пусть Москва выкручивается, а мы поучимся. Но желающих высказываться больше не было, и Гусев закончил краткой рецензией.
После других просмотров — фильмов «Я шагаю по Москве», «Коллеги», «Все остается людям» и «Когда деревья были большими», обсуждения продолжались. Мной же овладевало странное ощущение какой-то неловкости перед сидящими в зале работягами. Уж очень разительным оказался разрыв между этими прекрасными фильмами и нашей жизнью. Потому когда Гусев предложил мне вести обсуждение, я отказался.

Но социологическим исследованием, которое он проводил, раздавая анкеты прямо в зале, я заинтересовался. Что мы читаем, смотрим, слушаем? Какие такие духовные запросы в нашем Каратау?
— А вы имеете разрешение на распространение печатной продукции? — спросил я Юру неуверенно.
Он рассмеялся:
— Да уже не надо никаких разрешений. Это просто анкетный опрос. С научными целями.
И мы пошли в народ. Раздавали анкеты прямо в зале после просмотра. Анкеты были анонимными, и люди отвечали охотно. Даже о том, о чем не спрашивали. И вот так и прорвались секреты, за которые наверное отвечал местный КГБ. Вкусы вкусами, но вот кто-то вдруг написал об отсутствии воды для промышленных нужд строящегося комбината, кто-то про то, что комбинат вообще не по тем чертежам строится. Хорошо, что Юра не обязан был сообщать о результатах опроса нашему майору.
Уехали студенты, увезли анкеты. А к нам своим ходом пригнали из Москвы новенький голубой агит-автобус «Красная гвоздика». Что-то не помню, чтобы я его заказывал. Но, видно, Чурбанов решил поддержать своего засланца. Что с этим автобусом было делать? У меня и прав нет. А водителя где взять? Пока бились с Горкомом партии, куда его на баланс поставили, чтобы переименовать с гвоздики на «Алые паруса». Сколько энергии было потрачено, мы шли на принцип. И добились!
Из тех питерских «тунеядцев» нашелся один с правами, говорит, папину машину водил. Прав его я не видел, но водить он, и правда, умел. Ничего, в степи светофоров и гаишников нет. Теперь можно и агитбригаду создавать. На автобусе по шахтам, на стройку, к пастухам.
И начались репетиции. Состав подобрался легко, многие откликнулись. И, главное, все оказались такими умными, не хуже, чем в Одессе. Одна девчонка запела так, что воздух степной в ответ зазвенел. Высоко уходил звук, к звездам. Костер, ночь теплая, бесконечность.
Да что там столичные… Казах пришел однажды. С домрой. Мы сели в кружок, уставились на него. И зазвучали странные, простые трезвучия. Степь их услышала сразу, а мы, русские, уже вслед. Здорово, когда душа поет, хоть в степи, хоть в море, хоть в городе. В море, правда, не очень пелось…
Парень один, неуклюжий, большой, стихи стал читать, тихо так, незаметно:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Ну, я вздрогнул. Он глянул на меня, остановился:
— Что, нельзя?
Я просто продолжил:
— Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
Он закончил тихим, глубоким, как будто уходившим в сухую землю под ногами голосом:
— …И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
От него я и узнал, что как раз в это время двадцатидвухлетнего Иосифа Бродского осудили тоже, как и их, не за инакомыслие, а за тунеядство. И сослали на пять лет. Жаль, не к нам, а в Архангельскую область.
Мы с этим «инакомыслящим» как-то ушли в степь и проговорили всю ночь, находя много общего в размышлениях о жизни, о счастье, о родине и о судьбе. Водка из горла и горький «Беломор» без фильтра. Были такие папиросы. Прикуривали одну от другой, смотрели на звезды, будто общались с ними. Они мигали в ответ.
— Ты знаешь смысл жизни? Вот зачем ты здесь? Нашел своё счастье?
Он пытал меня, как на допросе, залезал в душу, как иголки под ногти загонял.
— Ты говоришь, здесь воздух чище? Да, здесь голая степь. Там мы хоть в «Сайгоне» оттягивались, забивали на всю эту советскую действительность. Андерграунд, рок и…
— Наркотики?
— Да, разное бывало. Потому что мы хотели свободы, искали себя…
Ну, про кафе «Подмосковье» по прозвищу «Сайгон» на Невском я знал. Меня еще Валера Цымбал водил туда пить лучший в Питере кофе. Но тут я вспомнил про американскую пару — Джима и Дайану на круизном лайнере, на котором мы шли вдоль крымского побережья. Сказал задумчиво:
— Они были свободны, но радости им это не принесло.
— Почему?
— Наверное, потому что человек абсолютно свободный теряет смысл жизни.
— А в чем был смысл загнать меня сюда, в голую степь с казахами и овцами?
— Чтобы построить новый прекрасный город, где все будут счастливы!
— А я хотел этого? Меня спросили?
Вот тут мне сказать было нечего, но в душе еще оставался след от той печали, с которой говорила Диана о том, что они никому не нужны. Да, я помнил, что у них с Джимом не было детей, они были не готовы обременять себя ими. Они не были ни художниками, ни учеными, просто хорошо зарабатывали на жизнь. Зачем? И тут я сказал этому парню из Ленинграда:
— Может быть затем, чтобы помочь тебе найти смысл жизни? Не в Питере, так здесь. Найти себя, вырази себя в чем-то, придумай здесь «Сайгон», создай что-нибудь своё. Своё, понимаешь?
— Для кого? Для казахов?
— Для себя, черт возьми! Для себя! Кофе что ли тут нет? А андерграунд я тебе обещаю. Через Москву достанем. Только давай, шевелись. Сделай что-нибудь!
Конечно, смысл жизни лежал где-то еще глубже, и мы понимали, что «Сайгон» был лишь тропкой к себе, к тому, заложенному в нас при родах, что всегда ищет выхода. Ибо только тогда жизнь и приобретает смысл.
О чем еще говорили? Да мало ли о чем можно говорить выпивши, ночью, в тысячах километров от всякой цивилизации? Это был тот редкий момент истины, когда ты действительно поднимаешься к звездам и видишь оттуда нашу планету и себя на ней пылинкой, несомой космическим ветром времени. Печаль и грусть пылинки — моя грусть. После той ночи, обкурившись до тошноты, я и бросил курить…
А утром снова на бюро — выбивать у комбината и у Горсовета именем комсомола помещения под библиотеку, под изостудию, доказывать необходимость в еще одном детсаде, в музыкальной школе, в филиала какого-нибудь ВУЗа для молодежи комбината. Но общаясь с руководством города, мы постепенно понимали, осознавали, что старшие товарищи в общем не плохие люди, просто их руками партия продолжает воевать. Не жить, а именно воевать за выполнение и перевыполнение планов, требуя беспрекословного подчинения — все, как на войне. А мы хотели мира, любви и смысла в труде и жизни. Не многого же хотели…

Было мне тогда двадцать четыре года. Еще или уже? Мы сидели у костра, я травил морские байки про Бразилию, Японию, Сингапур, про штормы и штили, про гигантского грифа, залетевшего на нашу палубу с близкого берега Западной Африки, про летающих рыб и жадных акул… Потом кто-то тронет гитарную струну и запоет голосом Булата «Последний троллейбус»… Какие яркие звезды здесь над головой…
Может это и есть счастье? Здесь, с вами, ребята. И такими понятными казались нам слова Назыма Хикмета:
…Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Кто ж тогда развеет тьму?
Тихой лунной ночью шли мы с репетиции. Ночная степь пахла сухими цветами. Вдруг сзади сгустилась опасность. За спиной нарастал глухой топот. За нами гнались?
— Бежим! — выдохнул я, и мы понеслись. Злая, тупая темная сила догоняла. Дышала в спину. Кто? За что? Я сбросил вьетнамки. Сзади чем-то больно полоснуло по шее. Челюсть хрустнула. Зубы? Не оглядываясь, впрыгнул в дверь общежития и успел захлопнуть ее перед разъяренной темнотой.
В госпиталь, куда меня положили с выбитыми солдатской бляхой зубами и рассеченным затылком, пришли стройбатовцы извиняться. Оказывается, они искали курда, который изнасиловал невесту одного из них. Про местных курдов я еще не то слышал. Здесь их целое поселение. В армию их не берут, они не граждане СССР. Они охотятся за русскими девушками, ибо по их законам ребенок, рожденный от курда, считается курдом. Так они пополняли убыль своего народонаселения. Красавцы входили в женское общежитие, запирали дверь и начинали по очереди оплодотворять всех. Одна вскочила на подоконник:
— Не подходи, выброшусь!
Он подошел. Я видел кровавое пятно под этим окном. Их даже не судили. Откупились, говорили знающие люди. Тут свои законы.
А по каким законам обострялись мои отношения с Горкомом партии и дирекцией комбината? Я начинал понимать, что никаким культурным десантом, никакими клубами по интересам и спортивными праздниками город будущего не построить. Города-то в общем действительно никакого нет. И не будет. Про комбинат я уже знал, что строят его по чертежам действующего завода за Полярным кругом. Только тот перерабатывает хибинские аппатиты. А у нас фосфориты. Может, оно и так сойдет, кто его знает. Говорят, что аппатиты, что фосфориты, один черт. Зато сдадим раньше срока, премии там, награды. И кому нужны реальные градостроительные планы, инфраструктура культурных объектов?
И все же Горком комсомол на бюро Горкома партии вынес вопрос о ремонте клуба «Горняк». Мы предлагаем своими силами, всем народом починить крышу, передвинуть стены, выкроить комнаты для кружков и библиотеки. А нам в ответ:
— Не Горком решает эти вопросы! Если очень хотите, пишите письмо в ЦК КПСС… Копию — в Совмин Казахстана. Только серьезно, как полагается, пишите записку: «О постановке культурно-массовой работы и культурного строительства в Каратау». Выделят средства, мы тогда и архитектурный проект закажем, и все построим. У города же нет своих средств на строительство, как вы не понимаете?
И правда, не понимаем. Но готовим письмо, хорошее такое письмо, с подробностями. Предлагаем не только отремонтировать старый клуб «Горняк», прибавив сцену для народного театра, но и выстроить отдельно спортзал, водную станцию на озере, городскую библиотеку, открыть музыкальную школу.
Подпись первого секретаря Горкома комсомола я выбивал из перепуганного парня целую неделю. Вторая подпись была моя как уполномоченного ЦК ВЛКСМ.
И грянул гром. Сам секретарь ЦК комсомола Казахстана Ибрагим Амангалиев вдруг прикатил на машине из Алма-Аты:
— Я за тобой. Выступишь на Пленуме ЦК комсомола с вашим предложением. За такое письмо надо отвечать, брат.

Обратно гнали ночью по извилистой горной дороге. Ибрагим читал мне стихи Олжаса Сулейменова, знакомого еще по Москве казахского поэта, влюбленного в свою бескрайную степь:
Страданием? Старанием велик
мой странный мир, родившийся старателем!
О Азия, ты стольких нас истратила!
Опять костры для дыма расцвели.
Я просил еще из Олжаса, и он продолжал:
Я поеду в адайские прерии,
Там колючки, жара, морозы,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Я поеду к себе на родину…
Мы хорошо тогда поговорили. Я больше слушал.
— Мы, казахи, древний, степной народ. Москва нас вечно куда-то торопит: целина, Семипалатинск, теперь Каратау. Мы кочевники, люди степей, пойми это. «Люди летом уходят к морю, а нас тянет в сухие степи». Это он сказал.
Тут машина резко тормознула, нас развернуло поперек дороги, и задние колеса зависли над пропастью. Над звенящей темнотой на горизонте улыбалась луна.
— Бывает. Батыр за рулем вздремнул, — невозмутимо сказал секретарь ЦК ЛКСМ, наблюдая, как передние ведущие вытаскивают нас на дорогу.
Дальше я предавался размышлениям над его словами. Ведь это их степи, их дом, куда мы пришли со своими пятилетними планами. И теперь я стараюсь, строю под себя этот город, ничего про них не зная, кроме Чингиз хана и Золотой орды. Что я скажу им завтра на этом Пленуме? Уж теперь точно не то, что хотел. Надо искать другие слова.
И все-таки говорил. О голубых городах будущего, о развитии личности и праве на счастье. Но и о бараках, об убогости быта молодежи, о душевной пустоте, о пьянстве, о фальшивых трудовых победах. Зал молчал. А я требовал от руководства республики средств на городскую социальную и культурную инфраструктуру и в конце сказал:
— Запустение — везде запустение. Невнимание к нуждам людей — везде невнимание, а значит, неуважение к человеку. И неважно, казах он или русский, украинец или татарин. Нас учили: «Человек — это звучит гордо». И потому прошу Пленум поддержать наше право на достойную жизнь здесь и сейчас, а не только для наших детей и внуков через сто лет.
Зал продолжал молчать. Слегка трясло от собственной храбрости. Амангалиев же сказал не то одобрительно, не то осуждая:
— Ты свою задачу выполнил? Совесть чиста? Теперь езжай обратно, никакого обсуждения не будет. Получи в бухгалтерии билет на поезд до Каратау. Будь здоров.
Через неделю я узнал, что на меня в КГБ пришла анонимка. Майор особист вызвал к себе и показал бумагу.
Сообщаю вам, что никакой этот Кокарев не моряк. Ни в какой одесской мореходке он не учился. Заграницу не плавал. Диплом поддельный. Это проходимец, который морочит нам всем голову. Считаю, что им надо заняться органам».
— Что это такое? — спрашиваю, а у самого мороз по коже.
— Как что? Обыкновенная анонимка. Как раньше писали, так и сейчас пишут. А ты не знал? Так что разоблачили тебя, вожак комсомольский.
Думаю, шутит особист? Он-то знает, что перед решением ЦК о назначении на стройку мое прошлое не раз рентгеном просветили. Но из головы не выходит: вот так, значит, выглядят доносы. Пустяк? А такой бумажки, нацарапанной неизвестно кем, может быть и соседом, достаточно, чтобы попасть под раздачу. Расстрел или десятка в лагерях, через этот кошмар прошли миллионы…
Раз уж анонимки пошли, отступать некуда, надо дальше действовать. Сажусь и пишу в «Джамбульскую правду» статью под названием «Кладовая фосфоритов все еще на запоре». Что-то вроде того, о чем говорил на Пленуме, но резче. И снова подписываюсь: Уполномоченный ЦК ВЛКСМ по идеологической работе.
То, что я нажил себе теперь врагов, понял сразу, как только вышел номер со статьей.
— Доносы строчишь, сучёнок? — это главный инженер шахты, мимоходом. Может, послышалось? Но нет, злобный взгляд не оставлял сомнений.
— А то, что вы молодежь за зэков держите, это как, нормально? — Успел крикнуть вслед..
Значит, я должен был молчать, как молчат все? Тогда зачем я здесь? Доносчик? Я писал под своим именем. И выступал на Пленуме. Но все равно на душе не облегчение, а будто виноват в чем-то. Я же еще и виноват… Не выдержал, написал длинное письмо в Москву Вадиму. Был в том письме такой пассаж:
«Поднять народ на хорошее дело, Вадим, мы умеем. Здесь такие ребята, вот с кем бы коммунизм строить. А выходит, их обманули. Зачем „Комсомолка“ тем сентябрьским номером всколыхнула всю страну, дала надежду на голубые города, где все будет по чесноку? Приехали тысячи по призыву партии, а здесь… ни работы, ни жизни».
А Вадим возьми и передай письмо в «Комсомольскую правду». И ведь напечатали! Правда, без дискуссии, на третьей странице. Опять донос? Тут же прилетела корреспондентка «Комсомольской правды» разбираться. В ситцевой коротенькой юбчонке показывала она днем свои загорелые золотистые ноги, а вечером, сев за стол напротив меня и разговаривая с Володей о местной казахской кухне, мягкой босой горячей ступней нащупала под столом у меня то место, которое сразу затвердело и заныло от желания.
Володя, инженер, к которому я заходил поиграть в шахматы и поговорить за жизнь, все углядел, постелил нам матрас на полу и ушел.
— Ты всегда такой серьезный? — спросила корреспондентка, деловито раздеваясь. — Мне говорили в редакции. Я не верила.
— А ты вообще, вы вообще там, в Москве во что-то еще верите?
Больше мы с ней не разговаривали. И разбираться корреспондентка ни в чем не стала. Очерки тогда делали под копирку. Так и улетела…
Разобрался Петр Качесов, секретарь Горкома партии. Он нашел меня и сказал:
— Ты приходи вечером. Разговор есть, — и дал адрес.
Я пришел к нему домой. Сели. Поллитра на двоих — это немного. Выпили. Помолчали. Достал вторую. Закусили. Поговорили. Мне нравился этот секретарь. Не знаю, участвовал ли он в махинациях с наградами, но со мной говорил он откровенно:
— Не построишь ты тут, парень, никакого города светлого будущего. Мы можем только то, что можем. То, чему и как учили нас. Чтобы создать что-то другое, сначала надо убрать нас, целое поколение. А то и два. Сможешь? Нет!
Я молчал, подавленный его правдой.
— Ну, замутил ты воду, а чего добьешься? Закроют стройку из-за твоих статей. Накажут всех по их рангам. Кому от этого лучше? Обещаю тебе, как старый солдат: чего-нибудь, да построим. Не в первый раз. А ты уезжай учиться куда-нибудь. Дадим тебе хорошую характеристику. Прости фронтовика. И голос его дрогнул. Или мне показалось?
Хорошо, что эту историю комсомольцев-добровольцев мои давние собеседники — американцы Диана и Джим на белокрылой «Литве» никогда не прочитают…
Уже в Москве я спросил Вадима:
— На что ты рассчитывал, посылая меня в Каратау?
И Вадим ответил:
— Но ты все же попытался. Значит, я в тебе тогда не ошибся. Знаешь, жизнь обретает смысл только когда берешь ношу. Другого смысла в этой жизни не ищи, нет его…
Через годы сведет меня случай с жителем тех мест и тот расскажет, во что превратится комсомольская стройка 60-х. Покинут дома оставшиеся без работы люди, и будет он стоять вымершим, с разбитыми ветрами окнами. Не сдержал слова грустный фронтовик…
Только в новом тысячелетии в независимом уже Казахстане оживет горнорудный комбинат, косо-криво созданный в 60-х советских годах на базе Каратауского бассейна фосфоритной руды.
Но об этом я уже узнаю только из справочной литературы…
ЧАСТЬ II: ПОКОЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ
Глава 1. ВГИК в подарок
В ЦК ВЛКСМ завотделом Куклинов вопросов не задавал. Молча закрыл командировку и подписал подготовленное Вадимом направление на учебу: «Ректору ВГИК, А.Н.Грошеву». Вадим улыбнулся, увидев мое растерянное лицо:
— Ты сделал всё, что мог. Теперь иди учиться, это никогда не поздно.
Учиться. Конечно! В Одессу я вернуться не мог, в Москву тем более. Даже позвонить ей не решался, вернувшись и не на щите и не со щитом, а волоча его за собой. Прав Вадим, надо начинать жизнь сначала. Пусть по письму, но я заслужу, я оправдаюсь, я докажу… Мысли путались, но, конечно, ВГИК! Ведь звал же Юра Гусев, комсорг этого знаменитого института тогда, в Каратау. Он сказал: поступай на киноведческий, не пожалеешь.
К ректору шел, опустив голову. Секретарша, узнав, что я из ЦК комсомола, любезно шепнула мне имя, открывая дверь в кабинет:
— Александр Николаевич.
Ректор, показавшийся мне пожилым и усталым, тяжело поднялся из-за стола, молча взял направление, стоя прочитал про Высшую одесскую мореходку и вдруг сказал мягко, по-отечески:
— Ну, что ж, комсомол, так комсомол. На вас вся надежда. Высшее образование? Это хорошо. Знаете английский? Это тоже хорошо. ВГИК открывает новое направление, социологию кино. Пойдете в аспирантуру?
Я открыл было рот, спросить не ошибся ли он про аспирантуру, но во-время спохватился.
— Значит, самое трудное для вас — это сдать вступительные экзамены по истории кино. Сдадите, зачислим в аспирантуру на киноведческий факультет.
Я только спросил, сколько у меня времени на подготовку.
— Приемные в октябре, у вас почти два месяца. Желаю удачи, моряк!
Еще неделю назад я не знал, что делать со своей неудавшейся жизнью. Теперь за два месяца надо пройти то, что обычно проходят за пять лет, чтобы поступить в аспирантуру ВГИКа!
Вадим, выслушав мою бессвязную речь, сбил панику:
— У тебя же диплом о высшем образовании. Имеешь право на любую аспирантуру. Лишь бы сдал экзамен по профилю. Вот и сдавай историю кино. Лишних знаний не бывает! — И он подтолкнул меня к двери:
— Иди, моряк, начинай новую жизнь!
Я навсегда сохраню благодарную память об этом редком человеке, дважды спасительно изменившим мою жизнь. Даже страшно представить, куда бы оно все пошло, не встреться Вадим Чурбанов на моем пути… И спасибо комсомолу, все-таки он мне дал много больше, чем я ему…
Подходя к парадному подъезду, я смотрел на всемирно известную вывеску, доставал из кармана красный пропуск и гордо оглядывался, все ли видят, куда заходит этот парень. Но там, внутри, хвастаться было нечем. Вокруг меня куда-то неслись, о чем-то спорили на лестнице, стояли задумавшись у окна, что-то репетировали, почтительно разговаривали со своим педагогом мальчишки и девчонки, которые прошли жесткий конкурс по сто человек на место. Они хорошо знали, куда поступали и зачем. А я? Как вообще я оказался в Москве?
Уже поступив во ВГИК, набрал ее номер. Наташа не удивилась, сказала, как будто не расставались:
— Есть билеты на Международный кинофестиваль. Фильм «Мост через реку Квай». Пойдем?
В зале Дома композиторов, где крутили внеконкурсную программу, ее все знали, и откровенно разглядывали ее не знакомого никому спутника. Кстати, костюм я себе еще не купил, так и ходил в морской форме, известной ей еще со дня нашего знакомства. Я уже знал, какая у нее семья, хотя родителей в глаза не видел. С другой стороны, нормальная девчонка. Выпить умеет. Слова знала, если что.
Она доставала билеты в Современник на «Вечно живые», на Таганку на «Гамлета», где я впервые увидел Высоцкого, на «Десять дней, которые потрясли мир» и нас, тогда и познакомившихся со всей труппой, ходившей веселой толпой по фойе театра с выходом на улицу. Она показывала мне Москву, а своим знакомым — чудака в морской форме.
Однажды она сказала как-то просто, будто о пустяке:
— Вот что, ты давай не уходи, оставайся здесь, — она имела в виду свою комнату. — Все равно родителей нет. Они в Японии на целый месяц. А Поля и так все знает.
О любви ею не было сказано ни слова, хотя в ту нашу ночь я, кажется, впервые ощущал восторг и до и после. Но на корзину цветов со стихами Окуджавы, с которыми я приперся на следующее утро, она пожала плечами:
— Ты что, чокнулся?
Ах, так? Корзина полетела в пролет пятого этажа. Услышав, как хлопнуло там внизу, она, не дав сказать, увела в свою девичью, и мы оказались снова в постели.
И тогда, и потом насмешливостью своей она сбивала мой пафос, политический или лирический, нежность её легко смешивалась с бесшабашным цинизмом. А как она красиво пользовалась матом! Это сближало морехода с творческой интеллигенцией.
Поля, маленькая хлопотунья, деревенская наивность и строгость — ее няня, взятая в этот дом еще с довоенных лет, казалось, ничему не удивлялась и исправно кормила всегда голодного аспиранта вчерашними щами из Кремлевки.
Родители прилетели, и ей-таки досталось от матери. Я не знал, куда деваться. Но ее отец позвал в кабинет, закрыл дверь:
— Не обращай внимания. Клара такой человек. Для меня главное: Наташа тебя любит. Ты как? Значит, тому и быть.

Так мы оказались в ЗАГСе.
— Ты куда? Ты представляешь, кто мы и кто они? Ты просто сошел с ума! — надрывалась мать в телефонную трубку.
— Мама, а кто мы? Да не волнуйся ты так! Лучше приезжайте на свадьбу.
Они, и правда, приехали. И чувствовали себя, по-моему, неловко, неестественно, как, впрочем, и я сам среди наташиных родственников и близких. Сестры моей Маргариты за большим столом Хренниковых в тот день не было. Хоть я и жил тогда у нее в Свиблово, этот неравный брак она считала авантюрой, как и всю мою жизнь. Хотя сама свою сломала, бросив консерваторию необъяснимо для окружающих.
Никакой свадьбы, ни пышной, ни скромной не было. После ЗАГСа, где наши родители с достоинством познакомились, все были приглашены домой за праздничный стол. Праздника, правда, не чувствовалось, в разговорах старались не упоминать о событии, ради которого все и собрались. Я чувствовал себя не в своей тарелке и просто молчал, пока кто-нибудь не обращался ко мне.
— Да перестань ты стесняться! Не обращай ни на кого внимания. Смотри на меня. Всё будет хорошо, — шептала мне в ухо Наташа. Она выглядела вполне уверенной в себе и, кажется, счастливой.
Стояли теплые сентябрьские дни 1996 года. Я торопливо из наташиной спальни убегал во ВГИК, как от самого себя. Там, проглатывая одну за другой книги по философии и истории кино, забывал о личном, постепенно очищал в мозгах место от теории машин и механизмов и прочего мезозоя.
А каково было, читая про «эффект Кулешова», видеть идущего навстречу самого Льва Владимировича? Или наталкиваться нос к носу на Сергея Аполлинариевича Герасимова, окруженного студентами, или Тамару Макарову, в фото которой я был влюблен в восьмом классе? Да и все будущие звезды — и одессит Коля Губенко, и Жанна Болотова, и Андрей Тарковский, Элем Климов, Лариса Шапитко, Василий Шукшин, Андрон Кончаловский, Вика Федорова, Валя Теличкина, Жанна Прохоренко, Елена Соловей каждый божий день здесь касались друг друга плечами.
Кто-то и меня тронул за плечо. Так это же Саня Лапшин из одесской сборной!
— Ты? Здорово! Пришел к кому? — гимнаст улыбался знакомой улыбочкой.
— А ты?
— Я на курсе сценаристов у Киры Парамоновой.
Друг мой, Саня! В одесской ДСШ №1 прошли мы вместе путь от тонкоруких подростков до мастеров спорта. Он рассказал, что после Института физкультуры работал тренером в далеком сибирском городке, стал писать рассказы о юных гимнастах и с ними и был принят.
— А что это за старуха с ядовито желтыми проволочными волосами?
— Ты с ума сошел? Это же Хохлова!
Ей чуть ли не сто, мне казалось. Дух Эйзенштейна витал над нею.
Я еще не знал, что по Cашиному сценарию студия Горького уже ставит фильм «Тренер»! Но однажды он придет к нам на Миусы с оттопыренными карманами пальто. В одном будет бутылка коньяка, в другом толстые пачки денег:
— Вот, получил, — скажет он смущаясь. — Давайте, обмоем.
И мы обмоем. Потом, к сожалению, встречаться будем реже. Он будет в своем Томилино под Москвой днем спать, а ночами писать сценарий «Клима Самгина». Получит за него государственную премию. В Москве будет бывать редко, и мы больше с ним даже не увидимся. Горько думать, что я ему стал просто не интересен. То же произошло, к моему горчайшему сожалению и с Чурбановым: между нами вырос как будто невидимый барьер. Не хотелось думать, что в связи с переменами в моей жизни Вадим потеряет ко мне всякий интерес. В такие минуты я чувствовал себя презренным нуворишем из стендалевского романа о Жульене Сореле. Что было несправедливо. Ибо я уж точно не рвался ни в какое высшее общество. И чувствовал там себя очень неуютно…
Юра Гусев, все еще комсорг ВГИКа, поздравил меня с зачислением и тут же предложил выдвинуться на комсорга факультета.
— А почему не всего ВГИКа?
— Как тебе сказать… Пока на этом месте я. Но если…
— Юра, я пошутил. Я учиться пришел. Хорошо?
Юра был добрым парнем, но занудой.
Утром десять кругов бегом по скверу вокруг дворца пионеров на Миусской площади, где рядом теперь был мой дом. Потом душ, тарелка гречки с молоком и быстрым шагом на Новослободскую, в метро. Стою в толпе, вываливаюсь с толпой на Комсомольской, дышу кому-то в спину, шагая через ступеньку по широкой площадке на переход с кольцевой на радиальную. Снова толпа заносит в вагон:
— Двери закрываются, следующая остановка Белорусская.
И так еще двадцать минут и моя станция ВДНХ.
Далее на автобусе четыре остановки, на пятой на выход: ВГИК.
Лестница слева, лестница справа. Посередине раздевалка. Поднимаюсь на четвертый этаж, иду на звуки полонеза. Это актерский курс делает свои плие, держась руками за подоконники: урок балета. А в библиотеке тихо, здесь, склонившись над книгами, о чем-то думают те, кому положено думать, а не танцевать.
Аспирантам открыт доступ еще и в особый отдел — спецхран, откуда выдают книги для «служебного пользования». Я не задавался вопросом, почему спецхран, от кого спецхран, жадно хватал все, что видел. «За французскую модель социализма» Роже Гароди разбирал по косточкам: «Руководящая роль партии в отношении специалистов в области общественных наук состоит в том, чтобы ставить проблемы, а не в том, чтобы заранее формулировать тезисы, а потом требовать от экономиста, социолога или историка их обоснования».
Ничего себе мысль. Такое еще не приходило в голову. Выписываю. А далее еще и не такое: «Реализм без берегов» того же Роже Гароди неожиданно примирял с абстракционизмом, авангардизмом, модернизмом, концептуализмом, расширяя горизонты партийного представления об искусстве. Учусь смотреть на современную живопись как на спонтанное, беспредметное выражение внутреннего мира художника, потока его сознания. Оставался, правда, вопрос: а почему этот поток должен быть интересен мне?
Так началось разрушение укрепрайонов, которыми была обнесена моя прежняя жизнь. Предстояло понять и заново переосмыслить этот огромный, бесконечно сложный мир, на просторы которого все-таки вынесло идеалиста-утописта. Вспоминал Саню Палыгу, своего однокурскника по мореходке, которому самоуверенно обещал: «Подожди, Санек. Все впереди!» А что впереди, и не знал. А оно, вот оно.
Мой научный руководитель — высокий, распрямленный, с красивой седой головой, профессор Лебедев. Николай Алексеевич в кино с 1921 года. Его, автора главного учебника по истории кино, называют патриархом советского киноведения. Он был еще редактором «Пролеткино», потом ректором театрального ГИТИСа и, наконец, какое-то время ректором ВГИКа. Несмотря на мою настороженность по отношению к тем, кто уцелел в годы идеологических чисток и массовых репрессий, Николай Алексеевич оказался интересным собеседником, чутким педагогом и, главное, искренним поборником социологии, запрещенной с тридцатых годов.
Он видел социологию кино как самостоятельную дисциплину, считал важным изучение колебаний вкусов зрителей и советовал мне всерьез заняться вновь возрождающимися киноклубами. Вскоре мы с Юрой Гусевым создадим Ассоциацию московских киноклубов. Заседания совета — в кинотеатре «Художественный» у метро «Арбатская». Ассоциация эта будет добывать редкие фильмы в зарубежных посольствах, отправлять их по стране невидимыми ручейками, удовлетворяя запросы наиболее продвинутых зрителей. А что означала эта продвинутость, станет темой моей диссертации.
Николай Алексеевич, как я понимаю, искал помощника, ассистента, и я оказался весьма кстати. Какой из меня киновед? А вот социологом, как я считал, я уже был, когда вместе с Гусевым распространял анкеты в кинозале клуба «Горняк». Правда, сейчас все иначе. Смутная догадка о том, что не люди и не боги, а идеи правят миром, уже тревожила неокрепший ум, и ленинский лозунг «из всех искусств для нас важнейшим является кино» обретал иной, более глубокий и опасный смысл.
Николай Алексеевич быстро ввел меня в свой семинар «Кино и зритель», где шла речь не о киноязыке и авторском замысле фильма, а о зрителе, в котором этот фильм отразился. Почувствуйте, как говорится, разницу. Вспоминая Турбина «Товарищ время, товарищ искусство», брался за «Психологию искусства» Льва Выгодского, написанную еще в двалцатых годах, потом наткнулся на «Искусство и мораль» Валентина Толстых, затем «Искусство и элита» Юрия Давыдова. Всё это были авторы широкого кругозора, выходившие за рамки нормативной эстетики.
Социология возрождалась после тридцатилетнего перерыва, и мне, начинающему, было легко. Мы росли вместе. Я привыкал к положению сначала ассистента профессора, а потом уже и преподавателя, хотя мы просто разговаривали. По утрам дамы на кафедре киноведения в ответ на мое «здрасьте!» ласковыми голосами задавали свои вкрадчивые вопросы:
— Как здоровье тестя? Что нового сочиняет? Как жена? А детки скоро?
От такого пристального внимания я краснел и заминал разговор. Предпочел бы, чтобы никто не знал вообще ничего о моем прошлом и настоящем. Но шила в мешке не утаишь. Слухи распространяются быстро. И от них дубеет кожа.
Однажды Олег Видов, уже князь Гвидон, принц Хаббард, всадник без головы пригласил на свою свадьбу:
— Старик, приходи с женой в ресторан «Пекин». Зал спецобслуживания на третьем этаже, на лифте. Только фамилию жены на входе скажешь, ладно?
На мой удивленный взгляд пожал плечами:
— Так это здесь работает. Да, не заморачивайся ты! Все в порядке.
Мы с Наташей, конечно, пришли. Как принято, слегка опоздали. Лифт неожиданно открылся прямо на длинный стол, полный узнаваемых лиц. Народный артист Матвеев остановился на полуслове и ждал, пока мы усядемся среди лиц, знакомых по портретам. Затем поставленным голосом он продолжил длинный тост. Я уже узнал монолог Астрова из «Дяди Вани» и забеспокоился: чем мне крыть?
Справа от меня оказалась полноватая женщина средних лет, привыкшая быть в центре внимания. Кто-то почтительно прошептал на ухо: Галина Леонидовна, Брежнева. Галина Леонидовна уже приняла, и глаза ее блестели. После того, как и я встану с тостом, отважно пролепечу что-то про служение искусству, она наклонится ко мне и скажет на ухо почти интимно:
— Мне понравилось. Вы всегда такой серьезный?
— Да, но кто это ценит? — И получил чарующую улыбку. Чьи-то заботливые руки тут же отвели Галину Леонидовну от меня подальше.
А изящная, остроглазая, с короткими темными волосами, невеста быстро подружится с моей Наташей, а я — с Олегом. Как окажется, на всю жизнь.
— Понимаешь, я по жизни нормальный, ты же видишь.
— Я тоже, Олежка!
Уже год спустя он будет сетовать, что жена усиленно работает теперь над его карьерой, гонит на хлебные концерты петь песни собственного сочинения, пытается даже продвинуть его благодаря своей дружбе с Галиной в министерство культуры каким-то большим начальником. Через несколько лет они разведутся…
Другая дружба не получилась. Случай такой странный. Московская осень регулярно валила меня с ног чертовой ангиной. И в этот раз я валялся в постели с перевязанным горлом, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял Александр Стефанович, вгиковский сердцеед, высокий блондин с кукольно красивой Натальей Богуновой, балериной и актрисой.
— Вот, пришли навестить больного товарища. — И торт уже вручен хозяйке.
Я эту пару вместе и отдельно до сих пор видел только издалека, а, оказывается, мы товарищи! Саша уже оживленно о чем-то болтает с моей женой, смешит ее, свой в доску. Я не знал, как реагировать и помалкивал, лишь удивляясь тому, как бесцеремонно в Москве заводят нужные знакомства.
Впрочем, эта встреча продолжения не имела. Вскоре Александр переключится на восходящую звезду эстрады Аллу Пугачеву и, наконец, женится на ней, видимо, с такой же решительностью. Но привкус чужой незаслуженной мной известности будет отравлять жизнь еще годы и годы…
Аспирантская жизнь — учеба в одиночку, по индивидуальной программе. Был еще обязательный аспирантский семинар раз в две недели, который вел Владимир Евтихианович Баскаков, заместитель председателя Госкино СССР, большой начальник. Сначала мы, числом пять, робели при нем, но постепенно атмосфера теплела. Баскаков был образованным партийцем и, реализуя руководящую роль партии в культуре и искусстве, умел обосновать ее необходимость вполне убедительно. Спорить с ним никто из нас не брался, хотя напрашивались вопросы.
Однажды мы обсуждали фильм Жени Григорьева и Марка Осипьяна «Три дня Виктора Чернышева» 1968 года — историю постепенной моральной деградации обычного рабочего парня наших дней. Владимир Евтихианович к нашему удовлетворению совершенно точно сформулировав смысл фильма. Он сказал:
— Авторы убедительно живописали разлагающее влияние социалистических трудовых отношений на формирование личности молодого человека.
Но потом добавил:
— Фильм абсолютно вредный, я бы запретил. Ну, да ладно, все равно его никто смотреть не будет.
Если мы чего-то не понимали в политике партийного руководства искусством, то теперь поняли. Зампред оказался прав: фильм действительно не всколыхнул массовое сознание. Потому что его положили на полку аж до 1988 года, когда Союз кинематографистов начал вытаскивать из цензурных лап то кино, которое должно было сформировать человека горбачевской перестройки. Не сформировало, и перестройка выйдет боком…
От «Феномена человека» Пьера Тейяра де Шардена к стенограммам съездов партии, от стенограмм расстрелянного съезда к «Доктору Живаго», от изысканной поэзии Пастернака к площадной сатире «Ивана Чонкина» Войновича, от Войновича к Элвину Тоффлеру с его «Шоком будущего» — такое бессистемное чтение делало свою незаметную работу, подталкивало сознание к размышлениям о том, насколько искусство, чья миссия нести доброе, вечное, само попадает под власть разных сил, искажающих его траекторию, и как это сказывается на людях.
Меня самого забавлял такой тест, который я иногда предлагал студентам:
— Представьте, вы идете в ветреный день по набережной вдоль озера, где гуляют волны. Вдруг слышите крики о помощи и видите перевернутую волной лодку. Тонут три человека: знакомый профессор, молодая девушка и ребенок. Вы, не раздумывая, бросаетесь в воду и гребете к ним. Пока плывёте, видите, что все трое-таки тонут. Кого будете спасать первым?
Оживление в классе. Загадка, однако. Первый голос:
— Наверное, ребенка?
Второй:
— А я бы спас сначала профессора. Он все же нужней обществу.
Бедную девушку почему-то не спас никто. Говорю:
— Хотите знать правильный ответ?
Кто-то вдруг:
— Знаем. Все ответы правильные!
И тут наступает момент истины:
— Правильный ответ: ближайшего!
И вот тут коллективная мысль впадает в крайности абстрактного гуманизма, где человеческая жизнь, чья бы она ни была, обладает абсолютной ценностью. Ну, вот так, примерно, мы и общались, так возникал (или не возникал) между нами контакт.
А в 1968 году Николай Алексеевич задумал первую после 30-х годов всесоюзную социологическую конференцию «Кино и зритель». Удалось это сделать под эгидой секции кинокритиков союза кинематографистов. Председатель секции Александр Евсеевич Новогрудский явно тормозил подготовку конференции, с мягкой отеческой улыбкой говорил нетерпеливым:
— Куда вы, ребята? Ну, что вам, жить надоело?
Социологические центры обнаружились в МГУ, в Прибалтике, в Свердловском университете, в Ленинграде, и даже во ВГИКе. Доцент кафедры марксизма-ленинизма, Сергей Александрович Иосифян со студентами, оказывается, уже год, как проводил опросы в кинотеатрах. Обрадовало участие ленинградского профессора Бориса Мейлаха, свердловского профессора Льва Когана, тартусского структуралиста знаменитого Юрия Лотмана, московских социологов Айгара Вахеметса и Сергея Плотникова.
Благодаря им возникло некое интеллектуальное общее пространство, в котором о кино говорили на языке, отличавшимся от киноведческого. Исходной точкой всех докладов и дискуссий было общественное сознание, массовые настроения как тело больного, в которое рука хирурга делает какие-то инъекции. Конечной — как на эти инъекции реагирует больной.
После конференции был напечатан на ротапринте сборник докладов, и весь гигантский тираж в сто экземпляров разослали участникам. Ни пресса, ни Госкино, ни кинокритики конференцию не заметили. Видимо, подмеченная социологами тенденция к снижению эффективности отдельных инъекций кому-то не понравилась.
Но лебедевский семинар, переименованный после конференции в «Социологию кино», продолжал свою полуподпольную работу. Обсуждались кассовые сборы, по которым можно было судить о воздействии остро социальных фильмов на общественное сознание. Как велика реальная сила художественного образа и от чего она зависит? Только ли от доступного киноязыка? Как вообще идеи фильмов взаимодействуют с общественными настроениями, кто на кого влияет и как это происходит с учетом цензурных ограничений и усилий кинокритики. Так ли проста причина ножниц восприятия фильмов кинокритиками и массовым зрителем?
Статистику кинопроката мы изучали по тоненькой, в серо-синей обложке брошюрке «для служебного пользования» — ежемесячному бюллетеню Госкино. В ней был спрятана почти государственная тайна: сборы от десятка американских фильмов из года в год давали больше, чем все 150 советских фильмов. Почему? Только ли развлекаловкой было западное кино для советского человека?
Вроде об этом же говорил и бешеный успех наших фильмов легкого жанра — «Человека-амфибии» в 1962 году — 67 миллионов зрителей, в 1969 году у «Бриллиантовой руки» 77 миллионов, в 1971 году 65 миллионов у «Джентльменов удачи». Но более детальный анализ обнаруживал и в этих комедиях то, что обычно нравится советскому человеку в анекдотах — высмеивание отдельных пороков.
Тянулось наше внимание, конечно, к кино оттепели, к признанных шедеврами «Балладе о солдате», «Летят журавли», «Чистое небо», «Судьба человека», «Отец солдата». «Баллада о солдате», первый плод оттепели, собрала гигантские по тем временам 30 миллионов зрителей. Отметили ее наградами и кинокритики, в основном зарубежные. И вообще, благодаря этим никак не развлекательным фильмам, кинопосещаемость, которая составляла в 1953 года около 1,5 млрд. зрителей, выросла вдвое. Вот что значило попасть в резонанс общественных настроений!
Один фильм, уже после оттепели, глубоко потряс меня самого. Не только потому что в 1973 году он соберет аж 66 миллионов зрителей. Впрочем, об этом фильме отдельный разговор. «Зори здесь тихие» выйдут на экраны когда будет защищена диссертация «О дифференциации массовой киноаудитории» уже не во ВГИКе, а в Академии общественных наук. Но лебедевский семинар останется со мной еще на долгие годы, как запоздалая любовь и вдохновение.
Сначала был журнал «Юность» с повестью Бориса Васильева. Дело было еще летом 1969-го года. Листая, как обычно, его страницы, я споткнулся на этой повести. И, уже не отрывая глаз от страниц, ушел с чтением на балкон. Потом нашел бутылку коньяка и налил уже дрожащими руками.

Весь в слезах и восторге дочитал повесть и той же ночью сел писать письмо в журнал. Надо было выговориться. Оказывается адреналин, вброшенный в душу повестью, мог быть еще вызван высокими патриотическими чувствами. И вот что произошло. Письмо попало к автору, и Васильев ответил сразу. Он позвонил и пригласил к себе в гости.
Усадил за стол, расспросил кто и откуда, допытывался, что и почему в повести меня тронуло и поразило. Потом мы заговорили об экранизации. Я предлагал Желакявичуса, снявшего потрясающий «Никто не хотел умирать» о литовских «лесных братьях», признанный читателями «Советского экрана» лучшим фильмом 1966 года.
И действительно скоро фильм был снят. Станислав Ростоцкий сделал шедевр, не уступающий первоисточнику. Сам фронтовик, он сумел…
И снова успех. На нашем семинаре мы со студентами рассуждали о том, как патриотические чувства, извлеченные этим фильмом из исторической памяти народа, побеждают сегодняшние скептические настроения. Я же просто растворился в огромном всеохватном чувстве отчаянного самопожертвования, которое передала через экран Ольга Остроумова.
А сама Ольга Остроумова неожиданно войдет в мою, нашу с Наташей жизнь, вполне наяву. Это Миша Жванецкий приведет меня на спектакль одессита, режиссера Левитина. Познакомит. А Левитин, тоже, кстати, Миша, замедлится, чему-то усмехнулся и пояснит:
— Как же я вас тогда ненавидел в школе! Ольга Андреевна все в пример ставила чьи-то школьные сочинения. Бесило, что они были еще и в стихах…
Мы не могли не сблизиться. Тут и выяснилось, что Миша Левитин муж Ольги Остроумовой. Так мы все, как принято говорить, подружились. Ольга, истинно русская красавица, выросла в семье священника и, не впав в христианство, взяла из него духовность, которой следовала в жизни и в искусстве. Ольга обладала присущим редким красавицам магнетизмом непреодолимого обаяния. В ней ощущалось то, что мне особенно дорого в людях, нравственное начало. Она носила его как немодное, но сшитое по ее фигуре платье. Я боготворил ее.
Премьеру спектакля по миниатюрам Жванецкого ставил Левитин. Помню, играли в нетопленом зале (трубы лопнули) при морозе около 30 градусов. Люди сидели в шубах, никто не раздевался, а на сцене актеры в купальниках изображали знойное лето в Одессе. Они бодро шутили: «Ох, жара!». Изо рта у них валил пар.
Я обожал его репетиции, когда затаив дыхание, наблюдаешь, как упорно добивается он от актеров нужной интонации, иногда в одной короткой реплике. Сто раз истошно кричал из зала:
— Стоп! Повторить! — и выскакивал на сцену и играл сам. Боже, как он показывал… Тайна рождения спектакля — в тех репетициях. По мне, так они важней спектакля.
Человек сцены, живущий театром, его историей, его актерами и их интригами, своими замыслами, он старательно будет и меня втягивать в свой мир:
— Мне нужен хороший директор. С твоим прошлым опытом и нынешними связями мы много добьемся, я тебя уверяю.
Слава богу, я не согласился…

Но своих студентов я водил на его спектакли довольно регулярно на свободные места или как придется.
— Это гости Михаила Захаровича! — говорил я кассиру, показывая на робкую, но не малую группку студентов и всегда получал контрамарки. Студентам это нравилось, а я, к своему удивлению, все больше ловил кайф от каждой встречи с ними. Кажется, мне нравилось преподавать!
Тогда как раз репетировали Хармса. «Хармс, Чармс, Шардам или школа клоунов» стала классикой его театра. Его играли много лет поколения актеров. А первой исполнительницей была Любовь Полищук. И Рома Карцев. На репетициях Миша так орал на старающуюся изо всех сил Любу, добиваясь того, что видел только он, что я не выдержал:
— Девочка играет просто изумительно. Что ты еще хочешь?
— Если на них не орать, они вообще слова забудут.
Дело было в его кабинете после репетиции. Как раз на этих словах вошла Люба, которую он сам просто обожал.
— Любка, ты слышишь, он тебя защищает!
— Кто?
Так мы познакомились и дружили много лет. Она трудилась в театре, пахала, как она выражалась. И никогда не корчила из себя звезду. Как-то попросила меня подготовить ее к экзаменам в ГИТИС. Оказывается, у нее даже не было театрального образования. Но вот поступила, честно отучилась и получила диплом. Чего он прибавил к ее таланту, я не заметил.
Она была великолепным другом и отважно искренним человеком. Если она тебя приближала, то это навсегда, не под настроение, а на жизнь. Мы могли не видеться годами, а встречались, будто только вчера расстались. Без нее, без репетиций Миши, без его Хармса, которого я смотрел бессчетное число раз, эти годы были бы намного скудней.
Еще много лет уже на собственных «Жигулях» буду приезжать на улицу Эйзенштейна, во ВГИК и раз в неделю озадачивать очередное поколение киноведов и режиссеров вопросами не о том, что хотел сказать автор, а о том, что захотел понять зритель. Эту область знания философы и один проницательный кинокритик Майя Туровская называли внеэстетическим бытованием искусства в обществе.
С годами подмерзала хрущевская оттепель, из кино уходила наивность и робкая искренность, на их место приходили редкие, пробивавшиеся сквозь цензуру важные для пробуждения общественного беспокойства социально острые фильмы. Мы искали в таких фильмах их смысл и пытались обнаружить его след в сознании зрителя. Лечат ли больного подобные инъекции?
Уже ведь сказал Жванецкий: «В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места», и ему за это ничего не было. Видят ли зрители, как сквозь тонкую изящную ткань искусства просвечивает дряблое тело советской реальности?
В 1977 году вышел на экраны шедевр Ларисы Шепитько — «Восхождение» по военной повести Василя Быкова. Эффект, произведенный главным героем на мое сознание был таким же потрясением, как от Ольги Остроумовой в фильме Ростоцкого. «Зори здесь тихие». Снова патриотизм, но очищенный, почти религиозный. Я не мог молчать. Не составило труда найти Шепитько. Набрав телефон, сразу обрушил на незнакомого человека каскад эмоций. Она остановила меня:
— Подождите, я знаю вас. Вы на киноведческом? Давайте поговорим не по телефону. Для меня это важно.
Так мы встретились. Не во ВГИКе, у нас с Наташей. Элем Климов и Лариса Шепитько пришли с бутылкой и скромно сидели рядышком на диване за журнальным столиком уставленном бокалами, слушая мои страстные и наивные излияния.
— Не высока ли планка? — спросил я ее тогда. — В человеческих ли силах пройти этот путь Иисуса?
Лариса ответила, не задумываясь:
— В ваших? Не знаю. В моих, да.
Элем молчал. А я, глядя на эту необычную женщину с твердыми чертами красивого лица, набирался мужества. Так и должно действовать настоящее искусство, утверждающее идеал. На всех ли, вот вопрос. И если нет, то почему. Но это уже вопрос к моим студентам.
Лариса жаловалась на цензоров, грозящих запретить фильм как «религиозную притчу с мистическим оттенком»:
— Моральные уроды, им даже патриотизм страшен!
Я тихо пискнул:
— Это же гимн силе духа! И эта сверхчеловеческая стойкости во имя родины!
Элем сказал:
— Показать бы картину кому-то авторитетному, кто мог бы заступиться.
Наташа, не видевшая фильма, вдруг сказала:
— А если ее показать секретарю ЦК Белоруссии Машерову? Он же сам бывший партизан!
Элем знал, конечно, чья она дочь:
— Да, это, пожалуй, стоит. Но как дотянуться до кандидата в члены Политбюро? Есть идеи?
Идея была, и просмотр состоялся. Потом Элем рассказывал, как Машеров сказал, вытирая слезы после фильма:
— Откуда эта девочка, которая, конечно же, ничего такого не пережила, знает обо всём этом, как она могла…
Картин социальных, глубоких, осмысливающих несовершенство социалистической реальности, всё прибавлялось и прибавлялось. «Гараж» Эльдара Рязанова, «Плюмбум» и «Остановился поезд» Вадима Абдрашитова. Да и ядовитая комедия «Родня» о советской семье трех поколений, снятой Никитой Михалковым в 1981 году, и «Полёты во сне и наяву» Балаяна о кризисе поколений сорокалетних — все они были поводом для исследования не тенденций в искусстве кино, а более важного вопроса: могут ли эти послания реально влиять на сознание миллионов, настраивать его на перемены? Так и хотелось сказать «да». Но выходили эти фильмы малыми тиражами, цензура делала свое подлое дело, тормозя развитие общественного сознания.
В 80-х начнется в прессе унылая дискуссия о «серых» фильма, кинокритики будут опять сетовать на непрофессионализм режиссеров, досадовать на неграмотность зрителя, доказывать, что именно из-за этой неграмотности падает посещаемость советских фильмов. Чтобы ее поднять, надо ввести эстетику кино в школах. Наивная вера.
Конечно, кино в школу давно пора. Поскольку влияние фильма уже обгоняло влияние книги, школьникам пора знать и иметь под рукой, как книгу на полке, классику отечественного и мирового кино. Кто ж спорит? Её ценность соизмерима с ценностью литературы. Для этого должен быть утвержден и обеспечен просмотрами список хотя бы полусотни шедевров. Отделить зрелище от искусства таким образом можно, но тогда в шедевры попадут не только фильмы итальянского реализма, но и выше упомянутые советские фильмы отнюдь не по канонам социалистического реализма. Попадут ли?
С первых лет преподавания к занятиям готовился, как струну натягивал. Чтобы не сводили глаз с пущенной стрелы, с мысли, несущейся к черте, за которой можно было и загреметь. Если струна не натягивалась, и лететь не получалось, пропускал занятие. Почасовику такое сходило с рук. Зато был драйв, взаимное доверие и напряженная совместная работа. Неизвестно, кто больше получал от этой забавы, я или они.
Такой вид обучения позже назовут интерактивным, и он придет к нам в виде тренингов в 90-х годах. Рискованная, между прочим, была игра: вроде бы нет у нас запретных тем, но есть где-то рамки дозволенного, которые никто не видит. Но чувствуют. Надо было догадаться, где остановиться. Я же и подливал масла в огонь: найди черту сам! Нет, мы не диссиденты. Но перешагнешь — им и станешь. И будешь наказан, уволен, выброшен, выслан, посажен, никому не нужен. Не дойдешь — обидно, художник! Не договорил, не довыразился, зря талант просадил.
Годы пройдут, и уже кандидат наук, кое-что понявший в этой жизни, я буду грустно говорить с ними об их профессиональной доле:
— Тащить вам, ребята, свою бурлацкую лямку, вытягивать тяжелую, забитую доверху лозунгами и фобиями баржу общественного сознания к истокам общечеловеческих ценностей всю свою творческую жизнь. И не будет этому конца…
Искренность и осторожность — два полюса, между которыми метались многие в мире изношенных ценностей «зрелого социализма». Мы со студентами, как мне по крайней мере казалось, ничего не боялись. Разве что только я немножко… Но как же хороши эти паузы между неожиданным вопросом и искренним ответом без всякой обязательной в наше время самоцензуры! Я доверял им, они верили мне…
Я уже числился старшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, когда ректорат предложил мне году в 76-м еще и режиссерский факультет с тем же семинаром. Теперь я уже мог вполне грамотно разбирать социально острое независимое кино не только отечественное, но и США, обсуждать процессы в американском обществе — в ИСКАНе набирался новых знаний.
Конечно, я не мог конкурировать с Володей Утиловым, который давно и фундаментально читал курс истории зарубежного кино. Но наш семинар был, наверное, интересней, так как мы рассматривали лишь отдельные фильмы, но в общественно-политическом контексте. А контекст американской либеральной революции гражданских прав был в шестидесятые как горячая сковорода: плюнешь, зашипит.
В Госфильмофонде в Белых столбах (специально ездили на электричке) смотрели шедевры мирового кино добытые зав иностранным отделом Госфильмофонда Володей Дмитриевым самыми таинственными способами. Как бы то ни было, нам повезло. Благодаря Володе мы увидели такую классику, как «Выпускник», «Алиса, которая здесь больше не живет», «Легкий ездок», «Возвращение домой», «Грязные улицы», «Смеющийся полицейский», «Жажда смерти», «Роки», «Рэмбо». По сути через замочную скважину кинематографа заглядывали в американскую жизнь в ее драматические и переломные моменты.
Потом, в Перестройку я вернусь во ВГИК уже на экономический факультет после выхода моей книги «Кино как бизнес», написанной в годы реформ. Но далекие годы на лебедевском семинаре «Кино и зритель» останутся для меня трогательным воспоминанием, школой самообразования, расширявшей горизонты дозволенного партийной идеологией. Мелькнет и шальная мысль: если бы Горбачев пришел сразу за Хрущевым, на той волне перемен, поднятой великим искусством оттепели, мы сегодня не кусали бы локти…
С годами не потеряется связь с бывшими студентами — с режиссером Георгием Шенгелая, фильм которого «Мусорщик» с моей легкой руки получит два главных приза на Венецианском кино-ТВ-фестивале в 2002 году, с Витой Рамм, которая станет известным медийным кинокритиком, со Славой Шмыровым, кинокритиком, выдающимся деятелем отечественного кино, организатором кинофестивалей, редактором первого профессионального журнала постсоветской киноиндустрии «Кинопроцесс», хранителем нашей кинопамяти, собирателем уникальных историй об уходящих звездах отечественного кино, мы будем дружески общаться, кажется, всю жизнь.
Киновед Сергей Лазарук после стажировки в киношколе в Лос-Анджелесе по моей рекомендации вступит в Союз кинематографистов, быстро взлетит по карьерной лестнице и в постсоветской России станет первым заместителем председателя Госкино, директором департамента государственной поддержки кинематографии Министерства культуры РФ.
Другой киновед, Николай Хренов, подхватит тему и станет автором серьезных монографий о психологии массовой зрительской аудитории.
А Сережа Кудрявцев, а Игорь Аркадьев? Имена этих тихих и скромных архивариусов мирового и отечественного кинематографа, энциклопедистов, знают все, кто интересуется кино. И я рад, что они помнят наши семинары.
Спустя почти полвека придет в далекий Лос-Анджелес весточка:
«Да, Игорь Евгеньевич, я — тот самый Аркадьев. Горько слышать формулировку „выброшен за ненадобностью“, и конечно, Вам виднее, это же Ваши ощущения, однако даже если я — единственный Ваш ученик, преисполненный благодарности к Вам, то у горечи Вашей есть и смягчающие оттенки. Потому что Вы (в том числе — и Вы) терпеливо лепили из меня, провинциального мальчика — несмышленыша, существо, способное отличать черное от белого и отвечать за собственные слова и деяния, и Вы творили это с человеческой деликатностью и иcключительно редким преподавательским мастерством. Еще раз — спасибо Вам».
То, что такие слова сказаны не на панихиде, дорогого стоит.
Глава 2. Под сенью чужой славы
— Ты, парень, выиграл счастливый билет! — сказала явно раздосадованная браком дочери властная наташина мать.
По большому счету ВГИК, Наташа, Москва… она была права. Это был билет в параллельный мир, что правда, то правда. Только я не играл в лотерею. Видимо, в жизни люди как-то все же иногда находят друг друга. Так я нашел свою школьную учительницу, научившую понимать великую литературу, нашел меня бродячий одесский философ Гера, открывший школьнику космические сферы абстрактного мышления, я нашел Вадима Чурбанова, буквально вырвавшего меня из флота, и теперь меня, кажется, нашла Наташа.
Сегодняшние впечатления будут посильней моих первых заграничных. Там, в тех рейсах по чужим портам и странам, мы как по музеям ходили. Но всегда возвращались домой. А сейчас, значит, здесь в Москве, на улице Готвальда, на Миусах, мой дом? Я вошел сюда с фибровым чемоданчиком и в модных когда-то пластиковых туфлях, купленных в Японии. И уйду с таким же через тридцать лет… Огромная, напряженная и счастливая жизнь, оборвется вместе с концом Советского Союза…

Почему Наташа, красавица и умница, выбрала залетную птицу, человека не ее круга, увлеченного тем, что здесь давно никого не трогало? Кого волнуют сегодня комсомольские стройки? Но она выбрала. Слово было за ней. Я бы не осмелился. Это Андрон Кончаловский мог позвонить по международному в Осло и сказать кинозвезде Лив Ульман:
— Я русский режиссер, хочу с вами встретиться.
Наташа не похожа на Андрона, но в ней та же смелость:
— Я дочь Хренникова и могу позволить себе брак по любви.
Так сказала она своей подружке, дочери министра лесной промышленности. Как будто кому-то бросала вызов.
Однажды, когда мы были одни дома, она взяла меня за руку, усадила в гостиной, поставила пластинку:
— Слушай. Это «Как соловей о розе». Папина песня любви.
Я слушал сладчайшую мелодию: «Звезда моя, краса моя, ты лучшая из женщин…» и каким-то шестым чувством понимал, что Наташа говорит музыкой отца о любви. Ей, далекой от сентиментальности, так, наверное, было легче выразить что-то важное. Мне кажется, именно этот момент окончательно соединил нас на много лет. Был и знак свыше: родились мы с ней в один год, в один месяц и с разницей в один день…
Аспирантура дарила три года для смены кожи — получения образования, обретения профессии и избавления от комплексов провинциала. Четыре фильма в день, стопка книг и дневник для складирования впечатлений, которые еще переваривать и переваривать. Вот уже и отстукиваю на пишущей машинке первую свою статью в студенческий сборник ВГИКа.
Удивился, когда этой, уже напечатанной статьёй по социологии, заинтересуется тесть. Взял, полистал, вроде особо не вчитываясь, и сказал, возвращая:
— Не пиши умно, пиши просто, как чувствуешь. Если не дурак, получится.
Сурово. И про себя подумал: что он понимает в социологии? Со временем дошло, что социология тут ни при чем. ТНХ знал нечто большее. Он владел секретами творчества.
Полутемный коридор с комнатами с двух сторон, справа сначала кухня, потом спальня родителей, дальше наташина, все окна во двор. Слева большая светлая гостиная с длинным столом, в конце коридора, напротив Наташи — тесный кабинет, едва вмещающий диван, стол, шкаф и рояль. И окна на улицу, на райком партии, какой-то секретный институт с охранником и дворец пионеров в глубине небольшого сквера.
Коридор без света, вдоль гостиной завален по грудь книгами, нотами, журналами, газетами, на которые наброшено что-то серое, чтоб не пылилось.
В этом старом доме композиторов на Миусах я увижу многих бессмертных, прикоснусь к субстанции гениальности с ее человеческой, бытовой стороны. Что неправильные аккорды Прокофьева — это гениальное новаторство, или что Шостакович своей музыкой выразил время, я еще мог усвоить. Но как с одного прослушивания запомнить наизусть целую симфонию? Невероятно. А вот этот тихий мальчик напротив меня за столом, Павлик Коган, он может. Инопланетянин?
Осваиваться в этом мире помогал Аркадий Ильич Островский. Чувствуя мое смущение, он говорил, приобняв по-дружески:
— Да не робей ты, моряк! Мы же не министры какие-то! Мы лабухи, нормальные лабухи, понимаешь?
Его знаменитая песня «Пусть всегда будет солнце» звенела над Москвой еще на том далеком Московском Форуме молодежи, а он, когда-то начинавший в оркестре Утесова, оставался своим в доску, почти одесситом.
На концертах в Колонном зале Дома Союзов Иосиф Кобзон самозабвенно исполнял его героическую песню о мальчишках, о их подвигах во имя Родины, а ее автор подмигивал мне:
— Да ладно, это все ерунда, подумаешь, песенка. Обычная халтура!
Кажется, он первым намекнул мне на то, что и халтурить можно гениально.
В день свадьбы мы случайно встретились в Елисеевском гастрономе на улице Горького. Аркадий Ильич подошел, показал, какую ТНХ любит ветчину и приобнял, благословляя на новую жизнь:
— Не дрейфь, моряк, все будет хорошо!
Он ушел на моей памяти первым. Через несколько быстрых лет скончается Аркадий Ильич в сочинской больнице. Он войдет в море веселым и беззаботным, но там случится приступ язвы с обильным кровотечением, и врачи уже не смогут его спасти. Остался его приемный сын, наш с Наташей друг добрый и деликатный Миша Островский со своей Раей.
Почти всегда за Большим Столом тихо, как мышка, сидела Лина Ивановна, худенькая, с тонкими чертами лица, многострадальная вдова композитора Прокофьева. Она, вернувшая в Россию своего знаменитого мужа и получившая десять лет лагерей после того, как он ее бросил, никогда, ни словом, ни намеком не вспоминала о своем прошлом. Для неё ТНХ выхлопотал пенсию и квартиру, где она и жила с двумя сыновьями Прокофьева этажом ниже. Прокофьев был кумиром ТНХ, и лично заботиться о Лине Ивановне он считал своим долгом.
Меня же она поразила тем, что однажды, поставив рядом два стула спинками друг к другу, оперлась на них прямыми руками и подняла стройные ножки в прямой угол:
— А ты так сможешь, молодой человек?
Ей 70 и лагеря за спиной, мне едва тридцать и я гимнаст. Ей мой угол нравится. Ей вообще нравятся молодые люди. И это помогает мне освоиться.
Легко и интересно было, когда за столом оказывался Леонид Борисович Коган. Маленький, слегка сутулый, при улыбке зубы впереди губ, улыбается первым. Глаза смеются, ласковые. Со скрипкой, женой и двумя прелестными детьми Ниной и Павликом никогда не расстается, они приходят на вечерний чай все вместе. В черном потертом футляре скрипка. Гварнери, однако. Помню его восторженные рассказы про то, как классно самому за рулем катить через всю Европу в Рим на три дня ради одного концерта. Что-то знакомое откликалось и в моей памяти.
Да, его выпускали. И в Рим, и в Париж, и в Бостон, Чикаго, Мадрид, Токио. Гражданин мира. Он видел мир, как свой дом и очень дорожил этой привилегией. И я интуитивно понимал, что от советской власти ему больше ничего не нужно. И он всю жизнь боялся, что его кто-то как-то почему-то может лишить этой свободы, и потому вел себя на людях предельно предупредительно.
А встречи Нового Года у Коганов на даче в Архангельском? Снег хрустит под шинами, въезжаем во двор дачи часам к одиннадцати. Длинный, от стены до стены стол, густо заставленный салатами, ветчиной, икрой, прочими вкусностями. Обязательный сюрприз — новогодняя страшилка из уст друга семьи замминистра юстиции СССР Николая Александровича Осетрова. Он с удовольствием рассказывал о страшных преступлениях так, что жевать за столом переставали.
Например, как один из братьев Запашных, знаменитых дрессировщиков советского цирка, зарезал свою красавицу жену, долго членил ее на части, сложил их в чемоданы, спрятал под кровать и, рыдая, позвонил в милицию…
— Вот что ревность делает с человеком, — заканчивает Николай Александрович ровно в полночь.
К утру обычно смотрели иностранное кино. Называлось это чудо домашним кинотеатром. Кассета с фильмом с участием Симоны Синьоре и Ива Монтана — недавний личный подарок звездной пары.
Ближний круг ТНХ просто немыслим без этой талантливой и трогательно беспомощной семьи музыкантов. Но однажды внезапно и непредсказуемо придет та трагическая декабрьская ночь 1982 года. Под утро раздастся телефонный звонок, сдавленный голос Лизы звучит глухо:
— Тихон, Леня… только что звонили… Он где-то на станции… между Москвой и Клином… Инфаркт… Что делать?… кто?… как найти?…
Тихон Николаевич смотрит на меня. Я киваю головой и быстро одеваюсь. Несусь в темноте вдвоем с другом семьи вдоль путей электрички. На замызганной станции темно и пусто. Подслеповатая лампочка без плафона освещает маленькое смятое тело, вытащенное кем-то из вагона на каменную скамейку. Черные брюки расстегнуты, белая рубашка растерзана на груди, уже холодные руки с тонкими нервными пальцами свисают в одну сторону, как-то отдельно от тела. Никто. Труп на ночном полустанке. Ни души вокруг. Застывшее в муке лицо. Бомж? Нищий? Великий музыкант. Под лавкой — черный футляр. Гварнери….

Тихон Хренников, сидят Клара в центре,
слева от нее Лиза Гилельс.
Поразила и другая смерть, случившаяся на моих глазах во время спектакля в Большом театре. Давали балет «Макбет». Его автор, шестидесятилетний красавец, композитор Кирилл Молчанов, отец Володи Молчанова, в будущем обаятельного телеведущего, сидел как обычно в директорской ложе. Высокий, вальяжный, с крупным значительным лицом, похожим на Пастернака, он привлекал внимание. Мы с Наташей сидели в третьем ряду партера и хорошо видели его. Там, за тяжелой бордовой завесой, отделявшей от зрителей ложу, стоящую почти на сцене, в темной ее глубине он вдруг схватится за сердце, сдержит стон, чтобы не испугать танцоров и умрёт. Красивая смерть.
Но все равно смерть. Трагедия. Леди Макбет в тот вечер танцевала его жена, звезда Большого Нина Тимофеева. Ей сказали в антракте. Она охнула, опустилась на стул, отсиделась и пошла танцевать дальше. Спектакль шел, как ни в чем ни бывало. Никто из зрителей в тот вечер так и не узнал, что произошло за кулисами.
Искусство требует жертв. Но не таких, подумалось. Зритель должен знать, какой ценой оплачен сегодня его билет. И этот спектакль остался бы тогда в его памяти на всю жизнь, как прощание с большим художником, как подвиг его жены, на их глазах уже взвалившей на себя крест потери.
Но было еще и что-то страшней смерти. Об этом мне рассказывала с отрешенным лицом властная и величественная Наталья Ильинична Сац. Только она в силу своего могучего темперамента и характера могла позволить себе не забыть. И не промолчать. Еще в 1933 году она заказала студенту Московской Консерватории Тихону Хренникову музыку для спектакля по пьесе «Мик», и с тех пор обожала его. Теперь она ставила в своем Московском государственном детском музыкальном театре его оперу «Мальчик-великан» и часто бывала у нас дома.
Педагог и воспитатель по призванию, она, царственно указав на стул рядом, своим литым голосом сначала расспрашивала о том, кто я и откуда, а потом вдруг стала рассказывать свою страшную историю. Затаив дыхание, я слушал, как трясясь в тюремном вагоне над очком, выронила в него под бежавший поезд свое недоношенное дитя. Как допрашивал ее на Лубянке начальник отдела по работе с интеллигенцией генерал Леонид Райхман. Он сидел за столом, уставленном разными деликатесами и напитками, аппетитно ел украинский борщ. Она, после двух недель на ржавой селедке, почти без воды, стояла перед ним, шатаясь от голода и жажды. Он улыбался…
Ее, прошедшую через этот кошмар и сохранившую достоинство и энергию, буду помнить всегда. Конечно, мы бывали в ее театре, и меня всегда поражал ее мощный уверенный голос, когда она обращалась к детям, выходя на сцену перед спектаклем. Говорила Наталья Ильинична простые, но вечные истины, и зал завороженный не смел ее не слушать. Мне же она советовала не прогибаться, сохранять независимость в любых обстоятельствах и делать дело, которому не стыдно посвятить жизнь.
А с этим Райхманом случилось и мне столкнуться лицом к лицу через несколько лет. Дело было на дне рождения сына соседа по даче, бывшего шофера Сталина. Гость, пожилой, округлый, лысый мужчина произнес тост, обращаясь к компании молодых людей:
— Я пью за вас, за заботливо выращенное партией прекрасное поколение, за ваши успехи на благо нашей великой Родины. Мы много сделали для того, чтобы вы были счастливыми.
— Кто это? — толкнул я Наташу под столом.
— Это Леонид Райхман, потом расскажу, — ответила Наташа.
Но мне не надо было рассказывать. Я уже знал его. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, вскочил и, перебивая лившуюся мягкой струей речь, прокричал:
— Да как вам не стыдно появляться на людях, смотреть нам в глаза? Пить с вами за одним столом — это оскорбление памяти вами замученных! Позор!
Оттолкнув стул, задыхаясь от ужаса, перехватившего горло, я выскочил в соседнюю комнату и захлопнул за собой дверь. Праздничное застолье замерло. За дверью стояла звенящая тишина. Или это звенело в ушах? Приоткрылась дверь, и ко мне подошел он. Присел на кровать, где я лежал, уткнувшись лицом в одеяло, и начал говорить. Тихо, медленно, глухо:
— Молодой человек, вы ничего не знаете про наше время. И хорошо, что не знаете. Но поймите одно: мы были вынуждены, такие были обстоятельства. Шла война, классовая, жестокая война, мы верили в победу. И мы победили, хотя и большой ценой. Вы должны понять и простить нас, мы многим жертвовали во имя будущего. Оно пришло, и вы счастливы уже тем, что живете в другое, невинное время. Простите нас…
Его слова были ужасны, аморальны, бесчеловечны, от них будто било электрическим током. Вынуждены? Большой ценой? Победили? Понять и простить? Ну, уж нет…
Потом он встал и тихо ушел. А я лежал и мучился. Почему, ну почему они все еще среди нас? Простить? Не бывает прощения без осуждения и покаяния!
Наташа ни словом не упрекнула меня в произошедшем. И никогда, ни разу не позволила себе вспоминать о том, как я испортил такой прекрасный вечер. Но я говорил об этом с Борисом Маклярским.
— Боря, неужели его не мучают кошмары?
— Кого, твоего Райхмана? Мальчики кровавые в глазах? Нет, не мучают. Ведь они приняли страну с сохой, а оставили с атомной бомбой. Прогресс! Они даже гордятся.
Борис, сын директора Высших сценарных курсов, успешного сценариста и военного разведчика, автора знаменитого фильма «Подвиг разведчика», довольно циничен, но его черный цинизм разбавлен едкой краской иронии.
— Но он же преступник! Садист и серийный убийца. Даже хуже, потому что нашел себе оправдание.
— А он свое отсидел. Вышел и еще диссертацию защитил. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это? Он от партии-то не отрекся! Ведь ты, поди ж, в той же партии? Или отрекся?
— Боря, это удар ниже пояса.
— Да, ты не участвовал в преступлениях, ты пытаешься изменить ее изнутри, ты не подашь руку таким, как он, не сядешь рядом. Ты порядочный, уже хорошо. Но этого мало. Они раздавят вас при первой возможности.
Борис, давний наташин ухажер, научный сотрудник Института международного рабочего движения, относился ко мне с живым интересом, видимо желая понять, что нашла Наташа в своем избраннике. Мне же, такой обремененный образованностью и жизненным опытом собеседник был просто необходим.
В Сухуми, в композиторском санатории «Лилэ» я познакомился с Микаэлом Таривердиевым. Он гонял за катером на водных лыжах почти как я. Он еще любил показаться. Например, на ходу зажать фал между коленей и поднять руки в стороны. Высокий, как распятый Христос, несся он по волнам. Я на другом фале за ним. А еще мы оба ходили на досках с парусом, wind surfing называлось это удовольствие по-английски.
Наташа наблюдала с берега. Невозможно даже вообразить ее на водных лыжах. И она видела, как я, увертываясь от неизвестно откуда вынырнувшей головы, врезался вытянутыми руками в пирс. Сломал обе кисти на глазах ахнувшего пляжа. Обмякшего, испуганного, Микаэл отвез меня куда-то в горы в местную больничку, там запаковали в гипс обе руки до локтя и обкололи обезболивающими. Боль дикая пришла ночью. Но через пару дней она притупилась, и я снова полез на доску, держа парус гипсовыми обрубками с торчащими из них пальцами. Кости из-за этого подвига срослись криво. В Москве их пришлось ломать и снова месяц ходить в гипсе. Но с Микаэлом мы сошлись, и уже на водохранилище в Химках серфинговали вместе.
У него были огромные лапы. Именно лапы, а не руки. Этими мягкими лапами он накрывал две октавы, и, не глядя, отыскивал ими нужные ему звуки. Так рождалась песня. Я сидел рядом и ел с тарелки мягкий, с хрустящими на зубах семечками, инжир. Он наигрывал, нащупывал то, что должно было стать темой до сих пор любимой народом разных стран мелодии.
Потом мы шли на пляж, брали по доске, поднимали паруса и неслись аж до Сухуми, подрезая друг друга на смене галса. Усталые, падали на горячий песок, и он лежал на спине, длинный, как удав Каа, приподняв вытянутую голову и медленно поворачивал ее, следя за женским миром оливковыми глазами. И женщины, эти бандерлоги нашей тайной, второй жизни полов, шли на этот взгляд, как завороженные. А еще у него был «Мерседес» с глазками, которым он очень гордился…
После премьеры своего знаменитого телефильма, сделавшего его невероятно популярным, он получил эту ехидную международную телеграмму: «Поздравляю успехом моей музыки в вашем фильме». И подпись: Фрэнсис Лей. Он обиделся, как ребенок:
— Сволочь Никита, услышал одну ноту и опозорил на всю страну!
Все знали, что это проделки Никиты Богословского, прославившегося еще с 40-х своими рискованными розыгрышами коллег не меньше, чем своей музыкой.
Микаэл уже работал над другим фильмом, и проникающий в душу лиризм его новых песен, сделает и этот фильм классикой советского кино. Его будут традиционно показывать под Новый год уж какое десятилетие подряд… Однажды его просьбе я писал коротенькое либретто «Девушка и смерть» по мотивам горьковской «Старухи Изергиль». Он сочинил прелестную романтическую музыку, Вера Баккадоро начала ставить балет в Большом. Не успела. Начнется Перестройка, которой Микаэл был рад.
Тогда и проявится его общественный темперамент в роли секретаря и Союза композиторов и Союза кинематографистов одновременно. Хотя ТНХ, как я понимал из оброненных фраз, считал его ребенком в политике, Микаэл благоразумно утверждался в другом. По жизни он был, как в своих песнях — нежным, незлобивым и справедливым. Его Верочка, журналистка и музыковед, мне кажется, хорошо вписалась в его внутренний мир и легко наводила там порядок.
Микаэла начнут терзать болезни. Он много курил но, несмотря на пережитый инфаркт, не бросал:
— Не буду я изменять своим привычкам, — отмахивался он небрежно от тревожащихся за него друзей, — пусть будет, что будет. Подумаешь, жизнь.
Он чувствовал вечность. С очередным приступом самолетом его отправили в Лондон. Там сделали операцию на открытом сердце. Он вернулся, я встретил его на пороге Дома кино. В разрез белой рубашки апаш виднелся багровый шрам.
Не забуду его вечно простуженный, клокочущий голос. Орел, слетевший с кавказских вершин на промозглые московские улицы. Микаэль ушел, а его верная подруга посвятит свою жизнь сохранению памяти о нем и его музыке. Верочка, Микаэль заслужил твою преданность и любовь…
А еще был Азарий Плисецкий, которого когда-то прочили в женихи Наташе. Его к нам привело любопытство взглянуть на наташиного избранника. Так вот он, сочувственно глядя на мои единственные пластмассовые штиблеты, снисходя, даст совет:
— Знаешь, что надо, чтобы туфли были всегда, как новые?
— Ходить босиком? — отыграл я на всякий случай.
— Надо иметь несколько пар: для города, для дачи, для работы, для выхода, для лета, для осени, для зимы. И носить соответственно.
Важный совет, спасибо. Царапины на самолюбии заживают долго.

Кто еще сиживал за Большим Столом? Ну, конечно, старшая сестра Клары, актриса немого кино тетя Маня, практически жившая в доме. Высокий, худой и слегка надменный брат ее, дядя Миша — красный партизан из конницы Буденного. Теперь он известный в Москве коллекционер почтовых марок. Обычно скромно молчащий личный шофер первого секретаря СК композиторов и депутата Верховного совета Петр Тимофеевич.
Рассказывает театральные новости и подыскивает по ходу разговора рифмы давний друг семьи, не имеющий возраста поэт и актер театра Советской армии, автор текстов к опереттам ТНХ Яков Халецкий. Он влюблен всю жизнь в Клару. По праздникам приходят важный, тщательно причесанный композитор Серафим Туликов с супругой. Похоже на официальный визит. Но мы с Наташей дружим с их дочерью Алисой и ее мужем Борей.

По-товарищески захаживает ироничный, мягкий в общении композитор Оскар Фельцман. Он одессит, и это нас сближало. С его сыном Володей, уже тогда известным пианистом, по весне летаем вместе в Сочи. Он сбегал туда от весенней аллергии, а я — в сочинский «Спутник» с лекциями. Запомнится Володина сентенция по поводу превратностей судьбы. Когда мы с ним оказались в компании двух актрис, одна из которых снималась с Наташей в «Руслане и Людмиле» в роли Людмилы, он сказал, обнимая эту Людмилу:
— Чего ты смущаешься? Это жизнь, она состоит из света и тени. Свет и тень. Запомни.
Я запомнил. Володя, несмотря на протесты отца, твердо решит уехать из страны по еврейской визе. Со мной он такими мыслями не делился. Как и все, попадет в отказники, замкнется, и просидит почти 10 лет без концертов, разучивая дома репертуар мировой классики.
Его примет в Белом Доме президент США, и пианист Владимир Фельцман сделает успешную исполнительскую карьеру. Рафинированный, изысканный и недоступный, он уединится под Нью-Йорком в доме в лесу, где бродят олени.
Через сорок лет мы встретимся с ним на его гастролях в Лос-Анджелесе, и он меня сначала не узнает.
— Свет и тень, Володя. Свет и тень.
И он рассмеется. Потом пришлет коллекцию своих записей с теплой надписью…
Часто бывал за Большим Столом и трогательно непрактичный Миша Хомицер. Известный уже виолончелист, он выглядел как избалованный еврейский ребенок, который привычно жаловался на жизнь, неряшливо ел и небрежно одевался. С ТНХ они удалялись в кабинет, где обсуждали нюансы разучиваемого Мишей виолончельного концерта. Однажды Миша вернется из Одессы с гастролей с сочной телкой, которая тут же станет его женой. Надо было видеть, как он был горд своим приобретением. Пока одесситка не наставила ему рога и не свалила с мужиком помоложе, прихватив часть имущества. Миша затосковал и с тоски уехал преподавать в Финляндию, потом, говорили, в Израиль. Мне казалось, он ничего не понимал в жизни кроме музыки.
Клара любила юного Володю Спивакова, поддерживала отношения с его родителями. Его нельзя было не любить, брызжущего энергией, обаятельного, спортивного, способного очаровать любого собеседника своей образованностью и бархатным, обволакивающим собеседника басом. Он показывал мне свои мускулы бывшего боксера. Талантливый скрипач, он уже создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», пробуя себя в качестве дирижера.
После ужина в большой квартире он оказывался у нас напротив и, сидя на кухне, любил поговорить. Ему не надо было подсказывать темы. Кажется, ему нравилась Наташа. Мы часами беседовали втроем. Она охотно принимала его ухаживания, а я после полуночи их покидал, потому что не умел остановить бесконечную беседу двух интеллигентных людей. Уходя спать, я тем самым чтил нашу флотскую мудрость: «жена моего друга — не женщина». Знал ли Володя ее вторую половину: «…но если она красивая женщина — он мне не друг», я так никогда и не узнаю. Но когда он возвращался с гастролей, он привозил подарки обоим.
Что все больше удивляло меня в среде этих замечательных людей, так это их политическая глухота. Или немота? Никогда и нигде, по крайней мере, при мне за тридцать лет не было даже намека на какой-то разговор о жизни страны, не говоря уже про критику советской действительности. Не думаю, что это страх проговориться. Скорее, твердая внутренняя установка: об этом не думать. За большим столом гости отдыхали. А когда все расходились, после полуночи ТНХ шел в свой кабинет и звонил композитору Мише Мееровичу, который делился с ним сплетнями, или Леве Гинзбургу, музыковеду. О чем они говорили ночными часами, я не знал…

Вот юный Градский — совсем другое дело. Двадцатитрехлетнего Александра Градского привел к ТНХ всюду вхожий Андрон Кончаловский. Он тогда снимал «Романс о влюбленных», был буквально влюблен в ошеломительный дар юного Градского, покрывшего всю остальную музыку в его новаторском фильме, как бык овцу. Андрон горел желанием поделиться своим открытием с главным человеком в советской музыке. Речь шла о композиторском факультете консерватории.
Андрон нахваливал Сашу, которого считал своим открытием, Саша держался напористо и независимо. Он уже вырос из своих ВИА, быстро перерос «Скоморохов», учился вокалу в Институте Гнесина и теперь ему хотелось еще и в класс композиции. Тихону Градский понравился несмотря на его диссидентские наклонности, и Саша скоро оказался у него в классе. Градский, уже признанный композитор и певец с уникальными вокальными данными, будет вспоминать это время с благодарностью. Однако его неуемная энергия и жажда свободы оказались несовместимыми с академизмом консерватории, где надо было все же иногда сдавать экзамены и по общественным наукам. Этого Саша не желал и вылетел оттуда так же стремительно, как и влетел.
С Сашей мы быстро перешли на «ты» и не раз потом пересекались по жизни. Попасть на его концерты было уже не просто, но достаточно было звонка… Позже, уже в перестроечные годы, совершенно неожиданно столкнутся наши интересы на одном и том же объекте — кинотеатре «Буревестник». Градский будет тогда в зените славы, и всемогущий Лужков, не глядя, подмахнет ему бумагу, которой «Буревестник» передавался ему под музыкальный центр, забыв или не заметив, что уже больше года в старом кинотеатре строился Международный киноцентр силами АСКа — общественной организацией «Американо-Советская Киноинициатива», где выпадет мне быть вице-президентом.
— Чего же ты не позвонил мне сразу, чудак? Я же не знал, что это твой проект!
Ссориться из-за зала мы не стали…
Когда за столом оказывался Ростропович, все оживлялись. Слава был, что называется, записной хохмач, ирония гуляла в его глазах как легкий сквознячок, когда так или иначе затрагивались не музыкальные темы. Он прикрывался ею, как щитом.
О нем ходили легенды, например, о том, как приятель-гинеколог приглашал его посмотреть на хорошеньких пациенток. Он входил в кабинет в белом халате, рассматривал обнаженку, важно кивал головой.
— Взгляните, коллега. Вам не кажется, что это сложный случай?
Правда это или нет, неважно, но гомерический хохот того стоил. То, что Мстислав, еще одно исключение из правил молчаливого согласия с режимом, годами укрывал на своей даче Солженицына, подписывал разные письма, ТНХ никогда не комментировал.
Миша Хомицер, не желавший ничего знать кроме музыки и женщин, ревниво брюзжал о Растроповиче:
— Это же не музыкальный талант! Это артист, увлекающий публику жестами, голосом, всем, чем угодно. Ну, и виолончелью, конечно…
То же, кстати, можно было сказать и о Спивакове, умело режиссировавшим свои концерты. «Виртуозов Москвы», кстати, он действительно представлял сам, не стесняясь говорить с залом своим бархатным басом. То, что не нравилось Мише, как раз очень нравилось мне. Но это, конечно, дело вкуса.
Консерваторская молодежь часто бывала в доме у своего педагога. Сашу Чайковского просто обожал еще маленький Андрюша, которого сызмальства Саша задаривал моделями машинок. Саша вообще не выглядел Чайковским в нашем доме, где он был просто умным и приятным собеседником. Кто бы мог тогда подумать, что мой внук Тихон Хренников младший, будет учиться в консерватории, где завкафедрой композиции станет этот дурачившийся с его отцом Александр Чайковский?
Вот кто и был и выглядел композитором, так это Таня Чудова, которую было просто невозможно представить вне музыки. Серьезная, всегда воодушевленная своим творчеством, с ней, казалось, ни о чем кроме музыки и не поговоришь. Именно Тане передаст ТНХ своего правнука, когда у того проснется интерес к музыке.
Зато с Ираклием Габичвадзе, сыном известного грузинского композитора, который дружил с Хренниковыми семьями, все было иначе. Он тоже писал музыку и учился в консерватории, но если он и говорил о чем-то с глубоким знанием дела, так это о женщинах.
— Мне сказали, что зять маэстро Хренникова моряк. Так ты бывал в Греции? — спрашивает меня демонической красоты темноволосая смуглая женщина, сидя рядом в первом ряду Большого зала консерватории. Это Мария Каллас. Я никого не вижу и не слышу вокруг кроме нее. Великая певица и подруга миллиардера Онассиса. У нее получалось естественно не млеть от восхищенных взглядов. Просто отвечать каждому, кто сумел дотянуться.
Но вот звучит музыка, и все меняется. Большие темные очки скрыли ее глаза, она ушла в себя и стала статуей, похожей на Нефертити. Теперь понятно, почему со слезами обожания говорил мне о ней мой друг и будущий редактор моей запрещенной книги Влад Костин. Он будет читать мне знаменитые к тому времени строки из ее писем Онасису:
«Ты не верил, что я могу умереть от любви. Знай же: я умерла. Мир оглох. Я больше не могу петь. Нет, ты будешь это читать. Я тебя заставлю. Ты повсюду будешь слышать мой пропавший голос — он будет преследовать тебя даже во сне, он окружит тебя, лишит рассудка, и ты сдашься, потому что он умеет брать любые крепости. Он достанет тебя из розовых объятий куклы Жаклин. Он за меня отомстит…»
Я не знал и даже не догадывался тогда, какой силой может обладать слово догоняющей любви…
А Нино Рота, знаменитый кинокомпозитор? Этот миниатюрный, шумный и непосредственный итальянец восторженно слушал, как ТНХ играл ему свои песни, ахал, охал и, наконец, обняв его, чуть не расплакался.
— Ты мне, как брат! Понимаешь? Ты так же чувствуешь музыку, как я сам, черт бы меня побрал!
Они пели, наигрывая по очереди свои мелодии, о чем-то говорили, перебивая друг друга и прекрасно понимая незнакомые слова, и не хотели расставаться. Уже перед рассветом решили, что Нино останется ночевать. Он никак не мог успокоиться:
— Ты знаешь, — говорил он мне, — твой тесть в Голливуде был бы уже десять раз миллионером!
И всерьез уговаривал Секретаря Союза Композиторов СССР, лауреата многих государственных премий и кавалера Ордена Ленина и Золотой Звезды уехать в Америку. Тихон Николаевич только посмеивался.
Не скажу, что я привел в дом Хренниковых всю Одессу, но побывали в нем многие одесситы. Кто-то хотел убедиться, что слухи верны, кто-то проверить, не предал ли старых друзей, кто-то чтобы увидеть «самого Хренникова». ТНХ всех приглашал к столу. Его, казалось, забавляло это разноголосое нашествие южного народа, быстро осваивающегося в непривычной среде после рюмки-другой.
А у меня щемило сердце от рассказов о своих товарищах, которых унесло море. Щемило чувство вины за свою беспечную столичную жизнь. А каково было узнать, как погиб наш Рыжий — вахтенный механик Мухин, ночью дежуривший на новом, плохо отлаженном судне, где от чего-то рванет паровой котел на стоянке в Риге? Прости меня, старый товарищ.
Еще одна жертва моря вернется домой после восьмимесячного отсутствия, узнает от добрых людей про измену любимой жены и повесится в ванной на ремне от брюк. Вот она, цена долгих разлук…
А тихий, какой-то нескладный в моей памяти Попелюх, потеряв аппетит и сон от тоски в многомесячных переходах в океане, сиганет душной тропической ночью с борта на корм акулам. Команда хватится его только утром. Да где искать в бесконечных просторах?
Слушал и другие почти эпические истории про то, как Петр Иванкин, два метра ростом и центнер веса, добродушный Петя, об которого, споткнувшись, перевернулся однажды «Запорожец» на глазах у всей роты, станет у себя на Дону народным лекарем. Будет лечить детишек от заикания своим долгим и добрым взглядом, и слава о его лечебном гипнозе соберет к нему толпы страждущих, как к костоправу Касьяну под Полтавой…
Мне было неловко перед ними опять, как и тогда, когда улетал в казахские степи, покидая навсегда дрожащую под ногами, ускользающую при штормах палубу. Непонятная им аспирантура ВГИКа, номенклатурные привилегии кремлевской поликлиники, спецпайки, санатории, специальная книжная экспедиция со всеми новинками, служебная машина тестя с шофером, дача на Рублевке, жизнь в семье знаменитого композитора в центре Москвы — как это все объяснить моим товарищам, если я и сам не очень понимал, как я здесь очутился?
В кремлевской столовой, куда мы регулярно ездили с шофером Петром Тимофеевичем за обедами, было всё. Размещалась столовая в известном Доме на набережной, спрятанная в глубине двора. Дом этот, выстроенный в тридцатых для партийной элиты, выглядел крепостью. За ее стеной избранным выдавали заказы по книжечке с отрывными талонами. Полагалась книжечка членам ЦК и депутатам Верховного Совета. За нее ТНХ платил какую-то смешную сумму.
На полках — красная и черная икра, балык, ветчина, карбонат, чайная колбаса с чесноком, угорь, кондитерские изделия и горячие обеды на все вкусы. Я ловил себя на мысли, что смотрю на все это изобилие и на всех, стоящих в небольшой очереди, с классовой ненавистью. Но подходила моя очередь, и я тоже брал… Ну, как не брать? Во-первых, дают же не мне. Хотя и мне перепадало. Во-вторых, мы берём самое простое: сосиски из микояновского мясокомбината, яйцо всмятку, чай с лимоном. В алюминиевые трехэтажные судки обычный набор — суп протертый, котлеты, тефтели с гречкой, компот. Ну, еще эти сочные, вкусные сосиски и чайную колбасу с чесноком. Этого, и правда, не найти в магазинах… Остальное докупали в Елисеевском на улице Горького. Семья большая, плюс гости.
Звонил старый товарищ по Высшей мореходке с красивой украинской фамилией Кочерга. Когда я еще болтался мотористом на танкере «Луганск», Валерий был уже начальником отдела кадров Новороссийского пароходства и посмеивался над моими «успехами» в профессии. Теперь тем же басом, каким читал на училищных смотрах самодеятельности «Стихи о советском паспорте», он рокотал из своего кабинета в Новороссийске:
— У нас хорошая погода, старик! Море зовет! Бросай все и вали сюда!
И я бросал. И валил. На озере в Сухой Щели под Новороссийском трое здоровых мужиков гоняли, как дети, на лыжах до полного изнеможения, радуясь быстроходному катеру со сверхмощным мотором, который передал яхтклубу новороссийской мореходки наш третий — великолепный Вадим Никитин, однокурсник Валерия, капитан знаменитого пассажирского лайнера «Одесса».
В годы Перестройки Валерий перейдет на профсоюзную работу в Москву. Среди прочих дел в Профсоюзе моряков он будет организовывать круизы по знаковым мировым маршрутам.
— Давай, профессор, пошли сходим в Италию в круиз со спортсменами, чемпионами мира. Там и твоя знакомая Лариса Латынина будет. Официально будешь у нас кинорежиссером, членом команды.
Сходим в Италию, где у бедной Латыниной прямо в центре Милана жулики, проносясь мимо на трескучем мотоцикле, вырвали сумочку с пятью тысячами долларов. Потом будет круиз в Японию, туда туристы ходили за подержанными Тойотами. С Юрой Синкевичем, ведущим популярного «Клуба кинопутешественников», мы весь рейс весело кутили и в порту пропустили дилеров, приезжавших за желающими. Так что вместо Тойоты успели купить только по мультисистемному кассетному магнитофону.
Наконец, Кочерга окажется с семьей на Мальте, где создаст свою компанию морских перевозок, будет опять ходить на водных лыжах и заниматься чем-то еще, о чем, посмеиваясь, умолчит.
В Москве у него оставалась квартира на набережной Максима Горького. Иногда в телефонной трубке раздавался его сочный бас:
— Я в Москве, бери жену и давай ко мне. Как всегда вас ждет крабовый салат с водорослями и моё новое видео.
А про Вадима Никитина много лет спустя будут написаны книги, он станет легендой Одессы, как мастер своего дела и любимец команды. Он сделает свой лайнер лучшим на американских линиях, работая по высшим международным стандартам и пренебрегая мелочным предписаниям из пароходства. За это его и сожрёт партийно-кагэбешное начальство. Среди прочих обвинений в нарушении дисциплины его подведут под суд за этот проклятый катер, которые он якобы незаконно списал и сбыл неизвестно куда.
Осудить Никитина не удастся, но исключить из партии и уволить из Черноморского пароходства они смогут. Он будет капитаниить на небольшом старом лесовозе на Севере, в бухте Тикси, пока четыре года спустя транспортная прокуратура Одессы не пришлет ему письмо с извинениями за причиненный ему «моральный ущерб».
Краса и гордость черноморского флота, он умрет от разрыва сердца там, на Севере, на капитанском мостике «Марии Ермоловой» в возрасте 54 лет…
Уже в независимой Украине, когда советская, не люстрированная номенклатура будет безнаказанно разворовывать пароходство, его «Одессу» сначала арестуют в Неаполе за фуфловые долги пароходства, и простоит она там целых семь лет, охраняемая верной командой, пока ее не выкупит сердобольный владелец частной одесской компании. Выкупить-то он выкупит, а вот завершить ее ремонт не сможет, так как будет убит выстрелом в затылок. Как и Деревянко, редактор одесской газеты, годами защищавший капитана своими статьями. Такие были времена и в Украине…
А ржавеющую «Одессу» в 2006 году за бесценок тихо отправят на металлолом в Индию…
Рожала Наташа на даче на Николиной горе. Старый дом, накренившись, стоял в окружении дач Михалковых, дирижера Рождественского, шахматиста Ботвинника, Секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова, композиторов Туликова, Молчанова, Пахмутовой. Деревянный дом, купленный ТНХ у бывшего министра высшего образования СССР Каюрова, не торопясь, чинил Полин брат, алкаш с золотыми руками. «Крючок» звали его заглаза, таким он был весь скрюченным и невзрачным.
Клара свозила на дачу в сторожку тюками, коробками, ящиками старые журналы и газеты. В сыром темном подвале, куда можно было попасть, подняв половицы, виднелись забытые прошлыми хозяевами банки с разными солениями и вареньем. Сад, в котором когда-то были высажены редкие породы цветов, кустарников и плодовых деревьев, давно одичал, зарастая бузиной и вызывая литературные ассоциации с вишневым садом Чехова.
Середина лета 1966 года. Округлившаяся Наташа пишет с балкона пейзажи вплотную подступающих к даче теплых, рыжих в лучах солнца, высоченных сосен. Ходим на Москва реку, песчаный пятачок у подножья Николиной горы, там роятся иностранцы из разных посольств, им больше никуда не разрешают.
К Михалковым иногда наезжает Слава Овчинников. Автор музыки к фильму Бондарчука «Война и мир» — талант и разгильдяй в одном флаконе — Слава любил бродить ночами вокруг дома и пугать беременную Наташу страшными завываниями в лесной тьме:
— Ната-а-а-ша-а-а! А-у-у-у!..
Говорят, он вот так, шутя и играя, охмурил юную японскую скрипачку — вундеркинда Йоко Сато, учившуюся в Московской консерватории. ТНХ привез её из Японии как редкую птицу. Она и была такой, всегда готовой взлететь и исчезнуть.
А Слава… Что с него взять? Шалопай. Я же ощущал за его вечной бравадой желанную свободу от всяческих шор, включая, я думаю, и от идеологических и от нравственных. Хорошо, что он реализовался в музыке, а не в политике…
Сам ТНХ бывал здесь редко, в основном на заседаниях Правления дачного кооператива РАНИС (работников науки и искусств), подаренного, сказывали, Сталиным воспевающим его художникам. Хренникова сразу избрали председателем Правления. Недаром Овчинников говорил, подняв многозначительно палец кверху:
— Мой шеф — гениальный дипломат.
…Наташа на корточках обновляла клумбу перед крыльцом, когда начали отходить воды. До Кунцевской больницы ее со мной довез Петр Тимофеевич. И через несколько часов появится на свет малыш, названный Андреем после острой схватки с тещей, предлагавшей назвать его Тихоном. Может быть поэтому он и не стал композитором? Зато уже его сына назовем Тихоном. И он-таки станет композитором. Тихоном Хренниковым мл.
Мы тогда здорово выпили с тестем, сидя на кухне и наливая из шестилитровой бутыли, стоявшей под кухонным столом. В бутыле был первач, грузинский самогон, пахнущий виноградом, подаренный ТНХ грузинскими композиторами. Потом с Наташей мы потихоньку допивали его в отсутствие родителей…
Новорожденный сразу оказался в наташиной комнате, где уже все было приготовлению к его появлению. Мы с Наташей уже жили тогда на той же лестничной клетке напротив, в двухкомнатной. Но дитё по настоянию бабушки Клары оставалось на той большой половине. Я безуспешно перетаскивал коляску с ребенком к себе. Но вечером, когда я возвращался из ВГИКа, малыш снова оказывался у бабушки.
— Куда? Зачем? У вас же даже нет места для детской! И вас вечно нет дома!
И то правда. Я во ВГИКе, Наташа покормит дитя грудью и в театр на репетиции. А потом и вовсе уедет в Болгарию оформлять отцовскую оперу в софийском театре.

Не думал я тогда, что практически отдав сына на воспитание дедушки и бабушки, какими бы прекрасными они не были, мы упустили шанс создать свою семью — как гнездо, из которого должен был вылететь наш птенец. Проведя детство до 14 лет в квартире рядом, сын мой будет воспитан не так, как его воспитал бы я. Он не поймет уже одесского юмора, не узнает море, как знал его я, спорт не станет частью его жизни, как он стал частью моей. Он не разделит моих убеждений, моей вовлеченности в перестройку. Однажды, уже взрослым и успешным, он мне бросит снисходительно:
— Если ты такой умный, то почему такой бедный?
Наконец, что в конце концов нас разведет уже навсегда его Z-патриотизм. Только однажды, когда он еще учился в десятом классе, случится нечто экстраординарное. И это отдельная, почти детективная история, связанная с творчеством Владимира Высоцкого, лишь на короткий миг сблизит нас.
В 1980 году Московское правительство выделило Хренникову и его дочери две квартиры в отремонтированном доме на Арбате вместо тех двух, на Миусах, где мы прожили с Наташей первые наши пятнадцать лет. Большую квартиру тестя на четвертом этаже под нашей, трехкомнатной, планировал мой старый товарищ с комсомольской молодости архитектор первой московской мастерской Андрей Боков. Там были и раздвижные двери, превращавшие кабинет с роялем в небольщой зал для концертов, и большая гостиная с тем же старым обеденным столом, и холл для гостей с диванами, и шкафы с книгами, фотографиями за стеклом и сувенирами в широком и светлом коридоре.
Ордена и медали ТНХ никогда не носил. Они пылились у него вперемежку с письмами и старыми счетами в ящиках стола. О столе надо сказать отдельно. Это был личный стол Соломона Михоэлса. Его откопал Миша Левитин в подвале театра на Малой Бронной, где он ставил какой-то спектакль. Старинный, резной, в бронзе, в стиле ампир, забытый всеми, он тускнел под слоем пыли. Увидел его мой друг среди реквизита и ахнул. Пропадает же такое сокровище! К себе он взять его не мог, слишком велик. А мне он сказал:
— Такой стол должен быть у Тихона. Пусть Наташа его отреставрирует и подарит отцу. Я очень этого хочу! Иначе он вообще сгниет, развалится и пропадет.
Так и сделали. ТНХ как будто и не заметил перемены, когда обшарпанный, пыльный мостодонт из кабинета на Готвальда, куда-то исчез. Сверкающий накладной бронзой и вензелями антиквариат был тут же завален горой бумаг, нот, писем и газет.
Нашими соседями в этом, почему-то называемом булгаковским доме, окажутся и храбрый поручик Ржевский из «Гусарской баллады» Юрий Яковлев, и философ Валентин Толстых из родной Одессы, и мать чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, навещавшего ее регулярно с сумками продуктов.
Хочется оглянуться и увидеть их всех, кто бывал у нас в этом доме — и элегантный Веня Смехов из когорты звезд Таганки, и ленинградец Дима Брянцев, скорее похожий на футболиста, чем на главного балетмейстера театра Станиславского и Немировича-Данченко, и добродушный, большой Валентин Гафт, который, оказывается, даже читал мою скандальную «На экране Америка», вышедшую в 1978 году. У нас он и прочитал свою знаменитую пророческую эпиграмму:
Земля, ты слышишь этот зуд?
Три Михалковых по тебе ползут!
Бывал у нас и Слава Спесивцев, бывший актер Таганки, создавший знаменитую детскую театральную студию в Текстильщиках. На его репетициях царила такая жесткая диктатура, он так третировал влюбленных в театр девчонок и мальчишек, что я как-то попробовал его остудить. Он тут же парировал:
— А иначе у них любовь к театру не воспитаешь! — и выбил ударом ноги дверь из репетиционного зала, где только что кончилась резкая разборка репетиции его знаменитой «Ромео и Джульетты»…
Я очень ценил близкие, теплые отношения с Мишей Левитиным. Любил сохранившиеся в его голосе одесские интонации и какое-то мальчишеское отношение к жизни. Он был диктатором в своем театре, но добрым диктатором, если такое бывает. Для меня непостижимым, но очень органичным, не вызывающим сомнений способом в нем сочетались целомудрие творческого начала и здоровая мужская похоть. Как в том анекдоте: если женщин любит наш брат, он развратник, если же он член Политбюро, значит, это жизнелюб. Так вот Миша был жизнелюбом.
Но вопросы возникали периодически у его жены, непревзойденной Ольги Остроумовой, которая родила ему дочь и сына, но однажды встала на подоконник шестого этажа и сказала:
— Хватит. Или ты уйдешь к своим бабам сейчас же или я выпрыгну из окна.
И он ушел.
Ольгу очень ценила разборчивая в друзьях Наташа и, кажется, из-за нее терпела Мишу, в котором безошибочно угадала бабника…
Смешная история приключилась однажды, опять-таки связанная с Левитиным. Это он попросил меня поехать успокоить плачущую Ленку. Юная звездочка, природно талантливая актриса Лена Майорова, рыдала ему в телефон как раз тогда, да мы в жарком споре о великом русском народе приканчивали большую бутылку рома.
Ее я впервые увидел в Табакерке в роли Багиры и сразу будто что-то ёкнуло: эту ждет трагедия. Воспитанница Олега Табакова, невероятно чувствительная и ранимая, она уже страдала депрессией от какой-то печали, недовысказанности. Друзья вытаскивали ее из внезапных приступов, как могли. Но через несколько лет, уже принятая во МХАТ, она засунет голову в духовку, откроет газ и чиркнет зажигалкой…
В общем, приехал я к ней слегка нетрезвый. Мы с ней еще добавили. Ну, чтобы успокоить. И, находясь в состоянии уже уверенного опьянения, выполнив свою миссию, я сел за руль. Чрезмерно осторожно остановился на красный свет светофора около Высотки на Котельнической набережной. Гаишник заинтересовался и подошел к машине. Достаточно было одного взгляда, чтобы немедленно вытащить меня из машины… Очнулся я только утром дома и без машины.
Что случилось, вспоминалось туго. Пришла спасительная мысль обратиться к Игорю Громыко, которого охраняла Девятка. Мы с ним встречались в одной теплой номенклатурной молодежной компании.
— Почему сразу не позвонил? Протокол бы выбросили и все дела.
— Не мог, старик. Физически не мог. Ничего не помню.
— Ладно. Жди. Тебя вызовут.
Через час кто-то пригнал машину, а утром был звонок:
— Вам надлежит прибыть в управление ГАИ города Москвы.
Ну, я, конечно, прибыл, не ожидая ничего хорошего. Надо же было так напиться.
Разговор в кабинете начальника ГАИ оказался неожиданным:
— Садитесь. Ну, и удивили вы тут нас всех.
— Простите, так получилось. Коллеге было плохо, надо было, так сказать, профилактически…
— Я понимаю. Бывает. Хорошо, что без ЧП. А вы помните свое письменное объяснение? Что вы там написали?
— Честно говоря, не очень.
— Хотите почитаю? Вы давно стихи пишете?
И он, улыбнувшись, прочитал довольно сбивчивое, длинное стихотворное признание в любви «моей милиции родной, что ходит няней за тобой…»
— Мы его поместили в нашу стенгазету.
Возвращая права, он пошутил:
— Пишите нам. В стенгазету.
Я понял, как, однако, хорошо дружить с внуком министра иностранных дел…
Весь этот пестрый хоровод крутился, как планеты вокруг солнца, вокруг доброжелательного, негромкого спокойного, как озерная гладь, Тихона Николаевича. Наши две квартиры были как сообщающиеся сосуды, и наш «филиал» он нередко навещал, когда собиралась компания. Теперь с переездом мы получили и нашего сына, здорового красивого четырнадцатилетнего подростка. Сюда же, уже в десятом классе, он приведет и свою жену, одноклассницу Аню. Здесь же и появятся первые внуки Виктория и Тихон, будущий композитор Тихон Хренников мл.
С кем композитор работает, с тем и дружит. Часто работа заканчивается, а дружба остается. Так получилось и с Верой Боккадоро, к которой уже мы с Наташей частенько ходили в гости в уютную квартиру около старого Дома кино. Там на столе всегда стояли какие-то вкусности из Парижа. Французская балерина, она еще девчонкой приехала на стажировку в Большой и осталась в Москве. Поговаривали, не в последнюю очередь из-за красавца Мариса Лиепы. Во всяком случае у дочери ее некоторые видят его черты.
Вера уже не танцует, она балетмейстер и сейчас ставит на сцене Большого «Много шума из ничего». Спектакль этот останется в репертуаре надолго, будет идти больше сотни раз, и ТНХ не пропустит ни один. И я сижу в директорской ложе (она вдвинута справа в край сцены) рядом с ним, киваю музыкантам в оркестровой яме, перемигиваюсь с танцорами. Каждый спектакль — живой организм, зависит от настроения артистов, и мне нравится это чувствовать, ведь я в трех шагах от них. А знакомы мы потому что в университете марксизма-ленинизма при Большом я уже несколько лет веду свой семинар по американской культуре и слегка влюблен в Людмилу Семеняку.
Вера познакомит ТНХ с французским классиком композитором Андре Жоливе. Он полюбит посидеть в кругу друзей у ТНХ за большим столом в новой просторной гостинной. ТНХ из иностранных языков помнил только осколки немецкого, и было смешно, когда он поддакивал французу:
— Яволь, зер гутт!
Однажды Жоливе приедет в Москву с дочерью, попавшей вместе со своим женихом в автокатастрофу. У нее сложный перелом обеих ног, в нескольких местах кости просто вышли наружу. Это была идея ТНХ устроить ее к знаменитому хирургу Гавриле Елизарову. Кристину приняли, конечно, как родную, и кости срослись, как надо. Девушка вернулась через полгода домой счастливая.
В Кургане же мы, кстати, побывали вместе с ТНХ чуть позже. Надо было перевезти прах его матери с местного кладбища (умершей там в эвакуации во время войны) в Москву. И тогда нас пригласили в клинику Елизарова. Мэтр показал нам девушку. Стройное, милое существо притопало к нам на своих двоих, улыбаясь. И тогда Елизаров включил экран. Это был фильм о ней. Ее привезли с отрезанными трамваем двумя ногами.
Гениальный хирург поставил ей какой-то аппарат, за полгода нарастил недостающую длину, а потом сделал и сустав. Для чего две части его аппарата непрерывно в течение многих месяцев двигались относительно друг друга. На месте движения и возник сустав новой ступни. На ней не хватало только пальцев.
— А зачем? — спросил гениальный хирург. — На ноге они типичный атавизм. Она же ногами ложку держать не собирается.
Елизаров собрал по частям и разбившегося на мотоцикле чемпиона мира по прыжкам в высоту Валерия Брумеля. Чемпион бывал после этого у нас и даже пытался ухаживать за Наташей, что ее смешило. У Елизарова лежал и мой друг одессит Саша Лапшин. Уже известный сценарист остался жив после автокатастрофы только потому что старый гимнаст при лобовом ударе успел упереться ногами в торпедо. Машина сплющилась, ноги напряглись и сломались, но он остался жив.
Более того, еще одну историю рассказывали люди. Что побывал здесь и будущий наш король попсы Филипп Киркоров. И стал значительно выше ростом, что так важно для эстрады.
Но тогда еще это было время восхождения другой звезды. Алла бывала в доме, она что-то репетировали с ТНХ. А на кухне мы как-то слегка выпивали и говорили о ее песнях, стремительно набиравших популярность. После оглушительного её успеха в Болгарии на фестивале «Золотой Орфей» c песней «Арлекино» в 1975 году Пугачева обретет ту уверенность в себе, которая чувствовал каждый, кто когда-либо разговаривал с ней. Когда же она выходила на сцену, это была уже «черная дыра» Космоса, которая втягивает в себя все, что движется и не движется.
Она терпела мои самоуверенные суждения о каких-то новых ее песнях. Не соглашалась, смеялась своим хрипловатым горловым голосом:
— Да, наверное, так. Но людям-то нравится? Как тут быть?
Она уже познала и обожала свою таинственную власть над многотысячной толпой. Это сверхчеловеческое свойство будет вести и направлять ее долго, очень долго. Меня же привлекала эта возбудительная, безумная сила музыки и голоса, поражала способность музыки вызывать мощные душевные порывы, эмоции, похожие на взрывы.
Звала на свои концерты в Лужниках. Я приходил, стоял за кулисами, видел, как она собиралась перед выходом, раздраженная, злая на кого-то из свиты. Но вот, резко отметая полы цветного плаща, она выходит под прожектора, уже сияя, как звезда.
Победительница, фея всех золушек на свете. Она играла, пела, крутила и вертела переполненным стадионом, как ей хотелось, наслаждалась сама собой и произведенным эффектом. Вот она сходит со сцены под гром оваций, заходит за кулисы, уже расслабляясь и выходя из образа. И подмигивает мне…
Светская жизнь композитора — его премьеры и концерты. На них — вся семья и многочисленные друзья, знакомые, какие-то гости. Списки для бесплатных пропусков в руках Клары. Однажды в Большом театре перед началом спектакля толклись гости в тесной раздевалке под лестницей служебного подъезда, ведущего в директорскую ложу. Вдруг сверху полилась густая патока липких слов:
— Кого я вижу!? Самого патриарха советской музыки! Великого и гениальнейшего из всех живущих композиторов — самого Тихона Николаевича!
По лестнице спускался с распростертыми объятиями сам сладчайший, насквозь фальшивый Илья Глазунов. ТНХ было попятился, но его уже захватили мастеровые руки народного художника и мяли, мяли.
— Дорогой мой, любимый, великий человек и композитор, мой кумир, я этого не переживу! Как я счастлив вас видеть, моя жизнь озарена этой встречей! Кого мне благодарить за это счастье?
Кажется, всем окружающим было неловко от такой беспардонной лести. Всего несколько секунд, а праздник испорчен. Избавившись с помощью выдвинувшейся из-за вешалки решительной Клары от сияющего фальшивым счастьем Глазунова, ТНХ спешит за кулисы поздороваться с танцорами…
Дома до такой пошлости не доходило. Ни чрезмерных комплиментов, ни лести глаза в глаза. За кулисами после концерта — это да, там другое дело. Так положено, всем несут цветы и слова благодарности.
Зато в доме держали тетрадь. Лежала она у телефона на кухне. В нее записывались все звонки — кто звонил, зачем и номер телефона. Клара неукоснительно требовала фиксировать каждый звонок.
Я сначала дивился, зачем? Но тоже записывал. И поздравления после премьер, и благодарность за то, что чья-то племянница поступила в институт, и за квартиру, наконец выделенную кому-то Моссоветом. А вот тревожное сообщение о том, что чей-то сын взят в армию со второго курса консерватории, кого-то Минкульт не пускает с концертами за границу, кому-то надо достать лекарства, которые есть только в Кремлевке. Кто-то незнакомый: срочно нужна операция, нельзя ли попасть к Коновалову в нейрохирургию? Еще запись: Тихон Николаевич, послушайте талантливого мальчика, это просто гений, вундеркинд. И еще: скандал в дачном кооперативе на Николиной, приезжайте завтра к пяти на заседание Правления…
Как-то в удобный момент я спросил: где предел? Ответ запомнил на всю жизнь:
— Никогда не отказывай, когда к тебе обращается за помощью. Потому что придет время, когда ты уже никому будешь не нужен. И это страшнее всего.
Великие слова, в них смысл его жизни. Так хотелось бы, чтобы и моей. Ужас в том, что такое время он как будто предвидел. Для него оно наступит в эпоху, когда зашатаются партийные устои, на которых держался Советский Союз, когда распадется Союз композиторов вместе с СССР. Тот Союз, где он оставался лидером более сорока лет. Он отдавал ему много душевных сил, невидимых никому, кроме его Кларуши. На его плечи еще лично Сталин возложил руководство музыкальной жизнью страны. Партия требовала от руководства Союза композиторов глухой защиты советской музыки от буржуазного влияния. Трудно представить себе Бетховена или Чайковского в такой роли. А вот ему приходилось… Хотя ТНХ с его природным даром мелодизма отстаивать идущую от народных корней музыку было естественно…
В домашних разговорах с подраставшим внуком он считал джаз музыкой для ресторанов. Тяжелый рок, которым наш сын стал увлекаться с возрастом, был ему просто поперек горла. Однако, свое мнение он умел держать при себе. Только ироническая улыбка выдавала отношение.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.