
Бесплатный фрагмент - Искусство в контексте пандемии: медиатизация и дискурс катастрофизма
Коллективная монография
Екатерина Сальникова
Доктор культурологии, кандидат искусствоведения, зав. Сектором художественных проблем массмедиа, Государственный институт искусствознания
Вместо введения, или Гуманитарный «Декамерон»
Аннотация: Автор рассматривает различия понятий дистанционного, виртуального и удаленного, обозначает радикальную перемену мифологии компьютера и интернета, окончательно перекодирующихся в спасителей и волшебных помощников. Очерчивает изменение параметров бытия городской медиасреды, переживающей пандемию и карантин. В частности, фиксирует отмену концепта «открытого мира» и наслаждения повседневным жизненным пространством. Вероятна трансформация обыденных форм поведения, селекции физических контактов, привычных ритуалов коммуникации. Также автор делает краткий экскурс в ряд исследований последнего времени, соотносящихся с тематикой данного коллективного труда.
Ключевые слова: виртуальное, дистанционное, удаленное, изоляция, цивилизация, повседневные формы поведения, открытый мир, гигиеническая революция, интимная коммуникация, мифология интернета, деструкция, Смутное время, авторская рефлексия.
19—20 мая на платформе Zoom состоялся круглый стол «Новая виртуальность: искусство и художественные практики в режиме изоляции», в котором приняли участие около 30 ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. Однако, по точному замечанию одного из участников, Л. И. Сараскиной, можно было бы назвать наше заседание «Декамероном». Основной принцип, воплощенный в знаменитом сборнике новелл Дж. Боккаччо, действительно повторился — в период эпидемии в безопасном месте собирается небольшой круг лиц и рассказывает истории. Безопасным местом стало не загородное поместье, а единая интернет-среда, в которую каждый попадал из своей квартиры или из дачного дома. Наиболее же существенным явилось то, что в отличие от рассказчиков Дж. Боккаччо, мы выбрали предметом своих «историй» именно прошлое эпидемий, искусство, говорящее о вирусах и эпидемиях, особенности дистанционных форм творчества и художественные практики в режиме изоляции. Это как если бы герои Дж. Боккаччо рассказывали исключительно о том, что приключалось с людьми в чумной Флоренции, а также в других городах и селениях, переживавших в разные годы аналогичные или другие ужасы, вроде извержения вулканов, землетрясений и наводнений…
Итак, данная книга написана коллективом авторов в период карантина марта — июня 2020 года. Она содержит в себе как черты академического труда, так и критические и эссеистические материалы, рожденные в процессе наблюдения гуманитарных ученых за жизнью культурного пространства в ситуации пандемии. Мы надеемся, что все это может быть полезно не только для научного сообщества, но и для более широкого круга читателей, интересующегося искусством, спецификой современного мира и историей — потому что все то, о чем мы здесь пишем, скорее всего, превратится в историю к моменту публикации книги. История свершается ежеминутно. История культуры, искусства и науки не исключение. Вехи истории, ближней и далекой, в ракурсе катастрофического начала — в поле нашего внимания.
Позже о периоде пандемии будет написано, быть может, более основательно. Он будет осмыслен и проанализирован всесторонне. Однако для начала полезно обратить внимание на то, что мир меняется так стремительно и дарит нам столько неожиданного, что человечество, видимо, просто не успевает осознать всю глубину своего непонимания происходящего. Вернее, это способны почувствовать и признать очень немногие. Примерно десять лет назад об этом говорил Зигмунт Бауман, ему не нужно было переживать пандемию для того, чтобы ощутить непредсказуемость перемен, «застающих нас врасплох» [1].

В разгар пандемии эту тему по-своему продолжал Михаил Ямпольский: «Мне кажется, что кризис эпидемии, как и все подобные экзистенциальные кризисы, обнаруживает нищету нашего знания, наших политических и экономических институций и позволяет на короткое время прикоснуться к истине бытия в сартровском смысле. Но это озарение бытия дается нам сегодня в странном режиме, когда часть людей (врачи и заболевшие) непосредственно соприкасается с леденящим холодом непроницаемой темноты, а часть отделяется от него странным режимом карантинной изоляции, полностью прерывающей всякий непосредственный контакт с 'тем, что есть'. Люди в изоляции следят за происходящим опосредованно, через посты в Фейсбуке, однообразные репортажи о политиках на трибунах или о пустых улицах городов, слушают экспертов, которые знают немногим больше, чем они сами. Изоляция — это идеальный режим проникновения псевдознания в зазор между человеком и непосредственным опытом жизни. И все же сама ситуация изоляции, утраты свободы, а главное, способности предвосхищать будущее многое говорит об истине бытия. Даже в самом отделении от мира есть тревожащее присутствие сартровской темноты бытия. Изоляция, в которой мы в той или иной степени проживаем нашу жизнь, неожиданно становится видимой, угнетающей и осознаваемой.
Несмотря на весь ужас происходящего (но и вопреки ему), мы вдруг обнаруживаем слабую возможность начать думать о мире чуть-чуть правдивее, чуть-чуть адекватнее. Я понимаю, что на фоне происходящего это маленькое утешение. Но все же — хоть какое-то» [2].
Виртуальное, дистанционное, удаленное
Вынужденная самоизоляция была похожа на беду, «накликанную» во всех смыслах. Многие современные люди давно уже предпочитали проводить максимально возможное время за компьютером, выполняя с его помощью самые разные операции, работая, развлекаясь, общаясь. Бесконечное множество трудов было написано и, вероятно, будет еще создано на тему опосредованных форм коммуникации, не подразумевающих телесного контакта с объектом взаимодействия. Лев Манович еще в книге 2013 года написал о том, что современное общество — это общество компьютерное, общество электронного программного обеспечения, поскольку именно эти программы играют центральную роль в формировании некоей целостности взаимодействия «материальных элементов и нематериальных структур», которые вместе и составляют то, что можно назвать культурой [3].
Обозначениями «дистанционное» и «виртуальное» пестрят страницы научных и не только научных статей, поскольку оба определения стали все более активно применяться к широкому кругу явлений окружающей реальности. И тут мир оказался вынужден срочно освоить еще и понятие «удаленного». Ведь все то, от чего современный человек был склонен отворачиваться, чем он нередко пренебрегал, будучи уверен, что окружающая действительность в ее предметно-пространственных параметрах никуда от него не уйдет, вдруг оказалось недосягаемым, «унесенным пандемией» из настоящего — в неопределенность. Итак, сложилась триада: виртуальное, дистанционное, удаленное.
Применительно к экранной компьютерной реальности принято определение «виртуальная». Также принято говорить о дистанционных формах визуальной культуры, имея в виду их физическую недоступность для телесного взаимодействия с реципиентом, воспринимающим экранные формы. В период же пандемии стало широко употребляться выражение «удаленный». Нередко все три понятия используются как синонимы. Их часто употребляют в переносных значениях, и это закономерно, поскольку все они фиксируют актуальные новые качества явлений нашего жизненного пространства. Попытаемся все-таки в очередной раз остановиться на нюансах.
Все данные понятия объединяет то, что они выражают специфику различных форм реальности, по отношению к которой реципиент / пользователь / зритель находится на той или иной дистанции, то есть не может коснуться объекта наблюдения, вступить с ним в прямое физическое взаимодействие. В то время как это потенциально возможно в случае восприятия живого представления, происходящего «здесь и сейчас», скульптуры, живописного произведения, архитектурного сооружения и пр.
Однако понятие «виртуального» подразумевает, что наблюдаемая реальность (взаимодействует ли с ней реципиент, или нет, в каких-либо форматах) и не может быть физически такой же доступной, как живой театр, произведение в традиционном музее. Виртуальная реальность — то, что существует вне реального трехмерного пространства, принадлежащего тому же измерению, что и тело реципиента. Виртуальное изначально создано или стихийно сформировалось в экранных носителях, а не просто отображено, запечатлено и / или транслируется ими — и никак иначе, в непосредственной трехмерной реальности жить бы не могло. Виртуальна реальность компьютерной игры или анимационного фильма, к примеру. Когда данное понятие применяется к тем явлениям, которые расположены в посюстороннем трехмерном мире, вступают в силу метафорические оттенки смысла, и слово «виртуальность» логично брать в кавычки, или же эти кавычки подразумеваются.
Дистанционное может быть как виртуальным, так и относящимся к непосредственной трехмерной реальности окружающего мира, однако воспринимаемым опосредованно, с помощью каких-либо искусственных носителей. Например, дистанционно можно воспринимать спектакль, идущий на сцене театра, но транслируемый по телевидению или в кинотеатре. Дистанционно мы воспринимаем доклады, произносимые в ходе конференций из различных реальных пространств и транслируемые на тех или иных компьютерных платформах. Дистанционным стало восприятие через интернет живых концертов, записанных исполнителями, которые не смогли выступать в традиционных концертных залах или на стадионах, но желающих продолжить выступать для своей аудитории. Однако сами музыканты и певцы при этом остались реальными людьми, а не сконструированными бесплотными образами, обитающими лишь в экранном измерении. Мы можем говорить о том, что период карантина породил движение вынужденной трансформации живых форм исполнения и демонстрации произведений в формы дистанционные. Однако искусство было к этому уже подготовлено.
На протяжении последних двух десятилетий мы все чаще убеждались в том, что не только экранные произведения, но изобразительное искусство и зрелищно-игровые формы могут существовать и активно развиваться вне тех пространств, который традиционно мыслились их основным «домом». Так, фотография, разговорная эстрада и музыкальная эстрада уже давно осуществляют активную экспансию в интернете, рождая множество новых форматов. Идет процесс гибридизации виртуального и дистанционного, когда у концерта, клипа, или фотографии, одновременно есть и качество виртуального произведения, которое во всех своих деталях и подробностях может существовать именно как экранная форма (например, с активной игрой динамическими полиэкранными композициями, фокусами, монтажом кадров, применением эффектов коллажа и пр.), но вместе с тем произведение активно демонстрирует и свое внеэкранное происхождение из «реала», из приватных интерьеров, с балконов квартир и т. д.
Наконец — «удаленное». Это, конечно, менее всего похоже на научный термин, чаще встречается в публицистических материалах и в документах, обозначающих форму работы. Но вместе с распространением этого выражения в повседневной речи и документации пришли некие новые настроения, которые, в свою очередь, были инспирированы ситуацией пандемии. Выражения «виртуальное» и «дистанционное» не имеют смыслового оттенков «отнятое», «недоступное», «увеличенное расстояние». А при разговоре об «удаленности», возникает ощущение некоторого разрыва, недосягаемости то ли человека для мира, то ли окружающего мира для нас. В этом выражении чувствуется драматическое переживание нарушенного прямого контакта, непрерывного бытия человека внутри большого мира. Мир оказался удаленным, от-даленным, и современный человек ощущает это как «дефицит большой реальности» в своем личном жизненном пространстве. А ведь еще недавно она обнимала нас со всех сторон, мир казался таким открытым и довольно-таки безопасным…
Город, интернет и мы. Смена мифов и настроений
В последние годы мы могли ощутить и даже регулярно использовать черты «открытого мира». И глобализация настойчиво продвигала эту концепцию. Для одних больше, для других меньше, но открытый мир действительно существовал. Количество открытых информационных ресурсов, количество возможностей онлайн и шансов на прорыв к возможностям в реале, культ туризма на любой кошелек, культ активного использования самой городской среды как пространства повседневной жизни, работы, досуга — все это заявляло о себе активно, если не сказать назойливо. Многие жили на два города или на две-три страны, считая это совершенно нормальным и само собой разумеющимся.
Заметной тенденцией организации городской повседневности последних лет стала забота о внешнем благообразии и комфорте прогулочных зон, парковых и прочих досугово-развлекательных территорий. Бесконечные клумбы и дорожки, велосипедные трассы, открытые летние кафе, фонтаны, лавочки, детские площадки и площадки для выгула и тренировки домашних питомцев, площадки со спортивными тренажерами плотной сетью покрыли городские просторы. Словно устроители пиршества повседневных удовольствий начитались «Системы вещей» Ж. Бодрийяра, где говорилось, в том числе, о том, что с помощью рекламы город как бы транслирует идею любви к своему населению [4]. Помимо рекламы, которая призывает тратить деньги, современный мегаполис воздействует на своего обитателя, постоянно приглашая наслаждаться и развлекаться бесплатно и как бы независимо от личного социально-экономического благополучия, политических взглядов и возраста.
И вот в период карантина мегаполис превратился в опустевшую декорацию мегаполиса — воспринимаемую дистанционно и кажущуюся временами почти «виртуальной». Редкий прохожий автоматически сделался в ней экскурсантом или посетителем некоего госпиталя, полулегально навещающим изолированного больного (в его роли и выступал сам город). Пустые торгово-досуговые центры, с магазинами, опоясанными полосатыми заградительными лентами, с выключенными эскалаторами и молчаливой работой клинеров, перманентно чистящих стены и полы, выглядели и того хуже — то ли как места преступления, то ли как пространственные «трупы», обмываемые перед погребением. Поход в супермаркет или аптеку, расположенные в торговом центре, стал своего рода выходом в разведку, на опасную территорию.
Город и его публичные интерьеры, даже доступные для проникновения, утратили самые важные составляющие — свободно фланирующие толпы и атмосферу беззаботной суеты, когда люди чувствуют себя в полном праве выбросить из головы на время все нерешенные экзистенциальные вопросы, все глобальные проблемы и побеспокоиться о чем-то принципиально неважном, несерьезном и необязательном. О том, какой из модных фасонов выбрать, о том, какой столик предпочесть на фуд-корте, какой тип еды и напитков заказать, как подняться на верхний этаж, в прозрачном лифте-капсуле или по эскалатору, плывущему мимо рекламных плакатов или экранов. Современный обитатель мегаполиса, приученный жить в дискурсе развлекательной культуры, внезапно окунулся в атмосферу мобилизационной культуры, с множеством обязанностей и ограничений. Однако диктует ограничения уже не государство как таковое, — оно лишь транслирует то, что считает нужным транслировать научная мысль по поводу целесообразности тех или иных поведенческих паттернов. Если мобилизационная культура советского времени была пропитана идеологическими посылами, то нынешняя мобилизационность увязывается прежде всего с медициной и постоянно обновляемой информацией о вирусе и способах сопротивления ему. Как иронично написали в одном объявлении о закрытии фотостудии на период карантина, «все ушли на борьбу с вирусом» (что является перефразированным «все ушли на фронт»).
Понятие дистанционности, одно из ключевых для изучения медиасреды, обнаружило не замечаемые ранее нюансы. В середине 2010-х автором данного текста предпринималась систематизация экранных устройств по степени дистанцированности от индивида [5]. Мобильный телефон был отнесен к сфере интимной коммуникации, самой близкой, подразумевающей касания лица, тесный контакт пользователя со всем «телом» телефона. Теперь это означает и то, что телефон (впрочем, как и банковские карты, ноутбуки, шариковые ручки, фотоаппараты и пр.) относится к предметам личной гигиены, вроде расчески и маникюрных ножниц. Его не следует давать никому в руки, как не стоит брать в руки и чужие гаджеты.
В канадском сериале «Хроника эпидемии» (Épidémie, реж. Я. Л. Тургеон, 2020) показано, как готовность одолжить телефон незнакомой девушке для срочного звонка может стоить жизни владельцу телефона. Обычная ситуация курортов, когда незнакомые люди просят кого-то из прохожих сделать снимок на их же телефон или фотоаппарат, — теперь это ситуация риска. А чужие предметы, предлагаемые для мимолетного контакта, оказываются, как сказал бы Норберт Элиас, опасной зоной. «Чувство неприятного вызывают формы поведения, предметы, стремления, с ранних лет нагруженные страхом, — вплоть до того, что такой страх воспроизводится автоматически в сходных с запретами детских лет обстоятельствами, подчиняясь своего рода „условному рефлексу“» [6]. Раньше человек в ситуации просьбы сделать фотоснимок на чужой аппарат совершал выбор между «не трудно» и «неохота», решал, нравятся ли ему незнакомцы или не очень, считает ли он себя в праве проигнорировать их просьбу или ему приятно быть для кого-то полезным, доставить кому-то небольшое удовольствие, оказать услугу — то есть, чувства приятного / неприятного и решение об их выражении / подавлении реализовывались в этико-эстетическом ключе.
Н. Элиас, кстати, настаивал и на том, что «чувствительность к неприятному», к примеру, при еде с общего блюда или из общей миски, как и от запачканных пальцев при еде руками, в прошлом не имела ничего общего со страхом заразиться какими-либо болезнями. На переломе от Средневековья к Новому времени происходили трансформации бытового обихода, не связанные с идеей чистоплотности как таковой. «На какую-то форму поведения налагается запрет, но не потому, что она вредна для здоровья, а потому, что она неприятна для окружающих или рождает отвратительные ассоциации» [7]. К этим традициям эстетического, скажем условно, отношения к формам повседневного поведения в Новое и Новейшее время все активнее примешивались доводы рациональные, связанные с понятиями грязи, чистоты, стерильности, а главное — индивидуальной защищенности от чужой грязи. И более того — от своей же «прошлой грязи»: растущее обилие вещей для одноразового использования тому доказательство.
Теперь, похоже, спектр запретных форм поведения получит тенденцию к расширению. Некоторые, еще недавно естественные и повсеместные, привычки будут считаться дурным тоном, чем-то в высшей степени эгоистичным или отвратительным потому, что могут оказаться действительно вредны — способствуя переносу инфекции и, в перспективе, началу пандемии. Впрочем, учитывая наш политкорректный и высоко вариативный мир с многообразием модных трендов, часто взаимоисключающих, можно предположить, что в обществе сложатся как круги адептов гигиенической осторожности и крайней избирательности при физических бытовых контактах, так и протестующих против диктата санитарии, в том числе в силу этических и «атмосферных» переживаний. Ежеминутная забота о физической защите от инфекции подразумевает тотальное недоверие всех ко всем, разъединяет людей и возводит вокруг каждого человека «дезинфекционный слой» и пустоту, что не может не повлиять на напряжение в публичном повседневном пространстве цивилизации.
Тем не менее, вероятно, гораздо чаще в решении о повседневных физических контактах в силу будут вступать соображения гигиены и самосохранения. Многие ритуалы типа рукопожатия станут ритуалами старого допандемического мира. «Опасная зона» рационализируется. Мы находимся на пороге очередной «гигиенической революции» — очередного пересмотра принципов самоограничения индивида XXI века в его повседневных физических взаимодействиях.
Кроме того, так случается, что с телефоном, планшетом и ноутбуком у человека иногда более тесный и свободный контакт, нежели с фрагментами собственного тела, с руками и лицом. Телефон может стать нам немного ближе и роднее, нежели собственные конечности и физиономия. Дело не только в расстоянии от предмета до предмета, от человека до вещи, от кисти руки до гаджета или собственного лица. Важно наличие или отсутствие промежуточных слоев, материи, которая вклинивается между лицом и рукой, между рукой и телефоном, рукой и ручкой, рукой и остальным миром, — предохраняя, защищая, устанавливая барьер между потенциальной инфекцией и человеком, или нужной вещью. Но если эта материя мешает, если человек привык всю жизнь жить без этого тонкого, но неумолимо ощущаемого слоя, все операции становятся трудными, неудобными, не приносящими удовлетворения.
Руки в перчатках, лицо в маске — это, быть может, самый тяжелый для адаптации, самый некомфортный тип дистанционности новейшей эпохи. Сколько томов написано за последнее время о дистанционном общении, дистанционных видах работы, обучения, восприятия искусства… А период пандемии поставил человека перед необходимостью дистанционного взаимодействия со своим собственным телом. Пускай в основном это касается публичных пространств, публичных видов деятельности, но ведь такие виды деятельности являются неотъемлемой частью нашего социума и требуют многочисленной рабочей силы. Дистанционность по отношению к собственному телу в течение всего рабочего дня — это довольно суровое испытание.
До эпохи пандемии шло неуклонное наращивание психофизического комфорта в публичном разомкнутом городском пространстве, в публичных интерьерах. Многие оккупировали кафе, торговые центры, а в хорошую погоду парки и скверы, сидя там часами за ноутбуками или со смартфонами, проворачивая дела, встречаясь с партнерами по работе, планируя отдых и развлечения, или просто отрешаясь от всего, как бы уходя на тайм-аут — и при этом чувствуя себя даже лучше, чем дома или в офисе. Это была территория «ничейная» и всеобщая, ассоциирующаяся с комфортом, индивидуальной безответственностью и безопасностью — это было как бы продолжением дома, как бы личным отелем и внутренним двориком без названия и замков, всегда готовым впустить к себе любого платежеспособного или просто «непроблемного» клиента, фланера, пользователя, наблюдателя.
Пандемия упразднила свободную текучесть города, в котором неуловимо переходят друг в друга территории дома и публичных открытых пространств. Чтобы «грамотно» ступить за порог, надо надеть не только уличную обувь, но перчатки и маску, а также вооружиться флаконом антисептика. Такого выхода нельзя не заметить. Все, что за порогом своего дома, тем самым, кодируется как опасность, экстремальность, зараза, грязь, неизвестность. А ведь только что нам казалось, что в современной цивилизации немало общедоступных зон, где ничего этого нет, риски минимальны, опасности пригашены.
Попробуйте насладиться чашечкой кофе, выпитой после того, как маска приспущена на подбородок и шею. Пить кофе так можно — но о наслаждении придется забыть, если только не обладать сверхмощными способностями абстрагирования от всего, что мешает, раздражает, утомляет. Попробуйте взять рукой в одноразовой перчатке самоклеящийся чек на весах овощного отдела супермаркета, приклеить на пакет с картофелем или яблоками — и не приклеиться к нему перчатками.
Мы привыкли к беззаботности и даже наслаждению при походе в магазин. Даже те, кто глубоко презирает массовую культуру и общество потребления, в душе нередко испытывали немало позитивных эмоций от простых бытовых акций в современном городе. Быт в мегаполисе за последние двадцать лет стал проще, комфортнее, незаметнее. Теперь же мы снова его то и дело ощущаем как тягостную ношу. Необходимость что-то потреблять превратилась на период карантина в проблему — решаемую, и даже успешно. Но проблему.
Потребление, в котором современное общество привыкло искать наслаждений и развлечений, перестало вызывать удовольствие и развлекать. Стало очевидно, что потребление — это не награда, не аттракцион и не право, а неизбежность, усложняющая жизнь. Мы больше не «общество потребления», мы — общество, обреченное на потребление.
В 1980-е Э. Тоффлер писал в «Третьей волне» о перспективе тенденций, противоположных мегаполисным: «Поскольку средства коммуникации начинают заменять поездки, мы можем ожидать, что расположенные по соседству ресторанчики, театры, пивные и клубы станут процветать, оживятся церковные приходы и деятельность групп добровольцев — и все это, или почти все, на уровне живого общения» [8]. Однако мегаполис, во всяком случае, российский, продолжал жить по своей логике. Цивилизация стала густой сетью накрывать самые отделенные его территории. Каждый район обзавелся одним или несколькими торгово-досуговыми центрами, множеством салонов красоты, кафе. Во многих районах строятся церкви. Иногда открываются театры или выставочные галереи, притом размещаются в самых ранее немыслимых местах, включая те же торгово-досуговые центры. Однако все же основные очаги культурного досуга по традиции в основном воспринимаются связанными с центром города — театры, концерты, музеи, активно функционирующие выставочные комплексы, большие библиотеки «остались» там. Это вдруг стало очень далеко, как на другом континенте, — учитывая, что в период карантина был необходим специальный пропуск для проникновения в метро, специальное разрешение для использования такси.
В месяцы самоизоляции доступный мир для многих сжался до нескольких кварталов. До тех улиц и перекрестков с магазинами и аптеками, куда можно дойти, не садясь в транспорт, не спускаясь в метро. Не надо в центр, нельзя в другие районы, на другой конец города, вообще всюду, куда идти долго. Культурный центр оказался отрезан от спальных районов. Цивилизация же, теперь повсеместная, осталась с горожанином в тех формах и учреждениях, до которых можно дойти пешком.
Человек начала XXI века получил уникальный опыт почти средневекового бытия безлошадного горожанина, чей кругозор ограничен небольшим пятачком городской среды, примыкающей к дому, ближайшему храму и рыночной площади.
Однако это отнюдь не означает, что мир соседства стал ближе и роднее. Говоря об утопических проектах содружества жильцов многоквартирных построек, в частности, послевоенного проекта Марсельского дома Ле Корбюзье, С. Батракова отмечала идеалистичность и нереализуемость: «Предполагалось, что все жители марсельского дома будут связаны постоянными и прочными узами. Им предстояло встречаться в кафе и на торговой улице, вместе гулять, загорать, заниматься спортом, разыгрывать любительские спектакли. <…> но мечта о гармоничном образе жизни продолжала оставаться только мечтой… Торговая улица пустовала, магазины оказались нерентабельными, предприятия бытовых услуг закрывались. Обитатели дома не обнаруживали никакого желания налаживать друг с другом контакты и вообще жить как-то иначе, чем раньше» [9]. Удивительно, с какой регулярностью творческая мысль философов и художников создает утопические проекты общежития единым домом, единым кварталом, единой улицей, — а реальность отвергает возможности, кажущиеся такими реализуемыми. В период карантина еще раз была перечеркнута перспектива перенесения акцента из большого мира урбанистического центра, из мест скопления людей для работы и развлечения в мир местных, районных, квартальных «малых радостей», камерного общения. Теперь уже не только в силу отсутствия духовного родства тех, кто рядом «по месту жительства», а по причинам медицинского характера.
Соседи — возможность контакта на лестничной клетке, у мусоропровода, в лифте — возможность заражения. Из общения с соседями и тотального «необщения» в реальном пространстве большинство выбирало последнее. Вместо активизации коммуникаций в ближнем мире за пределами семьи и квартиры произошла очередная активизация виртуального общения и поглощения дистанционных образов. Герои книг, фильмов, сериалов и видеоигр в очередной раз стали продолжением духовного мира индивида, его родственных связей и дружеских контактов.
Еще недавно все, кто изучал электронные медиа и экранную культуру, сталкивались с носящимся в воздухе критическим мифом об этой сфере. Сидение за компьютером, интенсивная жизнь в интернете, неумеренное пользование мобильной связью многими воспринималось в контексте понятий греха, мании, зависимости, патологии, опасности, мнимости. Причем, критический дискурс объединял как простого обывателя, так и многих ученых.
В период вынужденной изоляции от многих прямых, «живых» сфер коммуникации произошло стихийное перекодирование электронных и экранных медиа на новых основаниях — безальтернативные «соломинки», необходимая связь с окружающим миром, повседневные спутники и партнеры, спасители. Нравятся телевизор и компьютер или нет, теперь не важно. Гораздо важнее, что без них просто невозможно обойтись.
Люди стали делиться уже не на тех, кто пользуется электроникой, но без энтузиазма, тех, кто пользуется с энтузиазмом, и тех, кто принципиально не пользуется. Теперь образовались другие «лагеря»:
— те, кто скучает по недистанционным формам коммуникации с внешним миром;
— те, кто сильно страдает без привычной недистанционной деятельности;
— те, кому вполне комфортно на карантине, потому что дистанционная деятельность и дистанционное восприятие всего на свете уже давно превалировали в их индивидуальной повседневности и без всяких карантинов.
Есть еще когорта лиц, испытывающих комплекс вины перед внешней физической реальностью за то, что мало ее ценили, любили, редко пользовались ее возможностями. Не дожили в окружающем «реале» эпохи бесстрашного открывания дверей и нажатия кнопок руками без перчаток… Не часто гуляли и ходили в гости, смотрели кино по интернету, а не в кинотеатре, редко наведывались в театры и музеи. Не побывали в новых зонах отдыха или особо рекомендуемых друзьями кафе, не всю одежду перетрогали и перемеряли в бутиках. Не «допутешествовали».
Не досидели в библиотеках…
Гуманитарные исследования на необъявленном переломе эпох
За один-два года и даже совсем незадолго до весны 2020 года выходили труды, которые сегодня воспринимаются как итоговые для периода до пандемии, хотя на момент написания и публикации самих книг никто еще не подозревал об ожидающих нас потрясениях. Так, книга Е. Бобринской «Душа толпы: искусство и социальная психология» охватывала историю понимания толпы и эволюцию ее образов в искусстве [10]. В настоящем совершенно очевидно, что именно феномен толпы будет подвергнут пересмотру как в социальной действительности, так и в художественной реальности. Масштабное исследование А. Ушкарева «Аудитория искусства в социальных измерениях» было посвящено исключительно живым, непосредственным формам восприятия искусства, оставляя в стороне феномен дистанционности, уже активно развивающийся в культурном пространстве [11]. И если до пандемии эта работа еще могла прочитываться как посвященная современной культуре, то в нынешний период окончательно ясно, что книга сосредоточена на истории жизни искусства: отныне весьма затруднительно рассматривать непосредственные формы восприятия в отрыве от дистанционных.
Авторский энциклопедический словарь О. Кривцуна «Основные понятия теории искусства» включил статьи по той тематике, которая в большой мере обладает непреходящей значимостью. Однако именно сегодня актуальность многих статей предельно возрастает. Прежде всего это относится к вопросам о целях и предназначении искусства, о специфике различных отраслей гуманитарной науки, изучающей художественные формы творчества. Как пишет О. Кривцун, «антропология искусства исходит из того, что главный стимул художественного творчества во все времена — это противоречие между языковыми возможностями искусства и экзистенциальным чувством жизни. Меняется историко-культурное самочувствие человека, и тут же весь прежний эстетический лексикон оказывается жалким, музейным, из него выветриваются смыслы» [12]. Уже в процессе карантина 2020 года стало понятно, что происходящие события являются импульсом для поиска художниками разных видов искусства новых выразительных средств, новых жанров и форматов, эстетически адекватных обостренному чувству драматизма и, при этом, физически осуществимых в сложных обстоятельствах вынужденного ограничения свободы перемещений в пространстве.
«Современный художник отягощен болью, тревогами о пороге человеческих смыслов в современном мире, но зачастую вся его творческая энергия сводится только к посылу сигнала SOS. В связи с этим критиками и искусствоведами обсуждается вопрос: не обстоит ли дело так, что антропологическое и эстетическое измерения искусства сегодня находятся в остром столкновении, противоборстве и чрезвычайно редко — в симбиозе? В какой мере нынешней практикой раздвигаются сфера художественного и сфера эстетического?» — размышляет автор словаря [13]. В поисках ответа на вопросы о творческих установках художника «за пределами сигнала SOS» необходимо отметить глубокую потребность творческого человека в переживании драматического, конфликтного, катастрофического как неких символических моделей жизненной динамики, без которой жизнь и искусство в ней принципиально не способны быть полноценными. Так, Сюзан Сонтаг давно уже описала прелесть деструкции и аннигиляции всего, моделируемую в искусстве и являющуюся неотъемлемой частью нашей рефлексии [14].
Правда, стоит отметить, что период пандемии существенно отличается от любого иного относительно мирного периода, когда человеческой жизни ничто конкретное и смертельно опасное не угрожает, и когда вполне закономерна позиция научной объективности и взвешенности в суждениях об известной необходимости и плодотворности всего разрушительного. Сейчас форсирование этого аспекта выглядело бы не вполне адекватно, поскольку баланс созидательного и разрушительного и так смещен в сторону последнего. Гуманитарная же наука каждого исторического периода связана с атмосферой своей современности и внутренне ориентирована на рефлексию о том, что является «нерешенной проблемой» действительности, ее конфликтным полем. Так что размышления о позитивной составляющей катастрофического начала, хотя и будут присутствовать в статьях данной книги, но многие авторы сосредоточатся именно на драматической и сумрачной составляющей катастрофы.
Показательно, что вообще катастрофическому началу в культуре и художественном творчестве все чаще посвящаются научные труды. У науки каждого времени — свои «любимые» катастрофы. Еще недавно в центре ключевых трудов был феномен исторического слома эпох, своего рода общественные катастрофы. Взрывной характер кризисных проявлений в отечественной культуре, в том числе в искусстве, уже подвергался глубокому анализу, в частности, в книге Ю. Лотмана «Культура и взрыв» [15], а также в ряде коллективных трудов постсоветской культурологии и философии. В частности, в 2003 году вышел весьма знаменательный сборник «Переходные процессы в русской художественной культуре» [16], в котором И. Кондаков писал об амбивалентности Смутного времени, сыгравшем «исключительно важную роль в переходе русской культуры к Новому времени, причем не вопреки, а благодаря драматическим и катастрофическим событиям, потрясавшим Русское государство и подводившим его на край гибели. Впрочем, „смутные времена“ на Руси лишь субъективно казались предвестьем гибели. На деле же все, что происходило в переходные периоды русской истории, было далеко… не только катастрофичным. Одновременно с разрушением старого шло созидание нового, еще не осознаваемого в этом качестве» [17]. Эта формулировка применима и к позднейшим кризисным периодам, будь то годы революции или крушение советского уклада. (Когда-нибудь и о нынешнем периоде пандемии напишут нечто подобное, с исторической дистанции будет очевиднее полезная составляющая этого события).
Как правило, исторический катастрофизм — это процессуальный катастрофизм, часто скрытый, во всяком случае, неочевидный напрямую, проявляемый отнюдь не обязательно, или не только в каких-то конкретных материальных разрушениях, насилии, гибели каких-либо существ. Можно говорить о том, что в большом серьезном искусстве нередко существует огромный зазор между глубинной сущностью отображаемых социокультурных процессов — и их внешним выражением, их зримыми проявлениями, связанными с жизнью ограниченного количества персонажей. Такова, к примеру, модель катастрофы в «Вишневом саде» А. Чехова. Крупным планом показана малая часть глобальных деструктивных процессов, продвигающих Россию в направлении тотального исторического кризиса 1910-х годов, но носящих подчеркнуто обыденные, внешне неброские формы распада устоявшейся жизни в одном имении, в одном небольшом, сугубо приватном человеческом сообществе.
Постидеологическая эпоха рубежа XX—XXI веков побудила искусство и гуманитарную науку обратить внимание на ряд катастроф, происходящих в первую очередь в жизни природы, экосреды, климата [18], и параллельно исследовать катастрофы и апокалиптические ситуации как архетипические модели, как проявление антиутопизма, актуального в современном искусстве. В известной мере данная тематика определяет лицо современной науки в России и за рубежом [19].
В своей диссертации «Проявление «Не-Я-Концепции» и переживание катастрофы в европейских художественных практиках XV — XX веков» (защищавшейся в июне 2020 года, в разгар пандемии) Г. Консон справедливо связывает катастрофизм с внутренним состоянием личности, в Новое время особенно явственно выраженным в искусстве эпохи романтизма. Принципиальным представляется и вывод ученого о том, что «трансмиссионно-позитивный смысл авторской рефлексии на катастрофическое в жизни… в конечном счете служит укреплению защитного пояса культуры: ноосферы (разума) и пневматосферы (духа)» [20], что косвенно обосновывает бурную популяризацию мотивов катастрофизма во многих видах искусства ХХ-XXI веков.
Не менее существенно то, что современная гуманитарная наука осознает всю условность деления на элитарное и массовое, на серьезное искусство и популярное, отмечая значимость внешне несерьезных произведений, в особенности экранных, в дискуссионном пространстве, обращенном к перспективам развития человечества и рисующем возможные сценарии будущего. К. Разлогов уже описывал свою «аберрацию» при знакомстве с передовыми научными идеями на масштабной международной конференции: «у меня возникло ощущение, что я слышу аннотации голливудских боевиков последнего времени, потому что фантастические допущения и разного рода безумные идеи, которые посещали сценаристов в самом широком жанровом диапазоне… оказались удивительно созвучны новейшим поискам ученых. Более того, они иногда даже предшествовали им» [21]. Тут, конечно, дело обстоит несколько более противоречиво, поскольку голливудские сценаристы и режиссеры нередко активно сотрудничают с самыми передовыми научными учреждениями, получают у них серьезные консультации, так что можно говорить о сотрудничестве художников и ученых в создании искусства. А фильмы, по сути, становятся визуальным полигоном для обкатки новейших научно-технических идей. Так, Д. Кирби рассказывает о трехлетнем периоде консультаций с учеными С. Кубрика, снимавшего «2001: космическую Одиссею» (2001: A Space Odyssey, реж. С. Кубрик, 1968) и руководствовавшегося научными выкладками, так что «по-настоящему фантастичен в фильме лишь черный монолит» [22].
Как следует из недавних исследований об интерпретации кризиса экосреды в кинематографе, современные фантастические жанры существуют одновременно в художественном и в научном контексте [23]. Кинематографисты держат руку на пульсе новейших концепций развития человечества и вариантов бытия цивилизации в будущем. Некоторые, вроде бы чисто развлекательные научно-фантастические фильмы, тем не менее, кажутся иллюстрацией к лекционному курсу по экологии. Так или иначе научные прогнозы находят свои отражения в игровых жанрах кино. «…Междисциплинарное взаимодействие в современной культуре осуществляется не только в традиционных научных формах (семинары, симпозиумы, специализированные журналы и т.д.), но и в пространстве массовой культуры, которая по структуре своей близка к виртуальному мегаполису <…> Новые научные идеи преломляются сквозь призму научно-популярных фильмов и изданий, массовых журналов, телевизионных и радиопередач, да и повседневного общения, перерабатывающего передовые научные гипотезы в удобоваримую для всех (в том числе и деятелей культуры) форму реальных или вымышленных сюжетных коллизий…», — писал К. Разлогов [24]. В данной же книге о проблемах взаимодействия гуманитарной науки и биологии размышляет И. Кондаков.
Мы исходим из многомерности искусства, неиерархического строения медиасреды и уникально высокой значимости художественного творчества, интегрированного в глобальные социальные процессы и находящегося в диалоге как с научными изысканиями, так и с законами бытия органической материи.
Примечания:
[1] Бауман З. Лекция, прочитанная 21 апреля 2011 года в клубе «ПирОги на Сретенке», в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» // Полит.ру. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2011/05/06/bauman.html (дата обращения 20.06.2020).
[2] Ямпольский М. В. Эпидемия: незнание и правда // Colta. 6 апреля 2020. Режим доступа: https://www.colta.ru/articles/society/24006-mihail-yampolskiy-o-tom-kak-pandemiya-razrushaet-illyuziyu-znaniya (дата обращения 23.06.2020).
[3] Manovich L. Software Takes Command. New York, London, New Delhi, Sydney: Bloomsbury, 2013. P. 33.
[4] Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. С. 141.
[5] Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде: Современные тенденции и исторические экскурсы. М.: Прогресс-Традиция, 2017. С. 61—119.
[6] Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. Том II. М.-СПб.: Университетская книга, 2001. С. 295.
[7] Элиас Н. Цит. соч. Том I. С. 194.
[8] Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. С. 589.
[9] Батракова С. П. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры ХХ века. М.: Наука, 1990. С. 223—224.
[10] Бобринская Е. А. Душа толпы: искусство и социальная психология. М.: Кучково поле, 2018.
[11] Ушкарев А. А. Аудитория искусства в социальных измерениях. СПб.: Алетейя, 2019.
[12] Кривцун О. А. Основные понятия теории искусства: Энциклопедический словарь. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 19.
[13] Там же. С. 22.
[14] Sontag S. The Imagination of Disaster // American Jewish Committee. 40, 4, 1965. Pp. 42—48.
[15] Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, Издательская группа «Прогресс», 1992.
[16] Переходные процессы в русской художественной культуре / Отв. ред. Н. А. Хренов. М.: Наука, 2003.
[17] Кондаков И. В. «Смута»: к типологии переходных эпох в истории русской культуры // Переходные процессы в русской художественной культуре / Отв. ред. Н. А. Хренов. М.: Наука, 2003. С. 143.
[18] Brereton P. Environmental Ethics and Film. London and New York: Routledge, 2015; Culture, Creativity and Environment: New Environmentalist Criticism / Eds. F. Becket, T. Gifford. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007; Ivakhiv A.J. Ecologies of the Moving Image: Cinema; Affect; Nature. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2013.
[19] Тенякова О. Катастрофизм как мегатенденция современного цивилизационного развития. Дис. … кандидата филос. наук. Уфа, 2003; Пожаров А. И. Трансформации христианского эсхатологического мифа в современном медиакультурном пространстве. Дис. … кандидата культурологии. М., 2016; Havert N. The Golden Age of Disaster Cinema: A Guide to the Films, 1950—1979. Jefferson: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2019.
[20] Консон Г. Р. Проявление «Не-Я-Концепции» и переживание катастрофы в европейских художественных практиках XV — XX веков. Диссертация на соискание ученой степени доктора культурологии (специальность 24.00.01 — теория и история культуры). М.-СПб., 2020. С. 259.
[21] Разлогов К. Э. Образ города в киноискусстве: Между «Метрополисом» и «Матрицей» // Города мира — мир города / Гл. ред. В. П. Толстой. М.: НИИ РАХ; Северный паломник 2009. С. 92.
[22] Kirby D.A. Lab Coats in Hollywood: Science, Scientists, and Cinema. Cambridge, London: The MIT Press, 2011.
[23] Ibid.; King G., Krzywinska T., Wood Ch. R. Science Fiction Cinema: From Outerspace to Cyberspace. London, New York: Wallflower, 2000.
[24] Разлогов К. Э. Цит. соч. С. 93.
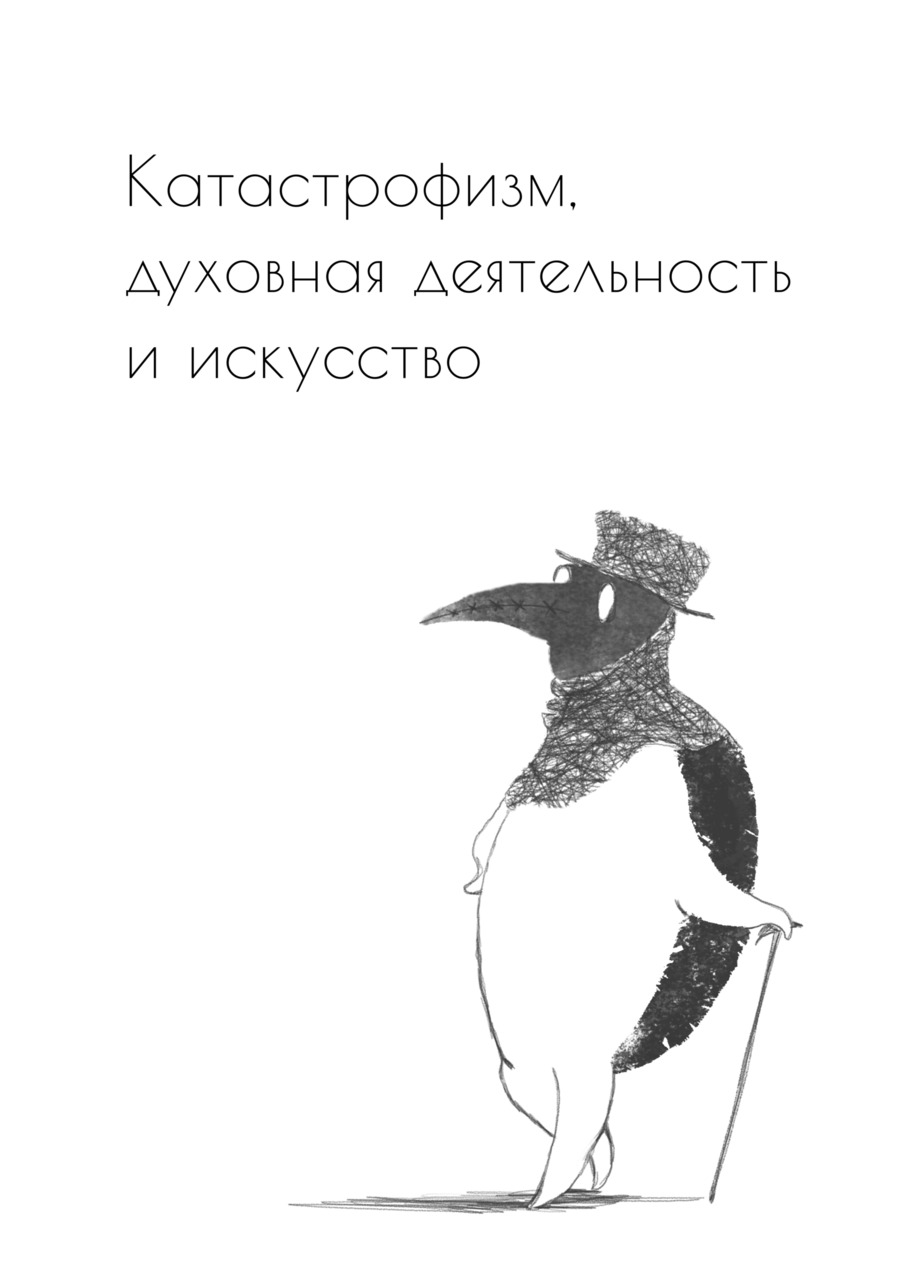
Игорь Кондаков
Доктор философских, кандидат филологических наук, профессор, действительный член РАЕН, Российский государственный гуманитарный университет, Государственный институт искусствознания
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». Новые аспекты взаимосвязи культурного и биологического на фоне пандемии
Аннотация: Статья посвящена малоизученной проблеме взаимосвязи и взаимодействия культуры и биологии в современных условиях. В ней обосновывается новое понимание культуры как феномена, неотрывного от социального и биологического уровней мироздания. Биология в свете культурального (культурологического) дискурса выглядит как природная предпосылка культуры и как ее природная среда. Соответственно культура в свете биологического дискурса предстает как аккультурация биологического. Биологизация культуры означает акцентирование биологической основы культурных процессов и явлений, а аккультурация биологии — превращение биологического материала в феномен культуры.
В свете обозначенного понимания соотношения биологии и культуры — либо через посредство социального и политического, либо помимо него, «через голову» социума, непосредственно — в истории культуры можно осмыслить и интерпретировать такие явления, как биологическая угроза культуре, борьба культуры с биологией, восстание биологии против культуры, вмешательство культуры в биологию, проявление биологического в культуре, противоречия культурного и биологического, «снятие» биологического в культуре и т. д. Кроме того на стыке биологии и культуры рождаются такие явления, как ноосфера, биополитика, биоэтика, биотехнологии, биоарт, генная инженерия, искусственная жизнь.
Одним из таких продуктов человеческого творчества с биоматериалом является искусственный коронавирус, задуманный, может быть, и с благими целями (научными, медицинскими), а, может, и как образец биологического оружия. Однако, вырвавшись из-под контроля человека, искусственный вирус стал биологической угрозой всему человечеству и вызвал глобальную пандемию. Противодействие культуры биологической опасности и самосохранение культуры в условиях пандемии вызвало к жизни новую виртуальность как средство оптимизации культурной деятельности и осуществления социокультурной коммуникации в опасной биосреде.
Ключевые слова: культурный дискурс биологии, биологизация культуры, аккультурация биологии, биологическая угроза, биополитика, генная инженерия, геном коронавируса, гибридизация вирусов, биологическое оружие, пандемия, новая виртуальность.
«КАРА ЭДИПА»: Биологическая угроза культуре
Э д и п
Дальнейшую мою узнайте волю:
Приказываю, кто бы ни был он,
Убийца тот, в стране, где я у власти, <…> —
Виновник скверны, поразившей город.
Т и р е с и й
Вот как? А я тебе повелеваю
Твой приговор исполнить — над собой,
И ни меня, ни их не трогать, ибо
Страны безбожный осквернитель — ты!
Софокл. Царь Эдип [1]
Никогда еще в истории человечества (начиная с его далеких истоков) биология не находилась в такой опасной близости к культуре, как сейчас. Под биологией в данном случае я имею в виду не науку о жизни в ее органических формах, а сами механизмы порождения и формирования, развития и функционирования, модификации и гибели жизненных форм и субстратов жизни на планете Земля (т.е. биологическое). Но и биология как наука об одной из важнейших для человека составляющих природы, как никогда, оказалась сегодня неотделимой от гуманитарных исследований, в том числе обращенных к культуре в целом и искусству в частности. И, конечно, особо актуальным стал тот раздел биологии, который непосредственно связан с человеком (биология человека как биосоциального, или, точнее, био-социо-культурного существа), включая медицинский дискурс человека, который, как показал М. Фуко, может содержать в себе клинический опыт, научные исследования и философскую рефлексию, а также дискурс биополитики [2].
Противоречия между биологией и культурой бросались в глаза гораздо реже противоречий между социумом и культурой. В последнем случае любые формы воздействия политиков на культурный процесс и художественное творчество, вмешательство цензуры и органов государственного управления, влияние экономической и политической конъюнктуры, перипетии общественного мнения и даже борьба суждений вкуса — вольно или невольно сказывались на актуальной культуре и отношении к культурному наследию. Что же касается противоречий между биологией и культурой, между медицинским, научным и художественным дискурсами, то они становились заметными, например, в ситуациях болезни и смерти деятелей культуры, когда невольно прерывался творческий процесс, оставались незавершенными художественные произведения или научные открытия, когда на культурные тексты — философского ли, научного или художественного содержания — болезнь налагала печать душевного кризиса и патологии личности, творческого упадка и деградации таланта [3].
Другое дело — социальные и биологические процессы глобального масштаба, вовлекающие в себя массы людей и вызывающие к активности мощные созидательные, но чаще разрушительные силы. В социальной сфере — это войны, революции, массовые волнения и беспорядки, оказывающие прямое и косвенное воздействие на культурные процессы и явления разного уровня значимости и ценности, но особенно — эпохального размаха. Подобное же мощное воздействие на культуру производят природные катастрофы — землетрясения, извержения вулканов, наводнения, тайфуны, смерчи и т. п. — по преимуществу физического порядка, происходящие в геосфере. Сюда же примыкают и катастрофические процессы биологического порядка — различные эпидемии и пандемии вирусных смертоносных заболеваний — чумы, холеры, оспы, энцефалита, «испанки», спида и др., распространяющиеся в биосфере. В этом своем проявлении конфликт общества и культуры с биологической опасностью (как правило, невидимой) происходит с особой непредсказуемостью и неумолимостью, приобретая для участников этих процессов во многом судьбоносный и мистический характер.
Столкновение человечества и отдельных человеческих особей с жестокой неумолимостью природы — в ее физических, отчасти химических и особенно биологических проявлениях сохранялось в истории человечества как трагические события планетарного порядка; отображались в литературе и искусстве как величайшие бедствия, служащие испытанием вере, гуманизму, любви, мировой гармонии, красоте, мудрости, морали; подвигали философию, религию и науки к поиску ответов на вечные вопросы и рецептов спасения. Но — в ответ на все чаемые способы спасения от массовых смертей и все профилактические меры научного, религиозного, эзотерического и магического характера — природа (в том числе ее биологический сегмент) как будто открывала каждый раз новые резервы болезнетворных и гибельных стихий всемирного хаоса. И человечество снова и снова оказывалось перед новой глобальной угрозой неизвестного происхождения и тем более неисповедимого преодоления.
Так, на смену «классическим» чуме и холере пришла «неклассическая» «испанка», а вслед за непреодоленным еще вирусом ВИЧ подошла пора загадочного коронавируса. Сегодня именно коронавирус вышел на первую строку мировых новостей. Но в будущем возможны новые эпидемии и пандемии, вызванные (как полагают некоторые микробиологи) еще более сложными и неожиданными для человечества биологическими образованиями. Общий взгляд на динамику микробиологического фона социокультурной истории человечества заставляет поневоле предположить, что природа находит все более совершенные средства воспрепятствовать гегемонии человека и пресечь амбициозные проекты «покорения природы», также совершенствующиеся раз от раза, век от века…
Столкновения культуры с природными стихиями казались всегда человеку в принципе непреодолимыми, а потому и безысходными. Но там, где люди сталкивались с физическими силами природы геологического и географического порядка, эти драматические события казались объективно не разрешимыми, титаническими, извечными — что подтверждалось визуально — простыми наблюдениями за происходящими природными катаклизмами. В то же время вирусные пандемии — невидимые, неощутимые — уже в силу этого представали гораздо более грозными и устрашающими, трагически направленными на уничтожение человечества и его культурного наследия, на вытеснение человеческих жизней с планетарной арены естественной истории.
Перед этими обстоятельствами человек всегда чувствовал свое полное бессилие, казавшееся тем более отчаянным, что болезнь, в отличие от землетрясения или урагана, представлялась временным состоянием человеческого организма, которое можно и должно преодолеть средствами, потенциально доступными человеку, — лекарствами, вакцинами, врачебным опытом, клиническим обследованием, карантином… Однако, как свидетельствовала историческая память, в каждом новом случае эпидемии ни одно из известных к тому времени средств не годилось: оно оказывалось практически неприменимо, бесполезно, иллюзорно. Любая новая биологическая угроза для человечества была своего рода «черным ящиком», проникнуть внутрь которого, помимо специального научного исследования, предпринимаемого «с нуля», было невозможно. Пока ученые продолжали искать ответы, поставленные перед людьми предшествующим наступлением природы, природа предлагала человечеству новый вызов, к которому общество было, как правило, совершенно не готово.
Более того, мы видим, что конфликт между культурой и биологией, время от времени возникающий в истории человечества, почти всякий раз остается не разрешенным, тем более — не разрешенным своевременно. Ответ культуры на вызов природы всегда запаздывает, а иногда бывает неадекватным, мнимым, ошибочным. Еще чаще возникает «разброс» мнений, и поиск гипотетических ответов на «вызов» природы, идущий в разных и даже противоположных направлениях, ведет не к разрешению проблемы, а к бесплодной полемике между различными научными направлениями, школами, подходами. В конечном счете — между амбициями разных научных (и вненаучных) сообществ, которые в борьбе между собой подключают различные аргументы политического, национального, этнокультурного и эмоционально-психологического характера, тем самым дискредитируя свои теоретические цели и практические задачи [4]. И когда наука оказывалась неспособной дать адекватный и быстрый ответ на вызов природы, на авансцену истории выступали антинаучные — мифологические, религиозные, эзотерические, мистические — интерпретации грозных событий.
Определенное осложнение диалога между культурой и биологией представляет то обстоятельство, что отношения между биологией и культурой опосредованы социумом (т.е. социальными отношениями и институтами, социальными ролями и структурами социального поведения, ценностными ориентациями, нормами и традициями определенного общества, стереотипами и предрассудками отдельных социальных групп и сообществ). На расположенной ниже схеме уровней мироздания показано соотношение культурного, социального и биологического уровней человеческого бытия.
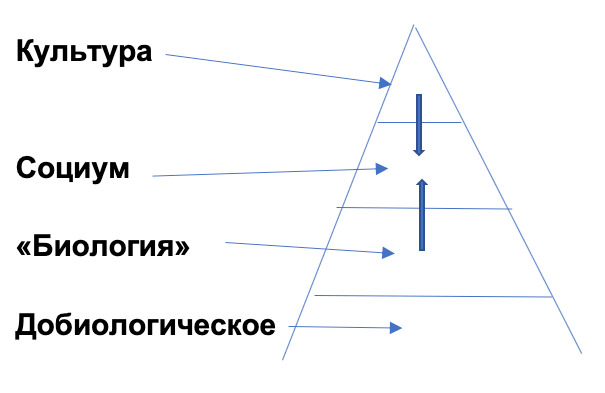
Культура относится к социуму как «высшее» к «низшему»; так же соотносятся между собой социальное и биологическое, «биология» и добиологическое (химическое, физическое и т.п.) [5]. «Каждая форма материи — это своеобразный „пакет“ признаков всех предшествующих форм материи. Высшие формы материи не утрачивают всего содержания низших, а несут основное их содержание в себе в обобщенном и интегрированном виде. <…> Основное содержание предшествующих ступеней развития в обобщенном и „уплотненном“ виде в последующие ступени» [6]. Применительно к нашей теме исследования это означает, что черты биологического в свернутом и обобщенном виде присутствуют в социальном и объясняют существующую преемственность между биологическим и социальным. Черты социального, также в свернутом и обобщенном виде, присутствуют в содержании культуры.
«Окружающие нас вещи, — писал яркий представитель „философии пограничных проблем“ В. В. Орлов, — это сгустки бесконечной истории. В них и через них прошлое оказывается живым и действующим вокруг нас. Познать вещи поэтому — значит увидеть в них их историю, расшифровать бесконечное число „текстов“ — физических, химических, биологических и пр., спрессованных в единую „запись“ качества или сущности вещи, увидеть <…> [в них. — И.К.] как бы „следы“, „отпечатки“ и „тени“ прошлого» [7]. В этом отношении формируемая человеком «вторая природа» (т.е. культура) аккумулирует в себе бесконечное многообразие предшествующей истории [8].
Для понимания человека как социального и культурного существа чрезвычайно важно понимать место «биологического» в системе «человеческого». «Биологическая природа человека составляет необходимый уровень человеческой сущности. Чтобы быть существом социальным, человек должен быть прежде живым существом, обладающим наиболее сложной среди живых существ биологией», — утверждает философ, размышляя о соотношении социального и биологического уровней мироздания. — «Человек как целостное существо, — продолжает он, — есть социальное существо, включающее в себя свою биологическую основу, но обладающее интегральной социальной сущностью» [9]. Я бы уточнил: целостный человек есть социокультурное существо, и далее — по тексту. Но оговорка философа, убежденного марксиста, как мы далее увидим, была, конечно, не случайна. Культурная «надстройка» над социальным и биологическим специально не обсуждалась и особенно его не интересовала — в силу ее «нематериальности».
То, что социальное интегрируется с культурным и неразрывно с ним — убедительно показал уже П. А. Сорокин [10]. Сложнее разобраться с присутствием биологического в культурном. С одной стороны, в превращенном виде биологическое, интегрированное в социальное (биосоциальное — БС), трансформируется далее (через социокультурное — СК) в культурное (биосоциокультурное — БСК). Но и само биологическое в обобщенном и «уплотненном» виде непосредственно входит в культуру и интегрируется культурой как биологическая предпосылка культурного. Таким образом, «биология» привносится в культуру различными путями — через посредство социального (так сказать, в «снятом» виде) — как биосоциокультурное (БСК); и непосредственно — как биокультурное (БК). Ниже эти процессы показаны на схеме:
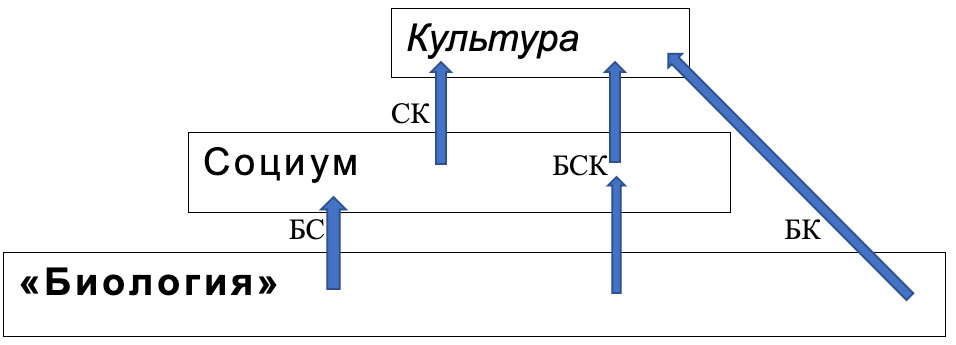
Однако в некоторых типах цивилизаций эта общая схема соотношения уровней человеческого бытия «работает» в специфическом режиме. Уровни человеческого бытия «переставлены» и им придан функциональный статус. К примеру, в нацистской Германии система тоталитарной культуры находилась в непосредственной зависимости от «биологии» (раса, этнос), а обобщающие суждения и решения относились к сфере социального и политического. При этом политически ценная для тоталитарного режима культура (биологически укорененная в расе и нации) приобретала чисто политико-идеологический статус, а политически отверженная и биологически чуждая (например, неарийская культура) низводилась до уровня уничтожения (как биологически вредная и опасная для истинных арийцев субстанция). Иерархия уровней бытия была извращена: вслед за биологическим уровнем шел сразу культурный, а социально-политический — завершал архитектонику уровней и содержал в себе все выводы и обобщения, важные для режима [11].
По-иному искажалась схема уровней человеческого бытия в советской тоталитарной системе. Культура выводилась прямо из социума по жесткой классовой (и партийной) схеме. Этно-национальные (т.е. в той или иной степени биологически обусловленные) различия культур игнорировались, исходя из принципа пролетарского интернационализма. Социально осуждаемая культура (рабовладельческая, буржуазная, дворянская) отвергалась; ей приписывались свойства физиологические, биологические; а переживаемые ею состояния описывались в терминах «упадок», «разложение», «загнивание». Социально предпочитаемая культура (пролетарская и, на худой конец, крестьянская, позднее социалистическая) наделялась высшим политико-идеологическим статусом, который и определял социальную значимость и ценность культуры — в зависимости от ее социально-классового происхождения и политической ориентации. Национальное и этническое своеобразие культуры рассматривалось на уровне формы (сталинская формулировка гласила: культура в Советском Союзе — «социалистическая по содержанию» и «национальная по форме»), т.е. воспринималась лишь как оттенок идеологии, апеллирующий к национальному самосознанию населения союзных и автономных республик. С «биологией» оказались связаны лишь культуры прошлого — первобытного, рабовладельческого и феодального общества, а из современности — реакционная буржуазная культура на стадии загнивания империализма [12].
В результате тоталитарных практик то культура, то биология подменяются своими социальными эквивалентами, и диалог культуры с биологией на деле оказывается социокультурным разговором, а диалог биологии с культурой вытесняется биосоциальными проблемами. Говоря иными словами, биологический дискурс то и дело «выдавливается» из культурного пространства дискурсом социальным, а нередко и политическим. Но то же самое происходит и с дискурсом культурным (или, что в данном случае почти одно и то же, дискурсом культурологическим) — применительно к биологии: он тоже «выдавливается» дискурсом социальным (социологическим) или даже чисто политическим.
Вся советская история переполнена примерами того, как проблемы биологии или медицины предельно политизировались. Запрет на достоверную информацию о состоянии здоровья вождей (начавшийся еще при жизни Ленина), табуирование фрейдизма и психоанализа, борьба с педологическими «извращениями», канонизация и мифологизация учения и селекционной практики И. В. Мичурина, возвышение и апология личности и псевдонаучной деятельности акад. Д. Т. Лысенко и его соратников — И. И. Презента и О. Б. Лепешинской, уничтожение советской генетики как буржуазной «лженауки» и гонения на выдающихся отечественных генетиков (начиная с акад. Н. И. Вавилова), дискредитация первооткрывателя гена Г. Менделя, разоблачение «вейсманизма-морганизма», разгромная сессия ВАСХНиЛ 1948 г. и одиозное дело «врачей-убийц» 1953 г. — все это звенья одной цепи, выкованной в Советском Союзе — преимущественно в Сталинскую эпоху, но продолжавшуюся и за ее пределами…
Смысл всех этих интерпретаций биологического в советском политическом дискурсе (а отчасти и в политическом лексиконе) заключался в том, чтобы представить биологические процессы: медицинскую практику, врачебный диагноз, неурожай зерновых, падеж скота, болезнь и смерть человека и т. п. — как результат политического заговора, запланированную диверсию, вредоносное лечение подкупленных врачей или происки империалистических разведок, — т.е. как закамуфлированные проявления классовой борьбы в повседневной жизни, в науке, в медицинской и сельскохозяйственной практике. Но и позитивные результаты биологических процессов (выведение нового сорта полезного растения или селекция эталонного животного, достижение высокого урожая, проведение эффективного курса лечения, совершение выдающегося научного открытия в сфере биологии и т.д.) объяснялись парадоксально: успешным овладением марксистской теорией, проведением в жизнь идей «Краткого курса истории ВКП (б)», ведением эффективной классовой борьбы со скрытыми «врагами народа», активной социальной позицией борца, бдительностью советского гражданина и тому подобной демагогией.
За «биологией» советскими идеологами не признавалось ни способности к саморазвитию и самоорганизации, ни к сохранению и передаче наследственности, ни возможности деградации и гибели, ни приспособляемости к объективным условиям. Предполагалось, что только вмешательство социальных факторов может изменить или сохранить, отобразить или преобразить облик, сущность, типологию, динамику, направление развития или упадка биологического и природы в целом. В том же случае, когда наблюдалась «непокорность» биологического социальным преобразованиям, искусственному отбору (селекции), выявлению и воспитанию необходимых черт и свойств, запланированных заранее, — это должно было свидетельствовать о допущенных просчетах и ошибках в работе с «биологическим материалом», о неверно составленном плане биопреобразований, о неспособности человека (группы или сообщества) управлять биологическим с позиций социального или о преступных, вредительских, враждебных намерениях социального оператора или менеджера, подменившего общественное — биологическим [13].
Знаменитый лозунг Сталинской эпохи, позаимствованный из дилетантских суждений агронома-самоучки Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, — взять их у нее — наша задача» [14] — соперничал по значимости и популярности со сталинским: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики» [15]. Казалось: все в руках «нового человека», одержимого той или иной политической идеей. Революционным преобразованиям могли и должны были быть подвергнуты не только общественные отношения, но и сама природа, в том числе природа человека (отсюда увлечение советских вождей евгеникой и социальной геронтологией, движимое надеждой на успехи политики в преобразовании биологии).
Неслучайно и то, что биологическое в своих взаимоотношениях с социумом и его представителями представало в советской интерпретации прежде всего как пассивный «материал» для социальных действий и экспериментов или как опасный материал, управление которым в социальных целях не всегда удачно. Поэтому одним из самых недопустимых методов в общественных и гуманитарных науках считалось «биологизаторство» социальных и культурных явлений. Так, например, М. М. Бахтина, защитившего в ИМЛИ АН СССР докторскую диссертацию «Ф. Рабле в истории реализма», обвиняли в биологизации литературы и культуры средневековья и Ренессанса, а также во фрейдизме [16], а Л. Н. Гумилева, защитившего вторую докторскую диссертацию по географии (этнологии), в связи с его пониманием этноса как феномена, обусловленного ландшафтом и биосферой, вообще объявили расистом и надолго отлучили от науки [17].
На первый план идеологической борьбы в тоталитарном государстве вышла борьба политизированной культуры с биологией.
В античной мифологии невольные преступления Эдипа против человеческой природы были покараны богами эпидемией, охватившей Фивы, которыми правил Эдип-царь. Сам Эдип заплатил судьбе своей слепотой и добровольным изгнанием… А виновен Эдип был в том, что, сам того не ведая, нарушил основополагающие принципы биополитики своего времени: совершил отцеубийство и вступил в кровосмесительные отношения с матерью. На пошатнувшееся равновесие биологии человека и культуры природа ответила массовым истреблением социума — чумой. Миф об Эдипе воплощал в себе социобиологическое табу, запечатленное в культурной норме. И последующая история человечества периодически возвращала культуру к тому же экзистенциальному порогу, возлагая ответственность за восстание биологии против социума на культуру.
«ПИРРОВА ПОБЕДА»: Культура в борьбе с биологией
Так вот она, гармония природы!
Так вот они, ночные голоса!
На безднах мук сияют наши воды,
на безднах горя высятся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
хорек пил мозг из птичьей головы,
и страшно перекошенные лица
ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
соединяла смерть и бытие
в единый клуб. Но мысль была бессильна
соединить два таинства ее.
Николай Заболоцкий. Лодейников в саду [18]
Излюбленной концепцией советских идеологов была теория подчинения биологического социальному и преобразования биологии по лекалам социума. За этой концепцией стояла апология колхозного строя, успехи которого объяснялись подчинением сельского хозяйства (и вместе с ним всего сельского населения и сельхозпродукции) — политике коллективизации, а значит, переносом классовой борьбы в мир природы. Борьба с генетикой и репрессии против генетиков логично вписывались в русло этой агрессивной и жестокой политики, направленной на тотальную политизацию не только социума и культуры, но также и всей природы.
Лидер и главный идеолог сталинской биополитики акад. Д. Т. Лысенко утверждал, что биология — это материал для различных социальных преобразований и экспериментов. «Согласно Лысенко, наследственность живого тела строится на основе условий внешней среды, в которых существовали многие поколения того или иного организма, и всякое изменение этих условий ведет к изменению наследственности. Этот процесс он называл „ассимиляцией внешних условий“. <…> По мнению Лысенко, наследственные факторы, передающиеся от предков потомству, не являются чем-то неизменным или относительно неизменным — они являются ассимилированными внешними условиями». Для того, чтобы управлять биологическими процессами и радикально видоизменять их наследственность, нужно лишь «расшатать» стабильность наследственности. «Лысенко полагал, что организмы, находящиеся в дестабилизированном или „расшатанном“ состоянии, представляют особый интерес с точки зрения возможностей воздействия на их наследственность» [19].
В сфере культуры применение этой же политической доктрины вело к тому, что культура также понималась как материал политики, легко преобразуемый в нужном направлении при нажиме сверху. Все явления культуры, оцениваемые государством позитивно, «поднимались» до высших политических оценок, а все культурные явления, оцениваемые официозом негативно, «опускались» до биологии и третировались как «недосоциальное», не доведенное до нужных критериев, т.е. низменное и извращенное. Неслучайно «буржуазное» и «декадентское» искусство в СССР постоянно характеризовалось при помощи физиологических и психиатрических терминов.
В связи с социобиологической интерпретацией колхозного и советского строительства поэма Н. Заболоцкого «Торжество земледелия», в которой иронически рисовалась триумфальная победа природы над социальными отношениями, была квалифицирована как пародия и клевета на колхозную жизнь и сатира на сталинскую коллективизацию, а поэт был заклеймен как подкулачник и проводник кулацкой идеологии [20]. В то же время шолоховская «Поднятая целина» была поднята на щит советской идеологии как эффектная пропаганда победы большевистской политики над природой страны, над природой человека — с его частнособственническими инстинктами, натуральным хозяйством, вековыми традициями донского казачества и русского крестьянства, опытом взаимодействия с окружающей природой. Само название шолоховского романа, воплотившего «социальный заказ» Сталинской эпохи, должно было символизировать одоление «неосвоенной природы» (поднятие «целины») — одновременно: непаханой земли и непреобразованного человеческого материала.
Написанная на шолоховский сюжет опера И. Дзержинского «Тихий Дон» (сегодня прочно забытая) сразу стала эталоном музыкального соцреализма. 17 января 1936 г., во время гастролей МАЛЕГОТа в Москве, спектакль посетили Сталин и Молотов, встретившиеся с автором оперы и руководителями постановки. Во время беседы вожди «дали положительную оценку работы театра в области создания советской оперы, отметили значительную идейно-политическую ценность постановки оперы „Тихий Дон“» [21]. Акад. Б. В. Асафьев в то же время резюмировал: «„Тихий Дон“ — на своем этапе — отстоял и оправдал права на признание здоровых и жизненных корней в советской опере» [22]. Воодушевленные успехом и признанием композитор И. И. Дзержинский и дирижер спектакля С. А. Самосуд откликнулись на беседу с благосклонными вождями проникновенными статьями, опубликованными 21 и 24 января 1936 г. [23].
А 28 января в «Правде» была опубликована знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», — не то продиктованная Сталиным, не то написанная по его заданию — в связи с посещением 26 января вождями в ГАБТе оперы Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» [24]. В статье «естественной, человеческой музыке» [как в опере «Тихий Дон» И. Дзержинского. — И.К.] противопоставлялась «нервозная, судорожная, припадочная музыка» Шостаковича [заимствованная, по мнению авторов статьи, из джаза! — И.К.], которая затем называется еще «дергающейся, крикливой, неврастенической». «Опера эта сумбурна и абсолютно аполитична», — поэтому, говорится в статье, «она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории». Неоднократно подчеркивая «грубо натуралистические черты» музыки Шостаковича, статья утверждает, что «музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены»; «в таком же грубо натуралистическом стиле показана смерть от отравления, сечение почти на самой сцене». «…Сцена преподносит нам в творении Шостаковича грубейший натурализм. Однотонно, в зверином обличии представлены все — и купцы и народ» [25].
Так, Д. Шостакович был осужден за «натурализм» и «физиологизм» его музыки, будто бы проявившиеся в его опере «Леди Макбет Мценского уезда», которая в одночасье предстала едва ли не чисто биологическим феноменом! Стремясь «идти в ногу со временем», Б. Асафьев счел возможным охарактеризовать Шостаковича «как композитора музыкального театра „вне этики“», ссылаясь не только на «Леди Макбет», но и на более ранний «Нос» [26]. Если «Нос», по Асафьеву, посвящен изображению «людей — нелюдей», то «Катерина Измайлова» [второе название оперы «Леди Макбет». — И.К.] обращена к «предельно цинично себя обнаруживающей чувственности» [27]. Ставший к этому времени вполне официозным критиком, Б. Асафьев задним числом объяснял предпочтение Сталиным оперы И. Дзержинского — опере Д. Шостаковича: «…Советская общественность резко предпочла оперу таланливого юноши Дзержинского „Тихий Дон“, потому что в ней на основе эпизодов знаменитого романа Шолохова повеяло свежестью народной лирики и реализмом народных характеров. На сцене вновь появились люди живой интонации и естественной повадки, мелодии одушевились песенностью, лирика стала вновь выразителем здорового чувства. Вот за эти дорогие слуху и сердцу массового слушателя свойства опера „Тихий Дон“, при некоторой ее профессионально несовершенной технике, была приветно принята и прошла почти по всем оперным сценам Советского Союза» [28].
В терминах тоталитарной идеологии доступная массам музыка Дзержинского означала естественность, народность и здоровье — нравственное и физическое, а музыка Шостаковича («антинародная») демонстрировала извращение, звериные нравы, психическую болезнь и… цинизм, безнравственность в отношении человека (особенно «простого человека»). Музыка Дзержинского казалась политически ценной, одухотворенной, по-советски человечной (хотя и культурно несовершенной), но это не беда: учиться можно бесконечно! А музыка Шостаковича виделась аполитичной, безыдейной, культурно-изощренной и… бесчеловечной (!). Дзержинский был «свой» в советской тоталитарной культуре, простой и понятный, а Шостакович — «чужой», странный, непонятный и даже враждебный тоталитарной культуре, от которого всего можно было ожидать.
Иван Дзержинский — в рамках советской идеологии — воплощал надежную и ясную политическую ангажированность советского человека, безусловно поддерживающего любые инициативы вышестоящей власти. (Может, даже его фамилия казалась руководству страны «социально близкой»!) А Дмитрий Шостакович в советской системе длительное время воплощал «темное», политически неконтролируемое, бессознательное начало, ассоциировавшееся с биологической подоплекой человека, упорно сопротивляющейся политике, властному дискурсу, а потому оправдывающей творческий индивидуализм и, почти наверняка — политический анархизм. Более того, Шостакович в Советском Союзе довольно долго (и ярко!) символизировал своего рода советское «дегенеративное искусство» (термин германской пропаганды), авангардистский нонконформизм — со всеми вытекающими отсюда последствиями — для искусства, для народа, для вождей и самого творца…
В результате складывался очень своеобразный статус культуры (включая науку, искусство, философию и т.д.) в контексте тоталитарного общества. Культура фактически лишалась собственной ценности и функциональности. У нее было два пути — возвышения и падения: либо культура становилась средством политики (а значит, и частью политики); либо она превращалась (метафорически и буквально) в продукт разложения, презренную биомассу, отходы социально-политического строительства. Тогда она принадлежала физиологии, биологии, медицине, анатомическому театру и служила образцом непригодного к употреблению продукта человеческой жизнедеятельности, обреченного на изъятие, осуждение и уничтожение.
Советская культурология, складывавшаяся в 1970–80-е годы, последовательно отделяла себя от биологии и представляла себя как общественную науку, далекую от естественнонаучных изысканий. Общепризнанный лидер социально-культурных и культурно-антропологических исследований того времени Э. С. Маркарян так определял «культуру»: «Данное понятие, как бы различно его ни понимали и трактовали, так или иначе призвано выразить в современном обществознании своеобразие человеческой жизнедеятельности и провести разграничительную линию между нею и биологическими формами жизни» [29]. Далее, культура рассматривается как один из аспектов сферы социальной жизни («организация культуры», или «структура культуры») — наряду с «социальной организацией» (социальной структурой) и «организацией деятельности» (структурой деятельности) [30].
Сравнивая поведение коллективных организмов (объединений «сугубо биологического порядка») с социальными коллективами, Э. Маркарян утверждал, что для последних характерно «наличие специальной надындивидуальной и внеорганической системы средств накопления, хранения и передачи из поколения в поколение существенно важной для коллективного объединения информации, программирующей действия входящих в него членов». Подобная система средств невозможна «на базе биологических принципов организации жизни». Для организации коллективной жизни необходимы «специфические средства регулирования» — сознание и основанные на нем различные «интенциональные знаковые (символические) системы» [31].
«…Можно сказать, что под культурой, — заключает Э. С. Маркарян, — в самом широком общесоциологическом смысле следует понимать особую систему средств, позволивших, с одной стороны, качественно изменить общие биологические закономерности непосредственно приспособительного отношения к среде, осуществляемого естественными органами особей, путем искусственно созданных посредствующих звеньев — „органов-посредников“ (орудий труда), а с другой — заменить механизм инстинкта как общий принцип организации коллективной жизни в сообществах животных. С этой точки зрения внебиологически выработанная человеком система, воплощенная в мире культуры, выполняет свои функции в двух основных планах: в плане взаимодействия общества (как коллективного субъекта действия) и внешней природной среды и в плане взаимоотношений самих человеческих индивидов…» [32].
Определяя культуру как исключительно надбиологическое и внебиологическое явление, придавая ей по преимуществу черты социального дискурса, культурология (в ее марксистском и постмарксистском изводе) значительно сужала свой познавательный кругозор, а в каких-то отношениях оказывалась совершенно бессильной перед лицом новых вызовов природы, общества и самой культуры. Сегодня очевидно, что подобная (внебиологическая) установка фундаментальной науки о культуре (а также всех связанных с нею междисциплинарных проектов) исключает из своего поля зрения целый ряд актуальных аспектов культурологических и культурно-антропологических исследований, которым, несомненно, принадлежит большое (и с каждым годом все бóльшее) будущее. В каждом из них так или иначе содержится биологический дискурс культуры.
— Этнологические и этнокультурные исследования, неотделимые от изучения ландшафта и биосферы [ср.: 33].
— Исследования национальных картин мира и этнокультурных менталитетов [ср.: 34].
— Изучение этнокультурных стереотипов и межнациональных конфликтов [ср.: 35].
— Гендерные исследования различной проблематики, в том числе относящиеся к культуре и искусству [ср.: 36].
— Исследования телесности в контексте культуры [ср.: 37].
— Этологические исследования (в частности, сравнительное изучение поведения животных и людей, биологических и социальных популяций и т. д. [ср.: 38].
— Исследования в области эволюционной эпистемологии [ср: 39].
— Исследования в области культурной эволюции [ср.: 40].
— Исследования в области культурогенеза и смыслообразования [ср: 41].
— Исследования генома [ср.: 42].
— Исследования в сфере бессознательного [ср.: 43].
— Исследования в области генетики культуры [ср.: 44].
— Исследования геномной культуры, науки и искусства в эпоху постбиологии, в том числе биоарта [45].
— Культурологические аспекты медико-биологических исследований [ср.: 46].
— Междисциплинарное изучение биосферы, семиосферы и ноосферы [ср.: 47].
— Социокультурное исследование пандемии и ее разнообразных последствий для общества и культуры [ср.: 48].
Список проблемных полей науки на пересечении культуры и биологии может быть успешно продолжен.
Победа социализированной и политизированной культуры над биологией, на первый взгляд, успешно одержанная к началу XXI в., на деле оказалась поражением культуры перед лицом новых испытаний, которые готовила природа — в лице биологии — неподготовленному к ним обществу. Биология оказалась в конечном счете неподконтрольной культуре и не управляемой обществом. Но это было еще полбеды. Главным итогом безуспешной борьбы культуры с биологией была неготовность культуры к управлению биологическими процессами — при наличии соответствующих социокультурных амбиций. Попытки высокотехнологичной культуры радикально вторгаться в пространство биологии с целью ее «исправления», глубинной трансформации — в соответствии с далеко идущими социальными, а, может быть, даже и политическими целями — обернулись непредсказуемым «восстанием» биологии против человека, и культура была бессильна противостоять ему.
«СИЗИФОВ ТРУД»:
История роковой болезни со множеством неизвестных
Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди <…> Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца. И это расплата за земные привязанности.
Альбер Камю. Миф о Сизифе [49]
И вот пришел коронавирус… Прошло полгода с тех самых пор, когда нам стало известно о его существовании. Точнее — его возникновении. Уже примерно 9 месяцев вызванная им болезнь, получившая имя COVID-19, уверенно шагает по планете. Миллионы заболевших на всех континентах во всех странах (на конец июня — 10,5 млн.). Продолжается рост заболеваемости и смертей (на конец июня — свыше полумиллиона летальных исходов). И неутешительный итог. По-прежнему, мы почти ничего не знаем о смертоносной эпидемии. Множество версий, связанных со средствами борьбы, способами лечения, разработкой лекарств и вакцин, либо не подтвердились, либо были отвергнуты, либо забылись. Количество слухов, фейков и конспирологических интерпретаций растет в геометрической прогрессии, — в том числе и в официальных источниках информации всех стран. Все попытки прогнозировать исход пандемии или сценарии ее возможного развития обнаружили свою несостоятельность. Почти всё известное нам из области вирусологии в отдаленном и недавнем прошлом оказалось неприменимым в отношении данного коронавируса — SARS-CoV-2.
Собственно, даже о вызываемой коронавирусом болезни мы при обобщении накопленного медицинского опыта не можем сказать ничего определенного. Легкая и быстрая заражаемость — как у гриппа и даже еще более мобильная. Тяжелая форма пневмонии, которая с трудом лечится, но полностью не излечивается. В конце концов выясняется, что это вообще не респираторное заболевание, а скорее болезнь сосудов. Опасное воздействие коронавируса на многие внутренние органы — почки, печень, кишечник, поджелудочная железа и т. д. Воздействие на кровь и ее свертываемость, опасность тромбоза и угроза внезапного инфаркта и инсульта, повышенный риск для страдающих диабетом; наконец, и это самое тревожное, — необратимые процессы в мозгу, возможно, являющиеся первоисточником всех дальнейших патологий. Короче говоря, COVID-19 — это «болезнь Всего», это универсальная болезнь человека и в целом человечества. Очень сомнительно, что такая «суперболезнь» могла возникнуть спонтанно, в «дикой природе». Но это еще не всё. Многочисленные осложнения, рецидивы и последствия у больных, перенесших болезнь и заработавших новые заболевания. Отсутствие вырабатываемого у переболевших ковидом стойкого иммунитета и постепенные ослабление и утрата иммунитета, обретенного в ходе тяжелой болезни, участившиеся случаи повторного заболевания. Формирующиеся у выздоровевших пациентов ковида антитела имеют тенденцию снижать свой уровень и самоликвидироваться. Налицо рост числа бессимптомных больных, являющихся скрытыми носителями и распространителями коронавируса. Ожидание «второй волны», которая, по некоторым признакам, в мире уже началась, не дожидаясь «осеннего призыва», уже подтверждается. Предчувствие того, что в ближайшем будущем пандемия коронавируса станет если не постоянным спутником человечества, то сезонным явлением, наподобие гриппа, вполне реально. Надежды на выработку коллективного иммунитета практически нет. Наконец, — быстрая и непредсказуемая мутация вируса, ведущая к бесконечному умножению штаммов болезни (пока зафиксировано 6 основных форм вируса, но их число продолжает множиться), что делает борьбу с различными версиями коронавирусной инфекции особенно сложной, многомерной и мало прогнозируемой, а создание эффективной вакцины против ковида-19 становится весьма проблематичным.
Все это, перечисленное выше, составляет внешнюю, поверхностную «пленку» противоречивых событий широко развернувшейся пандемии. Однако за этой пестрой картиной, во многом еще носящей биологический, медицинский и социально-демографический характер, выступает глубинное, внутреннее содержание, выходящее далеко за рамки медико-биологического дискурса, подлежащее гуманитарному и по преимуществу культурфилософскому анализу и осмыслению. Собственно, складывающаяся сегодня довольно мрачная и безысходная картина пандемии — это следствие именно культурного взгляда на роковую болезнь и ее загадочное происхождение.
В самом деле, говоря — в заглавии этого раздела — об «истории болезни», я имел в виду не историю ее протекания, а историю ее происхождения. Но и в этом случае анамнез этой болезни связан не столько с зарождением вирусной эпидемии и различными медицинскими симптомами, сколько с рождением настоящей пандемии как социокультурного феномена. Пандемия COVID-19 развивается по преимуществу в контексте культуры, а не в контексте биологической эволюции. И здесь сам фактор многозначности и смысловой неопределенности этого феномена «работает» на трудное понимание его природы. Замечу: человеческой природы, культуральной природы.
Всё дальнейшее изложение истории коронавируса SARS-CoV-19 и вызванной им пандемии представляет собой одну из возможных версий развития событий, изложенную мной с позиций культурологии. При этом сам вирус, подходы к его изучению, последствия его пандемического распространения в мире рассматриваются по преимуществу как культурно-исторические и социокультурные явления в контексте культуры и диалога культур. Я не пытаюсь глубоко проникнуть в собственно биологические и генетические проблемы, встающие перед соответствующим специалистом при обращении к этой теме. Можно сказать, что в данном случае биология и микробиология видятся в культуральном, или культурологическом дискурсе, что, несомненно, придает воссоздаваемой картине пандемии своеобразный гуманитарный смысл, не только не отменяющий другие дискурсивные подходы к этой проблеме (биологический, медицинский, демографический, геополитический, биоэтический и т.п.), но, напротив, предполагающий взаимодополнительность различных дисциплинарных подходов, а в их сочетании и соединении — междисциплинарность, характерную для гуманитаристики в целом и прежде всего для культурологии.
В самом деле, вирус, каким бы он ни был, какого бы происхождения он ни являлся, относится к биологии человека (а не только к области микробиологии), и все промежуточные животные — дикие или домашние — всего лишь его переносчики и распространители в человеческой среде. Конечная цель жизнедеятельности вирусов — возможно более полный охват человеческой популяции и ее максимальное сокращение. В то же время человеческий организм представляет собой оптимальное пространство для обитания, размножения и распространения среди других людей бесчисленных вирусов.
Человек и вирус относительно легко адаптируются друг к другу, в том числе и в случае появления новых вирусов, неизвестных медицине и науке. Высокая заразительность большинства вирусов только подтверждает эту закономерность и увеличивает его шансы на «победу над человечеством», хотя бы и временную, и далеко не окончательную. Будучи бесконечно малой единицей «живого вещества», вирус обладает рядом свойств, которые делают борьбу человека с ним сложной, факультативной, долгой и во многом непредсказуемой.
Во-первых, это его незаметность в окружающей человека среде, а потому и его неуловимость.
Во-вторых, это непрерывная и активная адаптация вирусов к человеческой среде и практическая неустранимость из человеческого общежития.
В-третьих, — постоянная и быстрая мутация вирусов, что делает усилия медиков и ученых по разработке и применению средств противодействия вирусам (включая лекарства, вакцины, средства защиты и дезинфекции) несвоевременными, неэффективными, ненадежными, недолговечными.
В-четвертых, это идеально легкое и быстрое распространение вирусов в человеческих коллективах всеми доступными способами заражения — воздушно-капельным путем (т.е. через дыхание и осязание, при общении), через органы пищеварения и выделения (во время питания и выполнения гигиенических процедур), через кровь (при переливании крови, при заражении крови, при инъекциях), при половых контактах и т.д., — т.е. комплексно и универсально. Нынешний коронавирус также парадоксально тяготеет к универсальности и демократизму, а потому его распространение и охват населения мгновенно приобрели глобальный масштаб.
А теперь — о его происхождении. Если отбросить совсем абсурдные конспирологические измышления (вроде всеобщего «чипирования», вышек связи 5G, коварных проектов Билла Гейтса, Джорджа Сороса, Германа Грефа, Трампа и «мирового правительства» по сокращению человечества, создания под предлогом карантина «цифрового концлагеря» и т. п. бреда), остаются только две версии для серьезного обсуждения.
Одна, официальная версия правительства КНР (от которой впоследствии власти Китая частично отмежевались, но не до конца) — это зарождение коронавируса на рынке морских продуктов «Хуанань» в городе Ухань. Однако в дальнейшем оказалось, что коронавирус не имеет отношения ни к «морским продуктам», ни к «мокрому рынку» в Ухане (где никогда не продавались летучие мыши и панголины, с геномом которых геном короновируса SARS-CoV-2 обладает значительным сходством), мясо которых, кстати, не употребляют в пищу жители Уханя и провинции Хубэй.
Известно, что подковоносые летучие мыши водятся в гораздо более южных провинциях Китая; в климате Уханя они просто не выживут из-за довольно холодной зимы. Место обитания этой разновидности летучих мышей — пещеры Шиту и Янзи в провинции Юньнань, находящиеся на расстоянии примерно 1500 км от Уханя. Что же касается панголинов, то эти ящеры, занесенные в Красную книгу, вообще обитают за пределами Китая — в Малайзии и на островах Меланезии и Индонезии [50].
Сами по себе оба типа этих животных оказаться в Ухане и на уханьском рынке не могли. А как биоматериал для научных экспериментов они могли быть привезены, но не на рынок, а в спецлабораторию.

Первый выявленный в Ухане (в начале декабря 2019 г.) пациент ковида-19 не посещал рынок «Хуанань», но вирус получил в середине ноября где-то в другом месте Уханя. Продаваемые на уханьском рынке животные в ходе начавшихся проверок не дали положительных образцов коронавируса. Однако официальная версия, заявленная правительством КНР в конце декабря, казалась поначалу вполне убедительной, так как было известно, что в Китае, особенно в южных провинциях (как и вообще в странах Юго-восточной Азии), традиционно употребляются в пищу мясо многих экзотических животных. Причем этому, как правило, придается особое — либо медицинское, либо символическое (во многом мифологическое) значение (в принципе непонятное представителям западных цивилизаций). Всё можно было «списать» на национальные традиции южных провинций Китая и невежество простонародья, не соблюдающего элементарных санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни.
Совпадение генома коронавируса SARS-CoV-2 с геномом подковоносых летучих мышей и еще более редких реликтовых ящеров панголинов (те и другие являются экзотическими обитателями Юго-восточной Азии) было подтверждено во многих научных центрах микробиологии, что способствовало распространению в мире официальной версии происхождения коронавируса как локальной проблемы, носящей региональный и едва ли не этнокультурный характер. Правительство КНР, руководство КПК и силы приведенных в боевую готовность подразделений Народно-освободительной армии Китая приняли исключительные, крайне жесткие меры по локализации эпидемии в границах города Уханя (с 11-миллионным населением) и провинции Хубэй. В той или иной мере экстраординарные меры по изоляции населения коснулись и других крупных городов в соседних провинциях, а затем распространились и на Китай в целом.
Если бы локализация эпидемии удалась, история с коронавирусом SARS-CoV-19 осталась бы внутренней трагедией населения Китая, как это и произошло в 2002 — 2004 гг. с эпидемией «атипичной пневмонии», вызванной родственным нынешнему коронавирусу SARS, инфицировавшему (по официальной статистике) более 8000 и унесшей жизни 774 человек. Эта эпидемия тогда практически не вышла за границы Китая, и таинственное ее происхождение в то время мало кого в мировом сообществе заинтересовало, кроме профессионалов — микробиологов, вирусологов, генетиков и представителей военных разведок.
Такая же надежда питала политиков и ученых в начале пандемии второго вируса из семейства SARS. Более того, по поводу нового коронавируса по всем каналам мировых СМИ распространялась утешительная информация, что SARS-1 был более смертоносен, чем SARS-2 (около 10%), а большая заразительность SARS-2 по сравнению с его предшественником как бы гарантировала легкость его протекания и относительно низкую летальность (на уровне сезонного гриппа — порядка 2 — 3%). Эта информация впоследствии активно использовалась пропагандистами и политиками, желавшими успокоить свою аудиторию относительно начавшейся пандемии: что слухи о смертельной угрозе сильно преувеличены и это делается специально в определенных целях заинтересованными лицами, раздувающими массовую истерию. Этим подогревалась конспирологическая подоплека официальной информации, поскольку создавалось впечатление, что навязывание единственной версии событий обусловлено стремлением властей скрыть истинное положение вещей.
Внешняя убедительность и логичность этой версии, обеспечившие ее распространенность, побудили власти КНР при возникновении новой вспышки пандемии коронавируса в Китае (на этот раз в самом Пекине) обратиться к той же версии происхождения эпидемии (к тому времени уже порядком скомпрометированной) [51]. Сообщалось, что на оптовом рынке «Синьфади» на досках для разделки лосося были обнаружены следы SARS-CoV-2 (при том, что лосось, как и другие морепродукты, не является носителем и даже распространителем коронавируса). Эпидемия (или вторая волна пандемии) очень быстро распространилась в Пекине, и северная столица была отрезана от остальной территории страны (пока нет достоверной информации о том, как распространяется вторая волна пандемии за пределами Пекина).
Дополнительная информация в этом сообщении состоит в том, что, в отличие от «уханьского» вируса, «пекинский» вариант распространяется быстрее (за 4 дня пекинской эпидемии зараженных было выявлено столько же, сколько за 2 недели распространения «уханьской» волны), т.е. по крайней мере в 3,5 раза, и что это уже не «китайский» штамм ковида, а «европейский» (т.е. гораздо более опасный с точки зрения заразительности и летальности), завезенный «кем-то из Европы» [51]. Понятно, что последняя деталь, прокомментированная уханьским вирусологом Ян Чжанцю, была продиктована стремлением китайского руководства разделить свою ответственность за пандемию с другими государствами (в частности, европейскими). Но эта интерпретация коронавируса мало у кого встретила поддержку, и особенно в европейских странах, переживших пандемию с чрезвычайно высокой смертностью и тяжелым карантином из-за «китайского» следа (например, в Италии, Испании, Великобритании и др.).
Здесь надо сказать, что официальная китайская версия происхождения пандемии коронавируса постепенно дезавуировалась и сегодня все меньше вызывает доверия в мировом сообществе. И этому способствует целый ряд бесспорных фактов, установленных за последнее время.
Во-первых, продуктовый рынок, в том числе связанный с продажей экзотических диких животных (на рынке «Хайнань» до 1 января 2020 г. продавались: живые кошки, барсуки, бобры, крокодилы, собаки, лисицы, гигантские саламандры, сурки, выдры, павлины, дикобразы, ежи, крысы, голуби и змеи, в том числе ядовитые) мог стать местом распространения вирусной инфекции, но не мог быть источником возникновения нового коронавируса [52].
Во-вторых, мысль о том, что от летучих мышей коронавирус передался, с одной стороны, дикой циветте, а, с другой стороны, панголину, которые, в свою очередь, передали его человеку, от чего в первом случае образовалась атипичная пневмония, а во втором — ковид-19, — в принципе не реализуема на практике. Известно, что ни циветта, ни панголин не встречаются в дикой природе с летучими мышами, как и друг с другом; допущение же, что эта передача произошла на «мокром рынке», где случайно оказались рядом эти экзотические животные, еще менее вероятна и носит совершенно умозрительный характер.
В-третьих, как известно, на рынке «Хайнань» не продавались ни летучие мыши, ни панголины, и в Ухане нет традиции употребления в пищу или использования в медицинских или ритуальных целях этих животных, а это значит, что источником пандемии коронавируса не мог быть этот рынок, как и другие аналогичные рынки в Ухане [53].
В-четвертых, уханьская эпидемия, по-видимому, началась не в конце декабря 2019 г., как сообщали официальные лица, а гораздо раньше — (а в конце 2019 г. она реально вышла из-под контроля медиков и властей Уханя) [54]. Несостоятельность официальной версии была убедительно доказана на основании многочисленных источников (китайских и зарубежных) А. Илларионовым в статье «Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня» [55]. Заслуживает особого внимания информация о произошедшем 7 декабря 2019 г. в новейшей лаборатории УИВ мощного взрыва, вероятно, и ставшего стартом эпидемии в Ухане (взрыв, как и вызванные им значительные разрушения, зафиксированы со спутников НАСА). В результате «уханьского Чернобыля» «в атмосферу города были выброшены вирусы, ранее никогда в природе не существовавшие. Созданные для ведения бактериологической войны в условиях современных мегаполисов. Так китайские военные случайно раскрыли бездонный ящик Пандоры, выпустив на волю невидимую смерть» [56].
К этому остается задаться вопросом: зачем создавалась властями Китая столь неубедительная и противоречивая версия происхождения коронавируса и начавшейся с Уханя мировой пандемии? — Ответ: для того, чтобы скрыть подлинную историю коронавируса SARS-CoV-19 за бытовыми и ритуальными подробностями традиционной китайской культуры. Это поначалу удалось. Правда, ненадолго. Но это означает, что подлинная история болезни, которую приходится тщательно скрывать, в чем-то существенном была предосудительна, с точки зрения мирового сообщества, и сомнения в ее объективности и аргументированности сопровождали ее с самого начала.
Однако и в этой, во многом вымышленной, официальной истории нового вируса есть свой культурологический смысл. Представим невероятное: нынешний коронавирус, действительно, стихийно возник на рынке Уханя или Гуанджоу (или любого другого южнокитайского города) в результате случайного соседства летучих мышей, панголинов, змей и т. п. живности, находящейся в свободной продаже местному населению. А затем — в условиях рыночной толчеи, скученности, антисанитарии — передался покупателям и незаметно и быстро распространился по многомиллионному городу с плотным населением. Если мы условно допустим такую логику развития событий, попытаемся ее культурологически осмыслить и концептуализировать.
На рынке, подобном уханьскому «Хайнань», шире — в среде азиатской повседневности постоянно происходит аккультурация биологии в формах дикой, не очеловеченной природы. Все эти редкие, экзотические животные в естественных условиях своего обитания обычно не встречаются с человеком и переносят свои вирусные заболевания в соответствии со своей биологической природой и даже без особого риска для своего вида. Не передают они своих вирусов и другим диким животным, не встречающимся им в данных природных условиях. И вот, они изъяты из своей биологической среды, перемещены в другую, непривычную для них среду и в состоянии стресса, тревоги, смертельного страха они — вольно или невольно — передают другим биологическим существам (в том числе и человеку) свои инфекции, передаваемые вирусами, адаптируют свои вирусы к человеку, что служит началом будущей пандемии.
Но, спрашивается, что заставляет современных людей извлекать живые компоненты дикой природы из родной им фауны и флоры, из привычного ландшафта и климата, продавать и покупать их, а затем — употреблять в пищу или использовать в практиках народной медицины и тем самым подвергать себя и своих близких огромной, а часто и смертельной опасности? — Мифологические представления, пронизывающие и рецепты традиционной китайской кухни (соответствующих провинций), и практики народной китайской медицины, и поверья, приметы, ритуалы, гаданья, сохранившиеся в почти неизменном виде в народной жизни, — весь повседневный быт носителей традиционной китайской культуры — включают в себя неистребимые элементы тысячелетней архаики. Опора на константные традиции древности — такой культурно-исторический контекст аккультурации биологии заложен в основание современной пандемии.
Этим традициям, этим мифологическим представлениям, этим суевериям, передаваемым из поколения в поколение без всяких изменений, насчитываются тысячи лет. Так, например, народная китайская медицина сложилась в своих истоках свыше 8 тысяч лет назад и включала в себя различные магические обряды, поедание ритуальных животных (в том числе в сыром, термически не обработанном виде и даже вживую!) с целью приобрести их силу, ловкость, хитрость, ум и сакральные свойства. До сих пор в Китае существуют стойкие представления (или предрассудки) о пользе для различных органов человеческого тела от поедания мяса и иных составляющих телесности (внутренних органов, когтей, шерсти, чешуи и т.п.) того или иного животного, как правило, редкого. То же касается средств лечения тех или иных болезней, — они всегда были неотделимы от магии и мифологии, сложившихся в Древнем Китае с незапамятных времен.
Таким образом, в официальной китайской версии происхождения пандемии коронавируса всё объясняется господством древнейшей зооморфной мифологии и ритуалистики в современной китайской культуре, включая культуру повседневности, в массовом сознании, в бытовом поведении и жизненных практиках, что, впрочем, вполне соответствует действительности. Опасная близость человека к дикой природе (характерная для первобытного общества), неотделимость культуры от биологии (без какой-либо опосредованности социумом и достижениями человеческой цивилизации, включая правила гигиены), даже подчас отождествление культуры и биологии как совокупности высших жизненных ценностей, обеспечивающих жизнедеятельность человека (лежащую, с точки зрения восточного миросозерцания, в основании любой социальной и культурной деятельности) — вот важнейшая первопричина большинства смертоносных пандемий, начинавшихся неслучайно в дебрях Юго-восточной Азии, а также Южной и Восточной Азии (включая чуму, холеру, натуральную оспу, «испанку», птичий и свиной грипп и т.д.).
Длительная, многотысячелетняя история автохтонной китайской культуры компенсируется накоплением архаики преимущественно мифологического и легендарного происхождения (включая идеи Лао-цзы, Конфуция и др. мудрецов древности, древнейшие сакральные тексты, вроде «Книги перемен» и т.п.) и обладает непререкаемым авторитетом и незыблемым статусом на протяжении сотен веков, войдя не только в философию, искусство, но и в менталитет китайского народа, а вместе с тем — в повседневные бытовые и даже научные практики.
Культурное наследие (неотделимое в Китае от природного наследия), сакрализованное и ритуализированное, в каждый период истории Китая довлеет над современностью, пронизывает ее и подчиняет себе. В этом отношении традиционная китайская культура, очень последовательно и жестко противостоящая любой модернизации, представляет собой уникальное реликтовое образование, аккумулировавшее в себе (под видом сохранения и укоренения традиций) множество не только культурно-исторических достижений и открытий, но и предрассудков обыденного сознания, мистических и донаучных представлений и заблуждений, ошибочных обобщений и религиозных догм [57]. Не случайно в национальных представлениях китайцев существует не «История китайской культуры» (как в российских представлениях о Китае [58]), а «Китайская культура», пребывающая вне истории, а как бы в вечности и неизменности.
Вторая, альтернативная версия происхождения пандемии, версия, представляющая опасность для авторов первой, официальной версии, состоит в признании самого вируса — искусственным, синтетическим. Это означает, что природа коронавируса SARS-CoV-19 лишь отчасти биологическая, но прежде всего культурная (социокультурная). Рукотворный вирус представляет собой не только и не столько биологический материал, сколько произведение культуры, в котором биология присутствует в «снятом» виде, и уже в этом качестве его можно рассматривать как генно-модифицированный продукт, а в зависимости от гипотетических целей подобной модификации биологического материала — его можно интерпретировать как феномен науки (науки и техники), искусства (своего рода биоарт) и (косвенно) политики [59]. А далее осмысление может идти совсем «вразнос»: если это — научный эксперимент, то какова была его гипотеза и что получилось в результате? Если это своеобразный биоарт, то на какой эффект и на какую аудиторию рассчитано это «элитарное» (или «массовое»? ) искусство? А если это политический проект, то что стоит за ним? какую политику (биополитику, геополитику, социальную или культурную политику) он представляет? какое политическое воображение движет им и его модификациями на протяжении нескольких десятков лет?
Итак, это многозначное, многогранное явление культуры. Оно одновременно представляет собой и научное открытие, и техническое изобретение, и постбиологическое искусство, и акт биополитики. А в основании его лежит традиция (во многом мифологического происхождения) — видеть в биологии нечто большее, чем просто биология, находить в ней ключ к общественным явлениям и процессам, способ влиять на людей и общество в целом, управлять ими, т.е. придавать биологии не просто культурное, но и социальное, и даже сакральное значение. Иными словами, средствами науки конструировалось универсальное социокультурное явление в биологической форме, обладающее фронтальным, многогранным и многоаспектным воздействием на человека, — явление, которое нуждается в столь же многомерном культурологическом осмыслении.
Перед исследователями встает и другой вопрос: с какой целью его создавали? почему его конструировали именно таким, а не иным образом? почему для его осуществления и функционирования была избрана именно биологическая форма? чего добивались создатели от нового рукотворного вируса как явления культуры — и похожего и непохожего на предшествующие формы естественных вирусов?
Версия об искусственном происхождении SARS-CoV-19 предполагает выявление его создателя. Единственный претендент на «авторство» нового коронавируса — это Уханьский институт вирусологии (УИВ), находящийся неподалеку от рынка «Хуанань» (что облегчило авторам официальной версии реализовать убедительную переадресацию места рождения коронавируса).
Институт был основан в 1956 году как Уханьская лаборатория микробиологии Академии наук Китая. В 1961 году он стал Южно-Китайским институтом микробиологии, а в 1962 году был переименован в Уханьский институт микробиологии. С 1964 г. Институт стал специализироваться на изучении патогенных вирусов. В июне 1978 года он был переименован в Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук [60]. Первоначально это был довольно открытый НИИ, регулярно публиковавший результаты своих исследований и допускавший к участию в своих научных программах иностранных специалистов (в том числе из США, Австралии, Франции и др. стран. Финансирование исследований в УИВ осуществлялось не только их бюджетных средств КНР, но и из государственно-частных зарубежных фондов (США, Австралия).
После возникшей в 2002—2004 гг. эпидемии атипичной пневмонии SARS (возможно, вызванной утечкой вируса из одной из вирусологических лабораторий КНР) в Китае была разработана (2003 г.) Национальная концепция развития вирусологии. В течение свыше 10 лет на основе УИВ шло строительство Национальной лаборатории биобезопасности четвертого уровня защиты (BSL-4). В 2015 году в сотрудничестве с французскими инженерами и архитекторами из Лиона создание этой лаборатории (Р-4) в институте было завершено. На ее строительство и оборудование было затрачено 300 млн юаней (44 млн долл. США) бюджетных ассигнований КНР.
За последние 6 лет лаборатория Р-4 УИВ получила, кроме средств из национального бюджета, также в общей сложности 7,4 млн. дол. (финансирование было остановлено только 24 апреля 2020 г.) в рамках американской государственно-частной программы PREDICT через оператора EcoHealth Alliance (руководитель Питер Дасзак), финансировавшейся Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США (с 1984 г. директор — Антонио Фаучи, ныне — главный эпидемиолог США). Эта лаборатория, по всей вероятности, и стала центром по проведению экспериментов с вирусами семейства SARS под руководством знаменитого сегодня вирусолога Ши Чжэнли, возглавляющей в УИВ лабораторию Р-3 и ставшей зам. руководителя лаборатории Р-4, официально именуемой «Ключевой лабораторией специальных патогенов и биобезопасности» [61].

За свою более чем 60-летнюю историю УИВ стал довольно известным в мире научно-исследовательским учреждением, неоднократно получал одобрение и поддержку со стороны ученых мирового уровня. Поэтому поначалу заявления и комментарии руководителей Института и его лабораторий воспринимались мировым научным сообществом с большой степенью доверия. Однако вскоре стало заметно, что вся информация, поступающая из УИВ, представляет собой дополнительную аргументацию к первой, официальной версии происхождения, скорее не проясняющую ситуацию, но еще более ее запутывающую. Выдвигались все новые версии искомого животного-посредника — между летучими мышами и человеком.
Первым претендовал на эту роль экзотический панголин; затем, помимо панголина, на роль посредника была ангажирована змея. Назывались по преимуществу редкие и чрезвычайно опасные южно-китайские пресмыкающиеся — китайская кобра и южнокитайский многополосый крайт, практически неизвестные западным исследователям. «Змеиный след» происхождения нового коронавируса мотивировался тем, что змеи часто охотятся на летучих мышей, а в южных провинциях Китая змеи часто употребляются в пищу и используются в народной медицине [62]. Все эти детали были призваны, конечно, затемнить искусственное происхождение вируса и направить усилия исследователей по ложному пути. Впрочем, последняя (на момент написания данного текста) официальная версия происхождения вируса SARS-CoV-2 свелась к первоначальному вирусу подковоносов, образцы которого, оказывается, хранятся в секретной лаборатории и который на 96% совпадает с источником нынешней пандемии.
Между тем мировое научное сообщество при анализе расшифрованного генома SARS-CoV-2 обратило внимание на содержание тех 4% содержания генома, который не совпадал с вирусом летучих мышей и гипотетически принадлежал мифическому «животному-посреднику», адаптировавшему природное биологическое явление к человеку и человеческой среде. Первыми были индийские вирусологи, заявившие об искусственном происхождении вируса, но их работа под давлением каких-то сил была дезавуирована и изъята из обращения. Затем их выводы подтвердил и развил французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 г. (за открытие и расшифровку генома вируса ВИЧ) Люк-Антуан Монтанье, обнаруживший в полном геноме коронавируса вставку последовательности вируса СПИДа. Его коллега Жан-Клод Перез, выдающийся специалист по вычислительной биологии, выявил шесть вставок из генома вируса ВИЧ. Французские ученые высказали предположение, что китайские вирусологи пытались разработать вакцину против СПИДа, для чего хотели ослабить геном коронавируса и использовать его как вектор (носитель) для антигенов вируса, вызывающего СПИД [63].
На следующем этапе изучения генома SARS-CoV-2 биоинформатики из Кембриджа при помощи искусственного интеллекта обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из 8 аминокислот, которая идентична фрагменту человеческого белка. Эта вставка, как предположили ученые, отвечала за возможность проникновения вируса внутрь клетки человеческого организма [64].
Третье направление работ УИВ (осуществленное в составе международной исследовательской группы) было направлено на исправление и усовершенствование натурального вируса подковоносов. В частности, усилия ученых были направлены на усиление функции (gain-of-function) шипообразного S-белка коронавируса, полученного от летучих мышей и по своей природе не способного заражать человека. В результате коронавирусу была придана способность инфицировать людей. По этому поводу один из соавторов Ши Чжэнли доктор Ральф Барик (Университет Чапел Хилл, Северная Каролина), считающийся «отцом-основателем» современной школы синтетической вирусологии, еще в 2015 г., после публикации коллективной статьи в журнале «Nature», заявил: «Этот вирус является настолько высокопатогенным, что методы лечения, разработанные против исходного вируса SARS в 2002 году, и препараты ZMapp, используемые для борьбы с Эболой, не способны нейтрализовать и контролировать этот конкретный вирус» [65]. Видимо, такова и была цель его генной модификации.
Австралийские ученые из Университета Флиндерс в Аделаиде и Университета Латроб в Мельбурне поставили своей задачей исследовать, насколько вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, способен инфицировать разных животных. Если бы он имел естественное происхождение, то на первом месте среди инфицированных оказались бы летучие мыши. Однако, к удивлению ученых, на первом месте претендентов на болезнь оказался человек. Остроконечный белок вируса BatCoV RaTG1, обнаруженный среди летучих мышей, оказался значительно менее эффективным, чем у COVID-19, и выяснилось, что ему потребуется длительная адаптация, чтобы стать заразительным для человека. Руководитель этой серии исследований коронавирусов профессор Николай Петровский остроумно заметил, что, хотя есть возможность, что «неправильная» летучая мышь встретила «неправильного» панголина, «статистически это невероятно» [66].
Научных наблюдений и аргументации в пользу гипотезы об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 гораздо больше, чем приведенные выше. Но остановимся пока на изложенном и задумаемся над мотивами целеполагания предполагаемых «творцов» искусственного вируса:
— Почему в качестве его основы был избран вирус подковоносов?
— Зачем делались вставки в геном из вируса ВИЧ?
— Для чего потребовались вставки в геном вируса фрагментов человеческого белка?
— Какова цель усиления функций шипообразного S-белка коронавируса летучих мышей?
Нет необходимости вникать в микробиологические подробности всех этих сложных процедур генной инженерии, чтобы понять сверхзадачу сотворения искусственного вируса. Во-первых, усиление его патогенности для человека и человеческой популяции; во-вторых, усложнение его расшифровки за счет опоры на локально-китайский, во многом экзотический для Запада генный материал; в-третьих, прививка коронавирусу черт иммунодефицита, что должно осложнить разработку вакцины и лекарственных препаратов против болезни, вызываемой данным вирусом; в четвертых, усиление его заразительности и распространения в человеческих сообществах.
Все эти перечисленные задачи, решавшиеся в ходе исследований вирусов и их гибридизации, могут сводиться к двум возможным версиям создания искусственного вируса: либо речь шла о создания универсальной антивирусной вакцины (своего рода «сверхвакцины»), либо — о разработке столь же универсального биологического оружия, против которого чрезвычайно трудно разработать средства защиты и противодействия [67]. Нельзя исключить, что обе цели создателями нового вируса решались одновременно — как двуединая задача.
После утечки вируса и возникновения эпидемии в Ухане информация об экспериментах, проводившихся в институте вирусологии стали скрываться, стираться с сайтов, засекречиваться. В конце концов УИВ был выведен из системы Китайской Академии наук и был переподчинен военному ведомству. Прежнего гражданского директора института на его посту сменила женщина в чине генерал-майора.
В трактате легендарного древнекитайского полководца и мыслителя Сунь-цзы о военном искусстве (почитаемом на Востоке до сих пор) говорится: «Война — это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у нею дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает» [68]. Собственно, именно эту стратегию и тактику осуществлял Китай в связи с начавшейся пандемией, которая невольно оказалась культурной формой биологической войны.
В какой степени создание искусственного вируса в секретной уханьской лаборатории приблизил Китай к мировому господству или отдалил от него, — судить преждевременно (тем более если при этом учитывать и его случайный выброс). Мир разделился в своих реакциях на коронавирус: от ужаса до равнодушия, от политической мобилизации до ощущения апокалипсиса, от прокоммунистических настроений до возрождения расизма, от прострации до политических протестов… Но ясно одно: отныне мы живем в новом мире, в котором всё — вольно или невольно — делится на «до» пандемии и «после». И пока не ясно, как в дальнейшем жить в этом мире.
В любом случае, став источником всемирной пандемии, искусственный вирус обрек человечество на длительную, а может быть, и вечную борьбу с вырвавшейся из-под контроля человека биологической опасностью. Культура оказалась способной модифицировать и реконструировать биологическую природу, «заточить» ее против человека, но была бессильной остановить или преодолеть возникшую биологическую угрозу. Ноосфера («сфера разума»), еще недавно казавшаяся акад. В. И. Вернадскому высшим достижением человечества, способом подчинить биосферу Земли научному знанию [69], оказалась сама включенной в биосферу, неотделимой от нее и подчиненной ее закономерностям, оставшимся во многом неизвестными человеку.
Состояние войны с использованием биооружия вдруг стало постоянным для человечества, причем неясно, — это война внутри человечества (между отдельными странами или народами) или война всего человечества с неподвластной ему природой. Грань между войной и миром стала неуловимой. Глобализация мироздания подошла к человеку с неожиданной стороны — со стороны биологии — и практически уравняла шансы выживания отдельных индивидов, сообществ и человечества в целом. Уделом дальнейшей социальной и культурной жизни на Земле стала, таким образом, новая виртуальность, оказавшаяся спасительной и обнадеживающей перед лицом невидимой и непредсказуемой смерти. Но и средства спасения от общечеловеческой угрозы оказались столь же невидимыми и непредсказуемыми. Отныне виртуальная реальность становится постоянной средой обитания человека и человечества, и разные пути дальнейшего исторического развития открываются перед нами.
Примечания:
[1] Софокл. Трагедии. М.: Худож. литература, 1988. С. 39, 44.
[2] См. например: Фуко М. Рождение клиники. М.: Академический Проект, 2010; Он же. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978—1979 учебном году / М. Фуко; Пер. с фр. А. В. Дьяков. СПб.: Наука, 2010.
[3] О взаимном пересечении и смещении различных дискурсов, в том числе гуманитарных и естественнонаучных см. подробнее: Фуко М. Археология знания. 2 изд. СПб.: Гуманитарная Академия, 2012; Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
[4] О всех этих проблемах распространения «живого вещества» подробно писал акад. В. И. Вернадский. См.: Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. 2-е изд. М.: Наука, 1987. С. 262—296, особенно с. 280—282 и далее.
[5] См. подробнее: Орлов В. В. Материя. Развитие. Человек. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1974. С. 157—240. В этой работе получила фундаментальное обоснование философская концепция уровней материи и сознания. См также: Кондаков И. В. К теории пограничных процессов в культуре // Динамика культуры: Теоретико-методологические аспекты / Отв. ред. Э. А. Орлова, А. И. Арнольдов. М.: Институт философии АН СССР, 1989. С. 24—42. В этой работе обоснована концепция уровней в приложении к культуре.
[6] Орлов В. В. Человек, мир, мировоззрение. М.: Молодая гвардия, 1985. С. 108.
[7] Там же. С. 110.
[8] Там же. С. 184.
[9] Там же. С. 140.
[10] Сорокин П. А. Родовая структура социокультурных влияний // Он же. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 147—171.
[11 См. подробнее: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996; Пленков О. Ю. Третий Рейх: Арийская культура. СПб.: Нева, 2005; Он же. Третий Рейх. Культура на службе вермахта. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011; Дятлова Г. В. Искусство Третьего рейха. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013; Туровская М. Зубы дракона. Мои 30-е годы. М.: Изд-во АСТ: CORPUS, 2015. С. 163—350; Рудницкий Е. Н. Музыка и музыканты Третьего рейха. М.: Издательский дом «Классика XXI», 2017; Маркин Ю. П. Искусство Третьего Рейха. Архитектура. Скульптура. Живопись. Изд. 2-е. М.: Букс Март, 2018.
[12] См. подробнее: Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Verlag Otto Sagner, München: Abteilung der Firma Kubon & Sagncr, 1993; Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994; Соцреалистический канон / Под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. Москва: Акад. проект, 2000.
[13] См. подробнее: Сойфер В. Н. Власть и наука: История разгрома генетики в СССР. М.: Лазурь, 1993; он же. Сталин и мошенники в науке. М.: Добросвет, 2012.
[14] Мичурин И. В. Итоги шестидесятилетних работ. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 10.
[15] Это крылатая фраза И. Сталина. К ней в своих речах он с небольшими вариациями обращался неоднократно. Ср., например: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики» (Сталин И. В. Доклад на собрании актива московской организации ВКП (б) 13 апреля 1928 г. // Он же. Собр. соч. М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949, Т. 11. С.58). Или: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять» (Сталин И. В. О задачах хозяйственников // Он же. Собр. соч. М.: Государственное. издательство политической литературы, 1951. Т. 13. C.41).
[16] См. подробнее: Стенограмма заседания Ученого совета ИМЛИ им. А. М. Горького // М. М. Бахтин: Pro et contra (Русский Путь). СПб.: Изд. РХГА, 2001. Т. I. С. 325—390.
[17] Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис Пресс, 2010.
[18] Заболоцкий Н. А. «Огонь мерцающий в сосуде…»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества / Сост., Жизнеописание, прим. Н. Н. Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 325.
[19] Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1991. C. 130- 131.
[20] Усиевич Е. Новые формы классовой борьбы в советской литературе // Советская литература на новом этапе. М., Л.: ГИХЛ, 1934. С. 25—27.
[21] Цит. по: Бэлза И. Ф. Советская музыкальная культура. Краткий очерк. М., Л.: Музгиз, 1947. С.80. Текст Сообщения ТАСС о беседе Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля опубликован в кн.: Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917—1991 / Сост. Л. В. Максименков. М.: МФД, 2013 (Россия. ХХ век. Документы). С. 135.
[22] Асафьев Б. В. (Игорь Глебов). Опера // Советская опера. Сборник критических статей. М.: Музгиз, 1953. С. 51.
[23] Дзержинский И. Создадим советскую классическую оперу // Ленинградская Правда. 1936. 24 января; статья С. А. Самосуда была опубликована в «Правде» 21 января 1936 г. Стоит заметить, что дискуссия вокруг двух опер началась в газете «Вечерняя Москва 4 января 1936 г. Статьей Д. Шостаковича, который охарактеризовал оперу Дзержинского как «слабую».
[24] Сегодня известно, что автором статьи «Сумбур вместо музыки» был журналист Д. Я. Заславский, отличавшийся беспринципностью. См. подробнее: Ефимов Е. Сумбур вокруг «сумбура» и одного «маленького журналиста». М.: Флинта, 2006.
[25] Сумбур вместо музыки. Об опере «Леди Макбет Мценского уезда» // Музыка вместо сумбура: Композиторы и музыканты в Стране Советов. 1917—1991. С. 136—137.
[26] Асафьев Б. В. (Игорь Глебов). Опера // Цит. изд. С. 46.
[27] Там же. С. 50.
[28] Там же. С. 50—51.
[29] Маркарян Э. С. Избранное. Наука о культуре и императивы эпохи / Отв. ред. и сост. А. В. Бондарев. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. С. 7.
[30] Там же. С. 23.
[31] Там же. С. 24.
[32] Там же. С. 25—26.
[33] Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990.
[34] Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. (Серия: Технологии культуры). М.: Академический Проект, 2007; Он же. Ментальности народов мира. М.: Эксмо; Алгоритм, 2008.
[35] Этнические стереотипы поведения: Сб. ст. / Под ред. А. К. Байбурина. Л.: Наука, 1985; Этнические стереотипы мужского и женского поведения: Сб. ст. / Отв. ред. А. К. Байбурин, И. Кон. СПб.: Наука, 1991.
[36] Антология гендерной теории / Сост, коммент. Е. Гаповой, А. Усмановой / Европейский гуманитарный ун-т; Центр гендерных исследований. Минск: Пропилеи, 2000; Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001; Гендерная теория и искусство. Антология: 1970—2000 / Пер. с англ.; под ред. Л. М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005.
[37] Бухановский А. О., Андреев А. С. Структурно-динамическая иерархия пола человека. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1993; В тени тела / Под ред. Н. Нартовой, Е. Омельченко. Ульяновск: Издательство Ульяновского государственного университета, 2008.
[38] Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») / пер. с нем. Г. Ф. Швейника. М.: Прогресс; Универс, 1994; Он же. Оборотная сторона зеркала / пер с нем. А. И. Федорова; под ред. А. В. Гладкого; сост. А. В. Гладкого, А. И. Федорова; послесл. А. И. Федорова. Москва: Республика, 1998. 393 с. (Мыслители XX века). Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник СПб.: Издательство Петроглиф, 2009.
[39] Эволюционная эпистемология. Антология / Науч. ред., сост. Е. Н. Князева. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.
[40] Месуди А. Культурная эволюция. Как теория Дарвина может пролить свет на человеческую культуру и объединить социальные науки / пер. с англ. О. Собчука и А. Шели. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019.
[41] Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998; Пелипенко А. А. Между природой и культурой // Он же. Постижение культуры: В 2 ч. Ч.1. Культура и смысл. М.; РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2012. С.92—140.
[42] Ридли Мэтт. Геном: наука, раскрывшая тайну бессмертного гена человека. М.: Эксмо, 2017 (Большая наука); Уотсон Дж. Д. ДНК: История генетической революции. СПб.: Питер, 2019.
[43] Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования. Коллективная монография в 4-х т. / Под общей редакцией А.С Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. Тбилиси: Мецниереба, 1978—1985; Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное / Сост., пер. с франц. и послесл. В. Е. Лапицкого. СПб; М.: Machina, 2004.
[44] Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 1995; Он же. Гениальность и генетика. М.: Русский мир, 1998; Генетика гениальности. М.: Тайдекс Ко, 2002 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»); Он же. Педагогическая генетика. М.: Тайдекс Ко, 2003 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»); Он же. Генетика этики и эстетики. М.: Тайдекс Ко, 2004 (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира»).
[45] Булатов Дмитрий. BioMediale: Современное общество и геномная культура. Калининград, 2004; Он же. Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии. Калининград: БФ ГЦСИ. Т. 1. 2009; Т. 2, 2013; Галкин Д. В. Живое из неживого: философско-методологические проблемы искусственной жизни // Вестник Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2011. №2 (14). С. 20—34; Он же. Границы живого. К проблеме онтологических оснований искусственной жизни // Философия науки. 2012. №4. С. 49—67.
[46] Фуко М. История безумия в классическую эпоху / Перевод с франц. И. К. Стаф. М.: АСТ МОСКВА, 2010; Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб., Академический проект, 2004.
[47] Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2013, и др.
[48] Шах Соня. Пандемия. Всемирная история смертельных недугов. М.: Альпина Нон-фикшн, 2020; Шкляров Виталий, Беловраник Андрей. Мир, поставленный на паузу: Страхи, надежды и реальность эпохи коронавируса. М.: CORPUS, 2020.
[49] Камю А. Соч.: В 5 т. Харьков: Фолио, 1997. Т.2. С. 98, 99.
[50] Илларионов А. Конспирологическая версия: подковоносы, панголины и Уханьский рынок морепродуктов. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com>1180056.html (дата обращения 13.07.2020)
[51] Пекинская вспышка коронавирусной инфекции может оказаться заразнее уханьской. Режим доступа: https://nauka.tass.ru/nauka/8731471 (дата обращения 13.07.2020).
[52] Гостев А. «Мокрые рынки» Китая. Готов ли Пекин закрыть их навсегда. Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/30602325.html (дата обращения 13.07.2020).
[53] Илларионов А. Конспирологическая версия: подковоносы, панголины и Уханьский рынок морепродуктов. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com>1180056.html (дата обращения 13.07.2020).
[54] Liu Zhen. South China Morning Post (print edition) /2020/05/07. Режим доступа: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3083211 /coronavirus-may-have-jumped-humans-early-october-study-says (дата обращения 13.07.2020).
[55] Илларионов А. Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com> 1180056.html (дата обращения 13.07.2020).
[56] Дегтерёв В. Уханьский институт вирусологии КНР, зафиксирован взрыв здания 7 декабря 2019 / 8 апреля 2020. Режим доступа: https://cont.ws/@valentindeg/1635837 (дата обращения 13.07.2020).
[57] См. подробнее: Шэнь Чжэньхуэй. Очерк китайской культуры / пер. с кит. Фитуни О. Л. М.: ООО Международная издательская компания «Шанс», 2019. Особенно важна здесь Глава 14 «Китайская культура и модернизация». См. там же. С. 248—264.
[58] Ср.: Кравцова М. Е. История культуры Китая: учебное пособие. СПб.: Лань, 1998. 414 с.: илл.; 2-е изд.: 1999; 3 изд.: испр. и доп.: 2003; 4-е изд., испр. и доп.: СПб.: Лань, Планета Музыки, 2011. (Мир культуры, истории и философии).
[59] См. подробнее: Галкин Д. В. О некоторых эпистемологических основаниях искусственной жизни // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. №2. С. 43—51; Он же. Границы живого: к проблеме онтологических оснований искусственной жизни // Философия науки. 2012. №4. С. 49—67.
[60] См. подробнее: Уханьский институт вирусологии // Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уханьский_институт вирусологии (дата обращения 14.07.2020).
[61] Чем занимался тот самый Институт вирусологии в Ухани // Медуза. Режим доступа: https://meduza.io/feature/2020/05/03/ (дата обращения 14.07.2020).
[62] Cross‐species transmission of the newly identified coronavirus 2019‐nCoV / 22 January 2020. URL: https://doi.org/10.1002/jmv.25682 (accessed 14.07.2020).
[63] Андрей Илларионов: синтетическое происхождение коронавируса подтверждается. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com/1176824.html (дата обращения 14.07.2020).
[64] В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека // Новости Известия. 04.06.2020. Режим доступа: https://iz.ru/1019504/2020-06-04/v genome-sars-cov-2-nashli-fragment-belka-cheloveka (дата обращения 15.07.2020).
[65] Андрей Илларионов: синтетическое происхождение коронавируса подтверждается. Режим доступа: https://aillarionov.livejournal.com/1176824.html (дата обращения 13.07.2020).
[66] Австралийский ученый предложил версию происхождения коронавируса: идеально приспособлен для заражения. Режим доступа: https://www.mk.ru/science/2020/05/27/ (дата обращения 13.07.2020).
[67] Вот и всё: Уханьский институт вирусологии занимался созданием «биологического оружия» / January 26th. Режим доступа: https://rovego.livejournal.com/9397166.html (дата обращения 13.07.2020).
[68] Сунь-цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-цзы, У-цзы; пер. с кит., предисловие и коммент. Н. И. Конрада. М.: АСИ: Астрель; СПб.: Terra Fantastica, 2011. С. 38—39.
[69] Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере // Он же. Философские мысли натуралиста. М.: Академический Проект; Киров: Константа, 2013. С. 5—14.
Николай Хренов
Доктор философских наук, Государственный институт искусствознания
Человек перед лицом смерти: философско-эстетический аспект катастрофических настроений
Аннотация: В статье исследуются философские и эстетические аспекты катастрофических настроений в современном социокультурном поле, при фокусировании на своеобразии претворения кинематографом актуальных драматических вызовов бытия. Осмысление катастрофы происходит в широком философском ракурсе с рефлексией о соотношении созидательного и разрушительного начала в человека. При этом культура интерпретируется как преграда деструктивным процессам, стремлению человека к смерти. Автор пытается проследить механизм изживания агрессии в формах искусства. В этом плане анализируются фильмы-катастрофы: «День, когда Земля остановилась» (The Day the Earth Stood Still, реж. С. Дерриксон, 2008), «Война миров Z» (World War Z, реж. М. Форстер, 2013), «Человек, пространство, время и снова человек» (Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan, реж. К. Ки Дук, 2018), «Ной» (Noah, реж. Д. Аранофски, 2014).
Ключевые слова: человек, смерть, философия, деструктивность, техника, осевое время, фармак, агрессия, фильм-катастрофа, К. Лоренц, Э. Фромм, С. Дерриксон, М. Форстер, К. Ки Дук, Д. Аранофски.
Мы мрем средь пустынь, как евреи в библейские времена.
Она впереди, она позади, от нее никуда не уйти…
Врач полковой доложил, что вчера не стало еще десяти.
Редьярд Киплинг
Тема, вынесенная в название статьи, спровоцирована вспышкой коронавируса, которую мы все, да что там «мы все», — весь мир переживал в начале 2020 года. Из многих проблем, стоящих в центре внимания прессы, на первый план выходила тема происхождения этого вируса. Имеет ли он природное, независимое от человека происхождение, или это — следствие ошибок и случайностей, возможных в результате вирусологических экспериментов. В связи с этим невольно вспоминается вывод Х. Ортеги-и-Гассета, доказывающего, что цивилизация (а он употребляет это понятие и как синоним культуры) была создана людьми элиты. Но элита к сегодняшнему дню, если от нее еще что-то осталось, вытесняется на периферию, и ее голос едва слышим. У руля оказываются жадные особи, преследующие собственные меркантильные цели и продолжающие развращать остальных.
Кино способно предвидеть многие драматические ситуации. Так, сначала появился фильм «Джокер» (Joker, реж. Т. Филлипс, 2019), в котором были показаны массовые беспорядки и протесты. После убийства в Миннеаполисе в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда виртуальная реальность начала как бы воспроизводиться в самой жизни.
В период пандемии невольно вновь и вновь возвращаешься к мысли о человеке, во власти которого находится и созидательная, и разрушительная деятельность. В своих действиях человек находится ближе то к Эросу, то к Танатосу. В последние десятилетия информации о самых разных происходящих в мире катастрофах становится все больше. Горят леса, и происходит извержение вулканов. Мы получаем информацию о землетрясениях и ураганах. Падают астероиды. Разрушаются плотины, и случаются катастрофы с атомными станциями. Участилось падение самолетов. Горит даже уникальная культовая архитектура, как это случилось с Собором Парижской Богоматери. В начале мая 2020 года на металлургическом комбинате в Норильске произошла утечка 20 тысяч тонн нефти, что привело к загрязнению рек и почвы. Невольно приходит мысль: никакие внешние меры безопасности и контроля не могут уберечь от катастроф, в том числе, в силу недостаточно ответственного отношения к технике, природе, цивилизации в целом.
В апреле — мае 2020 года каждое утро c помощью всех средств информации нам сообщали об увеличении зараженных и умерших, исчисляемых десятками, сотнями и уже даже тысячами. Так и хочется сказать: цифры впечатляющие, как будто нас знакомят со статистикой, касающейся выплавки стали, возведения новых многоэтажных домов, или уборки урожая. К этому уже начинаешь привыкать, что кощунственно. Да, собственно, кровавый ХХ век с его мировыми войнами и лагерями, подготовил нас к восприятию больших человеческих потерь. И люди многое воспринимают уже спокойно, молча, с удивительным смирением. Возможно потому, что событийный общественный фон, напрямую не касающийся пандемии, нередко вызывает в человеке еще более негативные чувства.
Кто-то сказал, что советская власть кончилась в 1986 году, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Но в современном информационном обществе владеть информацией в отдельно взятой стране невозможно. Она выходит за пределы государств. Как бы не хотелось катастрофу скрыть, она мгновенно становится известной. И скрыть катастрофу в Чернобыле не удалось. А вот о взрыве водородной бомбы под Челябинском мы узнали все-таки намного позднее. Да и не воспринималось это вовсе катастрофой. Важно было испробовать новое научное открытие, обладающее фантастической разрушительной силой.
Конечно, люди каким-то образом об этих достижениях науки узнавали, реагировали, пугались. Не случайно в фильме М. Ромма «Девять дней одного года», вышедшем приблизительно в то же время, что и взрыв под Челябинском, отец героя — ученого-ядерщика Гусева, уже получившего смертельную дозу радиации во время испытаний и приехавшего перед смертью в места, где родился, — задает обреченному сыну вопрос: стоит ли это того, чтобы отдавать свою жизнь. Может быть, зря все это открыли? Кому это нужно? На другой вопрос отца, делал ли сын бомбу, одержимый ученый-ядерщик отвечал утвердительно, будучи абсолютно уверенным, что это необходимо. Вопрос, заданный старым человеком своему сыну, не был для кино конца 1950-х — начала 1960-х исключением. Испуг прокатился по всему миру и получил выражение во всех странах. Кино его не обошло. Об этом свидетельствуют фильмы А. Рене, Ф. Феллини, С. Крамера, И. Бергмана.
Можно сказать, что М. Ромм лишь затронул тему возможной катастрофы, затронул по касательной и предельно осторожно. Не возмущался и не пугал. Но он все же подводил зрителя к необходимости задуматься, в какой новой ситуации отныне ему придется существовать. А вот американский режиссер С. Крамер чуть раньше, а именно, в 1959 году снял фильм «На последнем берегу» (On the Beach), в котором есть уже не только предчувствие катастрофы, но виртуально воспроизведена и сама катастрофа, и посткатастрофическая ситуация. Столкновение государств с применением атомного оружия произошло. Последствия апокалиптические. Американские города напоминают грандиозные кладбища. На улицах нет людей. Все погибли от радиации. Но на земле пока остались некоторые места, куда радиация дойти не успела. Не дошла она еще до Австралии, где находится американская подводная лодка. Но туда радиация тоже дойдет. Через несколько месяцев. Ее ждут.
Герой фильма — преуспевающий морской офицер — должен отплыть на этой лодке в разведывательную экспедицию в поисках не затронутых радиацией мест. Дома остается жена и маленький ребенок. Он знает, что они погибнут от лучевой болезни, и пытается жене объяснить, какие препараты следует принять, чтобы не мучиться. Что касается командира подлодки, то его семья, остававшаяся в одном из американских городов, уже давно погибла. Жители австралийского города знают, что через несколько месяцев их тоже настигнет смерть. Но они еще задают друг другу вопросы о том, почему разразилась война и кто в этом виноват. Она могла начаться случайно, ее мог начать кто угодно, ведь в мире накоплено столько оружия… Запоминается фраза «Господи, помоги нам понять, почему мы себя истребляем». На площади, где собираются обреченные жители, висит плакат «Есть еще время, брат». Собственно, этой надписью фильм и закончится. Что же касается подлодки, то результаты разведки ни к чему не приводят. Мест на земле, где нет радиации, уже не осталось. Моряки направляются в сторону Америки. Если уж умирать, то лучше в родных местах.
В фильме «Причастие» (Nattvardsgästerna, реж. И. Бергман, 1962) к герою-пастору приходят муж и жена из рыбачьего поселка. Муж молчит, за него говорит жена. Ее муж, рыбак, прочитал в газете, что в Китае испытывается атомная бомба. По признанию жены, с тех пор мужем овладел страх, и он от него не может никак избавиться. Пастор решает поговорить с несчастным рыбаком, рассеять его страх, и назначает ему встречу. Рыбак приходит на эту необычную встречу, во время которой пастор признается, что утерял веру в бога и самому себе кажется беспомощным и одиноким, не способным помочь другим. То есть, исповедуется уже не рыбак пастору, а сам пастор рыбаку.
Рыбак в ужасе уже не от перспективы атомной войны, а от признания пастора, и порывается его покинуть. Утрачивая веру, пастор не только не способен помочь простому человеку, поддержать его в его отчаянии, но не может справиться и с собой. И. Бергман имеет в виду то, что утрата веры по своей значимости может быть приравнена к взрыву бомбы. Ведь и решение об использовании бомбы будут принимать люди, утратившие веру, циники. Бомбу еще, возможно, применять и не будут, а вот вера уже покидает людей. И это причина начинающегося ада. В финале фильма служба в костеле начинается, но верующих в нем нет. Не придет на службу и рыбак. Он покончит жизнь самоубийством.
Прошло много лет, но вопрос старого человека в фильме М. Ромма не перестает быть актуальным. И даже если информация о катастрофе уже не наталкивается на препятствия как в художественных, так и в нехудожественных формах, то как она подается? Как она оформляется? Выходит ли на первый план ее эстетическая обработка или такая возможность вообще не принимается во внимание? При этом известие о катастрофе может подаваться чисто информационно, но может — и с авторской точки зрения. Возможна подача, в первую очередь, нагнетающая страх, когда вакханалия разрушения превращается в самоцель. Последняя тенденция если и не является абсолютной, то все же весьма распространена в экранных искусствах. Она и будет нас интересовать. Как демонстрация, восприятие и воздействие катастрофы на экране могут дать нам нечто такое, что может помочь понять человека?
Катастрофа на экране и стихия деструктивности
Первыми начали обращаться к катастрофам американские кинематографисты, что не удивительно, ведь катастрофа может быть успешно продаваемым товаром. Со временем катастрофа на экране превращается в специфический жанр.
Первым фильмом такого рода, который мне пришлось увидеть много десятилетий тому назад, был американский фильм «Ад в поднебесье» (The Towering Inferno, реж. Дж. Гиллермин, 1974). Речь в нем идет о пожаре в одном из американских небоскребов. (Кстати, пожар во Всемирном торговом центре, происшедший в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, будет воспроизведен в фильме Оливера Стоуна «Башни-близнецы» / World Trade Center 2006 года). Фильм Д. Гиллермана производил неизгладимое впечатление. Такого рода фильмам стали подражать и у нас. Появился «Экипаж» (1989) А. Митты, а потом тот же сюжет был воссоздан в одноименном фильме Николая Лебедева 2016 года. Можно сказать, что к сегодняшнему дню наши кинематографисты этим жанром тоже овладели.
Иногда элементы жанра фильма-катастрофы используются в авторском кино, как, например, в фильме Вадима Абдрашитова «Армавир» (1991). Там происходит катастрофа с теплоходом. Но демонстрация самой катастрофы совсем незначительна по сравнению с ее психологическими последствиями. Жизнь выживших людей, которая и в благоприятных ситуациях не бывает простой, необычайно усложняется. Создавая свой фильм в ситуации перестройки, Вадим Абдрашитов под катастрофой явно подразумевал не только уходящий под воду теплоход «Армавир», а распад целой страны.
В воздействии фильмов-катастроф существует некая латентная функция. Ее невозможно объяснить без обращения к психологии и даже биологии. Но это и антропологическая проблема. Недостаточно и объяснения, связанного со стремлением избавиться от сенсорного голода, который мы все, находясь в самоизоляции во время пандемии, испытывали. Тут, видимо, все-таки многое определяет предрасположенность человека к агрессии и деструктивности, у некоторых людей она присутствует даже в гипертрофированном виде. Так, в качестве примера личности деструктивного типа Э. Эриксон приводит историю с А. Гитлером. Известно, что А. Гитлер хотел стать архитектором и перестроить свой родной город Линц. Но он предполагал, что перестройка должна начаться с разрушения. Когда будущий фюрер провалил конкурс, он не перестал думать о перестройке города. Но в его проекте она уже приобретает деструктивный смысл, а сам автор проекта предстает мстителем. Э. Эриксон замечает: «И он отомстил, разрушив почти всю Европу» [1]. Такой деструктивный комплекс существует, и он требует истолкования, в том числе, и применительно к восприятию кино. Фильмы работают с этим комплексом даже в том случае, если сам режиссер об этом не думает. Это предрасположенность к тому, что З. Фрейд назовет влечением к неорганическому, т. е. к Танатосу. Хотелось бы, чтобы нашу жизнь определяла воля человека к жизни, т. е. Эрос как значимый философский концепт. Но человек сложнее.
Поставим вопрос так: демонстрация деструктивности на экране — это нечто от человека отдельное, внешнее по отношению к нему, или это какой-то внутренний для него комплекс? Ураганы, землетрясения, смерчи — это, конечно, проявление стихийных природных катаклизмов, действие природы. Значит, это вроде бы что-то отдельное от человека, по отношению к нему внешнее. Но, с другой стороны, человек — часть природы, а значит, не все, что с ним происходит, происходит в границах кантовского категорического императива, морали и разума. Человеческое поведение тоже не свободно от стихии и от тех инстинктов, возникновение которых уходит в так называемое доосевое время. Осевое время приходит лишь с заповедями Моисея, т. е. с продолжением культурогенеза. Значит, человек несет в себе стихию доосевую, стихию деструктивности. И это его внутренняя стихия.
По поводу причин деструктивности человека в науке существуют разные точки зрения. Одна из них принадлежит биологу Конраду Лоренцу. Он утверждает, что агрессия — это врожденное, природное начало, сопровождающее всю историю человека, в том числе, осевое и доосевое время. На эту проблему К. Лоренц смотрит как биолог. Он изучает животный мир и некоторые биологические формы поведения, формы докультурные переносит на человека.
Вторая точка зрения принадлежит философу Эриху Фромму. Он доказывает, что деструктивность человека идет от общества, от технологий, от цивилизации, от городского образа жизни, скученности, социального неравенства, от частной собственности, наконец, от невозможности личности реализовать свой потенциал в жизни. Истоки этой позиции, видимо, следует искать в рефлексии Ж. Ж. Руссо.
Например, техника подарила человеку дистанционное общение, которым мы сегодня в ситуации пандемии стали гораздо активнее пользоваться. Одна из форм дистанционной коммуникации — письменность — появилась в глубокой древности. Кстати, Платон не считал это безусловным подарком. Мы сегодня, используя дистанционную коммуникацию, понимаем почему. Переизбыток ее в ситуации пандемии приблизил нас к более глубокому пониманию того, что такое живое, непосредственное общение, которое автор данной статьи, проявив интерес к социальной психологии театра, сделал когда-то предметом своего изучения [2]. Сегодня пандемия обязывает театр использовать дистанционную коммуникацию. И театр, конечно, способен этим воспользоваться. Но это абсурд, ведь пропадает, может быть, самое главное, что сохранялось в искусстве именно и только с помощью театра. Поэтому совсем не случайно наш коллега, прекрасный театровед Алексей Бартошевич в своем интервью высказывает сожаление по поводу смерти театра в его прежних формах [3]. Когда в ситуации пандемии некоторые доказывали, что дистанционная коммуникация будет все более утверждаться в системе образования, общественность начала выступать против.
Пандемия вводила в новый мир, но она же позволила открыть и возможные негативные стороны этого мира. Но если иметь в виду вообще технику, то она, став величайшим благом, заметно продвинула нас и в сторону от человечности. Вот, скажем, зависимость деструктивности от технологии вообще, от цивилизации. Казалось бы, техника — это прогресс. Хочется считать, что она — союзница культуры и даже уже сама культура. Ведь техника развивается в соотнесенности с наукой, а наука — часть культуры. Но не следует обольщаться и петь дифирамбы по поводу фантастических успехов техники. Высказывание Й. Хейзинги позволит остудить пафос восторженных людей: «Техника каждый день производит все новые чудеса, но никто больше не чувствует к ней доверия, потому что она уже показала, что в гораздо большей степени способна разрушить, чем уберечь» [4].
К. Лоренц утверждает, что усовершенствование техники убийства привело к тому, что его последствия не хватают за душу того, кто его совершил. Это было проиграно американцами, сбросившими бомбу на Хиросиму. «Расстояние, на котором действует огнестрельное оружие, предохраняет убийцу от раздражающей ситуации, которая в противном случае предстала перед ним в чувствительной близости во всем ужасе своих последствий. Эмоциональные глубины нашей души попросту не принимают к сведению, что сгибание указательного пальца при выстреле разворачивает внутренности другого человека… Лишь благодаря отгораживанию наших чувств от всех очевидных последствий наших действий оказалось возможным, что человек, который едва ли решился бы дать заслуженную оплеуху невоспитанному ребенку, был вполне способен нажать пусковую кнопку ракетного оружия или открыть бомбовый люк, обрекая сотни малых детей на ужасную смерть в пламени. Добрые, честные, порядочные отцы семейств расстилали бомбовые ковры» [5]. Летчики над Хиросимой были этими самыми любящими мужьями и добрыми отцами.
Случай, когда во время разрушения Хиросимы отцы предстают в двух ипостасях — как убийцы и как добрые родители, — настолько вопиющ, что мимо него не может пройти ни идеолог биологических причин деструктивности К. Лоренц, ни идеолог социологических причин Э. Фромм. «Летчики, которые сбрасывали бомбы, вряд ли думали о том, что за несколько минут они убивали тысячи людей. В самолете сидела команда: пилот, штурман и стрелок, а вернее, бомбометатель. Они вряд ли даже отдавали себе отчет в том, что они имеют дело с врагом, что они убивают живых людей», — писал Э. Фромм [6]. Почему же они не отдавали отчет? «Для инженера, как и для пилота, достаточно того, что он получает готовое решение управляющих, и никто не думает, что он, может, в нем усомнится или даже просто задумается по этому поводу. Когда речь идет об уничтожении сотен тысяч жизни в Дрездене, Хиросиме или Вьетнаме, ни пилоту, ни другим членам экипажа даже в голову не придет вопрос о военной правомерности (целесообразности) или моральной оправданности выполняемых ими приказов; они знают только одну задачу: правильно обслужить свою машину» [7].
Правильно обслужить свою машину — это значит слиться с нею, быть ее частью, проникнуться ее ритмом. И, в конечном счете, стать самой этой машиной. Так величайшее достижение человеческого разума — техника — превращается в мощное средство разрушения тех человеческих и нравственных качеств, что формировались в пространстве осевого времени. Но разве в этом случае можно утверждать, что техника становится союзником культуры, ее частью? Странно, но и К. Лоренц, и Э. Фромм принадлежат к тому поколению, которое, сохраняя способность улавливать в положительном отрицательное, еще возмущалось и негодовало. Но последующие поколения, как кажется, ко всему привыкают и уже не возмущаются, и не негодуют. И только редкие современные художники еще сохраняют эту способность возмущаться и негодовать. То, что возмущало К. Лоренца и Э. Фромма, успело проникнуть на самые интимные уровни человеческого бытия, например, в семейные отношения, в отношения родителей к детям. Не об этом ли А. Звягинцев поставил свой фильм «Нелюбовь» (2017)? Та драма, что связана со смертью ребенка в фильме, вызревала постепенно, невидимо, и явилась итогом той утраты человечности, которая получила повсеместное распространение и проникла во все сферы. По сути, стала признаком «обновившейся» культуры. А культуры ли? Еще лет десять, двадцать в России шумно дискутировали о возрождении культуры. Но возможно ли оно? Слишком много появилось в последнее время барьеров для такого возрождения, барьеров незаметных, неосознаваемых и, что ужасно, восторженно воспринимаемых массой.
Просто удивительно, как техника способна выявлять то, что глубоко запрятано в подсознание человека, и запрятано так, что сам человек часто просто этого не осознает. А, выявляя, техника гипертрофирует это нечто, превращая в извращенную и разрушительную потребность. Речь в данном случае идет о бессознательном разрушении биологических основ жизни. Э. Фромм понимает под этим прячущееся в тайниках подсознания «страстное влечение ко всему мертвому, больному, гнилостному, разлагающемуся» [8]. Это так называемый некрофильский инстинкт. Он, по мысли Э. Фромма, проявляется в страстном желании превратить все живое в неживое, в страсти к разрушению ради разрушения, а также в исключительном интересе ко всему небиологическому и механическому. Получается, что техника позволяет актуализироваться этому неистребимому инстинкту в его невероятных масштабах.
Имеет ли это отношение к искусству? Да, конечно. Это только потом, после миллионов загубленных человеческих жизней во второй мировой войне появятся романы В. Гроссмана и В. Астафьева, в которых предстанет правда о деструктивной вспышке войны, причем, вспышке и с той, и с этой стороны, когда впервые война явится в гнусном человеческом облике, без идеологической упаковки, всегда мешающей сказать всю правду о человеке. А ведь в искусстве начала ХХ века в некоторых авангардных направлениях война воспевалась и приветствовалась. «Да здравствует война, — писал апостол футуризма Ф. Т. Маринетти, — только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к войне, разрушительная сила анархизма, высокие идеалы уничтожения всего и вся!» [9].
Представители художественного авангарда воспевали не только войну, но и вообще разрушение и деструктивность. Это касается уже не футуризма, а сюрреализма. Разве не писал А. Бретон о том, что элементарный сюрреалистический акт состоит в том, чтобы выйти на улицу с револьвером в руке и стрелять в толпе. Были такие охотники и во время пандемии. Талантами они едва ли обладали, но с балконов стреляли. Они не претендуют на то, чтобы представлять сюрреализм. А вот что писал А. Камю по поводу сюрреалистов, принявших марксизм, но не утративших нигилизм и страсть к разрушению. Эта страсть к разрушению проявилась в революциях: «Рожденные для того, чтобы убивать всех подряд, сюрреалисты в силу самой логики своей установки пришли к такому выводу, чтобы дать свободу желанию, следовало бы сначала низвергнуть общество. И приняли решение служить делу революции своего времени. В соответствии с тем рядом идей, который составляет тему моего эссе, сюрреалисты прошли путь от Уолпола и Сада до Гельвеция и Маркса. Но ясно чувствуется, что отнюдь не изучение марксизма привело их к революции. Напротив, сюрреализм непрерывно силился примирить с марксизмом свои притязания, приведшие его к революции. И не будет парадоксом мысль, что сюрреалистов привлекло к марксизму то в нем, что сегодня они больше всего ненавидят» [10].
Апофеозом деструктивности предстает не только война, но, в том числе, и революция. Не случайно тема насилия становится актуальной для тех социологов, которые пытаются разобраться в идеях социализма. Среди них не на последнем месте оказался автор скандальной книги «Размышления о насилии» Жорж Сорель, вышедшей в 1906 году и ставшей настольной книгой Б. Муссолини [11]. Но без насилия не понятен также процесс возведения и функционирования тоталитарных режимов с сопутствующими им тюрьмами, расстрелами и лагерями. Да, именно тоталитарных режимов, в возведении которых тоже сыграл свою роль некрофильский инстинкт. И кстати, его проявление в государственных формах не было уж таким новым явлением, не имевшим в истории прецедентов. Следы этой деструктивности и некрофилии, проявляющиеся в так называемой «мегатехнике», историки находят еще в древних империях. Так, Л. Мэмфорд находит ее проявления в жесткой государственности Древнего Египта. «Рука об руку с этой протонаучной идеологией, — пишет Л. Мэмфорд, — шло соответствующее регламентирование и деградация некогда автономной человеческой деятельности: здесь впервые возникает „массовая культура“ и „массовый контроль“. Есть полный сарказма символизм в том, что величайшим созданием мегамашин в Египте были колоссальные могильники, заселенные мумифицированными трупами, а позднее в Ассирии — как и во всех без исключения расширяющихся мировых империях — главным свидетельством технических достижений была пустыня разрушенных городов и сел и отравленная почва: прототип „цивилизованного“ ужаса нашей эпохи» [12].
Удивительно, как диктаторы ХХ века актуализировали этот некрофильский, деструктивный комплекс, в том числе, в архитектуре. В 1939 году А. Гитлер скажет: «Со времен средневековых храмов мы впервые снова ставим перед художниками величественные и смелые задачи. Никаких „родных местечек“. Никаких камерных строений, но именно величественнейшие из того, что мы имели со времен Египта и Вавилона. Мы создаем священные сооружения как знаковые символы новой высокой культуры» [13]. У А. Солженицына, когда он рассуждает о Беломоро-Балтийском канале, появляется параллель между сталинскими замыслами и строительными проектами Востока. Но замыслы-то у диктатора, действительно, восточного типа, а вот применяемая им технология явно Востоку уступала: «Нет, несправедливо — эту дичайшую стройку ХХ века, материковый канал, построенный „от тачки и кайла“, — несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами: ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники. А у нас была техника — на сорок лет назад!» [14].
Но вернемся к разным точкам зрения по поводу деструктивности человека. В данном случае принять какую-то одну сторону, К. Лоренца или Э. Фромма, трудно. Рациональное зерно имеется в той и другой точке зрения. Следует учитывать и то, и другое. В самом деле, все перечисляемые Э. Фроммом социальные причины проявления деструктивности реальны. Но ведь что происходит на самом деле? Каждая упомянутая Э. Фроммом социальная причина будит сохраняющиеся в подсознании архаические инстинкты, которые до этого, казалось бы, не существовали. В этом случае интенсивность деструктивных проявлений во много раз увеличивается. Получается, что есть рациональное зерно и в точке зрения К. Лоренца. Здесь важно иметь в виду несовпадение и эволюционного, и культурного развития. Эти две разные логики и ритмы развития развертываются параллельно. И как утверждает К. Лоренц, культура способна в своем развитии опережать биологические и природные ритмы.
Любопытно продолжить мысль К. Лоренца и поставить вопрос так: если культура опережает природу, то какие последствия из этого могут быть? К. Лоренц не обходит ответ на этот вопрос: «…Представляется вероятным, что регулярно повторяющаяся гибель высоких культур является следствием расхождения между скоростями развития филогенетически запрограммированных норм поведения и норм, определяемых традицией» [15].
Это высказывание К. Лоренца, кроме всего прочего, интересно еще и тем, что он опровергает многие аргументы, которые на протяжении всего ХХ века предъявлялись обвиняемому в биологизации О. Шпенглеру. Кстати, К. Лоренц так и пишет: первым это расхождение сделал предметом внимания О. Шпенглер. А ведь О. Шпенглер ставил вопрос о финальных эпохах в истории каждой культуры. Конечно, это стихийный, а, следовательно, неконтролируемый процесс. Он независим от того, вмешивается в него человек или не вмешивается. Но даже если он вмешивается, отваживаясь, скажем, на революцию, то еще не факт, что он отменяет объективный процесс и способствует продлению срока, положенного природой каждой культуры. Своими действиями человек с присущей ему агрессивностью способен этот срок в еще большей степени укоротить. Ведь именно этот парадокс часто показывается в фильмах в жанре катастрофы.
Жанр фильма-катастрофы чаще всего представляет в кино массовую культуру. Конечно, хотелось бы остановиться на анализе авторских фильмов, которые относятся все же к искусству, обладают эстетическими достоинствами. Но обращение к образцам массовой культуры тоже имеет смысл. Это, прежде всего, социально-психологический феномен. Экранные образы в них — это что-то вроде массовых галлюцинаций, актуализирующих коллективные страхи. Это своеобразные рентгеновские снимки весьма хаотического массового сознания, по-своему отражающего реальность. Своего рода психологические документы о той реальности, которая движется параллельно реальности исторической. В свое время, исследуя немецкие фильмы такого рода, созданные в 1910-е и 1920-е годы, немецкий социолог З. Кракауэр зафиксировал в них фантомы, позднее материализовавшиеся в образе А. Гитлера. Последуем и мы примеру З. Кракауэра и обратимся к некоторым фильмам жанра катастрофы.
«День, когда Земля остановилась» (2008). «Война миров Z» (2013)
Заслуживает внимания фильм «День, когда Земля остановилась» (The Day the Earth Stood Still, реж. Скотт Дерриксон, 2008), в котором главную роль играет запомнившийся нам по фильму «Матрица» (The Matrix, реж. Л. Вачовски, Л. Вачовски, 1999) Киану Ривз. В отечественном прокате фильм шел под названием «Мы считали планету своей. Мы ошибались». Фильм интересен тем, что в нем звучит та же тема, что и в фильме «Ной», о котором чуть ниже мы выскажемся более подробно. Какая это тема? Все та же: люди — насильники, развратники, убийцы, садисты, разрушители. Если они продолжат существование на земле, то она обязательно погибнет. Нужно землю спасать от людей. Значит, людей нужно уничтожить. Они сами виноваты в своей судьбе. Вроде бы здесь все, как в фильме «Ной». Но здесь другая мысль, а именно — люди способны измениться, но только в том случае, если окажутся в экстремальной ситуации, т. е. когда им угрожает смерть. Во Вселенной все со всем связано. Уничтожение земли людьми опасно для других планет. Если спасти землю, можно спасти и Вселенную.
Итак, человечество обречено. А кто же примет такое решение и осуществит этот замысел? Конечно, Бог, как это происходит в фильме Д. Аранофски «Ной». Но на этот раз Бога не беспокоят. Функцию Бога (а каждое мифологическое и сказочное повествование можно подвергнуть функциональному анализу, как это делает В. Пропп, у которого персонажи меняются, а осуществляемые ими функции в сюжете остаются неизменными) здесь осуществляет инопланетянин. В фильме инопланетяне решают истребить людей с помощью искусственно созданных «трихинов», как бы выразился Ф. Достоевский, т. е. наннороботов. Они невидимы. Итак, инопланетянин делает свое дело. Мы видим, как наннороботы уничтожают людей, здания, машины. Они проникают в организм людей и мгновенно их уничтожают. Там, откуда прибывает инопланетянин, жизнь находится на более высоком уровне. Герой обладает сверхъестественными способностями. Он умеет оживлять мертвых, решать сложные математические уравнения и, что удивительно, говорит на том же языке, что и земляне. Это доказывает, что люди с других планет уже когда-то на земле побывали.
У героя есть еще какое-то время, чтобы понаблюдать жизнь людей и окончательно утвердиться в необходимости их уничтожения. Именно он потом должен дать знак начала уничтожения. Зритель еще надеется на его милосердие. Сначала герой и в самом деле убежден, что гнусные земляне, способные только взрывать и убивать, неисправимы. На него пытаются воздействовать и убедить в отмене решения. Он рассказывает, что планета, с которой он прибыл, когда-то была в таком же положении. Но инопланетяне вовремя опомнились и изменили свой образ жизни. Они таким образом и сами спаслись, и спасли планету. Но в возможности землян исправиться он все-таки не верит. Не тот уровень сознания. Земляне — еще варвары. Сюжет движется дальше. На землю спускаются большие шаровидные ковчеги, чтобы забрать некоторых людей на другую планету. Наннороботы вот-вот приступят к тотальному уничтожению. Но в последний момент инопланетянин все же передумывает. Он дает землянам последний шанс и отправляется туда, откуда прибыл.
Со второй половины ХХ века в России заметно возрос интерес к проблематике культуры. Важно отдавать отчет в том, что ошибочные установки власти по отношению к культуре могут способствовать расхождению между эволюционной и культурной логикой развития и, следовательно, приводить к возникновению катастроф. Нужно иметь в виду, что интерес возникает даже не к культуре как таковой, ради ней самой, т. е. ради того, чтобы ее понять. Дело в том, что в этом интересе к культуре проявляются опасения за жизнь, за человека в повсеместно надвигающемся мире хаоса. Поэтому и возлагаются надежды на то, что, несмотря на бессознательные усилия человека разрушать, остается еще нечто, что продолжает сопротивляться деструктивным процессам. Это, конечно, культура.
Но являются ли ее возможности безграничными? Здесь не могут не возникнуть сомнения. Казалось бы, для чего, собственно, нужна культура, сопровождающая возникновение и становление в истории человека и общества, как не для выживания того и другого. Это ее универсальная функция. Значит, именно культура и обязана избавлять человечество от его способности разрушения и саморазрушения, от деструктивности. Культура — величайший тормоз предрасположенности человека к смерти. Именно она и свидетельствует о бессмертии. Ведь что такое жажда зрелища катастрофы, как не актуализация образа смерти? Этот образ смерти, явленный в виде запечатленной на экране катастрофы, и пугает, провоцирует страх, и, с другой стороны, влечет к себе. Такова амбивалентность восприятия деструктивности на экране. Во многих фильмах звучит одна и та же мысль: жизнь человечества как проблема. Планета Земля — хрупкое образование. Жизнь на ней может быть уничтожена, и не только в формах культуры, но и в биологических ее основах.
Эту мысль можно проиллюстрировать на примере авторского фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Человек, пространство, время и снова человек» (Ingan, gonggan, sigan geurigo ingan, 2018). Это фильм о том, что человек не успокоится, пока не истребит все вокруг и не уничтожит себя. Истребит не только культуру, но и биологические основы жизни. Фильм был показан на Московском кинофестивале 2019 года один только раз. И то лишь для специальной публики.
Итак, жизнь на земле может быть уничтожена, в том числе, и по вине самого человека. Но даже если не по вине самого человека, а в силу природных катаклизмов, то все равно получается, что человечество следует уничтожить. Человек — опасное существо. К этому выводу приходит и героиня фильма «Меланхолия» (Melancholia, реж. Л. фон Триер, 2011), в котором действие происходит перед исчезновением Земли, уничтожаемой летящим из космоса огромным астероидом.
Тему деструктивности, исходящей от людей, продолжает постапокалиптический боевик о вирусе «Война миров Z» (World War Z, реж. Марк Форстер, 2013). Знак «Z» означает «последняя мировая война». Этот фильм — пример того, как можно представлять катастрофу с помощью приемов, обычно употребляемых в фильмах авантюрного жанра. Здесь больше развлечения, нежели какой-то оригинальной мысли. Фильм начинается со вспышки пандемии. На людей нападают зомби. Но это вирусы. Они такие же, как люди. Вирус в виде зомби. Вирус в облике людей. Это интересно. Наверное, если бы земля была живым и мыслящим организмом, она бы воспринимала человека тоже как вирус. Уж слишком много ран человек ей нанес. Зомби в фильме безумно агрессивны. После их нападения люди мгновенно превращаются тоже в зомби. В городе растет число зараженных. Люди в панике. Они торопятся закупить продукты и лекарства. Власти требуют от горожан, чтобы они не выходили из дома. Совсем так, как это делали у нас в реальной ситуации с коронавирусом. Люди покидают город и ищут убежища на дачах. Телевидение передает, что от вируса умирает президент. Вирус охватывает все страны, и каждая страна защищается от вируса по-своему. Так, например, Израиль против вируса возводит гигантскую стену вокруг Иерусалима. Евреи оказываются предусмотрительнее, ведь они это делают еще до пандемии. И туда бегут, спасаясь от смерти, люди со всего мира. Против зомби стараются найти защиту. Россия здесь не исключение. А самое главное, в Израиле были успешно проведены эксперименты по производству вакцины.
Бывший следователь ООН, а ныне безработный, пытается вывести свою семью за город. Когда-то он преуспевал, но за критику власти его уволили с престижного места. Знакомая ситуация. Однако его запомнили, как прекрасного специалиста, профессионала в своем деле. В критическую минуту власть не может без него обойтись. Ему предлагают войти в команду по расследованию причин эпидемии. Он соглашается. В критический момент обиду за сломанную карьеру следует забыть. Знаменитый вирусолог, который в Израиле почти уже открыл эффективный способ избавления от вируса, умирает. Герой должен найти возможность проникнуть в лабораторию, в которой велись испытания новой вакцины, и найти результаты исследований. Он летит в Израиль, чтобы достать нужные данные. Но в самолете тоже оказываются зомби.
Герой делает невероятные усилия, чтобы уберечь пассажиров от зомби, помогает попавшей в беду девушке. Чтобы избавить пассажиров от зомби, герой бросает бомбу, самолет разгерметизируется и терпит крушение. Однако герой и девушка спасаются, и вот они уже идут вместе к зданию ВОЗ, чтобы герой мог найти оставшиеся от погибшего вирусолога данные эксперимента. Но и сотрудники ВОЗ находятся во власти вируса, превращены в зомби. Обойти зомби, чтобы попасть в лабораторию, практически невозможно. Малейшая неосторожность, и герой рискует тоже стать зомби. Но ему удается пробраться в лабораторию и найти данные исследования.
Из них он узнает, что зомби преследуют только здоровых людей. Больных они не преследуют. Герой принимает решение имитировать больного, чтобы выбраться из захваченной зомби лаборатории. Но для этого он должен сделать укол. Однако последствием укола может быть смерть. Герой рискует, но отваживается сделать укол. Благодаря уколу он проходит незамеченным мимо зомби. Вскоре люди узнают, что средство спасения найдено.
Итак, причиной разрушения является не только стихия природы, что может проявиться в смертельных вирусах, распространение которых подобно мировым войнам. Разрушительны и действия самого человека, например, научные и технические открытия, которые вроде бы можно использовать исключительно в позитивных целях. В связи с этим нельзя снова не процитировать К. Лоренца: «Если посмотреть глазами непредубежденного наблюдателя на современного человека с водородной бомбой в руке, творением его духа, и с инстинктом агрессии в душе, наследием дочеловеческих предков, с которым его разум не может совладать, то трудно предсказать ему долгую жизнь» [16].
Культура призвана обуздать стихийную и природную агрессивность. Но до конца ее обуздать невозможно. Как убедительно доказывал К. Лоренц и показывал С. Кубрик в фильме «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, реж. С. Кубрик, 1971), полное устранение агрессии равноценно угасанию жизни. Агрессивность имеет позитивную функцию — она обеспечивает сохранение человеческого вида. Жизнь — это, в том числе, и сопротивление во всех смыслах. Без агрессии не может быть ни сопротивления, ни выживания. Это вообще значимый признак выживания, поддержания и сохранения жизни. Но если бы мы ограничились лишь этим выводом, то мы бы мало что объяснили. Однако агрессия, предназначенная для сохранения жизни и человеческого вида, способна проявиться и в разрушительном смысле. Это происходит тогда, когда ее накапливается слишком много, а траты не происходит.
Образуется избыток агрессивных побуждений, а возможности его потратить, изжить нет. Почему же нет? Да потому, что «цензура» не позволяет. «Цензура» в универсальном смысле, а это и есть культура. Культура — это что-то вроде матрицы. Она программирует наше поведение, определяет нашу и индивидуальную, и коллективную идентичность. Деструктивность не находит позитивных каналов траты агрессии. Это чревато проявлением «инстинкта смерти», разрушением и самоуничтожением. Вот она, дионисийская стихия.
Как этому противостоять? Средства и способы имеются самые разные: и художественные, и нехудожественные. Самое элементарное средство — это провоцирование восприятия народами друг друга по принципу «мы» и «они», что еще в 1960-е годы, когда в Советском Союзе некоторые ученые проявили интерес к социальной психологии как науке, пытался прояснить Б. Поршнев [17]. «Они» часто воспринимаются врагами. Если они не являются врагами, то можно создать и растиражировать образ врага. Процитируем по этому поводу К. Лоренца: «Человечество не потому воинственно и агрессивно, что разделено на враждебно противостоящие друг другу партии. Наоборот, оно структурировано таким образом именно потому, что это создает раздражающую ситуацию, необходимую для разрядки социальной агрессии» [18]. В данном случае разрушительный инстинкт приобретает форму высших целей, и человек оказывается способным убивать своих братьев. По этому поводу можно было бы сослаться на фильм С. Лозницы «Донбасс» (2018), в котором есть жуткий эпизод расправы над человеком из противоположного лагеря, оказавшегося на площади в Донецке. Эпизод обращает на себя внимание прежде всего тем, как возникает и усиливается агрессия, как увеличивается толпа вокруг жертвы, как вспыхивает эмоциональный накал и, в конечном счете, развертывается что-то похожее на линчевание. Начали расправу молодые, к ним присоединилась истерическая женщина. Затем толпа увеличилась, и началось линчевание. Раз враг, то это не человек. Начинается его истерическое истязание, казнь. Вообще, в фильмах С. Лозницы, независимо от разных сюжетов, звучит одна мысль — распад некогда великой цивилизации, включающей в себя, в том числе, и Украину. Этот распад проявляется в нарастании взаимной и разрушительной агрессии.
В качестве мощного средства изживания агрессии можно было бы также сослаться на некогда столь значимую для функционирования культуры праздничную культуру. Если, конечно, иметь в виду не современные формы праздника, а праздничную стихию в ее архаических и традиционных формах, когда на короткое время вспыхивает агрессия и дозволяется делать то, что в другое время запрещено [19]. «Праздник означает массовое участие возбужденного, шумного народа, — пишет Р. Кайюа. — Такие большие скопления чрезвычайно благоприятствуют возникновению и заразительному распространению душевной экзальтации, которая растрачивается в криках и жестах и заставляет людей бесконтрольно отдаваться на волю самых безотчетных импульсов. Даже в нынешних, обедненных праздниках, хотя они и мало отличаются от унылого фона будней и кажутся рассеянными, раздробленными, чуть ли не поглощенными им, — еще можно различить жалкие остатки той всеобщей разнузданности, что характерна для празднеств старинных» [20].
Нас, конечно, в первую очередь интересует механизм изживания агрессии в формах искусства. Тем более, что с закатом, а точнее, с идеологизацией праздничной культуры, которая и является причиной ее вырождения, функции праздника переходят к искусству, и оно приобретает в современной культуре еще более высокий статус, чем это имело место раньше. Конечно, в формах искусства проигрывается нечто такое, что относится уже не только к искусству. И становится невозможно историю искусства сводить к смене художественных стилей. Эта проблематика в эпохи омассовления культуры становится исключительно значимой. Такова и наша эпоха.
В одну из первых эпох такого омассовления, что имела место в Древней Греции, этот механизм изживания начал объяснять Аристотель, назвав его катарсисом. Тот факт, что с тех пор существуют сотни определений катарсиса, свидетельствует о том, как этот механизм важен и для искусства, и для культуры в целом. Важен то он важен, но до конца не разгадан. Ведь во времена Аристотеля не было ни психологии, ни биологии как научных дисциплин. Удалось ли Аристотелю сказать о своем открытии все? Конечно, нет. Он упустил вопрос о биологических основаниях катарсиса.
К. Лоренц не мог этого вопроса обойти. В восприятии трагедии происходит переориентация агрессии, ее обезвреживание. Согласно К. Лоренцу, катарсис предстает разрядкой агрессивности на замещающий объект. «Уже древним грекам, — пишет К. Лоренц, — было известно понятие катарсиса, очищающей разрядки. Психоаналитики прекрасно знают, как много в высшей степени похвальных поступков получают стимулы из „сублимированной“ агрессии и, уменьшая ее, приносит дополнительную пользу» [21]. Все это полезно и важно знать. Но смысл катарсиса все-таки на самом глубинном уровне, может быть, удалось объяснить лишь Рене Жирару. В своей книге «Насилие и священное» он углубился в те инстинкты саморазрушения человечества, которые долго, а точнее, весь период до возникновения осевого времени, человек не смог обуздать. Казалось, что обуздал. Ведь ради этого он укреплял религию, а значит, и культуру.
Разрушительные инстинкты сегодня снова начали беспокоить человечество. Возможно потому, что возникает предчувствие, что мир вступает в новую фазу, и, возможно, наступает новое, отличное от предшествующего осевое время. Или наступает постосевое время с распечатыванием тех инстинктов, которые культура осевого времени контролировала и вытесняла. К такому же выводу приходит и Р. Жирар: «Безмерность насилия, долго высмеиваемая и не понимаемая ловкачами западного мира, в неожиданной форме заново появилась на горизонте современности» [22]. Так что не приходится сомневаться в том, что мир находится в совершенно новой ситуации, удаляющей нас от желаемой стабильности. Существуя в осевом времени, мы только опасаемся агрессии и возлагаем надежды на культуру. Что же касается доосевого времени, то агрессия тогда представала в формах самого реального самоистребления — и внутривидового, и межвидового.
Перенакопление агрессии может приводить к тому, что ее фитилем способна стать любая, даже незначительная причина. Например, каждый неверный шаг власти. Разве распространение в нынешней России социального неравенства, разгул коррупции, жизнь «по лжи» (если переосмыслить известное суждение А. Солженицына), столь частые факты несправедливости, хамство чиновников — потомков библейского архетипа, сознательная активизация образа врага, не могут подвести к взрыву тотальной агрессии? Мир часто оказывается в критической ситуации, и пора принимать радикальные решения. Кажется, что если исходить из перечисленных фактов, то получается, что Э. Фромм прав. Агрессия объясняется неразрешенностью социальных проблем, или ошибочностью их решений.
Но прав и К. Лоренц. Каждая спровоцированная современными процессами вспышка агрессии отбрасывает человечество к первоистоку — к биологическому инстинкту, который, хотя и подавляется культурой, но все же до конца не устраняется. Иначе говоря, способствует варварскому возрождению.
«Человек, пространство, время и снова человек» (2018)
Снова вспоминается фильм южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Человек, пространство, время и снова человек». Это, несомненно, авторский фильм, один из редких фильмов, ставящих вопрос о распечатывании того, что культурой в течение многих столетий запрещалось, а именно, — о саморазрушении человечества, в том числе, и на биологическом уровне. Развитие действия принимает такой оборот, что возникает тотальное взаимное истребление. По фильму, получается, что человек не остановится, пока не разрушит и себя, и других, и человечество, и жизнь вообще. Вспоминается, как во вступлении к фильму режиссер сказал, что ему хочется переписать и по-новому изложить на экране Библию. То есть с точки зрения инстинктов, что господствовали в доосевое время?..
В фильме воспроизводится конкретная история — круиз на лайнере людей, представляющих разные социальные группы. Но автор хотел бы, чтобы зритель воспринимал эту историю как универсальную формулу человеческого бытия, в одинаковой мере присущую каждому народу и любому социуму. Вот почему для режиссера важно вынести даже в название фильма понятия пространства и времени. Но эти понятия здесь все-таки — не главное. Главное понятие — это «человек», которое тоже выносится в название. Значит, опять-таки речь идет не о конкретном, эмпирическом человеке, а о его природе вообще. К. Ки Дук стремится к обобщениям большого размаха, стремясь мыслить философски.
Он выстраивает фильм на контрасте. С одной стороны, это крайний натурализм, напоминающий второразрядные и дешевые американские боевики, в которых герои постоянно убивают, и которых тоже пачками убивают. При этом авторы исключают всякий момент обычного человеческого сопереживания и сочувствия, — да, собственно, чаще всего герои в таких фильмах этого и не заслуживают. С другой стороны, в сюжете не просто воспроизводится какой-то конкретный случай или что-то на него похожее. Происходящее развертывается в форме притчи. Следовательно, смысл следует искать за пределами внешнего действия. Натурализм погашается условностью, хотя это и кажется невозможным.

Внешне фильм соответствует жанру катастрофы. Понятия «человек» и «катастрофа» соотнесены. Катастрофа как дело рук самого человека. Катастрофа как средство испытания человека. Согласно выводу К. Ки Дука, стремление человека существовать в социуме неизбежно оборачивается катастрофой. Человечество выработало идеальный тип социума — демократическое общество, но оно непрочно и хрупко, что и приводит к диктатуре.
В демократических обществах человек достаточно свободен и не терпит над собой насилия со стороны власти. Чего же может быть лучше? Но дело в том, что в каждом обществе неизбежно возникает и социальное неравенство. И вот общество сталкивается с экстремальной ситуацией, например, с нехваткой продовольствия, когда может начаться голод. К. Ки Дук предлагает проанализировать эту ситуацию. Голоду в фильме предшествует весьма продолжительная завязка. Все начинается с того, что лайнер отплывает на неделю в плавание. Лайнер странный, точнее, военный. Остался еще с военных времен. Поэтому на палубе есть оружие. Многие детали свидетельствуют, что собравшиеся представляют либеральное общество, находящееся в зените. Тут и политик высокого ранга, или сенатор, играющий роль демократа, со своим сыном, и интеллигентная парочка, отмечающая свой медовый месяц, и путаны, и гангстеры, и мелкие жулики. В общем, весь срез либерального социума.
Что означает для всех этих людей свобода? Если верить Ким Ки Дуку, то она проявляется, например, в сексуальной вседозволенности. Сенатору приглянулась та самая девушка, которая отправляется со своим женихом, чтобы отметить медовый месяц. Это замечает бандит с нахальной улыбочкой. Он устраивает так, что сначала возьмет ее сам, потом подарит сенатору, а после ею воспользуется сын сенатора. Прислуживающий сенатору бандит скажет сыну сенатора: «Бери от жизни все, пока копыта не отбросил». Совсем как в нашей рекламе. Только в ней не употребляется слово «копыта».
Ближе к финалу действие сосредотачивается вокруг ребенка как символа сохранения и продолжения жизни, поставленной в соответствии с выводами К. Ки Дука под вопрос. Но только сама мать ребенка никак не может понять, кто же его отец. Впрочем, установление отцовства — мотив, который может быть важен для мелодрамы, а у К. Ки Дука — притча. Здесь важно другое. Важно, например, как действие, начавшееся либеральной свободой, развертывается в конфликт и нечто, подобное революции. Начинается с того, что одни живут в каютах типа «люкс», другие в дешевых номерах. Скандал разгорается, когда туристы из дешевых номеров обнаруживают, что туристы из номеров типа «люкс» обедают отдельно, и их меню совсем другого качества. Сенатор, конечно, циник и манипулятор, но под воздействием своего сына-студента, а больше под воздействием необходимости следовать либеральным принципам, готов идти на уступки толпе. Но ведь эти уступки придется делать постоянно. Таково либеральное общество. А что, если их не делать? Выход есть. Он готов держать при себе готового ему услужить бандита, одетого в костюм, который носят в России бойцы из Росгвардии. А тот формирует свою команду, которая будет противостоять команде, возглавляемой командиром корабля.

Действие развертывается так, что в ситуации противостояния команд сенатор должен играть роль диктатора. Он им и становится, ибо к этому подводит развитие событий. В конце концов, пистолет окажется в руках уже не бандита, а самого диктатора. Конечно, еще в начале зарождения конфликта в него вмешивается жених героини, будущей матери, и пытается образумить бандита, ставшего предводителем преступной массы. В ответ бандит выдает весьма многозначную тираду, обращенную в адрес беспомощной интеллигенции, элиты: «Вы — образованные, умники. Если бы вы делали все правильно, мы бы так не жили». Так, за интеллигентом закрепляется образ фармака, да, собственно, об интеллигенции речи больше и не будет. Но, видимо, этой мотивировки в адрес интеллигента оказалось недостаточно. В дело идет нож. Раненый интеллигент отправляется на дно кормить рыб.
Действие развертывается дальше. Продовольствия становится все меньше. Сенатор приказывает уменьшить порции, но только не себе и своим приближенным. Дело дойдет до того, что обед будут подавать один раз в три дня. Возмущение ликвидируется с помощью пистолета. Диктатура в разгаре. Командир корабля предупреждает сенатора о возможном бунте. Он говорит: Бог испытывает предел наших возможностей. На это сенатор скажет, что Бога нет. Для фильма К. Ки Дука эта фраза весьма символична. Это, если хотите, главная мысль режиссера. Продуктов все меньше. Бунт приближается. Обе команды начинают вооружаться. Матросы находят в трюме ящики с гранатами, оставшимися после войны, и вместе с членами своей команды обсуждают вопрос о ликвидации врагов.
Революция на корабле, — что нам привычно по фильму ли Ф. Феллини (у него правда, не революция, а первая мировая война), или по фильму С. Эйзенштейна, — начинается. Пока сенатор убивает лишь одного из возмутившихся. Труп отдадут старику, который в фильме постоянно появляется и наблюдает происходящее, не произнося на протяжении всего фильма ни одного слова. Все принимают его за уборщика мусора. Но функция этого персонажа — в другом. Он собирает грязь в пластиковые стаканчики, которые в России стали столь популярными после протестных демонстраций. Из этой грязи потом заново возникнет жизнь. Вроде бы, по К. Ки Дуку, больше не из чего. Старик втыкает в эту грязь семена и выращивает какие-то растения. Что же он делает с трупом? А он его расчленяет, как это делают обычно в мясных лавках, когда разделывают туши животных, — отделяет кости от мяса, измельчает их, ссыпает в ведра и забрасывает туда семена. Из этого вырастут томаты или что-нибудь другое, непременно съедобное.
Команда корабля упреждает нападение с гранатами и первой бросает гранаты в своих врагов. Тем самым режиссер моделирует то, что нам знакомо как гражданская война. Раз есть «белые», то появятся и «красные». «Белые» стараются сохранить на корабле порядок. «Красные», не обладая никакими нравственными добродетелями, готовы расстреливать всех подряд. Люди из команды командира корабля более либеральны, и потому вскоре гранаты оказываются в руках бандитов. Временная власть командира упраздняется. Бандиты обманом заманивают враждебную команду в каюту, где хранятся продуктовые запасы, и взрывают ее. Сенатор-диктатор приказывает: «Убейте этих ублюдков». Революция достигает апофеоза. Сенатор собственноручно бросает гранаты в людей. Командира корабля он убьет сам. Маска либерала с него окончательно спадает.
Между тем, голод становится реальностью. Именно в этот момент в фильме происходит обращение к теме «пространство». Действие фрагментируется и переходит в фантастическое измерение. Море исчезает, а корабль уже движется в облаках. Сначала персонажи пытаются понять, кто их туда забросил, потом об этом забывают. А старик все расчленяет и расчленяет трупы. Ему уже помогает беременная героиня. В одном из горшков старик вырастил из яиц цыплят. Они превращаются в куриц. Пластиковых стаканчиков и горшков для выращивания зелени уже не хватает. Вместо горшков старик и героиня будут использовать разлагающиеся трупы. Истолченные кости насыпают в уши, глаза, в раны. Затем втыкают в эти места рассаду. Все это будет расти.
Как и должно было произойти, конфликт уже возникает в команде сенатора. Главный бандит перестает пресмыкаться перед сенатором, требуя вернуть его пистолет. Бандит сообщает сенатору, что еды не осталось. Сенатор ему отвечает: «Будем есть друг друга». Сам он предлагает сыну убить себя и тем самым готов дать ему возможность выжить. Все чаще в диалогах слышится хорошо знакомое русскому человеку слово «выживание». Конфликт между сенатором и бандитом заканчивается убийством сенатора, который промахнулся, пытаясь убить бандита. На корабле начинается каннибализм. Героиня сначала брезгует человечиной, но, чтобы спасти ребенка, вынуждена расчленить труп сенатора и питаться его мертвой плотью. Она тоже становится хладнокровной убийцей. Бандита убивает именно она. Возникают проблемы с сыном сенатора. От голода он сходит с ума, пытаясь съесть выращенную стариком курицу. Устранив голод куском человечины, сын сенатора насилует героиню.
Героиня старается сохранить себя ради ребенка, но вскоре заканчивается и человечина. Значит, или сын сенатора должен убить и съесть героиню, или героиня — сына сенатора. Проблема обостряется с таинственным исчезновением стрика. Кем был этот старик? Мудрец, сам Бог? Может быть, и так. Отныне оставшиеся в живых персонажи должны сами сделать выбор. Конфликт происходит по поводу курицы. Нужно дождаться, пока она не снесет яйца. В яйцах — спасение. Но сын сенатора не может терпеть и над бедной курицей заносит тесак. Но от курицы зависит продолжение жизни. Наступает момент истины, и героиня стреляет в сына сенатора, расчленяет его тело и им питается. Постепенно кровавое действие подходит к финалу. Героиня обнаруживает снесенное курицей яйцо. Она разбивает его, выпивая содержимое. Ребенок в ее чреве получает жизнь. Наконец, начинаются роды, и раздается плач младенца.
В фильме есть эпилог. Он важен для того, чтобы зритель отдавал отчет о принципе «вечного возвращения», некогда заимствованного Ф. Ницше из восточной культуры. Конечно, это не та логика, что присуща христианству. Но ведь Ф. Ницше и не питал уважения к христианству, обвиняя его в том, что оно приблизило Запад к декадансу. Если не приходится требовать от Ф. Ницше соответствия христианским установкам, то, что уж взять с Ким Ки Дука, этот самый Восток представляющего. В финале фильма появляется садик — плод усилий старика. Много деревьев. Некоторые из этих деревьев вырастают прямо из скелетов. Повзрослевшая героиня прогуливается с младенцем по саду. Ребенок под деревом находит пистолет и прицеливается. Проходит еще какое-то время. На экране появляются титры «Спустя 17 лет». Младенец превратился в молодого мужчину. Мать и сын устраивают завтрак на траве. Совсем как у Ж. Ренуара. Ассоциации-то все из европейской культуры. В восточном кино это случается часто. (Разве в фильме А. Куросавы «Семь самураев» / Shichinin no samurai 1954 года не чувствуется влияния советских революционных фильмов?)
В руках взрослого сына все тот же пистолет. Он целится в несчастную курицу, которая в фильме предстает символом жизни. Мать недовольна. Сын видит обнаженные ноги матери, пытается поднять ее платье, чтобы еще больше обнажить ее ноги. Он их пытается гладить. Вожделение овладевает им. Он пытается разодрать материнское платье. Преследуемая им, она убегает. Тут нельзя не вспомнить Лукино Висконти с его фильмом «Гибель богов» (La caduta degli dei (Götterdämmerung), 1969), в котором герой, как в трагедии Софокла, совершает кровосмешение с матерью. У Л. Висконти «боги» и в самом деле вырождаются вместе с приходом нацистов — головорезов с пистолетами.
Но у корейского режиссера иначе. Все начнется вновь. Начнется с секса и пистолета. Так, человек у него окажется между Эросом и Танатосом. И не будет из этого заколдованного круга выхода. Это циклический закон жизни. В своей эволюции человек неизбежно придет к самоуничтожению и себя, и жизни, а потом все повторится. И вновь, и вновь. А повторится ли? Ведь люди будут уже умертвлять себя не газом, как в первую мировую войну, или гранатами, как во вторую мировую, а с помощью водородной бомбы. Кончится тем, что показано в фильме С. Крамера. Уже не найдется места, где можно отсидеться и переждать. Так что же все-таки делать с этой языческой циклической логикой, в соответствии с которой выстраивает действие своего фильма Ким Ки Дук? Ведь христианская логика вроде бы ей не соответствует.
Не соответствует, но ведь Б. Пастернак все же к ней прибегает. Это у него:
«Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви
И мы живем по той же мерке
Мы, люди катакомб и шахт» [23].
Стоит ли удивляться признанию режиссера, озвученному им перед показом своего фильма в Москве: «После этого фильма половина моих поклонников меня возненавидели». Странно, что возненавидели не все.
Фармак и «очищение» насилия
По мнению Р. Жирара, если насилие не удовлетворено, то «продолжает накапливаться, пока не перельется через край и не распространится с самыми ужасающими последствиями» [24]. Как же человечество, постоянно оказываясь в ситуации распространения агрессии и, следовательно, в экстремальной ситуации, в ситуации возможного исчезновения, этот вопрос разрешало? Конечно, разгадка лежит в культуре и в ее универсальных функциях. Но самое удивительное — это то, что разрешение загадки связано с тем же самым насилием. От насилия пытались уйти, но к нему же и возвращались, его использовали. Получается, что насилие — радикальное средство от насилия. Парадокс? Да, парадокс. Пытаясь выявить и объяснить этот механизм, Р. Жирар обнаруживает, что существующие источники не помогают эту мысль проиллюстрировать, поскольку этому мешает одностороннее истолкование механизма насилия, используемого в качестве средства преодоления насилия.
В качестве такого громоотвода от насилия у Р. Жирара выступает ритуал жертвоприношения, или ритуал умерщвления фармака. Насилие в его индивидуальных — религиозных и даже художественных формах — способствует преодолению массового насилия. Конечно, казалось бы, разобраться в этом могли бы помочь мифологические тексты, в которых культурные герои предстают такими фармаками или «козлами отпущения». Но даже в них на первый план выдвигался образ фармака как исключительно положительного персонажа, хозяина положения, идущего на смерть с высокой целью, с сознанием принесенной им жертвы ради людей. Именно в этом и только в этом качестве они и сохранялись в сознании людей. Это способствовало сакрализации фармака, который как бы уже переставал быть фармаком и входил в сознание людей как «культурный герой».
Проблема заключалась лишь в том, что информация о том, что в реальности существует и вторая сторона этого образа, связанная с принуждением, принесением им жертвы не по своей воле, из мифов устранена. Получается, что реконструировать полностью то, что было в реальности, по мифам невозможно. В реальности, чтобы сохранить в коллективной памяти позитивный образ культурного героя, необходимо было его унизить, обличить и уличить, подвергнуть оскорблению и, в конечном счете, растерзать. Важно представить его уже не виновником разгула и агрессии в форме ритуала, в результате которого большой коллектив людей, будь это племя или какое-то другое сообщество, рискует уничтожить себя и исчезнуть. Возникает несоответствие ритуала и мифа. Ритуал — эта вспышка агрессии, которая преодолевалась с помощью растерзания фармака. А миф этот смысл скрывал и предлагал другую интерпретацию ритуала. «Между тем, что произошло в реальности, и тем, как это видят гонители, существует зазор, который следует еще больше расширить, чтобы понять соотношение между мифами и ритуалами, — пишет Р. Жирар. — Наиболее дикие ритуалы показывают нам беспорядочную толпу, которая постепенно сплачивается против некой жертвы и в конце концов нападает на нее. А миф рассказывает нам историю грозного бога, который спас своих почитателей с помощью какого-то жертвоприношения или собственной гибели, после того как сам же и посеял в общине беспорядок» [25].
Успокоение находящегося во власти агрессии архаического коллектива может произойти, когда вина за самоуничтожение со многих переносится на одного — на фармака. Он становится архетипом и героем мифа, героем более поздних художественных образований, таких как трагедия. По Р. Жирару, функция ритуала жертвоприношения и умерщвления фармака заключается в том, чтобы «очищать» насилие, то есть «обманывать» его и переключать на жертв, мести за которых можно не опасаться. Насилие позволяет избавиться от насилия. Насилие в форме ритуала — двойное насилие. Оно ввергает людей в ярость, в безумие, смерть, но оно же их очищает и умиротворяет. Таким представляется механизм укрощения агрессии и освобождения массового сообщества от распространения в эпидемических формах деструктивности. Такая казнь жертвы является не только условием преодоления агрессии и, следовательно, выживания коллектива, но одновременно и способом сакрализации жертвы, трансформации его в божество. Но ведь божество невозможно представить в качестве жертвы. Поэтому все подробности, связанные с унижением и уничтожением жертвы в мифе, не фиксировались.
Если этот процесс осознавался, то лишь односторонне. Так продолжалось лишь до появления Нового Завета. Парадоксальной кажется мысль Р. Жирара о том, что апостолы не поняли смысла той идеи, что принес с собой Христос. Появление Христа вводит в новую эпоху, эпоху осознания механизма преодоления агрессии. Конечно, механизм фармака — никакая не религия. Это, можно сказать, социально-психологический механизм, связанный с выживанием человеческого сообщества, который естественным образом возникает, методом проб и ошибок шлифуется, а затем используется в прагматических целях. Этим механизмом воспользовались жрецы и, вообще, религиозные институты. Божества — это ведь те же самые «культурные герои», т. е. герои мифов. Но спустя столетия невозможно не признать, что в таких религиозных формах уже существовала и культура. Культура и преобразила этот социально-психологический механизм фармака. Отсюда он двинулся в сферу искусства.
Как уже отмечалось, герои трагедии — это те же самые мифологические герои. Что же касается более поздних и уже не мифологических и религиозных форм функционирования этого механизма, то он вторгается в искусство. Нередко герои фильмов, даже герои фильмов о революции 1917 года предстают поздними двойниками образа фармака. В качестве иллюстрации можно было бы вспомнить фильм Ю. Райзмана «Коммунист» (1957). Демонстрируя крайнее напряжение и свершая уже в мирное время необходимые для спасения дела революции подвиги, герой погибает. Но это оптимистическая смерть и вообще оптимистическая трагедия, а последняя становится повторяющейся формулой многих фильмов 1920-х годов и более поздних лет. С помощью смерти «рыцарей революции» сакрализуется и революция, и социализм, и время, в которое все это происходило.
«Ной» (2014)
Наконец, попробуем подробно высказаться о фильме Даррена Аронофски «Ной». Древний сюжет изложен в нем тем же языком, что и другие фильмы-катастрофы, но он все же выделяется из рядовой продукции. Легенда о Ное — это, пожалуй, архетип всех существующих в мире катастроф. Современные страхи у Аронофски выступают как архетипические. Ведь картина все о том же — о судьбе человечества, которое способно само себя уничтожить. Принимая решение устроить потоп, Бог, видимо, отдает отчет в том, что человечество все равно будет грешить и способно истребить себя и может уничтожить созданный им, Богом, космос. Так не лучше ли уничтожить самого человека.
Фильм Д. Аронофски, кроме всего прочего, интересен еще и тем, что при обсуждении темы деструктивности в нем возникает проблематика Эроса, но совсем не в тех вульгарных формах, в каких она присутствует у Ким Кидука. О сексе в связи с агрессией следует сказать еще и потому, что эта сфера, свидетельствующая о человеке как части природы, тоже регламентируется культурой. Но перед этим хочется процитировать одно место из книги Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти»: «В течение тысячелетий, — пишет Ф. Арьес, — человек, защищаясь от природы, упорно, с помощью морали и религии, права и технологии, социальных институтов и экономики, организации труда и коллективной дисциплины, возводил свой неприступный бастион. Но это укрепление, воздвигнутое против природы, имело два самых слабых места: любовь и смерть, через которые всегда понемногу просачивалось дикое насилие. Человеческое общество прилагало большие усилия, чтобы укрепить эти слабые места в своей системе обороны. Оно сделало все, что могло, дабы смягчить неистовство любви и агрессивность смерти» [26]. Секс связан с позитивными репродуктивными функциями, выражением жизни. Но комплекс деструктивности, подобно вирусу, проникает и в эту сферу.
В фильме Д. Аранофски ставится вопрос — «Esse homo?», что есть человек и даже человечество в целом. Это постановка вопроса в границах той системы нравственности, что возникает в осевое время, в эпоху Ветхого завета. Способен ли человек существовать лишь в том случае, если существует высший авторитет, то есть Бог как единственный творец? Или он в авторитете не нуждается и сам является творцом? И если человек поверит в то, что он — творец, то не наделает ли он бед? Понятно, что этот вопрос обсуждается давно и в литературе, и в философии, и в искусстве. Даже и тогда, когда библейские истории не воспроизводятся. Сегодня он не менее актуален, чем в прошлые столетия. Не стал ли человек после того, как он лишился высшего авторитета, как пастор из фильма И. Бергмана «Причастие», в большей степени разрушителем и погубителем себя, других и жизни вообще? Не лишилось ли человечество с исчезновением авторитета (ведь давно уже сказано «Бог мертв») какого-то значимого способа выживания?
Созидая, человек в то же время и разрушает. Не продолжает ли в человечестве наследие Каина сохраняться? Как известно, Каин — сын согрешивших Адама и Евы, убивший своего младшего брата. От Каина пошло название тому агрессивному племени, которое занимается истреблением жизни и самоистреблением. Но перейдем к сюжету фильма. Бог замышляет «проект», как следствие неподчинения, отклонения людей от заповедей. Адама и Евы в фильме нет. Но там несколько раз появляется на крупном плане красное яблоко. Сначала во сне Ноя. Бог так разгневался от картин разврата, насилия, братоубийства, содома, извращений, убийств, греха, что решил освободить созданную им землю от людей. Каиново племя распространилось по всему человечеству. Никто не будет прощен. Так у Бога возникает идея потопа как архетипа всех катастроф. Но все-таки Богу придется сделать одно исключение. Для Ноя. Ной — праведник. Он всегда поступал в соответствии с волей Бога. В Библии дается сухой пересказ легенды. Но любую историю, в том числе, и библейскую можно пересказать по-разному. Можно вложить в нее актуальные смыслы, что Д. Аранофски и пытается сделать.

Развертывающийся сюжет, позволяющий понять взаимоотношения между членами семьи Ноя, позволит понять, почему Бог принимает такое жесткое решение. Бог не только воздает должное Ною, позволяя ему спасти себя, свою семью, свое добро, скот и прочее, он подсказывает ему построить ковчег и в этом ему помогает. На скалах вдруг вырастает лес, который Ной и использует для постройки ковчега.
Однако отношение Бога к Ною сложнее. По сути, Бог проводит эксперимент. В ходе этого эксперимента он может изменить решение. В лице Ноя он испытывает человека. Дает ему последний шанс. Может быть, люди еще заслуживают прощения. Но они должны дать гарантию, что на них можно положиться, и что они не разрушат созданный Богом космос до основания. Бог ставит эксперимент не на худших, а на лучших. В сказках есть повторяющаяся функция — испытание. Мы же в случае с библейским повествованием о Ное имеем дело с фольклором, и во многом в Библии действуют законы сказки. Можно допустить, что в оценке решения Бога Ной в самом начале истории еще колеблется. Но, наблюдая поведение членов своей семьи, своих сыновей — Сима, Яфета и особенно Хама, — он приходит к выводу: микроб греха приходит не извне, он сидит в каждом. Ной оправдывает решение Бога. Сомнения исчезают. Время милосердия прошло. Наступает пора расплаты. Ной — на стороне Бога, на стороне культуры. Посмотрим, выдержит ли он эту свою позицию.
В результате каких конкретных поступков Ной делает свой вывод? В фильме события развертываются так. Еще до потопа Ной спасает девочку по имени Ила. Все члены ее семьи убиты во время нападения кианитов. Племя каинитов находится во власти агрессии. Потомки Каина все вокруг истребляют. Девочка выживает, но теряет способность к деторождению. И это не случайно, ведь согласно проекту Бога, никакого продолжения и возрождения жизни не должно быть. Но время идет, ковчег возводится, и девочка превращается в девушку. А в девушек влюбляются юноши. Жизнь берет свое. В Илу влюбляется Сим. Он хочет на ней жениться и иметь детей. Природный инстинкт жизни. Но, согласно замыслу Бога, детей не должно быть. Инстинкт жизни нужно искоренить в зародыше. Тем более, женского рода. Ведь живыми существами мир наделяет именно женщина. Она — символ жизни, а жизнь, согласно решению Бога, не должна продолжаться.
В течение сюжета, вернее, в замышляемый Богом «проект», все время включается предок Ноя Мафусаил (Энтони Хопкинс). Мафусаил, согласно Библии, потомок Сифа, то есть того племени, которое, в отличие от кианитов, сохраняет человечность. Агрессия еще не успевает поразить остальные племена и стать тотальной. По легенде, Мафусаил прожил 969 лет. Он — символ долголетия и продолжения жизни. Мафусаил владеет волшебным даром и возвращает Иле способность к деторождению. Нельзя ведь допустить, чтобы человек шел против природы.
Осуществление замысла Бога под угрозой еще и по причине строптивости Хама. Скупые строчки в Библии о том, как Хам посмеялся над обнаженным отцом, в фильме развернуты в целый сюжет. В один из критических моментов Хам спасает незнакомую девушку и влюбляется в нее. Когда начинается потоп, Хам хочет взять ее с собой в ковчег. Ной отказывает ему в этом, и девушка погибает. Ной становится убийцей, что приводит и к его вражде с Хамом. Получается, что секс как природная стихия имеет мощную власть над человеком.
Одна из интерпретаций образа библейского Хама принадлежит Д. Мережковскому. Но у него истолкование образа Хама предпринимается в 1905 году для объяснения предреволюционной ситуации в России как разрушительного процесса. Для Д. Мережковского Хам — исток всего нового мировосприятия России, чреватого революционным взрывом. Этот образ для Д. Мережковского представляет не только вакханалию хулиганства, босячества, черной сотни, агрессии всего, что идет снизу, и что, видимо, будет проявлено в 1917 году. Но это и то, что идет от власти, от самодержавия, отделившего народ от интеллигенции и церкви. И в то же время это сама православная церковь, предавшая свободу и ставшая верноподданной власти. Получается, что Хам — это исток разгула начавшейся в России бесовщины, и босяцкой, и государственной. Исток распада культуры вообще. Трагедия отцеубийства и братоубийства. Не случайно, представляя планетарность распространяющейся в мире религии мещанства, Д. Мережковский вспоминает образ Смердякова из романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Он пишет: «Когда вглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне судьбы Европы, — вспоминаются предсказания Милля и Герцена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра — аршин, вместо Библии — счетная книга, вместо алтаря — прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и „дивишься удивлением великим“, как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие хамы?» [27].
В ситуации распада культуры, а, следовательно, нарастания агрессии, всегда приходит культурный герой, или даже Бог. Он же — фармак, жертва, или козел отпущения. Сколько жертв вызвали к жизни годы революции и гражданской войны, и в бессознательных, и в сознательных формах. А эти жертвы — и виновные, и совершенно невинные — проекция массового сознания, массовой агрессии, которая без жертвы, как показал Р. Жирар, изжитой быть не может. Насилие в ритуальных формах — способ изживания агрессии, во власти которой может оказаться целый народ. В России в первых десятилетиях ХХ века возникает беспрецедентная ситуация. В ситуации регресса социума возникает взрыв агрессии, который, начавшись в революции 1905 года, будет иметь продолжение в последующие годы, а также и в период гражданской войны. В своем смягченном виде агрессия перейдет в идеологические установки…
В фильме Д. Аранофски линия Хама получает продолжение. Как оказывается, в ковчеге, уже начавшем свой путь, прячется антагонист Ноя — царь по имени Тубал. Позиция Тубала либеральная и атеистическая, но, в том числе, и диктаторская. В истории диктатуры часто оказываются следствием либерального разгула. Позиция Тубала такая: люди сами должны решать, жить им или умереть. Это альтернатива позиции Бога. Целью Тубала является убийство Ноя и захват ковчега. В его планах создать светское государство, а не новую церковь. Он увлекает за собой массу каинитов. Его действия провоцируют ассоциации с революциями. Тубал поднимает массу на бунт против Ноя. Он не успевает захватить ковчег, но не теряет надежды расправиться с Ноем. Пробравшись в ковчег помимо воли Ноя, он нащупывает слабое место в семье Ноя и начинает восстанавливать Хама против отца. После того, как Ной запретил ему взять в ковчег его девушку, Хам созрел для мщения.
У Тубала есть веские аргументы. Ведь Ной сознательно не спас девушку Хама. Кроме того, Ной должен убить еще не родившегося ребенка Сима. Получается, что у Д. Аранофски библейский Ной — дважды убийца. По сути, это еще один диктатор, но уже на почве веры. Тубал говорит Хаму: живи по своей воле, а не по воле отца. Ты, Хам — мужчина, и должен убить Ноя. Так возникает еще один образ Хама — образ ницшевского Сверхчеловека. И Хам уже точит нож. Ной — тоже. Но у них разные жертвы, а главное, разные мотивы. Кроме всего прочего, на Ноя оказывает давление его жена. Она уговаривает мужа не убивать будущего ребенка Сима. Она — символ женского инстинкта жизни. Наконец, жена Сима рожает, и даже двойню, двух девочек. Можно предположить, что так Мафусаил подвергнул решение Бога иронии.
Наступает момент, когда Ной, как Авраам над Исааком, заносит над крошками кинжал. Все в ужасе от жестокости Ноя. Но он неумолим, ведь он выполняет волю Господа, волю культуры. Лишь в последний момент он не выдерживает и злодеяния не совершает. Постепенно выясняется, что это никакое не злодеяние, а испытание, как в волшебной сказке. И вот уже возвращается голубь с масличным листом в клюве. Это означает, что где-то есть остров, земная твердь. Потоп отступает, а жизнь на земле продолжится. Замышляемый Богом «проект» не осуществляется.
Но был ли такой «проект»? Смысл «проекта» Бога — вовсе не в уничтожении людей, а в испытании человека и его способности быть сотворцом. Бог ведь, в конечном счете, так и рассчитывал, что Ной найдет верный выход. Совершит свой выбор. Тут обсуждается выбор как проблема, поставленная в философии ХХ века. Собственно, она поставлена еще С. Кьеркегором в ХIХ веке. Не подчиняясь Богу, Ной в то же время и не совершает ошибки. Он берет у Бога часть ответственности за жизнь и взваливает ее на свои плечи. Но ведь этого хотел и сам Бог — хотел видеть его, Ноя, не слепым исполнителем чужой воли, а творцом, носителем нравственной нормы. Неподчинение Ноя убеждает Бога в том, что человечество все-таки достойно жизни и способно справиться со всеми катастрофами. Но невозможно не отметить, что такое убеждение, в конечном счете, приходит Богу на ум в тот момент, когда он наблюдает поведение человека в экстремальной ситуации. Человек оказывается способен находить верное решение и радикально изменять свою жизнь лишь в подобных ситуациях.
Как мы убеждаемся, эта мысль звучит и в других фильмах в жанре катастрофы. И не важно, в каких именно ситуациях людям приходит верное решение. Важно, что вера в возможность продолжения жизни существует, и зависит она от самого человека.
Примечания:
[1] Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. С. 202—344.
[2] Хренов Н. А. Театр и кино как объекты социальных наук // Театр как социологический феномен / Отв. ред. Н. А. Хренов. СПб.: Алетейя. 2009. С. 95—119.
[3] Филиппов А. Театровед Алексей Бартошевич: «Что-то радикально меняется в самой сути театра, и это кажется мне ужасно грустным» // Газета «Культура». 2020. 8 июня. Режим доступа: https://portal-kultura.ru/articles/theater/326886-teatroved-aleksey-bartoshevich-chto-to-radikalno-menyaetsya-v-samoy-suri-teatra-i-eto-kazhetsya-mne/ (дата обращения 15.06.2020).
[4] Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня; Человек и культуры; Затемненный мир. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 340.
[5] Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. С. 282.
[6] Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994.
[7] Там же. С. 298.
[8] Там же. С. 285.
[9] Там же. С. 296.
[10] Камю А. Бунтующий человек; Философия; Политика; Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 190.
[11] Сорель Ж. Размышления о насилии. М.: Фаланстер, 2013.
[12] Фромм Э. Указ. соч. С. 294.
[13] Маркин Ю. Искусство третьего Рейха // Декоративное искусство СССР. 1989. №3. C. 36.
[14] Солженицын А. Архипелаг Гулаг // Новый мир. 1989. №10. C. 112.
[15] Лоренц К. Указ. соч. C. 515.
[16] Там же. C. 129.
[17] Поршнев Б. Социальная психология и история. М.: Наука, 1966. C. 103.
[18] Лоренц К. Указ. соч. С. 296.
[19] Абрамян Л. Первобытный праздник и мифология. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1983. С. 111.
[20] Кайюа А. Миф и человек; Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 218.
[21] Лоренц К. Указ. соч. С. 300.
[22] Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 292.
[23] Пастернак Б. Лейтенант Шмидт // Стихотворения и поэмы: В 2 т. Т. 1. Л.: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1990. С. 277.
[24] Жирар Р. Указ. соч. С. 17.
[25] Он же. Козел отпущения. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 96.
[26] Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Прогресс — Академия», 1992. С. 330.
[27] Мережковский Д. Грядущий хам. М.: Республика. 2004. С. 25.
Людмила Сараскина
Доктор филологических наук, Государственный институт искусствознания
Эпидемии в истории — образы эпидемий в искусстве
Аннотация: В статье анализируется история возникновения и распространения особо опасных пандемий — оспы, чумы, холеры — и их влияния на развитие человеческих обществ. Рассмотрены социальные, медицинские, религиозные аспекты поведения людей в период эпидемических вспышек; особое внимание уделено поведенческим тенденциям после окончания эпидемий и их качественной повторяемости. Административные меры властей стран и городов, подвергшихся вспышкам эпидемий, проанализированы на примере Венеции XIV века (дож Андреа Дандоло), Москвы XIX века (император Николай I) и Москвы XX века (КГБ, МВД, Минздрав). Случай со вспышкой оспы в Москве в 1960 году рассмотрен также и в зеркале художественного и документального кинематографа).
Отражение эпидемий и связанных с ними поведенческих стандартов в искусстве — важнейшая составляющая статьи. «Декамерон» Боккаччо, самая значительная книга раннего Возрождения, вдохновила европейский, в частности, итальянский кинематограф, попытавшегося понять, что есть «дух Декамерона». Подобная попытка была предпринята и Пушкиным в маленькой трагедии «Пир во время чумы», созданной как вольный перевод драматической поэмы Вильсона «Город Чумы». Прослежено многоголосое пушкинское «эхо» в произведениях Тургенева, Чехова, Достоевского.
Ключевые слова: эпидемия, пандемия, Античность, Фукидид, Средневековье, Ренессанс, «Декамерон», кинематограф Италии, Вильсон, Пушкин, «Пир во время чумы», Николай I, Тургенев, Базаров, Чехов, Дымов, Достоевский, Раскольников.
В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума, и война, как правило, заставали людей врасплох… Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же они могли поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют стихийные бедствия.
Альбер Камю. Чума
Всю историю человечества, засвидетельствованную письменно, люди сталкивались с пандемиями, эпидемиями и убийственными заразными болезнями — чумой, черной и пурпурной оспой, холерой, проказой, сифилисом, английской потливой горячкой, малярией, лихорадками различной этиологии, пляской Святого Витта (танцами до смертельного изнеможения напуганных людей, «пир во время чумы»), туберкулезом, сыпным и брюшным тифом, полиомиелитом, дифтерией, испанским, гонконгским, азиатским, свиным, птичьим гриппами, сибирской язвой, корью, свинкой, спидом (ВИЧ-инфекцией), вирусными пневмониями, вирусом Зика, лихорадкой Эбола и новым коронавирусом Covid-19 (ему предшествовали SARS-CoV и MERS-CoV).
Объяснения причин масштабных проявлений заразы («за что?», «почему это мне?», «почему сейчас?») не менялись с древних времен; назывались: либо божья кара за грехи, либо мерзости дьявола (они же проделки бесов), либо негодяйские пакости самих людей — отравленная вода в колодцах, отравленные стрелы, еда, одежда, домашние животные. В общем, яды и еще раз яды — их разнообразие, а главное, их заражающая способность — удостоились обширной литературы, как научной, так и научно-фантастической. Подозрения в специфически искусственном происхождении заразы, то есть предположения о секретных лабораториях, где некие злодеи тайно выращивают нечто смертоносное, в умах древних народов, кажется, не возникали: это стало прерогативой развитых обществ, познакомившихся с научно-техническим прогрессом.
Каждая пандемия, каждая вспышка эпидемии приносили человечеству тяжкие страдания, оставляли после себя тысячи, а то и миллионы жертв. Вместе с тем они давали людям шанс проявить себя в борьбе со смертью, познать опыт мужества, самопожертвования, сострадания и взаимопомощи. Это относилось ко всем без исключения — к врачам, пациентам, заболевшим, выздоровевшим. Люди учились, как следует вести себя в условиях войны с невидимым врагом, как не терять самообладание при встрече со смертельной опасностью, как оставаться человеком достойным, а при удаче и таланте — и человеком творческим.
Болезни, управляющие историей. Эпидемии как смертельное оружие
Библейская книга «Исход», описывающая десять казней египетских, упоминает одну из самых страшных по своему коварству: «И поднимется пыль по всей земле Египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами… И сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте… Воспаление было на волхвах и на всех Египтянах» (гл. IX, стих 9—10).
Исследователи предполагают, что речь скорее всего идет об оспе (лат. variola, variola vera, слав. о-sър-а — сыпь) — высокозаразной, смертельно опасной вирусной инфекции. Вирус передается воздушно-капельным путем, вызывает лихорадку, тошноту и сыпь, покрывает тело пузырьками с жидкостью (кровью или гноем), после которых на теле остаются рубцы и шрамы — оспины. В древние времена от оспы, мучивший человечество тысячелетия, умирал каждый третий заболевший, выжившие часто теряли зрение. Крестоносцы Европы, колонизовавшие страны Востока, приносили оспу из Египта, Индии, Китая.
В феврале 1519 года идальго Фернандо Кортес де Монрой, испанский конкистадор, отправился на корабле из Кубы в сторону Мексики, с намерением покорить цивилизацию ацтеков. Уже через два года правитель Ацтекской империи Монтесума был мертв, а ее столица Теночтитлан захвачена испанцами. Могучим союзником Кортеса стала эпидемия оспы, охватившая столицу, — число ее жителей за год сократилось на 40%; Кортес провозгласил Ацтекскую империю территорией Испании.
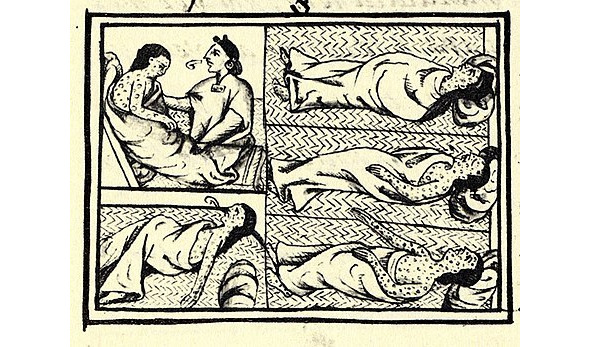
Историки называли оспу секретным оружием Кортеса, приплывшим вместе с ним на тех же каравеллах и галеонах: коренные народы обеих Америк никогда не контактировали с вирусом и не имели к нему ни естественного иммунитета, ни способов борьбы. Францисканский монах, сопровождавший Кортеса в экспедиции, рассказывал: «Так как индейцы не знали лекарства от болезни, они умирали кучами, как клопы. Во многих местах случалось так, что в доме умирали все, и так как невозможно было похоронить большое количество умерших, то они сносили их дома, так что эти дома становились могилами» [1].
Ацтеки были не единственным коренным народом Америки, который пострадал от эпидемии оспы. Цивилизации майя и инков также были почти полностью уничтожены variola vera. Но еще прежде Америки эпидемия черной оспы в IV веке прокатилась по Китаю, в середине VI века поразила Корею. В VIII веке от оспы вымерло более 30% населения Японии, а в густонаселенных районах уровень смертности доходил до 70% [2]. В Индии существовал культ богини оспы; Мариатале (так ее звали) изображалась в виде женщины в красном одеянии; по легенде, богиня однажды рассердилась на своего отца и бросила ему в лицо золотое ожерелье, и там, где бусины коснулись кожи, появлялись пустулы (гнойные нарывы). Верующие старались задобрить богиню, приносили ей жертвы. В Корее вспышки оспы объясняли вторжением духа, к которому следовало обращаться «уважаемый гость оспа»; к его алтарю приносили лучшие кушанья и вина [3]. К олицетворенному образу оспы — Оспа-матушка — обращались с молитвами и славянские народы во время эпидемий [4]. Однако заклинания, молитвы и талисманы никак не ослабляли жестокость заболевания; способ лечения, когда на больного надевали красную одежду, чтобы «выманить оспу наружу», никогда никому не помогал.
В Старом и Новом Свете не было страны, где бы не свирепствовала оспа; мир людей представлял собою кладбище для обезображенного человечества. Во Франции XVIII века при розыске преступника полицейские использовали особую примету: «Знаков оспы не имеет». Оспа не знала границ, не ведала преград. С начала XVII века зараза достигла Сибири, в XVIII — истребила половину населения Камчатки. В 1730 году от оспы умер Петр II, позже тяжело пострадал от нее и Петр III. Когда опыты вакцинаций достигли России, первую прививку от оспы сделали, по ее приказу, Екатерине II — это был пример отваги для всех подданных империи. Затем привиты были великий князь Павел Петрович и его супруга великая княгиня Мария Федоровна, а через несколько лет и внуки Екатерины — Александр и Константин Павловичи.
ХХ век: Variola vera в Москве
Всякая эпидемия, в том числе и эпидемия черной оспы, — это история не только о прошедших веках, но и о современности. Болезни имеют обыкновение видоизменяться (мутировать) и возвращаться, а старые прививки перестают действовать: так случилось с туберкулезом, корью, Эболой и другими инфекциями. Variola vera, победу над которой в границах СССР была достигнута путем всеобщей вакцинации в 1936 году, внезапно посетила Москву в 1959-м. Об экстраординарном случае вспышки писали позднее как о беспрецедентной операции по локализации вируса, завезенного из Индии в СССР 53-летним московским художником-плакатистом, дважды лауреатом Сталинской премией А. А. Кокорекиным.
Вряд ли художник был сильно виноват: за год до поездки он был привит от оспы и потому не боялся заразиться, когда решил присутствовать в священном городе Варанаси (Бенаресе) на ритуальном сожжении умершего брахмана (никто не знал и, кажется, не хотел знать, от чего тот умер), а затем поучаствовал в распродаже вещей покойного, где и приобрел экзотические сувениры для подарков, которые по приезде успел раздарить родным и знакомым. Уже к вечеру он почувствовал недомогание, которое и сам, и врачи поликлиники приняли за грипп, а сыпь на его теле — за аллергию от антибиотиков. В Боткинской больнице, куда художник был госпитализирован и помещен в общую палату, его лечили от гриппа, но через несколько дней он скончался. Только на вскрытии один из докторов, ветеран медицины, едва взглянув в микроскоп на ткани покойного, произнес фразу, которая вошла в историю оспенной эпидемии: «Да это, батенька, variola vera — черная оспа» [5]. Спустя несколько дней от тех же симптомов умерли и другие пациенты. Как установили патологоанатомы, художник Кокорекин и те, кто заразился от него, умерли от самой тяжелой и заразной формы оспы.
То, что случилось дальше, иначе как коллективным подвигом назвать нельзя. 15 января 1960 года состоялось совещание у Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва. Ответственным сотрудникам КГБ, МВД и Минздрава было поручено выявить и поместить на карантин всех, кто контактировал с художником (пассажиров рейса Дели-Москва, таксистов, соседей, всех, кто посетил в означенные числа «те самые» комиссионные магазины, рассматривал индийские сувениры, и тех, кто купил их: всех нашли, поместили на карантин, сувениры сожгли. Боткинскую больницу перевели на казарменное положение, больных и персонал перестали выпускать с ее территории. Москву закрыли для въезда и выезда. Были отменены многие авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение, перекрыты автодороги. Под карантин в больницу на Соколиной горе поместили студентов, с кем контактировала дочь художника и ее будущий муж. Всего было выявлено и помещено в карантин 9342 человека. Одновременно началась операция тотального оспопрививания. По тревоге подняли 26963 медработника, открыли 3391 прививочный пункт, где обслуживали поголовно всех. К 25 января в Москве было привито 5559670 человек. В Московской области — 4000000. Между 22 декабря, моментом посадки Кокорекина на рейс Дели-Москва, и 3-м февраля, моментом ликвидации вспышки оспы, прошло 44 дня: всего заболело 46 человек, скончались трое [6].
Всем участникам противоэпидемической спецоперации удалось избежать огласки — и, соответственно, паники, которая могла привести к повальному бегству москвичей из города и распространением инфекции за его пределами. Неясные городские слухи, появление медперсонала в «противочумных» костюмах на улицах Москвы, закрытые похороны жертв, на которые не пускали родственников, — все это прошло почти незаметно для жителей столицы. Но все же степень секретности была не столь абсолютной, многое выплыло наружу: факт тот, что по следам событий писатель и журналист Александр Мильчаков написал повесть «В город пришла беда» (1961) и стал сценаристом одноименной двухсерийной игровой черно-белой теледрамы (108 мин.), снятой в 1966 году на киностудии им. Александра Довженко режиссером Марком Орловым [7].
Сегодня картину легко можно найти в сети, но в свое время она не появилась на экранах телевизоров и была не то чтобы совсем засекречена, но негласно рекомендована студентам медицинских вузов лишь для служебного пользования — как методическое пособие.
«В основу фильма положено событие, происшедшее в Москве несколько лет назад», — этим титром начинается фильм, первые кадры которого документальны и взяты из жизни столицы: театралы разглядывают афишу Большого театра, молодые люди встречаются на Пушкинской площади у памятника поэту, другие спускаются в метро. Однако за мирным фасадом происходит нечто чрезвычайное (и это уже сюжет фильма): машина «скорой» («труповозка») с санитарами в белых спецкостюмах и масках мчится в крематорий, у входа выгружают закрытый гроб, на режимные похороны пытаются проникнуть родственники. «Я жена Колесникова», — истошно кричит женщина (Кира Головко), стуча в закрытые ворота, пытаясь прорваться к печам.
И точная дата события («несколько лет назад»), и его «нулевой источник» завуалированы: художник-плакатист Кокорекин переименован в архитектора Колесникова, черная оспа переименована в пурпурную (пустулы не с гноем, а с кровью), врач-инфекционист академик Морозов, возглавивший титаническую борьбу с эпидемией, назван Махотиным (Даниил Ильченко), Индия, из которой в Москву была завезена variola vera, заменена абстрактным Востоком. Всё остальное — достоверно и подлинно, в виде наглядного пособия по борьбе с особо опасными инфекциями. С драматическим, тревожным напряжением показана оперативная, в круглосуточном режиме, работа вирусологов, инфекционистов, микробиологов и эпидемиологов, медсестер и санитаров, милиционеров, сотрудников спецслужб, чиновников, летчиков, бортпроводниц, водителей такси, телефонисток, которые не позволили распространиться вирусу. Завидная дисциплина, самоотверженный труд, жесткий порядок, беспрекословное подчинение — это был тот самый случай, когда вся власть в столице принадлежала врачам — и врачи победили, доказав, кстати, что опасность хорошо одолевается молча.
Сотни зрительских комментариев по следам недавнего просмотра ностальгически свидетельствовали, насколько актуален ныне этот фильм, который прежде почти никто не видел: «Как оперативно и четко сработали все службы, какой режим секретности был, и это не случайно, это оправдано! Такие случаи обязаны отрабатываться в режиме секретности! И никакой паники!.. Вот что значит СССР!» [8]. О том, как в действительности силами КГБ, МВД и Минздрава СССР была проведена операция по поиску всех, с кем был в контакте художник, начиная с пассажиров авиарейса Дели — Москва, прилетевшего во Внуково, рассказал спустя шестьдесят лет документальный телевизионный фильм сценариста и режиссера Виталия Якушева «Черная оспа. Московский детектив» [9], снятый для ВГТРК в 2013 году.
Картина, держась в целом версии художественного фильма Мильчакова-Орлова, раскрыла имена подлинных участников события, о котором рассказали: Валерия Кокорекина — дочь художника, Владимир Петросян — его зять, Владимир Федоров — эпидемиолог, кандидат медицинских наук, Виктор Зуев — вирусолог, доктор медицинских наук, Лев Ходакевич — эпидемиолог, доктор медицинских наук, Светлана Маренникова — вирусолог, доктор медицинских наук, Дональд Хендерсон — директор глобальной программы ликвидации оспы Всемирной организации здравоохранения.
В 2015 году появился еще один телесюжет в детективном жанре, с элементами уголовного расследования: «Нераскрытые тайны: как победили эпидемию черной оспы в Москве» (44 мин.) [10]. Это был пересказ уже известной истории, с новыми пикантными подробностями от косвенных свидетелей, «почти» очевидцев, с большими преувеличениями и даже искажениями, трагическими интонациями, политическими намеками и всеми атрибутами сенсационности. Весной 2020 года на телеэкраны вышли короткометражки на ту же тему: свежий информационный повод (грозный коронавирус) вызвал к жизни скороспелые ленты «История одной эпидемии. Специальный репортаж» (25 мин. 25 сек.) [11], «Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь» (8 мин.) [12]. Были использованы те же детективные ходы, с цитатами из предшествующих картин, с фрагментами интервью «тех самых» врачей — еще живых героев 1960 года. Характерно другое: появление короткометражек на модную ныне «вирусную» тему вызвало среди зрителей настоящую эпидемию ностальгии по СССР — стране, которой удалось сделать, казалось бы, невозможное в невозможно короткое время.
Чума приходила и уходила, а оспа была всегда — эта поговорка-страшилка была в ходу у многих поколений докторов-инфекционистов. Тем не менее оспа считается побежденной инфекцией, от которой есть надежная вакцина. Об искоренении оспы официально было объявлено в 1980 году на Ассамблее ВОЗ. Прививки против натуральной оспы в СССР прекратились в 1978–1982 гг. При этом скептики не преминут напомнить, что еще не все ясно со странами Африки, для которых черная оспа — эндемическое (то есть постоянно присущее данной местности) заболевание. К тому же до сих пор оспой болеют обезьяны, и их никто не лечит…
Чумные столетия: неведомая и непознанная напасть
Крупнейшей по своим разрушительным последствиям эпидемией древности, помимо оспы, была чума, так же, как и variola vera, не покидавшая человечество тысячи лет. Первая описанная эпидемия чумы разразилась в Афинах, в годы Пелопоннесской войны (431–427 гг. до н.э.) и названная именем греческого историка Фукидида, современника Эврипида и Сократа. Историк находился в Афинах во время эпидемии, случившейся на втором годе войны, заразился, но выжил и позже описал ее. «Я ведь сам страдал от этой болезни и наблюдал ее течение у других» [13], — признавался он на страницах своего выдающегося труда, заложившего основы исторической науки античного мира, Ренессанса и Нового времени. Несколько глав Книги второй «Истории» Фукидида посвящены возникновению, проявлениям и последствиям повальной болезни, изложенных с той сдержанной выразительностью, которая была присуща только греческим трагедиям.
Никто не знал, каким образом и откуда в Афинах появилась напасть — подозревали лишь, что либо ее принесли беженцы из Эфиопии, Египта и Ливии, либо враги Афин отравляли воду в цистернах и колодцах. «Никогда еще чума не поражала так молниеносно и с такой силой и на памяти людей нигде не уносила столь много человеческих жизней. Действительно, и врачи, впервые лечившие болезнь, не зная ее природы, не могли помочь больным и сами становились первыми жертвами заразы, так как им чаще всего приходилось соприкасаться с больными. Впрочем, против болезни были бессильны также и все другие человеческие средства. Все мольбы в храмах, обращения к оракулам и прорицателям были напрасны. Наконец люди, сломленные бедствием, совершенно оставили надежды на спасение» [14].
Течение болезни осложнялось мучительным жаром: «Тело больного было не слишком горячим на ощупь и не бледным, но с каким-то красновато-сизым оттенком и покрывалось, как сыпью, маленькими гнойными волдырями и нарывами. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести даже тончайших покрывал, кисейных накидок или чего-либо подобного, и им оставалось только лежать нагими, а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Мучимые неутолимой жаждой, больные, остававшиеся без присмотра, кидались в колодцы; но сколько бы они ни пили, это не приносило облегчения» [15].
Последствия болезни были ужасающими и для выживших. «Если кто-либо выживал, то последствием перенесенной болезни было поражение конечностей: болезнь поражала даже половые органы и пальцы на руках и ногах, так что многие оставались в живых, лишившись этих частей, а иные даже слепли. Некоторые, выздоровев, совершенно теряли память и не узнавали ни самих себя, ни своих родных… Болезнь поражала людей с такой силой, которую не могла вынести человеческая природа… В отличие от всего наблюдавшегося ранее, птицы и четвероногие животные, питающиеся человеческими трупами, вовсе не касались трупов (хотя много покойников оставалось непогребенными) или, прикоснувшись к ним, погибали» [16]. В Примечаниях ко Второй книге «Истории» есть ссылка на соображение британского историка-эллиниста Арнольда Уикомба Гомма (1886–1959): «Большинство современных медиков полагают, что симптомы „чумы“ Фукидида похожи скорее на симптомы тифа, чем кори» [17].
Судя по тому, как плодотворно работал Фукидид после выздоровления, с ним ничего подобного не произошло. Стоит заметить, что в афинской чуме погиб один из отцов-основателей афинской демократии, полководец Перикл. Существенно еще одно наблюдение историка — нечто, быть может, испытанное им лично. «Люди умирали одинаково как при отсутствии ухода, так и в том случае, когда их хорошо лечили. Против этой болезни не помогали никакие средства: то, что одним приносило пользу, другим вредило. Недуг поражал всех, как сильных, так и слабых, без различия в образе жизни. Однако самым страшным во всем этом бедствии был упадок духа: как только кто-нибудь чувствовал недомогание, то большей частью впадал в полное уныние и, уже более не сопротивляясь, становился жертвой болезни; поэтому люди умирали, как овцы, заражаясь друг от друга. И эта чрезвычайная заразность болезни и была как раз главной причиной повальной смертности» [18, курсив мой. — Л.С.].
Следует ли из этого наблюдения вывод о важности терпения и смирения, которые могут (или не могут) помочь не поддаться «великой ночи» уныния»? Фукидид, столь драматично описав страшную болезнь, нигде не упомянул, как он перенес ее, как ему самому удалось выздороветь. Подобное «обезличенное» повествование, с подавлением авторских эмоций, с «самоустранением», свойственно «Истории» Фукидида. Заявляя, что цель его труда — «отыскание истины», он принципиально отказывается от биографических, технических и политических подробностей, умалчивает об источниках информации [19].
И еще одно важное наблюдение — о пагубных слабостях многих людей в период тяжких бедствий: «С появлением чумы в Афинах все больше начало распространяться беззаконие. Поступки, которые раньше совершались лишь тайком, теперь творились с бесстыдной откровенностью. Действительно, на глазах внезапно менялась судьба людей: можно было видеть, как умирали богатые и как люди, прежде ничего не имевшие, сразу же завладевали всем их добром. Поэтому все ринулись к чувственным наслаждениям, полагая, что и жизнь и богатство одинаково преходящи. Жертвовать собою ради прекрасной цели никто уже не желал, так как не знал, не умрет ли, прежде чем успеет достичь ее. Наслаждение и все, что как-то могло служить ему, считалось само по себе уже полезным и прекрасным. Ни страх перед богами, ни закон человеческий не могли больше удержать людей от преступлений, так как они видели, что все погибают одинаково и поэтому безразлично, почитать ли богов или нет. С другой стороны, никто не был уверен, что доживет до той поры, когда за преступления понесет наказание по закону. Ведь гораздо более тяжкий приговор судьбы уже висел над головой, и, пока он еще не свершился, человек, естественно, желал, по крайней мере, как-то насладиться жизнью» [20].
Феномен бесстыдной откровенности и беззакония, мародерства, массовых грабежей и беспредела будет множество раз повторяться и в Новой, и Новейшей истории, и не только при вспышках моровых язв.
Трудно переоценить значение «Истории» Фукидида, в частности, поразительного сюжета об афинской эпидемии, какой бы точный медицинский диагноз за ней ни стоял: так и Пушкин, пережидая холеру 1830 года в Болдино, называл ее чумой.
Трезвая правдивость древнегреческого историка, его острая наблюдательность, моральная оценка человеческих страстей, гуманистическая и трагическая ноты повествования непревзойденны. Знаменитый русский историк С. М. Соловьев, по свидетельству его внука С. М. Соловьева, хотел быть «русским Фукидидом».
Европейские бедствия. Невыученные уроки
Перефразируя выражение Л. Н. Толстого о счастливых и несчастливых семьях, выскажу вполне очевидное предположение: всякая новая эпидемия похожа на всякую предыдущую, но всегда имеет и свой собственный почерк, касающийся и врачебных стратегий, и поведенческих привычек пациентов, и разрушительности последствий, и реакции историков, поэтов, художников.
Чумой современная медицина называет инфекционное заболевание, возбудителем которого является чумная палочка (лат. Yersinia pestis), источниками и резервуарами — грызуны: сурки, суслики, мыши, серые и черные крысы, а переносчиками — блохи. Само слово «чума», как принято полагать, заимствовано русским языком либо из древнееврейского (от сuma, т.е. нарыв, шишка), либо из тюркского.
Yersinia pestis — инфекция древнейшая, библейская, в том смысле, что Библия заметила и запомнила эту жестокую напасть. Война израильтян с филистимлянами (древним народом, жившим на территории современной Палестины) явила заразу как Божье проклятие. Первая книга Царств повествует о тяжелых битвах, в которых израильтяне терпели поражение за поражением. Для поднятия духа они принесли в свой лагерь Ковчег со священными реликвиями — Ковчег Завета Господня. Но это не помогло: филистимляне, одержав очередную победу, захватили Ковчег и торжественно доставили его в город Азот, в храм идола своего Дагона. Похищенная святыня начала мстить: на Азот обрушился страшный удар: «И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами» (1Цар. 5: 6). Оставшиеся в живых филистимляне решили отправить Ковчег в город Геф, другую провинцию Филистеи, но рука Господня вновь дала о себе знать: «Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты» (1Цар. 5: 9). И в третий раз повезли филистимляне трофей, на этот раз в город Аскалон, не понимая, что везут чуму. «Когда пришел Ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш» (1Цар. 5: 10). Пришлось завоевателям отослать обратно святыню, ибо «те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес» (1Цар. 5: 12). Ковчег был поставлен на колесницу, которую повезли две первородившие коровы, вместе с ящиками, где были размещены изваяния золотых мышей и золотых наростов, и доставлен в город Вефсамис. Но и тут рука Господня не успокоилась: те из жителей Вефсамиса, кто посмел заглянуть в Ковчег Господа, были наказаны: «И убил он из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь поражением великим» (1Цар. 6: 19).
Библейское предание свидетельствует о многом. Во-первых, оно точно описывает болезнь, чреватую «мучительными наростами», остававшимися у тех, кто не умер; во-вторых, говорит о ее поражающей силе и неразборчивости (косит правых и виноватых, взрослых и детей); в-третьих, сообщает об эпидемическом характере болезни, полыхающей одновременно во многих городах. Ключевым здесь было слово наросты: опознавалась бубонная чума, болезненные бубоны, появлявшиеся у людей в паху. Древний мир хорошо знал бубонную чуму — геном возбудителя бубонной чумы был обнаружен в ископаемых останках давностью в 3800 лет.
Смертоносная чума не щадила народы и с наступлением Новой эры. Первая в истории зарегистрированная пандемия бубонной чумы (а была еще и легочная, самая опасная) возникла во время правления византийского императора Юстиниана I Великого (483 — 565), охватила всю территорию цивилизованного мира того времени и полыхала на протяжении двух столетий. Началась она в Египте и в Эфиопии, попала в Константинополь вместе с зерном, в котором прятались зараженные крысы. Заражался каждый второй и умирал через два-три или чуть более дней. Ни лекарств, ни вакцин не существовало, телам больных почти не уделяли внимания, для облегчения участи прибегали к молитвам, пахучим травам и амулетам.

Римский историк Евсевий Кесарийский (Памфил), епископ Кесарии Палестинской, оставил записки о чуме как о язве, сопровождавшейся огненным жаром, распространявшейся по всему телу, проявлявшейся на глазах и делая слепыми бесчисленное множество мужчин, женщин и детей. «Люди, иссохшие, похожие на призраки, боролись со смертью; шатаясь, скользя, не имея сил стоять, они падали на улицах и, лежа ниц, молили подать им кусок хлеба; до последнего вздоха выкрикивали они, что голодны: сил у них хватало только на этот горестный вопль. Пораженные множеством просящих, люди, по-видимому, состоятельные сначала щедро помогали, но под конец впали в состояние бесчувственности и жестокосердия, ожидая в скором времени той же горькой участи» [21].
Как тут не вспомнить Фукидида, язычника-афинянина, наблюдавшего примеры нравственного падения людей, которых не могли остановить ни страх перед богами, ни законы человеческие. Евсевий же был христианином, и, рассказывая о чуме в Александрии, увидел и другие примеры: «Весьма многие из наших братьев по преизбытку милосердия и по братолюбию, не жалея себя, поддерживали друг друга, безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживая за ними ради Христа, радостно умирали вместе; исполняясь чужого страдания, заражались от ближних и охотно брали на себя их страдания. Многие, ухаживая за больными и укрепляя других, скончались сами, приняв смерть вместо них… Так уходили из жизни лучшие из братьев: священники, диаконы, миряне; их осыпали похвалами, ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой вере, считалась равной мученичеству… Язычники вели себя совсем по-другому: заболевавших выгоняли из дома, бросали самых близких, выкидывали на улицу полумертвых, оставляли трупы без погребения — боялись смерти, отклонить которую при всех ухищрениях было не легко» [22].
Придворный историк Юстиниана Прокопий Кесарийский рассказывал, как чума (он называл ее «моровой язвой»), обезлюдив многонаселенную Александрию, около 541 года пошла на Балканы, Северную Африку, Прованс и Испанию, целиком охватила Средиземноморье, а затем двинулась на север — в Галлию и даже Британию, и на восток — в Персию. Причину бедствия он тоже видел в Божьей воле, поскольку укрыться от заразы не было шансов ни у римлян, ни у германцев, ни у мужчин, ни у женщин.
Историк делился одним любопытным соображением — и тоже о поведении людей в период эпидемии. Даже те, кто раньше предавался позорным страстям, отказались от привычного образа жизни и познали кротость — но… только на время, понимая, что вскоре скорее всего предстоит умереть. «Однако, когда они избавились от болезни, спаслись и поняли, что зло перекинулось на других людей, они вновь, резко переменив образ мыслей, становились хуже, чем прежде, проявляя всю гнусность своих привычек и, можно сказать, превосходя самих себя в дурном нраве и всякого рода беззаконии» [23].
Картина пандемий везде была почти одинакова: умерших было столько, что хоронить тела становилось некому и негде. В разгар эпидемии число умерших достигало 5—10 тысяч в день. В самые тяжелые дни тела просто сбрасывали в крепостные башни. Окраины городов превращались в массовые усыпальницы, торговля прекращалась, города пустели, следом за вспышкой чумы приходил свирепый голод.
Врачи не понимали, с чем имеют дело: болезнь поражала всех подряд, при этом сами лекари и родственники могли оставаться здоровыми. В 542 году чумой заболел и сам император Юстиниан, но ему посчастливилось выжить. Люди недоумевали: почему одни заболевают и умирают, а другие остаются здоровыми, и зараза их не берет. Многие сидели по домам и замаливали грехи в ожидании скорой смерти. Так, по наитию, жители Константинополя находили пути спасения — подвергали себя самоизоляции. Но болезнь все же не победили — она просто закончилась.
Пандемии продолжались десятилетиями и даже столетиями, рецидивы фиксировались по прошествии сотен лет. Юстинианова чума опустошала страны почти 200 лет, жертвами ее стали не менее 100 миллионов человек. Последний всплеск Юстиниановой чумы был зафиксирован в 775 году, через два с лишним столетия после главных и самых страшных событий.
Итальянский сценарий. Карантин как средство спасения
В XIV веке в странах Европы вспыхнула вторая крупнейшая в истории пандемия Черной смерти, названная так из-за быстрого почернения тел умерших, выглядевших как бы обугленными. Пик ее пришелся на 1346–1353 годы. Вспышки чумы продолжались в разных местах вплоть до XIX века, жертвами стали десятки миллионов людей, едва ли не половина населения Европы. Черной смерти предшествовали гибельные засухи, нашествия саранчи, ураганы, длительные ливневые дожди и подобные катаклизмы, которые осложнялись еще и вспышками оспы и проказы. Черная смерть оставила колоссальный след в истории Европы, наложив отпечаток на экономику, психологию, культуру.
Санитарное состояние городов и гигиена европейского населения, особенно бедноты, было ужасающим. Мусор выбрасывали на мостовые узких улиц прямо из окон домов, помои выливались в прорытые вдоль улиц канавы; нечистоты оказывались в ближайших реках, откуда бралась вода для питья и приготовления пищи. Чистоплотность считалась роскошью и излишеством [24]. Источником заражения мог быть любой заболевший.
Зараза следовала через Центральную Азию, Крым, Ближний Восток в Европу, на Британские острова, в Скандинавию, Россию, Гренландию. Чумную палочку разносили блохи; в условиях скученности люди быстро заражались друг от друга. Никоновская летопись сообщала: «Бысть мор во Пскове силен зело и по всей земле Псковской, сице же смерть бысть скоро: храхне человек кровию, и в третий день умираше, и быше мертвии всюду» [25]. Летописи сообщали, что священники не успевали хоронить мертвых, приходилось класть в одну могилу по пять-десять тел и отпевать всех одновременно. Болезнь опустошила Смоленск, Киев, Чернигов, Суздаль.
Средневековая медицина так же, как и во времена античные, не знала, как бороться с чумой. Медицина считалась второстепенной наукой, ибо занималась состоянием греховного тела, но не спасением души. Черная смерть, к счастью для Европы, вызвала к жизни силы сопротивления и заставила задуматься о медицинских причинах чумы и средствах ее профилактики. Как средство профилактической борьбы с чумой было востребовано учении о контагии (то есть заражении). Контагионисты предложили средство, которое сегодня, в условиях пандемии коронавируса, называется «самоизоляцией». «Следует, насколько это возможно, старательно избегать публичных споров, дабы люди не дышали друг на друга и один человек не мог заразить нескольких. Итак, следует оставаться в одиночестве и не встречаться с людьми, прибывшими из тех мест, где воздух отравлен» [26].
В 1348 году власти Венеции впервые в истории эпидемий ввели понятие «карантин»: «quarantа» в переводе с итальянского означает «сорок». Именно столько и длился карантин. 54-й венецианский дож, профессор права Андреа Дандоло сумел во время эпидемии чумы благодаря четким административным мерам избежать паники и хаоса, проявил личное мужество и оставался на своем посту даже тогда, когда в Венеции умирали 500—600 человек ежедневно. Меры, им принятые, внедрялись и в других государствах Европы.
Во-первых, была организована санитарная комиссия для досмотра всех кораблей, заходивших в гавань. Если на корабле находили больных чумой или умерших, его немедленно сжигали. Другие судна должны были плыть к острову Лазаретто, в четырех километрах от Венеции, и встать там на якорь. Через сорок дней на судно приходили врачи с инспекцией. Если признаков чумы не обнаруживалось, судну давали разрешение зайти в бухту Святого Марка и разгрузить товар. Если же чума подтверждалась, то умерших от болезни вместе с судном сжигали здесь же, больных размещали в бараках с запрещением иметь контакты с кем бы то ни было. Карантин как обязательная мера просуществовал почти 300 лет, до 1630 года. Территорию острова заняли больница и чумные бараки. Когда больницу закрыли, в зданиях был размещен военный гарнизон; в XIX веке на острове располагался приют для бездомных собак с материка. С 1960 года на «чумном острове», с его дурной славой, никто не живет. В 2000 годы при раскопках на больничном кладбище острова археологи выкопали около полутора тысяч чумных скелетов, датируемых XV–XVII веками. Но и в 1630 году итальянские хроники чумы сообщали о состоянии нравов: «Есть более отвратительное и страшное, чем нагромождение трупов, на которые постоянно натыкаются живые и которые превращают город в огромную могилу. Это взаимное недоверие и чудовищная подозрительность… Тень подозрения падает не только на соседа, друга, гостя. Такие нежные ранее имена, как супруги, отец, сын, брат, стали теперь причиной страха. Ужасно и неприлично сказать, но обеденный стол и супружеское ложе стали считаться ловушками, таящими в себе яд» [27].
Черная смерть страшила людей даже больше, чем проказа.
Но вернемся в Венецию, к административным мерам дожа Андреа Дандоло.
Помимо карантина, были запрещены торговля вином и азартные игры, закрыты трактиры, рынки и публичные дома. Специальные похоронные команды занимались сбором тел умерших, а горожанам запретили устраивать громкие похоронные процессии. Одно из главных средств борьбы с эпидемией звучало так: бежать из зараженной местности и в безопасности дожидаться конца эпидемии. Существовала присказка: «дальше, дольше, быстрее»: то есть бежать как можно дальше и как можно быстрее, оставаться вдали от чумных городов, кладбищ, скотомогильников, грязной воды и огородов с их влажной почвой как можно дольше.
Настоятельно рекомендовалось очищать воздух в доме и округе. С этой целью ставили в комнату умершего блюдечки с молоком, которое якобы поглощает заразу, с этой же целью разводили пауков, жгли костры на улицах и окуривались дымом ароматных трав. Широко практиковалась индивидуальная защита: как можно чаще нюхать цветочные букеты, бутылочки с духами, пахучие травы и ладан, наглухо закрывать окна и двери пропитанной воском тканью, чтобы не допустить в дом зараженный воздух.
Административные меры позволяли сохранять порядок, но мало способствовали искоренению чумы. Чумные доктора носили клювастые маски, рубахи черного цвета из кожи или вощеной ткани до пят, штаны, высокие сапоги и перчатки; в руки чумные доктора брали длинную трость, чтобы не дотрагиваться до больного руками. Чумные бубоны вскрывались и прижигались раскаленной кочергой, к ним прикладывали шкурки жаб и ящериц, якобы вытягивающих из крови яд. Знаменитая маска с клювом стала одним из символов средневековья. Тем не менее многие доктора, как и священники, погибали — и в попытках оказать помощь больным, и принимая последнюю исповедь умирающих. Встречались врачи, которые, разуверившись в своем искусстве, возвращали по смерти больного полученные ими деньги. Молитвы не помогали, народ роптал, множились еретические секты. Эпидемия унесла 60% населения Венеции, 80% населения Авиньона, папской резиденции. Жертвой авиньонской чумы стала Лаура де Нов — предположительно, муза Франческо Петрарки.
Жертвами чумы, длившейся в Италии почти 300 лет, были выдающиеся художники Ренессанса: Амброджо Лоренцетти (1290–1348), Андреа дель Кастаньо (1423–1457), Пьетро Перуджино (1446–1523), Ганс Гольбейн Младший (1497/1498–1543), Тициан Вечеллио (1488/1490–1576).
«Декамерон». Две недели без Черной смерти
К середине XIV века Европа вообще и Италия в частности претерпели столько страданий, потеряли столько выдающихся людей и простых граждан, столько раз задавали себе вопросы «за что?» и, привычно рассуждая о Божьей воле, которой наказываются народы за грехи неверия, гордыни, распутства, пытались все же осмыслить и описать происходящее. Многие историки, писатели, поэты, художники становились свидетелями и хроникерами Черной смерти, а если удавалось уцелеть, — и летописцами. Центральный вопрос, который обсуждался в дни, месяцы и годы эпидемий, начиная с Афинской чумы, описанной Фукидидом, было поведение людей в разгар беды и уроки, которые они извлекали, если удавалось ее пережить.
Люди ничему не учились. Все повторялось. Флорентийский хронист и дипломат Джованни Виллани писал: «Полагали, что те, кому Господне милосердие сохранило жизнь, видя погибель своих ближних и слыша об истреблении многих народов мира, одумаются, смирятся, вернутся к добродетели и католическому благочестию, станут воздерживаться от грехов и неправедных поступков, преисполнятся любовью и сочувствием друг к другу. Но только что мор прекратился, вышло совсем по-другому. Людей осталось слишком немного по отношению к унаследованным ими земным благам, так что, забыв о прошлом, словно ничего и нe было, они ударились в невиданный ранее разгул и бесстыдный разврат. Отставив дела, они предавались пороку обжорства, устраивая пиры, попойки, празднества с утонченными яствами и увеселениями, не знали удержу в сластолюбии, наперебой выдумывали необыкновенные и причудливые платья, часто непристойного вида, и переменили вид всей одежды. Простонародье, как мужчины, так и женщины, ввиду избытка всех вещей, не желали заниматься своим привычным трудом, пристрастились к самым дорогим и изысканным кушаньям, устраивали свадьбы, а прислуга и уличные женщины надевали платья, оставшиеся от благородных дам. Почти весь наш город очертя голову погрузился в постыдные утехи, в других местах и по всему свету было еще хуже» [28].
Умер Джованни Виллани во время самой сильной вспышки чумы в середине 1348 года, успев увидеть последствия прежних эпизодов. Об этом же, подытожив сведения итальянских хроник, писал академик А. Н. Веселовский: «Когда миновала чума, унесшая, как говорят, две трети населения, началась пора расточительности. Богатства, накопленные случайно, не ценились, продавали за треть стоимости; много пришлось тогда на долю церквей и монастырей. Чувственность, долго сдержанная страхом, не знала теперь удержа: женились повально, старые и молодые, монахи и инокини, в любое время, не дожидаясь положенного для благословения брачующихся воскресенья; девяностолетний старик брал за себя девочку. Жилось напропалую, о цене не спрашивали, рынок был переполнен всякой живностью, поднялся спрос на предметы роскоши, как прежде на лекарства. Народу поубавилось, зато возросло любостяжание: стали жениться на деньгах, насильно увозя богатых невест» [29].
Итальянский писатель и поэт, ярчайший представитель раннего Возрождения, Джованни Боккаччо создал в 1352–1354 годах по следам чумы 1348 года великую книгу своего времени — собрание ста новелл «Декамерон», или «Десятидневник». События книги происходят как раз во время той самой эпидемии. Трое благородных мужчин (самому юному не меньше 25 лет) и семь дам от 18 до 28 лет, связанные дружбой, соседством либо родством, случайно встретившись в церкви Санта Мария Новелла, уезжают из охваченной чумой Флоренции на богатую загородную виллу в двух милях от города. Все десятеро принадлежат к высшей городской знати, все образованные и воспитанные. Устав от смертей, взяв с собой слуг, яства и вина, они бегством спасаются от болезни, рассказывая друг другу занимательные истории — здесь и оригинальные сочинения Боккаччо, и городские анекдоты, и нравоучительные примеры из жизни, и восточные сказки. Ежедневно звучит по десять историй, в конце каждого дня одна из дам исполняет стихотворную балладу, где воспеваются радости чистой любви либо страдания любящих, которым что-то мешает соединиться. Автором баллад был сам Боккаччо.
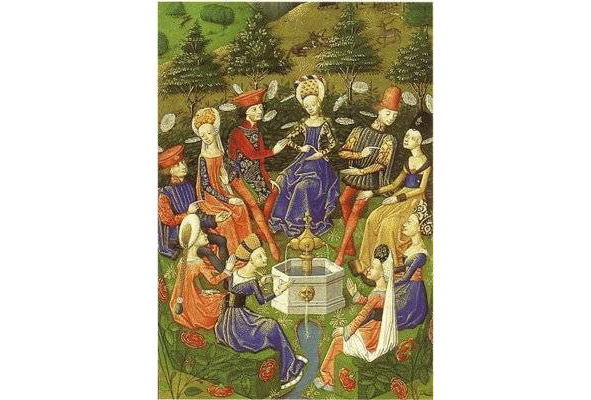
Это была первая в истории искусства художественная практика, созданная героями литературного произведения в режиме изоляции и отразившая утопическую мечту образованных людей раннего Возрождения о культуре, которая сможет преодолеть все беды и напасти. Атмосфера «Декамерона» — это страстный Memento vitae, перчатка, брошенная Memento mori. А. Н. Веселовский в этой связи замечал: «Боккаччо схватил живую, психологически верную черту явлений чумы, страсти жизни у порога смерти. Его „Декамерон“ — иллюстрация к известной фреске пизанского Camposanto: путники верхом, отворачиваются от трупов, разлагающихся в гробах, тогда как на заднем плане пейзажа, под сенью деревьев, общество молодых людей и дам пирует беззаботно, осененное незримым крылом ангела смерти» [30].
У Боккаччо были свои резоны для создания новелл в духе Memento vitae, — от чумы погибли его отец и дочь. «И вот, когда я так горевал, веселые реч и утешение друга принесли мне столь великую пользу, что, по крайнему моему разуменю, я только благодаря этому и не умер» [31], — говорится во вступлении от автора, который стремится исправить несправедливость фортуны, поддержать страдающих, развеселив их баснями, притчами, разудалыми историями. «В этих повестях, — продолжает он, — встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получат удовольствие, — столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок: они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться» [32].
Из-за откровенных эротических сцен и антиклерикального содержания многих новелл католическая церковь резко осудила «Декамерон» как сочинение аморальное, подрывающее устои религии. Книга подверглась гонениям, от Боккаччо требовали отречься от нее, и только Петрарка, которому Боккаччо поведал о своей беде, удержал страдающего друга от сожжения шедевра.
Спустя почти двести лет, 1559 году, «Декамерон» был включен в «Индекс запрещенных книг» (лат. Index librorum prohibitorum); первый список был утвержден по инициативе римского папы Павла IV, который до своего избрания был Верховным Инквизитором. (Среди запрещенных авторов в разное время в списке окажутся: Джордано Бруно, Бенедикт Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Рене Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя). Книга, хоть и с большими купюрами, продолжала распространяться, получила европейскую известность, ее активно переводили на европейские языки, а с изобретением книгопечатания она стала одной из самых издаваемых.
Сюжеты «Декамерона» активно заимствовала литература стран Европы, приспосабливая книгу к своим национальным традициям. Полюбили творение Боккаччо и художники: первый из них — автор книги, набросавший на полях рукописи трецветные портреты персонажей. Серию картин по мотивам новелл «Декамерона» создал Сандро Ботичелли. Чаще всего в искусстве на темы сборника новелл Боккаччо изображается кружок из десяти рассказчиков, расположившихся на траве.
Почти через шестьсот лет «Декамерон» своим жизнеутверждающим настроением стал источником вдохновения кинематографа. Ни все вместе экранизации этой книги (их восемь), ни каждая из них в отдельности, не смогли (и не пытались) показать на экране сюжеты ста новелл — речь могла идти только о нескольких избранных историях. Самая ранняя картина британо-испанского производства «Ночи Декамерона» (Decameron Nights), была снята режиссером Хьюго Фрегонезе в 1953 году на основе трех историй как приключенческая мелодрама. Но уже первый экранный титр сообщает нечто странное: «В XIV веке Италия подвергалась постоянным набегам со стороны наемных войск, и местные войны велись беспрерывно. Мы расскажем о том, как сказителя скабрезных историй Джованни Боккаччо дама его сердца убедила в том, что добродетель все же побеждает зло. Граждане Флоренции бегут из осажденного наемниками города. Один Боккаччо решается войти в город в поисках любимой женщины».
То есть: никакой чумы во Флоренции нет и в помине, никто не болеет и не умирает. Джованни Боккаччо (Луи Журдан), молодой красавец, с репутацией «мерзавца и развратника», едет на загородную виллу, где пятеро дам и трое служанок скрываются от некоего воинственного герцога Лоренцо. Фьяметта (Джоан Фонтейн), в которую влюблен Боккаччо, среди них. Недавно овдовев, она протестует против присутствия здесь Боккаччо и соглашается терпеть его, если только он будет рассказывать интересные истории. Он остается, обещая ни за кем не ухаживать и не оскорблять добродетели. Но так или иначе нарушает обещание, живет легко, весело и добивается желаемого.
Итальянский кинофильм «Боккаччо-70» (Boccaccio 70, 1962) режиссеров Марио Моничелли, Федерико Феллини, Лукино Висконти и Витторио де Сика состоит из четырех историй в духе новелл Джованни Боккаччо. «Дух» «Декамерона» подразумевает здесь сложные отношения между мужчиной и женщиной, где царят любовь и верность, а также бушуют ревность и измена. Действие всех картин перенесено в современность, никаких ассоциаций с Италией XIV века и чумой не содержат. Показаны четыре истории — о молодых супругах, преодолевающих нищету и произвол работодателей; о ханжеской морали и протесте против клерикализма; об изнывающих от безделья аристократах; об уловках деревенской красотки, стремящейся вырваться из захолустья и поймать птицу счастья. Фильмы полны иронии, чувственности, гротеска, фантазии, пикантных ситуаций и следуют главным смыслам вечного «Декамерона» — красота и страсть побеждают беспощадную чуму, воспевают радости жизни и любви. Никакой чумы здесь тоже нет и в помине, зато есть лучшие режиссеры Италии, знаменитые актрисы — Анита Экберг, Роми Шнайдер, Софи Лорен — и музыка Нино Рота.

В 1970 году Пьер Паоло Пазолини создал вольную экранизацию, где использовал семь новелл «Декамерона». В картине, как и в книге Боккаччо, смешались драма, мелодрама, комедия. Время действия — родное книге, годы рождения Ренессанса. Молодой и амбициозный художник Джотто (Франко Читти) странствует по Италии в поисках гармонии и становится свидетелем разных жизненных историй. Он жадно вбирает впечатления действительной жизни, которая бывает веселой и печальной, суровой и фривольной, но всегда наполненной мощной стихией любви и свободы, торжествующей вопреки предрассудкам и запретам. Кажется, именно такой — жесткой, брутальной — была атмосфера раннего Ренессанса, такими были лица и улыбки людей с улицы, поражающие своей естественностью. Музыка Эннио Морриконе добавляет фильму страстной энергии.
К сожалению, можно констатировать и желание кино эксплуатировать творение Боккаччо, использовать в силу его прославленности как «бренд», создавая фильмы, которые всерьез невозможно считать экранизациями «Декамерона». Так, украинская комедийная мелодрама режиссера Андрея Бенкендорфа «Несколько любовных историй» (1994), снятая по мотивам новелл Боккаччо, уже названием указывает на содержание. Эротические похождения персонажей интересуют этого весьма низкопробного режиссера вне всякой связи с творчеством Боккаччо и обстоятельствами чумы.
То же можно сказать о костюмной мелодраме британского режиссера Девида Лиленда «Территория девственниц» (Virgin Territory, 2007), продюсировал которую Дино де Лаурентис. Множество красивых девиц прячутся в монастыре; их охотно навещают брутальные кавалеры, вместе они ждут свадьбы красавицы- сиротки Помпинеи с русским графом Дзержинским из Новгорода. Сказать, что это нечто развесистое — ничего не сказать. В конце концов Помпинея полюбит садовника Лоренцо, а Дзержинский — свободную девушку Элиссу. Красиво снят хэппи энд, к тому же погибает главный бандит Джербино (Тим Рот). Хотя действие картины происходит в Тоскане во время чумы, декларируемые анонсом мотивы «Декамерона» прослеживаются весьма слабо. Российский восьмисерийный комедийный телефильм режиссера Станислава Митина «Московский Декамерон» (2011) никакого отношения к новеллам Боккаччо не имеет вообще.
Но вот об итальянской картине 2015 года режиссеров Витторио и Паоло Тавиани «Декамерон», которая в оригинале называется «Чудесный Боккаччо» (Maraviglioso Boccaccio), снятой по мотивам нескольких новелл, хочется сказать, что эта последняя по времени экранизация флорентийской истории XIV века, — лучшая из всех кинематографических «Декамеронов», и что это действительно чудесный Боккаччо. Авторы картины настолько доверились книге, что пошли вслед за ней — и от этого фильм только выиграл, получил объем и глубину. Он и начинается будто с предисловия автора: 1348 год, во Флоренция бушует чума, юноша, шея которого изъязвлена кроваво-черными бубонами, бросается вниз с самой высокой городской башни, всюду валяются трупы, свиньи роются в зачумленных одеждах и дохнут сами, похоронная команда сбрасывает в яму вповалку мертвые тела, люди боятся приблизиться к заболевшему и оставляют его на произвол смерти. Ни один фильм до «чудесного Боккаччо» не показал, насколько это серьезно и страшно — эпидемия чумы. Только отдав должное трагедии Флоренции, авторы картины посылают юношей и девушек в деревню спасаться от смерти. Поэтому и сюжеты их рассказов, и сам выбор историй полны драматизма и любовного жара, который обошелся без скабрезности. Уместна ли фривольность в рассказе, например, о юноше Федериго, который любит, но не любим, но тратит все свое состояние на ухаживание? В конце концов у него остается один сокол, верный друг, почти что брат; но вот приходит дама сердца с намерением поговорить за обедом… Только совершенное отсутствие вкуса и такта могло бы допустить здесь скабрезность. Страсть к жизни на пороге смерти не умещается в рамках шутейного анекдота — итальянские мастера кино чувствовали, кажется, это сильнее других.

Дух «чудесного Боккаччо» и его «Декамерона» стал символом культурного сопротивления мировой пандемии, возвестил о победе искусства Возрождения над ужасами чумы.
«Царица болезней» в России. Упоение в бою
Персонажи «чудесного Боккаччо», прожив в загородном доме две недели, много услышав, рассказав и испытав, возвращаются во Флоренцию. Читателям хотелось бы надеяться, что они, вернувшись домой во здравии, уцелеют и не достанутся чуме.
Но в реальности чума никуда не девалась — ни летом 1348 года из Флоренции, где она свирепствовала с марта по сентябрь, ни еще в течение четырехсот лет — из Европы. Европейцам досталось пережить, помимо итальянской эпидемии (1629–1631), большую чуму в Лионе» (1629–1632), большую эпидемию в Лондоне (1665–1666), Вене (1679), Марселе (1720–1722), Москве (1654, 1771). Так же, как везде, в России она была смертоносна, жители бросали свои дома и разбегались по ближним деревням, разнося болезнь. Когда зараза выдохлась, люди верили, что чудо случилось благодаря мощам и иконам.
Европа шла впереди, начав применять дезинфекцию (в лавках покупатели бросали свои монеты в тарелки с уксусом) и социальное дистанцирование. Так, в 1666 году в Лондоне запретили все публичные собрания, включая похороны, закрылись все театры, Оксфорд и Кембридж. Одним из студентов Тринити-колледжа Кембриджского университета, отправленных домой, был Исаак Ньютон — он, захватив с собой основные книги, тетради и инструменты, провел год в своей усадьбе Вулсторп графства Линкольншир: это был опыт занятия наукой в режиме изоляции — значительная часть научных открытий были сделаны Ньютоном в «чумное время».
…Что знали в России о «Декамероне»? На русский язык книга целиком была переведена только в 1896 году А. Н. Веселовским. Но у Пушкина в его личной библиотеке было два издания «Декамерона» — на французском языке 1775 года и на итальянском 1820 года. В письме к Е. М. Хитрово (сентябрь 1831) отразилось точное понимание поэтом «Декамерона» — как метафорой утешительного развлечения в годину бедствий: «Я знал, что вы здоровы и развлекаетесь, это, конечно, вполне достойно „Декамерона“. Вы читали во время чумы вместо того, чтобы слушать рассказы, это тоже очень философично» [33, с. 297 — здесь и далее цитируется по ПСС А. С. Пушкина].
Старший современник Пушкина английский поэт Джон Вильсон (1785—1854) сто пятьдесят лет спустя после вспышки смертоносной эпидемии в Лондоне сочинил драматическую поэму «Город Чумы» (1816). Герои поэмы, весельчаки и оптимисты, прибывают в Лондон и попадают в самую гущу трагедии. Болезнь косит всех без разбора, перед ней бессильны и бедные, и богатые. Бродяги на улицах сбиваются в толпы и спорят, какой бы дом пограбить в первую очередь.
Отрывок из поэмы Вильсона (1 акт, сцена 4) Пушкин переводит, оформив как маленькую трагедию «Пир во время чумы», с подзаголовком «Из Вильсоновой трагедии: «The cite of the plague». Почему его так волновало самоощущение человека в момент моровой язвы? Очевидно: потому что в это самое время, в 1830 году, он находился в Болдино на карантине, где спасался от эпидемии холеры, которую называл чумой. Маленькие трагедии, в том числе и «Пир во время чумы» — выдающиеся достижения поэта, созданные в режиме изоляции.
Пушкин рисует картину Черной смерти в духе Боккаччо:
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо всё — одно кладбище
Не пустеет, не молчит, —
Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо Бога просят
Упокоить души их!
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой [34, с. 248 — здесь и далее цитируется по «Сочинениям» А. С. Пушкина].
Священник приходит к пирующим, взывает к их совести, пытается отправить гуляк по домам, но тщетно. Председатель пира Вальсингам возражает: у них, дескать, мрачные дома, а юность любит радость. Священник уходит. Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.
Пушкин хотел понять, можно ли веселиться, когда кругом только и слышно о болезни и смерти. Герой Вильсона, Вальсингам, это как будто знает:
У Вильсона. Председатель пира:
Бесстрашные бледнеют перед боем,
Не улыбаются. Но, в бой вступив,
Полны веселости, смеясь над смертью.
Резня на палубе не так ужасна,
Как город, побеждаемый Чумой [35].
Пушкин создает перевод, точнее, свою версию Чумного города:
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы;
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы [34, с. 249—250].
Кто все-таки был прав: Священник или Председатель пира, герои поэмы Вильсона и маленькой трагедии Пушкина? Пушкин как будто утверждает право человека на пир во время чумы, то есть на утешительное веселье, при этом сам находится на безопасном расстоянии от российской чумы, в Болдино.
Современная наука тоже отвечает в духе «Декамерона»: смех против страха, любовь против смерти. Но практика жизни требует дистанцироваться, изолироваться, соблюдать правила карантина. Кто более прав в исторической перспективе, сказать трудно и скорее всего невозможно.
В 1979 году в СССР был снят фильм «Маленькие трагедии», в котором, конечно, нашел место и «Пир во время чумы». Главные роли исполнили Александр Трофимов (Председатель) и Иван Лапиков (Священник). В фильме-спектакле Марка Захарова (1974) эти роли исполнили соответственно, Николай Караченцов и Олег Янковский. Обе картины — и Захарова, и Швейцера — заканчиваются, вопреки Боккаччо, Вильсону и Пушкину, смертью пирующих. У Швейцера убедительнее выглядит Председатель пира, у Захарова — Священник. Но в обеих картинах все пирующие герои обреченно погибают здесь же, за пиршественным столом.
Страх смерти и сама смерть оказываются сильнее упоения жизнью.
Вопрос о поведении людей в период эпидемий остается актуальным и сегодня, когда люди то и дело нарушают карантинные правила, рискуют собой и другими, когда, уже зараженные, сбегают из больниц, а полиция их разыскивает и ловит. Все повторяется, как много веков назад.
Но существовал, существует и третий вариант поведения.
Венецианский дож Андреа Дандоло, как мы помним, не сбежал на самоизоляцию из чумной Венеции, вел себя мужественно и самоотверженно.
28 августа 1830 года императору Николаю I доложили, что с востока наступает холера и к середине сентября доберется до Москвы. И она добралась, и нещадно косила москвичей, по сто человек в день. Войска взяли город в кольцо, перекрыли все въезды и выезды. Закрылись рынки, магазины, фабрики, учебные заведения. Улицы и дворы засыпали хлоркой. Горожане жгли листву — в надежде, что гарь и дым убьют заразу…
В середине сентября Николай I сообщил московскому генерал-губернатору князю Д. Голицыну: «Я приеду делить с вами опасности и труды» [36]. И он приехал, и оставался в Москве восемь дней, принимая меры по борьбе с холерой и ее последствиями, предотвращая панику. Было ли это упоением в бою, сказать трудно, но бездны мрачной на краю — несомненно: холера и смерть ходили за царем по пятам. Пушкин смог достойно оценить этот поступок в стихотворении «Герой», подписав число: «29 сентября 1830 года. Москва».
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней… Он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь, ходит меж одрами,
И хладно руку жмет чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость… Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор:
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой… [34, с. 417].
В письме к Вяземскому из Болдино в Москву Пушкин писал: «Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит — дай ему Бог здоровья» [33, с. 246].
Каторжников сибирских, то есть декабристов, царь не простил, но следил за устройством больниц, приказал без сбоев снабжать Москву продовольствием, назначил денежную помощь неимущим, распорядился учредить приюты для осиротевших детей. Умер придворный лакей, находившийся при комнате Николая I, и сам он сутки пребывал в лихорадке, но уцелел. Позже Вяземский напишет о вдохновении и рыцарстве царя, и Пушкин еще не раз заметит, что приезд Николая I в Москву на холерную эпидемию принадлежит истории.
Упоение в бою, если оно не на войне, — сложное чувство. Поведение докторов во время эпидемий и просто заразных заболеваний, как и поведение царей, тоже бывает исполнено мужества и самопожертвования. И тоже бездны мрачной на краю, хотя обходится обычно без патетики и громких выражений.
Председатель пира у Пушкина утверждает:
Всё, всё что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог [34, с. 250].
Вряд ли тридцатилетний доктор Осип Степаныч Дымов из чеховского рассказа «Попрыгунья» (1892), высасывая через трубочку дифтеритные пленки у маленького мальчика, понимая, что рискует заразиться, заболеть и умереть, рассуждал в категориях неизъяснимых наслаждений и бессмертия. Напротив, практикующий врач хорошо знал, что смертен, ибо видел смерть ежедневно, служа в двух больницах: с утра до полудня принимал больных в палате, а после ехал в другую больницу, где вскрывал умерших. «Когда бедняжка-отец заболел, — рассказывала гостям его жена, — то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели» [37]. Сослуживец Дымова высказался о его поступке с тяжелой досадой, предчувствуя неизбежное: «Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо» [38].
Дымов рисковал привычно и даже рутинно, не думая, что совершает подвиг, не гоняясь за славой, признанием или известностью; был кроток, излишне добр и великодушен. И только когда он и в самом деле скончался от дифтерита, стало понятно, даже его попрыгунье-жене, что он, по своей научной одаренности, был редким, необыкновенным, великим человеком, «настоящей знаменитостью» и что она его «прозевала».
Ситуация сложилась, как ее видел Чехов, отчетливо пушкинская — смерть великого человека, которого «прозевала» семья. Л. Н. Толстой, всегда смотревший вглубь вещей, говорил о «попрыгунье»: «Как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же» [39]. Мысль Толстого о том, что после несчастья, как после чумы, люди не меняются, не становятся лучше, а порой и пускаются во все тяжкие, — звучала, будто из античных времен. И в конце концов прав оказывался Пушкин: доктору Дымову и таким докторам, как он, русской литературой было обеспечено бессмертие.
Стоит вспомнить еще об одном русском докторе.
Вряд ли скептик и нигилист Евгений Базаров воспринимал свою врачебную практику в терминах «неизъяснимого наслаждения». Вряд ли он чувствовал себя счастливым, когда помогал своему отцу перевязывать мужику раненую ногу, ибо руки у Василия Ивановича тряслись и он не справлялся с бинтами. Вряд ли он думал о бессмертии, когда приезжал в деревню, где умер тифозный мужик: «Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся… Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался» [40].
О тифе, который «гибелью грозит» и таки убьет Базарова, он как врач выражался без тени пафоса, буднично и как-то даже сурово. «Старина, — начал Базаров сиплым и медленным голосом, — дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь… Все признаки заражения, ты сам знаешь… Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу» [41].
Религия, поставленная на пробу, удар не держала.
Отец и сын ввиду близкой смерти говорят не о наслаждениях души, а о справедливости. «Возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений… Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?» [42].
Справедливость — понятие мучительное, неподъемное, но необходимое душе человека как воздух, понятие, в высшей степени присущее пушкинскому творчеству, и прозе, и поэзии. «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше. Для меня / Так это ясно, как простая гамма» [34, с. 231]. Слова Сальери в маленькой трагедии о Моцарте трудно оспорить: правда, как справедливость, исторически безутешна.
Тысячелетиями взывает человек к Высшим Силам, тщетно требуя справедливости. Особенно бесполезны такие требования в эпохи пандемий — чума, под каким бы названием зараза ни являлась в мир, всегда будет слепой, глухой и немилосердной; ей все равно, кого убрать с земли под землю. Тысячелетиями люди молились, просили, уповали, — все втуне; ничего не помогало. Люди дерзали роптать.
В романе Тургенева сцена отцовского ропота душераздирающа. Умирающий Базаров говорит отцу: «Поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!.. Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли? Ведь ты хвастался, что ты философ? — Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам…» [43].
Когда больной «испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. „Я говорил, что я возропщу, — хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, — и возропщу, возропщу!“ Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц» [44].
В четырехсерийной экранизации «Отцов и детей» (2008, режиссер Авдотья Смирнова) сцена ропота Василия Ивановича Базарова в исполнении Сергея Юрского представила грандиозный образ беспомощности человека перед несправедливой смертью. С белым, как полотно, лицом, он выходит, шатаясь, на крыльцо дома, где только что скончался его сын, бросает горящую свечу на землю, воздевает руки к небу, потрясает кулаками, угрожает кому-то там наверху, и криком кричит: «Это справедливость?! Это милосердие?!». Крик превращается в стон, хрип, скрежет, вой. К несчастному старику подходит жена, Арина Власьевна (Наталия Тенякова), хватает мужа за руки, усилием нагибает его, и оба припадают к земле. Тихий хриплый вой раненных в сердце родителей потрясает. Сцена длится всего минуту, но в ней слышен протест многоликого человечества, случайно погибшего в эпохи эпидемий. Тургенев утверждает право на ропот, на возмущение, обращенные к небу. За что людям все это? Кто попустил? Кто насылает на человечество мор? Кто выбирает, кому жить, а кому умирать?
Такими вопросами человечество будет мучиться до скончания века.
Попытку как-то прояснить эти безнадежные вопросы Достоевский предпринял в «Преступлении и наказании» — иносказательно, через сон героя романа, отбывающего каторгу за убийство. Родиону Раскольникову привиделось, будто неслыханная и невиданная моровая язва, пришедшая из глубины Азии в Европу, осудила весь мир на гибель. Смерть приходит к людям, поражая мозг и душу, отнимая разум. «Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» [50].
Эпидемия безумия побуждала каждого считать себя умнее и лучше, ближе всего к истине. Люди разучились понимать друг друга. «Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром… Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга» [51].
Лекарства от повального сумасшествия не было никакого; народы забросили ремесла, перестали обрабатывать землю. Бушевали пожары, свирепствовал голод, одна только язва росла, крепла и двигалась все дальше и дальше. Тех, чистых и безгрешных, кому как будто предназначалось спастись и начать новую жизнь, обновить и очистить землю, никто не видел и не слышал.
Эта эпидемия — самая страшная из всех, которая когда-либо была описана, начиная с античных времен. В сущности, сон Раскольникова — это философская притча о конце света, о такой моровой язве, которую не в силах победить ни самый строгий карантин, ни дезинфекция, ни частое мытье рук, ни самоизоляция, ни вакцины, ни научные контакты через ZOOM. Перед трихинами, наделенными злой волей, бессильно остроумие твиттера: все переболеем и будем жить дальше. Жить — не случится.
К счастью, это была всего только художественная фантазия литературного героя, заключенного в каторжном остроге. Сон на изоляции сквозь жар и бред.
Предупреждение человечеству.
Примечания:
[1] Гандерман Р. Самая смертоносная болезнь в истории уничтожила ацтеков — народы должны учиться у истории, когда дело доходит до эпидемий. Режим доступа: https://inosmi.ru/social/20190310/244697044.htm (дата обращения 01.06.2020).
[2] Кларк Д. П. Микробы, гены и цивилизация. М.: Эксмо, 2011.
[3] Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. М.: Аванта+, 1996. С. 111.
[4] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Прогресс, 1971. С. 164.
[5] Сидорчик А. 44 дня на краю бездны. Как Москву спасли от эпидемии черной оспы // Аргументы и факты. 2020, 16 марта. Режим доступа: https://clck.ru/Pvw6i (дата обращения 01.06.2020).
[6] Кудряшов К. «Подарок» мертвого брамина. Как в СССР победили оспу // Аргументы и факты. 2020, 19 марта. Режим доступа: https://aif.ru/society/history/podarok_myortvogo_bramina_kak_v_sssr_pobedili_ospu (дата обращения 01.06.2020); Сундукян Е. «Это вам не какой-то коронавирус»: как в СССР побеждали холеру и черную оспу // Комсомольская правда. 2020. 10 марта.
[7] «В город пришла беда». СССР. 1966. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=0Us6yiESjuM (дата обращения 01.06.2020).
[8] «В город пришла беда» [Зрительские отклики]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=0Us6yiESjuM (дата обращения 02.06.2020).
[9] «Чёрная оспа. Московский детектив». Россия. 2013. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cx09ClfUO1Q (дата обращения 01.06.2020).
[10] «Нераскрытые тайны: Как победили эпидемию черной оспы в Москве». Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=P-Q_J1MCN-c&t=31s (дата обращения 02.06.2020).
[11] «История одной эпидемии. Специальный репортаж». Россия. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=5pUTIuVY9CQ (дата обращения 02.06.2020).
[12] «Черная оспа: как в СССР остановили смертельную болезнь». Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=HbWkhEXI5Fw&t=5s (дата обращения 02.06.2020).
[13] Фукидид. История. Пер. Г. А. Стратановского. [Серия «Литературные памятники»]. М.: Ладомир–Наука, 1993. С. 84.
[14] Там же. С. 84.
[15] Там же. С.85.
[16] Там же. С. 462.
[17] Там же. С. 461.
[18] Там же. С. 86.
[19] Там же. С. 423.
[20] Там же. С. 86—87.
[21] Евсевий Памфил. Церковная история. Книга седьмая. Режим доступа: https://dom-knig.com/read_224037-45 (дата обращения 06.06.2020).
[22] Фукидид. Цит. соч.
[23] Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. Пер. А. А. Чекаловой. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/historygothy/kajdyi-vtoroi-byl-obrechen-kak-iustinianova-chuma-vykosila-evropu-5e4143d03974e61b930dfdcf (дата обращения 06.06.2020).
[24] Favier J. La Guerre de Cent Ans. Paris: Fayard, 1991. P. 168.
[25] Полное собрание русских летописей. Т. 10. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью / Под ред. А. Ф. Бычкова. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1885.
[26] Ле Гофф Ж., Трюон Н. Болезнь и медицина // История тела в Средние века. М.: Текст, 2008. С. 111.
[27] Делюмо Ж. Ужасы на Западе. Режим доступа: https://dom-knig.com/read_228398-1 (дата обращения 08.06.2020).
[28] Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции / Пер. М. А. Юсима. М.: Наука, 1997. С. 453—454.
[29] Веселовский А. Н. Художественные и этические задачи «Декамерона» // Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л.: Гослитиздат, 1939. С. 347.
[30] Там же. С. 349.
[31] Боккаччо Дж. Декамерон. Перевод с итальянского Н. Любимова. М.: Художественная литература, 1989. С. 3.
[32] Там же. С. 5.
[33] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Изд. 4-е. Т. 10. Письма. Л.: Наука, 1979.
[34] Пушкин А. С. Сочинения. М.: ГИХЛ, 1937.
[35] Вильсон Дж. Город Чумы. Пер. Ю. Верховского и П. Сухотина. М.: ГИХЛ, 1938. Режим доступа: http://az.lib.ru/w/wilxson_d/text_1816_the_sity_of_the_plague.shtml (дата обращения 11.06.2020).
[36] [Русский странник]. Зачем царь Николай I приезжал в Москву, зараженную холерой. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/rus_strannik/zachem-car-nikolai-i-priezjal-v-moskvu-zarajennuiu-holeroi--5bd9e1755d390d00a975fd48?utm_source=serp (дата обращения 13.06.2020).
[37] Чехов А. П. Попрыгунья // Чехов А. П. Собрание сочинений в двенадцати томах. М.: ГИХЛ. 1962. Т. 7. С. 52—53.
[38] Там же. С. 73.
[39] Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. Т. 56. М.: Художественная литература. 1937. С. 555.
[40] Тургенев И. С. Отцы и дети // Тургенев И. С. Собрание сочинений в десяти томах. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 3. С. 263.
[41] Там же. С. 265—266.
[42] Там же. С. 270.
[43] Там же. С. 267.
[44] Там же. С. 271.
[45] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука. 1872–1990. Т. 6. 1973. C. 419.
[46] Там же.
Гюльтекин Шамилли
Доктор искусствоведения, Государственный институт искусствознания
Старая «новая виртуальность». Механизмы сохранения еврейской литургии в диаспорах Передней Азии
Аннотация: Статья посвящена анализу глубинных механизмов сохранения и передачи иудейского богослужения в контексте восточных диаспор Передней Азии с Древности до марта 2020 года. Показано, что реакция традиции на «новую виртуальность» в условиях пандемии Covid-19 была подготовлена фундаментальным отношением части и целого, на протяжении тысячелетий регулировавшимся принципами «основа-и-ветвь» и «внешнее-и-внутреннее» как неиерархическими, рядополóжными и взаимообусловленными коммуникативными процессами. Данные процессы вырабатывались в социокультурных и экономических условиях «удаленности» от Иерусалимского Храма как виртуального объекта и «скрытой», или внутренней основы еврейской литургии. Новая «экранная виртуальность» художественных практик с самого начала пандемии осмысливается автором в контексте синагогальной кантилляции и, шире, молитвенной практики как «старая», укоренённая в традиции виртуальность, органично встраиваемая в новый социальный контекст.
Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, еврейская литургия, кантилляция, сохранения традиции, Вавилон, Персия, Кавказ, Израиль, Передняя Азия.
Введение
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.