Имени твоему…
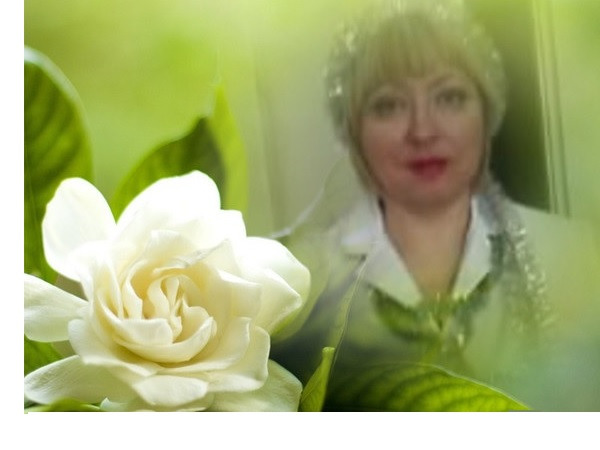
…Короток зимний день на исходе века. У темнеющего окна вглядываешься ты в своё отражение и не можешь понять — молода ты или стара… Ждёшь ли кого или что вспоминаешь? Что ж так устало опустила ты руки? Возьми холста белого, запали огонь живой, при свечах узорочье ляжет ровнее. Нитей возьми золотых да лазоревых, да алых, — как без них? Жизнь свою на холсте вышей, — ни единого дня не забудь…
…Расцветут под тонкими пальцами цветы дивные — одолень-трава да плакун-трава. Из них плела ты венок в ночь купальную, по речной синеве пускала, счастья себе просила. Вспыхнет на холсте цвет папороти, — от того ли цвета пламень вечный в груди у тебя?..
…Как зовут тебя — Вера, Надежда, Любовь? Добром ли, неволею везли тебя издалёка в терем княжий?
Горчат меды свадебные, не подсластить их постылыми поцелуями; не хотела ты «розувать робичича», но что Бог связал — не разорвать уж никому. И за мужа убитого мстила ты жестоко, — нитей алых возьми побольше, — здесь пламя и кровь…
…До света вставала ты, чтобы пахло в избе теплом и хлебом. А путь твой — не лишь от печи до порога. Вот нити длинные цветов безрадостных, как дороги, по которым уходить и возвращаться тебе… Вспыхнут опять на холсте цветы алые как кровь невольников, колючие как глаза всадников темнолицых, потому имя тем цветам — татарник… А тебе идти дальше по степи выжженной, средь таких же как ты, да с чадом на руках. Глянет на тебя мельком узкоглазый воин, и уже вовек не забудет; и станет молиться своему басурманскому богу, увидав твой лик на иконе славянской…
…Вышей слёзы свои и небо серое; тебя ждёт закрытый возок у ворот и тишина дальнего монастыря, — не сумела родить наследника или просто нелюбима стала?… Выбери дальше для себя что хочешь, — костёр ли раскольничий или сруб гнилой пожизненный…
Злата и серебра добавь — блеск свечей и улыбок недобрых. Как к лицу тебе новый наряд и алмазный венец твой… Но бал окончен, свист метели музыку заглушает… Вышей стужу и дорогу в дальний острог за отцом или суженым вслед… Золото с тобой останется — в мерцании свечей оплывших, серебро в косах твоих…
Вышей личико милое, взгляд строгий и ясный; что в узелке у барышни? Бомба или книжки запретные? Револьвер в муфте, а в равелине Александровском — тишина вечная да клочок неба в окошке одиночки…
…Долог сибирский тракт; своей ли волей едешь или чужой подчиняешься, — ты сама этот путь выбрала, перешагнула порог… Не остановит теперь тебя ни своя, ни чужая кровь…
Вышей красный крест на белой косынке, кровь на переднике… Ты три года его не видела — посмотри в последний раз. Не спрашивай, — за кого он, — за белых или за красных? Он за Россию…
Вышей кокаиновый дым эмиграции да бараки тифозные; вышей косынку красную и верёвку, что руки стянула; перчатку белую, которой тебя по лицу… Ты — чайка; нет, не так… Ты — женщина… Убитой чайкой с крутого обрыва вниз… Выплыви-выплыви на бережочек… Цвет тот огненный заживит твои раны смертельные; выплыви в страх и ожидания ночные, чтобы опять по лицу перчаткой, и в вагоне телячьем на восток или запад, в пепел Освенцима или в пыль колымскую лагерную.
Вышей дороги военные, землянки да воронки, салюты победные и надежды несбывшиеся; вернёшься однажды седая, когда уж не ждут. Вернёшься в коммуналки, в конторы пыльные, в очереди злые, в цеха горячие, стройплощадки промёрзшие…
Встань опять до света (да спала ли ты нынче?) собери сына в дорогу к той границе обугленной. Посмотри на него в последний раз, он вернётся к тебе в гробу цинковом. Пусть останутся на холсте и гроб этот, и цветы алые дурманные. Вышей слёзы свои и надежды; ты ведь сама — и Надежда, и Вера, и Любовь… Пальцы в кровь исколоты… Отдай холст внучке, только укажи ей путь к цвету папороти, она отыщет цвет огненный, и продолжит узор твой как жизнь, и вышьет имя твоё — РОССИЯ…
Тоска
(почти по Чехову)

Серёга Медведев продал дачу…
Никогда бы не стал этого делать, да жена молодая нож к горлу приставила: продай да продай! Сарай, мол, у тебя, а не дача; людей пригласить стыдно…
И, казалось бы, — что случилось-то? Ну, продал и продал, — забот меньше. А вот свербит что-то, не дают покоя немужицкие вроде мысли: о кукушке на рассвете, о калине под окном; как там дождь будет стучать по крыше без него. Мучительно хотелось поговорить с кем-то об этом; но не с бабой же своей… Засмеёт…
Вчера ещё стоял на своём участке с новым владельцем, молодым, деловитым. Земля притягивала к себе тёплым весенним духом. Серёге хотелось нагнуться, проверить, как прогрелась земля… Постеснялся, да и зачем уже?..
Он пытался рассказать деловитому, как отец дом ставил, как саженцы доставали, как он, Серёга, прямо из школы ехал сюда с портфелем. Вся почти жизнь прошла здесь, — сорок лет… Родина, можно сказать…
Вот отсюда, с крылечка, — соседский двор как на ладони; первая любовь, Ленка Славкина, ровесница, с леечкой носится; алый купальник жжёт глаза… Вечером целовались в малиннике у забора… Где она теперь — Ленка?
Пролетели здесь короткие ночки, горько-сладкие, как поспевавшая тогда жимолость; со Светкой, чужемужней женой собирал кусочки краденого счастья. Где она, — Светка?
Жена Серёгина в полсилы работать не умела; выкладывалась от зари до заката и на даче, и на своей небабьей строительной работе. Вот и сгорела как лампочка, не успев состариться…
А Серёга любил бывать на даче один, когда никто не видел, как он разговаривает с деревьями, кору шершавую гладит. Да и в спину никто не толкает, не подгоняет; он и детей никогда силком не тянул сюда; надо будет, — сами приедут. Не приезжали. Дети выросли, разбрелись по своим углам; отцу, чтобы не скучал, познакомили с «хорошей женщиной».
Все эти подробности чужой жизни мало интересовали нового хозяина. Он спрашивал, точно ли отмерян участок, не лазят ли соседи; тряс заборчик — слабоват, надо бы выше ставить… Кажется, всё сказано, Серёга мог уезжать, но всё топтался, вспоминал что-то важное. Он точно что живо-родное отдавал, не обидели бы чужие… Махнул рукой, пошёл к машине…
— Эй, мужик! Ключ-то оставь от избы! Ты чего такой? Заболел, что ли?..
…Жена молодая лишь одно лето покопалась в земле, сцепив зубы, не снимая перчаток. А нынче упёрлась: ни ногой туда. И Серёге одному там нечего делать; бог знает, чем заниматься там будет. Извозом больше заработает…
…Серёга уже почти год таксовал на своей старенькой «Волге». Нынче вот прямо с утра вызов: мужик рассаду на дачу вёз.
Клиент был при шляпе, в костюме с галстуком. «Надо же», — подивился Серёга, — «на дачу, как на партсобрание…»
Мужик сам ставил груз в багажник, суетился, пересчитывал коробки; один ящик не поместился в багажник, мужик поставил его себе на колени.
Резкий помидорный дух тревожил Серёгину душу, он в зеркальце пытался определить сорт. Да и поговорить хотелось с дачником; он-то должен понять
— А я дачу продал… Вчера… —
Пассажир любовно расправлял помидорные листики, ответил рассеяно:
— Что?.. Это зря… Физический труд полезен на свежем воздухе. Ты на дорогу-то гляди… Чего ты за ним ползёшь? Так до ночи не доедем. Первый день за рулём, что ли?
Серёга был рад и такому ответу:
— Да я б никогда… Жена пристала: продай да продай… Легко ли? Сорок лет… Своё, не купленное… Родина, можно сказать.
— Чего этих баб слушать? За перекрестком налево…
Замелькали знакомые дачные домики; Серёга забыл, что едет не к себе; по привычке заглядывал за заборы, как знакомые отсадились…
— Ты куда поехал? Я же сказал — налево! Бестолковый ты какой-то! Жаловаться буду в вашу контору — кого присылают? Все кочки собрал!
Серёга не удержался, проехал мимо «своей дачи»: там было тихо, на калитке — толстая цепь с амбарным замком, у забора — вырубленная калина…
На обратном пути прихватил с дач молодую парочку с охапкой сирени
— Кто ж такие? Вроде всех знаю здесь?..
— А мы новенькие! — Белобрысая девица залилась хохотом.
— У меня тут недалеко участок был, — Серёге хотелось поговорить с весёлыми пассажирами, — продал…
— Батя мой продал бы… — проворчал парень. Девчонка опять залилась.
— Жалко… Сорок лет всё-таки… Родина, можно сказать…
Сзади притихли. Серёга думал — слушают… Поправил зеркальце: они целовались, прикрывшись букетом.
На дорогу, невесть откуда, выскочила драная кошка, за неё с лаем — собака. Серёга тормознул резко…
— Эй, водила, потише бы! Ездить не умеешь, что ли?
…Смену Серёга закончил в сумерках. Домой идти не хотелось. Зашёл по пути в пивную, взял кружку под лещика. Встал у столика с каким-то вроде знакомым мужиком. Разговор затеялся обычный, ни о чём:
— А я дачу продал… Вчера… Сорок лет… Родина, можно сказать…
— Ну и хрен с ней… — Знакомый дохнул черемшой, икнул, — поди, на рынке всё есть; сроду не держал и не надо…
Пара крепких кружек слегка затуманила голову. Он добрёл до подъезда, поднялся на этаж. Соседская собака, забытая подгулявшими хозяевами, приветствовали его обрубком хвоста. Домой по-прежнему не хотелось. Серёга сел на ступеньки, подстелив собачий коврик. Хозяйка не возражала.
— Дачу продал… Вчера… Сорок лет… Родина, можно сказать… Вот скажем, была б у тебя конура… Нет, не то… Ну, всё равно… — Соседка слушала внимательно, помахивала хвостом, повизгивала сочувственно.
За Серёгиной спиной приоткрылась и захлопнулась дверь… Он спал, прислонившись к стене, голова собаки лежала у него на коленях…
И немного о погоде…

…И всегда это случается как-то вдруг: просыпаешься среди ночи, — в комнате светло, как на рассвете, а за окном белой бумагой выстлана вся земля. Хочется выйти в тишину, написать на бумаге что-то очень хорошее, словно всю жизнь начать заново, и чтобы ни слова лишнего и пустого… Только вспомнишь: твоя жизнь уже написана, и добавить вроде бы нечего; всё, что отмерено тебе судьбой, ты получила; счета оплачены, и листы эти белые — для тех, кто лишь подбирает слова…
…Зимние цветы — дорогие и холодные; от них зябнут руки и сердце… В старой коробке позванивают блестящие кусочки детства, еловая веточка, запутавшаяся в мишуре, пахнет прошлогодними надеждами… Вспоминаешь, о чём мечтала тогда, кого ждала… Этот стеклянный шар в детстве казался золотым и волшебным — он не искажал того, что в нём отражалось…
Один лишь звонок телефонный и несколько слов холодных, — Старый год оборвался слишком рано, а Новый не наступил тогда… Золотой шар ты удержала в ладонях, а счастье выскользнуло из рук, блестящими осколками осыпалось на пол… Щекой к холодному стеклу: «Это ничего… может, в следующем году… Я напишу, ещё есть место на белой странице; ведь всё, что было, я придумала сама; я придумаю ещё… А всё, что зимой написано, уйдёт с последним снегом…»
…Это всегда случается вдруг: просыпаешься ночью — кто-то белой рукой стучится в стекло: старая яблоня дотянулась веткой до окна, и просит впустить её в дом… Вот сейчас с новыми цветами и пришёл твой Новый год. Весенние цветы пахнут так легко, точно обещают что-то; ты удивишься как в детстве, и удивишься своему удивлению: как из этой бело-розовой дымки получается большое сладкое яблоко?..
…Цветы летние — душно-сладкие, как южные ночи; обманчивыми белыми бабочками взлетают из тёмной травы, а днём их не найти… По лету бредёшь как по лесу — кажется, вот-вот что-то начнётся; за земляничными полянами, за еловым сумраком что-то откроется. И так жаль тех тропинок, что ушли в сторону; никогда уже не узнать, куда завели бы они тебя — в чащи ли непролазные, в топи ли гиблые или к светлому Китежу… Но обрывается в тумане твоя тропа, горше и безнадёжнее пахнут цветы, ложится в ладонь золотой лист, и опять… — «…Ничего… может, следующим летом…»
А осень никогда не приходит вдруг; она рядом всегда, лишь ненадолго оставляя тебя; хозяйкой возвращается, напоминая о себе долгим серым дождём. Вечный спутник её, — одиночество, — пушистым холодным зверьком свернётся у сердца и станет шептать: «Тебе никто не нужен, тебе хорошо одной; не жди ничего; нет ни розовой дымки, ни полян земляничных, есть лишь тусклое солнце да свист ветра…»
Но однажды тебя вновь разбудят тишина и свет; и опять белой бумагой укрыта земля, и кто-то пишет на ней начало жизни или продолжение. И сколько б ни было сказано, найдётся ещё место и для твоих нескольких строчек. И ты их напишешь, и белая ветка постучится в окно, и золотой лист ляжет в ладонь, и заблудится в мишуре еловая веточка с запахом будущего…
Вначале было…

Посвящается первому
Сочинителю на Земле.
…Ушастый будто споткнулся о корягу, сел на поваленный ствол папоротника; стая сородичей понеслась дальше по натоптанной охотничьей тропе…
Ему надоело гоняться с дубиной за писающим от страха мамонтом; как сыну Вожака, ему оставят кусок мяса; к тому же такой способ охоты Лысый считал морально устаревшим…
Ушастому сейчас хотелось просто побыть одному, подумать о том, что с ним происходит. Думать, — это было новое для него желание; до сих пор ему хотелось лишь есть, спать, ну и так, по мелочи…
Над ним и вокруг него летала, ползала, пищала и цвела разнообразная доисторическая природа; о том, что это природа и она доисторическая, Ушастому не говорил даже Лысый, а он мог бы ещё много чего сказать… если б успел… Слова эти малопонятные образовались в ушастой голове как-то сами собой. Там, в его голове происходило вообще нечто несуразное, — похоже, Лысый поселился там со всеми своими мыслями и даже не один, а с кем-то ещё. Они вели бесконечный спор между собой и однажды едва не подрались. Лысый постоянно требовал чего-то от Ушастого: мыть руки перед едой, придумывать новые слова, говорить людям, о чём думает, думать, о чём говорит, и даже «глаголом жечь» (что такое «глаголом» Ушастый не знал.)
Другой говорил, что это опасно, время ещё не пришло, соплеменники его не поймут и не оценят, просил не высовываться, быть как все… Ушастый боялся, что от этих перебранок его голова тоже скоро станет гладкой как яйцо птеродактиля…
Когда и откуда пришёл Лысый в племя Пустоголовых, никто не знал. Он редко ходил на охоту, чаще сидел на камне у пещеры под Железным деревом, что-то строгал или просто таращился в небо… Первыми его заметили женщины, падкие на всё блестящее, Только напрасно они шастали мимо него в укороченных до безобразия шкурах и скалили зубы; Лысый ни одну из них не позвал в свою пещеру.
Женская обида задела мужчин племени; к Лысому стали присматриваться Те, Кому Положено; всё замеченное доносилось Вожаку, делались
соответствующие выводы: Лысый противопоставляет себя коллективу, не участвует в вечерних ритуальных плясках «сытого брюха»; мясо, прежде чем съесть, бросает в огонь (ему кажется, — так вкуснее). По ночам, с неизвестной целью, стучит по стенам пещеры, мешая спать трудящимся соседям; не пора ли поставить на место и пресечь?..
Вожаку по должности думать не полагалось; за него это делали Те, Кому Положено… Пусть Лысый не желает создавать ячейку общества, — это многих устраивало; пусть жарит мясо, — по ночам уже из некоторых пещер тянет дымком с запахом жареного. Но Лысый нарушает традиции: дубина на охоте — это святое, а Лысый строгает копья из веток Железного дерева и с ними ходит на мамонтов, иногда попадает в цель. И уже кое-кто, видимо объевшись жареным, присматривается к новому способу охоты. Измена традициям задевает честь Вожака, а этого никому прощать нельзя. К тому же сын Вожака, Ушастый, часто общается с Лысым; а не заразен ли тот? Заразу следует пресекать в корне…
…Лысого пресекли традиционной дубиной по блестящей макушке и зажарили на костре. Традицию проверять изобретения на изобретателях завёл Вожак, — Лысый был прав, — так в самом деле вкуснее…
…Пока соплеменники доедали Лысого, отец выбивал из Ушастого остатки инфекции ремнём из шкуры гиблодоха…
…Ушастого страшно интересовало, что же такое видит Лысый в небе, чего не разглядеть никому. Дождался, пока бабам надоест толкаться возле Лысого, подошёл, сел рядом, задрал голову до хруста в шее: вверху по-прежнему ничего не было, кроме редких облаков и одинокого птеродактиля.
Лысый точно не сразу заметил Ушастого; медленно повернулся к нему, посмотрел глазами старого гиблодоха… Тогда всё и началось. Словно из-под лысины в ушастую голову что-то стало перетекать, какие-то звуки, образы…
Лысый постучал себя по лбу, произнёс: «Мысли…»; показал на проходящего мимо Рыжего — «Неандерталец…», ткнул себя в грудь, — «Гомо сапиенс…» Ушастый смотрел в рот Лысому с ужасом и восхищением; попытался повторить, но его хриплый визг не был похож ни на что приличное.
Ушастый стал как-то яснее видеть и слышать, хотелось всё понять и объяснить себе, сравнивать и запоминать. Он заметил, что птицы щебечут как дети, а волосы Блондинки светятся как солнце. Появились какие-то странные желания: ну почему он не птеродактиль, почему не летает? Вот так бы встать, взмахнуть перепонками, полететь над лесом, над стойбищем, над охотниками, делящими добычу, над женщинами, копающими корешки, над соседним племенем Синебрюхов, прыгающих по деревьям… Его бы заметили, закричали: «Ушастый — птеродактиль!»
Но нет, не заметит никто, головы не поднимут, — мало ли что там летает, — и не закричат; не умеют говорить…
Ушастый теперь ни на шаг не отставал от Лысого, ходил за ним по пятам, заглядывал в рот, повторял каждое слово… Он много чего знал, этот Лысый, только вот в женщинах совсем не разбирался.
Это он посоветовал Ушастому покорить сердце Блондинки чем-то красивым… Свидания не получилось: голову блестящей ящерицы-соплюхи, за которой Ушастый ползал всё утро по берегу, она откусила и выплюнула; остатки, вместе с букетиком ярких незадушек, сунула в копну выгоревших волос, где хранилось множество ценных вещей: жучки-безносики, коготь сабленосого зайца, засушенное сердце её первого мужчины.
Сохранив таким образом память об Ушастом, Блондинка постучала его кулачком по лбу, похлопала себя по круглым плечам, оскалила зубы и зарычала. Ушастый скукожился: пантомиму понял бы и младенец, — женщина требовала шкуру пещерного медведя вместе с пещерой; к таким подвигам он не был ещё готов…
…Утром Блондинка прохаживалась по стойбищу в новой шкуре под ручку с обалдевшим от счастья Рыжим…
…Солнце катилось к реке; скоро здесь пройдут охотники с добычей; встречаться с ними Ушастому не хотелось. Он побрёл к узкой речушке, сел на песок. Из зарослей на другом берегу вышел пожилой, ещё не вымерший динозавр. Шумно дыша, он пил воду, с облезлых боков слетали последние чешуйки; вглядывался в Ушастого, словно прикидывая, стоит ли тратить силы на мелкую добычу…
Ушастый бесцельно возил веточкой по песку; только всмотревшись, он понял: такие же знаки, — черточки, кружочки, — Лысый выбивал камнем на стенах пещеры; в этих знаках был какой-то смысл, и сейчас он становился ясен Ушастому: там всё, что ему хотелось бы сказать словами.
Динозавр был забыт, Ушастый чертил дальше; ветка сломалась, он нашёл другую…
Сзади хрустнула сухая ветка. Ушастый прикрыл собой написанное, оскалился, и на всякий случай зарычал…
Из леса вышла Кудряшка, но смотрела она не на Ушастого, а на что-то под ногами. Ушастый шагнул к ней, девчонка тихим визгом остановила его. — между ними на прибрежном ветру, едва заметный в густой зелени колыхался маленький цветок на тонкой ножке… В зарослях огромных ярких цветов — этот маленький…
— У?.. — спросила Кудряшка.
— Угу… — ответил Ушастый. Они опустились в траву, Кудряшка прикрыла цветок ладошкой, Внутри у Ушастого заныло и зажгло повыше того места, где урчит после еды, Он посмотрел в глаза Кудряшки, ясные как небо, и вся она была похожа на этот цветок, тоненький и беззащитный. Он взял её ладошку и повёл на берег…
— У?..
— Угу… — Он объяснял ей написанное, говорил слова, прыгал, размахивал руками, Кудряшка внимательно слушала и смотрела… Он чертил ещё знаки, она не смеялась, она понимала всё! Они уже вместе ползали по песку, писали палочки и кружочки; весь мир для них был сейчас здесь, Если б целое стадо мамонтов пронеслось по лесу, они б не услышали…
Из леса на берег, раздавив по пути цветок, вывалился Вожак. Тяжело сопя, он топтался по песку, уничтожая их маленький мир, потом взвалил сына на плечи, обернулся к Кудряшке, плюнул в неё и скрылся в зарослях папоротника.
Потрясённая Кудряшка тихо опустилась на песок; до заката, вытирая слёзы, ползала по песку, пытаясь восстановить написанное…
Ночью в пещеру заглядывала луна, наглая и любопытная как Блондинка. Отец опять выпорол его, но спина уже не болела, в голове прояснилось, мысли уже не бродили беспорядочно как утром. Он всё понял: нет в его голове ни Лысого, ни кого-то ещё; это его мысли и его душа не дают ему покоя. Теперь он должен занять место на камне под Железным деревом и, может быть, даже на костре, но страшно уже не было. Он станет сильным, он убьёт пещерного медведя; приведёт Кудряшку в свою пещеру, научит её говорить, расскажет про то чудное мгновенье, когда увидел её. Ничего, что она тощая как птеродактиль и ходит в старой облезлой шкуре, главное — она его понимает! У них будет много маленьких Ушастых, вечерами он будет сидеть у пещеры, строгать копья, чертить слова на песке, на дереве, на стенах пещеры. Вода смоет песок, сгорит дерево, рухнет пещера, но кто-то увидит слова и запомнит их; просто писать надо так, чтобы ничего не забывалось…
…А что такое «глаголом» он так и не понял…
Чем сердце успокоится…
…Веруська распахнула дверь балкона, потянулась сладко ближе к солнышку; заспалась нынче, после «вчерашнего» -то. Первый день лета, к тому ж ещё выходной, сиял вовсю наградой за майскую затянувшуюся сырость.
У подъезда на скамейках уже расположился «бабсовет», — «пенсионный фонд» в полном составе; то ли сериал новый обсуждался, то ли кости чьи перемывались, может, даже и Веркины. Солировала, как обычно, Святая Серафима с вечной темой: «…я, я, и опять я…»
Веруська со своего второго этажа вполне могла принять живое участие в этих заседаниях, особенно если задевалась её личная жизнь. Но сегодня не то настроение, чтобы собачиться с тётками…
В комнате задребезжал телефон, но что-то не давало уйти с балкона, чей-то голос, до боли знакомый, давно не слышаный.
Веруська глянула вниз, осела на балконный стульчик; перекрестилась неумело, неловко; не может того быть! Ещё раз выглянула осторожно: мать сидела спиной к ней, сгорбившись на скамейке, сложив на коленях по-мужски тяжёлые руки; их тяжесть Верка ещё помнила… Выцветший платок повязан косенько над ушами; зелёная кофта, дарёная Веркой, обтянула худую спину… В ней и похоронили мать два года назад…
Мать говорила как всегда, никого не слушая, напористо и громко, но от звона в ушах Верка не могла разобрать ни слова…
…И как теперь во двор спуститься? Ведь бранить при всех станет. Мать никогда не ругалась матом, но в выражениях не стеснялась, — и одета дочь не так, и деньги не путём тратит. Да бабы-то, небось, тоже нажаловались: от рук отбилась без матери, огрызается; всех хахалей пересчитали, поди, каких и не было…
Телефон уже заглох, не дождавшись ответа; не подивившись, что соседки, как ни в чём ни бывало, беседуют с покойницей, на ослабевших ногах Верка ринулась в комнату; вот так же в детстве тряслись коленки от шагов матери на лестнице…
Ещё не осознав ничего, Верка уже носилась бестолково по квартире, прибирая и оглядывая, что может не понравиться матери.
«…Поднимется ведь сейчас… На кухне бутылки пустые; куда их? Саньке позвонить, чтоб не приходил нынче…» Вытирая пыль, смахнула со стола карты, разложенные вчера подружкой; так и не узнала Верка, чем сердце её успокоится…
Вспомнила вдруг: из глубины комода извлекла чёрную рамку с фотографией отца; прятала её, считая старомодными эти рамочки… Она ещё не забыла: до того, как отец стал фотографией, мать была весёлой и доброй. Мужчин после отца Верка в доме не видела. Мать говорила о нём сурово: трагически погиб… От этой суровости и непонятной своей вины Верке хотелось провалиться сквозь землю; с детства жил в ней страх и виноватость перед матерью; не находила Верка в себе нежности для неё, о какой в песнях поётся, а только вину, что приходит мать с работы уставшая, что не молодеет с годами. Мать и сама не любила нежничать, а дочери точно стеснялась перед знакомыми: не уродилась та ни умом, ни видом. Иной раз находил на неё стих, наедине с Веркой начинала вспоминать молодость, как в Веркины годы всё успевала: и работать, и петь-плясать; вдруг, словно устыдившись слабости, отправляла Верку учить уроки…
Бывало, к матери приходили «девочки» из бригады, тяжеловесные, как бульдозеры, которые они делали; пели частушки, плясали, выбивая шпильками щербинки в полу, под одну пластинка хора Пятницкого.
Щербинки те закрыл теперь линолеум; из скудной медсестринской зарплатки Веруська выкроила что-то на ремонт, наклеила обои; мать ничего этого не признавала; упорно заставляла Верку каждую весну белить стены и красить пол. Теперь конечно, ворчать станет, да не сдирать же всё!
За полгода до смерти матери, в день её рождения, опять приходили «девочки», пели, стучали каблуками под заезженную пластинку, которую никто уже не слушал. Мать еле двигалась по квартире с палочкой, а всё хотела показать себя хозяйкой; бестолково покрикивала на Верку, посылала то за тем, то за этим… Когда разошлись «девочки», мать измученно осела в кресло, губы тряслись, в глазах стояли слёзы… В первый раз тогда страх перекрыла жалость к матери, комком подкатила к горлу… Ночью Верка ревела в подушку от невозможности изменить что-то в жизни матери… да и в своей тоже…
Она никогда не задумывалась, любила ли её мать? Сурова та была, сердца никому не открывала, и для дочери исключения не делала; да искала ли дочь дорогу к душе матери?
…Знакомые шаги шаркали всё ближе; Веруська опять заметалась, отыскивая ключ, но шаги стихли где-то на третьем этаже, там хлопнула дверь. Веруська застыла, прижавшись к стене, сползла на пол. Взвыла тоненько, зарыдала в голос, захлебнулась слезами от жалости к себе, к матери. До боли невыносимой захотелось, чтобы вошла она сейчас, шаркая, с привычным недовольным ворчанием, и пусть не будет ни обоев, ни линолеума, ни пустых бутылок на кухне, ни звонков хамоватого Саньки…
Слёзы закончились так же внезапно, точно перекрыли кран с солёной водой; Веруська приходила в себя…
«Чего это я? Да чёрт с ними, с грымзами этими! Всё у меня в шоколаде! Надо Саньке позвонить, ждать ли его нынче?.. Пить надо меньше, что ли…»

Этюд в осенних тонах
…Новая, только что открытая автозаправка сверкает стеклом и яркими красками. Иномарки, такие же блестящие, хорошо вписываются сюда. Общую радужную картину портит лишь торговка семечками неопределённого возраста.
Мелкий, тёплый, совсем ещё летний дождь едва закончился; тётка не успела закрыть выцветший зонтик, и под ним её почти не видно; облезлая собака пристроилась рядом. Если присмотреться, — они кажутся одного возраста: тётка, её зонтик и собака в своём собачьем летосчислении
Чёрный мерседес подкатил бесшумно; седой водитель вышел с безнадёжным ворчанием: «Хватило бы до города доехать…» Но «чудачества» шефа уже привычны для его свиты: водителя, охранника и референта. «Сам» тоже решил размяться; явил на воздух упитанное депутатское тельце. Похоже, он не торопился никуда; где надо, подождут. Следом, по служебной обязанности, выкарабкался хранитель депутатского тела.

