
Бесплатный фрагмент - Глубина тихого омута
альманах
В редколлегию первого альманаха «Хороший текст» вошли 300 человек.
Среди них как именитые писатели, так и читатели, доказавшие своё право решать судьбу присланных в альманах текстов
Уважаемые читатели!
Перед вами — первый выпуск альманаха «Хороший текст», изданного порталом horoshiy-text.ru.
Для отбора текстов в альманах мы применили новый, оригинальный принцип. Победители были выбраны широкой редколлегией. Её членами могли стать все желающие, прошедшие на портале квалификационный тест и тем самым доказавшие своё право судить.
Главный редактор первого выпуска, философ Александр Секацкий, задал тему альманаха — «Глубина тихого омута», его структуру и композицию.
По условиям конкурса принимались только ранее неопубликованные произведения. Широкая редколлегия рассматривала их анонимно, то есть без имён авторов.
Каждый текст оценивался по семи критериям, после этого член редколлегии выносил финальное решение: рекомендовать к публикации или нет. Оценки по всем критериям, включая решение, были агрегированы с помощью математической формулы, а результат — отранжирован.
В альманах было подано около 600 рукописей, более половины было отклонено за несоответствие условиям, в итоге редколлегия рассмотрела 170 рукописей. В альманах вошли 15 произведений с наивысшими суммарными оценками.
Оценки проставило более 300 человек, наиболее активными членами редколлегии были (имена приведены так, как люди представили себя на портале, в алфавитном порядке): Арина Амбарцумова, Дмитрий Ахременко, Владимир Бурлаков, Сергей Герасимович, Мария Голованивская, Игорь Градов, Елена Колмановская, Ингвар Коротков, Александр Лучанкин, Татьяна Москвина, Лариса Петрашевич, Сергей и Надежда Семёнов и Пудова, Жанна Титова.
Обсудить этот альманах, стать авторами следующих, а также поговорить на литературные темы вы можете на нашем портале «Хороший текст» (horoshiy-text.ru). Будем рады вас там видеть!
Ваш «Хороший текст»
Тихий омут, круги на воде и как не пройти мимо
Предлагая тему альманаха, я думал вот о чём.
Давно хотелось бы увидеть сумму размышлений о роли «подводных течений» в делах человеческих: в каждой отдельной жизни, в творческом свершении, в истории в целом. Да, на поверхности мировых событий мы частенько видим шум и ярость, но разве они правят миром? Очень похоже, что ни криком, ни отчаянием, ни жестокостью человечество не удивить.
Вспоминается сокровенное размышление Ницше: «величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы». Да, время от времени, ярость благородная вскипает как волна. Вскипает и встречная ярость. Но, тем не менее. По словам того же Ницше, сердце Земли из золота.
Но так и остается неразгаданной одна из самых загадочных загадок: что же всё-таки таится в глубинах тихого омута?
Теперь, когда молодые авторы внесли свой вклад и никто в омуте не утонул, никто не заблудился в тумане, я хочу вернуться к своим пунктирным версиям. Собственно, их было две. Одна касалась принципа Иисуса, всегда казавшегося мне так до конца и не понятым. Принцип гласит: делайте добро тайно: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6: 3). Дело в том, что человечество одержимо презумпцией гиперподозрительности и огромное количество интеллектуальных усилий ушло на то, чтобы разоблачить своекорыстные интересы, скрывающиеся под маской добрых дел. Что-то удалось разоблачить, что-то (кого-то) нет, но ясно, что дознание будет продолжаться, на него всегда есть спрос. Даже для историков дознание такого рода и есть их основное занятие…
Все же немного жаль затраченных усилий. Очень хотелось бы провести следствие другого рода, разобраться, а нет ли в истории (да и в нашей повседневности) ресурсов и следствий скрытого, неопознанного добра? А вдруг были люди, всерьёз принимавшие заповедь Иисуса, и они осуществляли свою помощь, своё содействие, причем делали это абсолютно анонимно, так, что в историю всё вошло под именем везения, выпавшего талантливому или просто достойному человеку? Может, счастливчики и думали о добрых ангелах, но уж точно не подозревали, что их хранители живут в соседнем омуте…
Кажется, некоторые авторы альманаха руководствовались похожей идеей, но в целом всестороннее дознание насчёт скрытого добра ещё ждёт своего часа.
Теперь мое второе соображение, связанное с тихим омутом, его я хочу изложить более подробно в виде притчи с комментариями.
ПРИТЧА О ВАХТЁРЕ
Эта притча несколько напоминает идею о Вратах Закона у Кафки — но всё же отличается от неё.
Итак, представим себе человека, ищущего просветления, расширения реальности, и совершающего для этого поэтапное восхождение, где не приходится жалеть никаких усилий. У него, у этого стяжателя силы, искателя совершенства, уже есть некоторые представления о том, как миновать стражу, и о том, как уже на подходе можно распознать сияние истины. То есть перед нами достаточно опытный соискатель совершенства.
И вот, во сне или наяву, он попадает в некое учреждение, относительно которого интуиция подсказывает ему, что здесь он должен, наконец, обрести истину. И наш взыскующий решительно открывает дверь и видит сбоку, под лестницей, небольшую комнату, скорее даже отсек, где сидит вахтёр. Именно классический вахтёр ещё советского образца, нисколько не похожий на стража. Он пьёт чай, отхлёбывая его из стакана в подстаканнике, на столе стоит незатейливая сахарница, лежат книги, вокруг ещё какие-то нехитрые вещи — но нашему путнику, конечно, не до вахтёра.
— Вы куда путь держите? — приветливо и несколько старомодно спрашивает вахтёр.
— Мне нужно туда, в ваше здание, — слышится в ответ.
— Но никого больше нет.
— Я слишком долго шёл, и я должен туда попасть.
Вахтёр, на удивление, не особенно спорит: «Что ж, проходите, сами увидите».
И путник, не успев удивиться тому, что страж не стал его даже испытывать, ничего не потребовал (то ли дело прежние стражи, встречавшиеся ему, тех миновать было нелегко), решительно проходит через вахту.
Далее возможно двоякое развитие событий. В длинном коридоре второго этажа действительно все двери оказались закрыты и комнаты пусты. Путнику пришлось вернуться и спросить у вахтёра, когда же учреждение будет работать.
— Быть может, завтра, — ответил тот.
Или второй вариант: за одной из дверей обнаружилось сияние, ищущий просветления обрёл его, даже не входя в комнату, и ушёл домой просветлённый. Однако вскоре просветлённый сообразил, что нечто подобное уже происходило с ним на других уровнях: просто теперь, стало быть, он имеет одним просветлением больше.
Одновременно в его памяти возник скромный вахтёр и его будочка, просветлённый вдруг вспомнил, что лежавшая на столе книга была в загадочном кожаном переплёте, а диванчик был застелен шкурой Единорога… Да и вся обстановка теперь представлялась очень странной, просто тогда не хватило времени всё это оценить.
Так искатель истины понял свой просчёт, он поспешил вновь в учреждение, но, понятно, его уже не обнаружил. В этом сходятся оба варианта развития событий.
Возникает вопрос: мораль сей басни какова?
Что ж, перед нами версия человеческой экзистенции, безусловно претендующей на истину. Беда приходит оттуда, откуда не ждали, иначе она не беда. Но и самое главное, то, что мы называем преображением, тоже приходит откуда не ждали. Или не приходит вообще, если нет готовности к экзистенциальным рискам.
Это значит, что во всякой автоматизации присутствия возникает ложь, например возникает как зацикливание и даже как сама смертность. И это отчасти вопрос о качестве азарта и о спектре риск-излучения. Если реакторы по производству души отличаются повышенной радиацией, а их остановка неизбежно ведёт к мерзости запустения и к последующему остыванию Вселенной, то всё же крайне важно ещё учесть ловушки. Тут можно говорить об игровых автоматах в самом широком смысле слова, о хорошо замаскированных аналогах примитивного «однорукого бандита».
Но одновременно в этой притче в образе вахтёра спрессована едва ли не важнейшая амбивалентность этого мира. Ведь, с одной стороны, ловушка называется «поговори со мной» — и можно с лёгким ужасом представить себе, сколько людей не дошли до цели, потратив время на разговоры с различными вахтерами, фактически истратив на это жизнь. Однако в столь же серьёзную и не менее грустную ловушку попадаются и те, кто всегда проходит мимо вахтёров, даже не останавливая на них взгляда, — их участь можно определить как автоматизм линейных озарений. Ведь это только на первый взгляд перед нами траектория чистого восходящего движения. Может быть просто включён какой-нибудь «стиратель памяти», и тогда топтание на одном месте, на той же самой площадке будет восприниматься как движение вперёд и восхождение. Мы-то склонны думать, что эффект «дежа вю» возникает крайне редко, производя впечатление чуда, но возможно, что наоборот, опознание время от времени «заедает», заставляя думать о продвижении, которого нет. Такова дилемма между застреванием на вахте и заеданием опознания уже не раз виденного.
И тогда реальность будочки станционного смотрителя где-то на отшибе, того же вахтера, во многих отношениях действительно является решающей, без её учета невозможно понять идею Боговоплощённости (кенозиса).
Представим себе всех этих «обладателей силы», претендентов на бессмертие, и даже в некотором смысле бессмертных. Вот они мчатся в своих огненных колесницах, преодолевая препятствия и обрастая победами. Но как стереотипны и однообразны их истории, и как путаются из-за этого их имена. Но вот один из них (так можно было бы подумать) задержался в пыльной Палестине, принял на себя конкретную историю и именно этим учредил уникальную инновацию мира, нечто никогда не бывшее…
Что ж, и в качестве напутствия: присмотрись к тихому омуту и проходи мимо него осторожно.
Александр Секацкий, главный редактор первого альманаха
«Глубина тихого омута»,
философ, преподаватель Школы «Хороший текст»
Модест Осипов

Александр Секацкий: «Этот рассказ Модеста Осипова обладает редким качеством полной завершённости. Очень точная дозировка пафоса, нет никакого перекоса ни в сторону жалости к незадачливому герою, ни в сторону компенсирующей грёзы. Если поставить контрольный вопрос: а можно ли развернуть эту историю в цепочку „приключений ангела“, ответ будет отрицательным. Всё сказано, и ретроспективное движение восприятия от неожиданной концовки ко всем эпизодам, ко всем „ступенькам подъёма“ создаёт эффект целого. Собственно, так и устроено произведение литературы в отличие, например, от школьного сочинения. Все прочие „находки“ детали сообщения срабатывают при выполнении этого минимального условия — и у Модеста Осипова они срабатывают».
Мои тряпичные крылья
— Ангела вызывали? — спрашиваю у прохожих. Кто-то улыбается, играет в мою игру, другие считают чудаком, дураком, жуликом. С утра до позднего вечера я хожу по городу, ищу, кому нужен ангел, и стараюсь им быть. От гонораров не отказываюсь — ни от скромных, ни от щедрых.
«Принимаются к оплате шоколадки и конфеты, поцелуи и объятья, и банкноты, и монеты», — отвечаю, если кто спросит.
Когда людей на улицах становится совсем мало, я снимаю крылья, прячу их в пакет и возвращаюсь домой.
Да что ж такое! Опять лифт сломался. Подниматься на шестой этаж мне придётся пешком. Спросите любого астматика, и он Вам точно скажет, сколько ступенек от двери подъезда до его квартиры. До моей — сто двадцать семь.
***
Первый этаж. Не буду останавливаться, пойду дальше.
…По утрам выхожу на балкон и прислушиваюсь: звенят трамваи, каблучки по брусчатке цокают, дождь шуршит, тревожно сигналят кому-то автомобили… Я стараюсь поймать мелодию нового дня, загадываю, каким он будет — у ангелов свои приметы.
День будет удачным. Дождь перестал, на несколько минут выглянуло солнце. Совсем молодые ребята, приезжие, стоят посреди Пушкинской, разглядывают карту города, решают, куда идти. Я поправил крылья, подошёл к ним.
— Ангела вызывали? — спрашиваю.
— Э-э… Нет. А разве можно ангела вызвать? — девушка улыбнулась. Её спутник рассматривал меня бесцеремонно и скептически.
— Можно, конечно. Вот Вы, молодой человек, любите эту девушку?
— Да, — буркнул он.
— А Вы, юная путешественница, любите того, кто любит Вас? — я посмотрел на неё поверх очков. Снова поправил крылья. Когда надеваешь их на тёплую куртку, они смешно топорщатся и плохо держатся.
— Люблю, — ответила девушка.
— Значит, вызывали. Ангелы прилетают на любовь, как бабочки на цветы, — я неловко подпрыгнул, будто прилетел…
***
Тридцать первая ступенька, второй этаж.
— Здравствуйте, Нина Васильевна.
— Добрый вечер, Митя.
Товарищ по несчастью — старушка с третьего этажа — спускается навстречу, к почтовому ящику. Вроде бы за газетой, но на самом деле ждёт письмо от сына. Ей тоже тяжело будет подниматься.
— Лифт не работает, я кнопку-то нажимала-нажимала, а его всё нет. Пришлось пешком идти.
— Да, опять испортился, приду домой и позвоню в аварийку.
— Ты не спеши, сынок. Совсем запыхался.
Я пожелал соседке доброго здоровья и пошёл дальше.
…Те ребята-путешественники… Обычно чувствую, угадываю, к кому стоит подходить, а к кому нет. Не все верят в близорукого ангела с тряпичными крыльями за спиной, тучного и одышливого, как Гамлет, принц датский. Вот и они не поверили, не нашёл к ним дорожку.
Дальше тоже не задалось. Нарисовал на листке из блокнота смешную сову, хотел подарить девушке с огромным цветастым зонтиком. Она ходила туда-сюда по Театральной площади, каждые несколько минут звонила кому-то, никак не могла дозвониться. Я представил себе, как девушка улыбнётся, спрячет картинку, вернётся домой, достанет мой подарок из сумочки, улыбнётся снова и, может быть, даже вспомнит об уличном ангеле. Но она отшатнулась, огрызнулась, рисунок упал в лужу.
В сквере напротив Драмтеатра двое мальчишек лет восьми и худенькая рыжая девочка играли в снежки. Под деревьями ещё полно снега, он мокрый, рыхлый, для снежков лучше не придумаешь. Подхожу, спрашиваю, можно, мол, с вами поиграть? Вместо ответа в меня летит снежок. Значит, можно. Малыши тут же объединяются, атакуют с разных сторон, я едва успеваю наносить контрудары, верчусь взад-вперёд, чуть не роняю в сугроб очки. Вдруг вырастает, как из-под земли, женщина средних лет, с перекошенным от гнева лицом, и, срываясь на визг, кричит, что я, здоровенный мужик, убью или покалечу её Витечку прямым попаданием снежка в какой-нибудь жизненно важный орган. Хоть кто-то считает меня мужиком. Даже спорить не стал, ушёл…
***
Пятьдесят пятая ступенька. Третий. Передышка. Попробую обойтись без ингалятора. Я люблю свой дом, один из самых высоких в городе, квартиру на последнем этаже. Только бы лифт не ломался. Сто с лишним лет назад губернатор Тимофей Барятинский запретил строить в Новгороде-Днепровском дома выше шести этажей и церкви выше Софии. И ведь не строят. А где ещё жить ангелу, как не под самыми крышами? Разве что свить гнездо на телебашне.
…Середина дня, моросит дождь. Кряхтя и пыхтя, я втиснулся в телефонную будку, она мне явно маловата. Телефон-автомат давно убрали, никто уже ими не пользуется, но будки остались — старинные, красные, с гербом города над дверью. В них легко помещаются двое влюблённых, а один толстый ангел — с трудом. Вот они идут — паренёк в куртке без капюшона, девушка в демисезонном пальто.
Выпархиваю, взмахом воображаемой шляпы приглашаю их в будку:
— Ангела вызывали?
Даже не ответили, спрятались и закрыли дверь прямо перед моим носом…
***
Семьдесят семь. Восемь. Девять. Четвёртый этаж. Отдохнуть. Лифт что-ли поехал? Нет, показалось. В городе, среди людей ходить легче, дышать легче, я будто забываю о своей астме.
…Дождь разошёлся. Сижу на широченном подоконнике в кафе на Пушкинской, в гнезде из диванных подушек. Уютно, тёпло, пахнет булочками с корицей, на батарее сохнут мои тряпичные крылья. Представляю, как заходит с улицы другой ангел и дарит мне счастье. Нет, обознался, это портной из ателье по соседству пришёл в «Чудное мгновенье» за гостинцами для внучки.
За столиком у окна студентка читает Диккенса, делает пометки на полях, выписывает что-то в толстую тетрадь. В дальнем углу сидит молодой человек, пьёт чай и украдкой смотрит на незнакомку, подойти к ней явно не хватает смелости. Надо помочь, есть работа для ангела-почтальона. Я тянусь было за крыльями, но девушка вдруг вскакивает, хватает рюкзак, книгу, тетрадку, вылетает из кафе. Зачиталась, наверное, и теперь мчится на лекцию. Жалко, красивая история могла бы получиться…
***
На площадке между четвёртым и пятым этажами стоит стул, на подоконнике — пепельница, пачка крепких сигарет, подмокший вчерашний «Спорт сегодня». Это уголок Сан Саныча из двадцатой квартиры — жена запрещает курить дома, и он приходит сюда в домашнем застиранном халате, читает о футболе или с тоской смотрит в окно. Лет пять назад весёлый пьянчужка Сан Саныч каким-то чудом бросил пить, но стал меланхоликом. Посижу чуть-чуть на его стуле и пойду дальше.
Девяносто девять. Сто. Сто один. Сто два. Сто три. Пятый. Ф-фух! Почти дошёл.
…Не повезло мне сегодня с погодой, прохожие попрятались по домам раньше обычного. Пора снимать крылья и идти домой.
— Ой, Славик, смотри, ангел! Тот самый!
Ко мне подбежала молодая женщина, следом подошёл мужчина постарше, подал руку.
— Здравствуй, ангел.
— Добрый вечер, дети мои. Чем вам помочь?
— А ты уже помог, — женщина улыбнулась. — Позапрошлым летом мы здесь гуляли и тебя встретили. Ты заставил Славика встать передо мной на одно колено и читать стихи. Помнишь? Ничего такого ведь ещё не было, мы просто вместе работали.
Помню. Всё верно, именно этим я и хотел заниматься, чтобы ничего между людьми не было, а потом вдруг…
Они рассказали о помолвке, о свадьбе, о том, как прожили почти год в Гаване. Осенью вернулись, купили участок в дачном посёлке под Цыганской горой и в мае начнут строить дом.
— Спасибо тебе, — сказал Славик.
— Спасибо, ангел, — его спутница обняла меня и звонко поцеловала в лоб.
— Счастья вам, счастья, счастья! — пропел я. Дал петуха, и они рассмеялись.
Шесть лет мне понадобилось, чтобы эти двое повстречали, заметили, полюбили друг друга. Шесть лет и четыре попытки, но они, конечно, запомнят только последнюю, удачную.
***
Сто двадцать семь. Вот я и дома. Вешаю пакет на крючок в прихожей. Крылья влажные, надо будет на ночь положить их на батарею. Малыш прыгает вокруг меня, вертит хвостом, встаёт на задние лапы. Он голодный, конечно, и гулять хочет, и просто рад, что я вернулся. С ним нет смысла притворяться, прятаться, исчезает Митя, близорукий астматик, неуклюжий уличный ангел с тряпичными крыльями. Передо мной поставили одно условие: люди не должны ни о чём догадаться. О собаках речь не шла, и Малыш видит меня настоящим — светлым, лёгким. Видит серебристо-белые крылья за моей спиной.
Катерина Букшина

Александр Секацкий: «Емкая проза Катерины Букшиной несёт в себе следы оригинальности и неподдельности. Ложатся в строку даже некоторые нарочитые неправильности вроде того что „на полу валялся запах“, поскольку всё попадающее в поле зрения автора освещается странным мерцающим светом. Это признак стихийной силы повествования, как бы не знающей (и не желающей знать), где заканчивается психологический очерк и начинается эпос. Угол зрения, точка отсчёта перемещаются в любую систему координат, в текст словно бы вмонтировано устройство противодействия замыленному взгляду, и некоторые ракурсы говорят сами за себя, подсказывают стилистику письма: „Карандаш будто проживал всё, что создавалось его человеком, — он был оскалившимся львом, парусником в океане, печальной женщиной и загадочным существом, был далекой планетой и утренним цветком“. История отношений карандаша с его человеком и вправду рассказывается из глубины какого-то омута, и прием, используемый ещё в сказках Андерсена, применяется Катериной Букшиной бестрепетно и приносит свои плоды».
Он стал нужным
Люди — мы живем по-людски.
Кошки живут по-кошачьи.
Он стал нужным — его жизнь началась.
Карандаш вышел из-под станка красивым — шестигранная деревянная оправа пахла свежей краской, плотный графитовый сердечник мягко отражал свет металлическим оттенком. Он был заточен так идеально, что мог бы стать шпагой в руке любого мальчишки.
Но купивший его человек не играл в дворовых мушкетёров. Напротив, он стоял на пороге той особой юношеской серьёзности, которая взрослеет так же отрывисто и непропорционально, как и молодое тело.
Хозяин карандаша усердно чертил линии на клетчатых листах тетради, графит оставлял частицы себя на деревянной линейке. Шурша по бумаге, карандаш неровно бегал по строчкам, оседал небрежными пометками на полях, порой дважды или трижды возвращаясь к затёртым ластиком местам. Борозды от начерченных ранее линий были глубоки — человек держал карандаш крепко и нажимал на бумагу с силой, как будто упрямым усердием пытался перекрыть те знания, что не хотели устроиться в его голове. Он думал, что будет убедительнее для самого себя, если заключит свои доводы в жирные тёмные контуры. Невиданные графики и формулы были чужды карандашу, но столь же чужды они были и руке, выводившей их. Скорые мысли человека лишь на малую долю секунды задерживались на букве или линии, и чем меньше он понимал — тем сильнее графит вдавливался в бумагу, порой как будто со злостью. Карандаш чувствовал себя виноватым, но не в его силах было вложить смысл в тот след, что он оставлял за собой, он управлял лишь формой, содержание же было ему неподвластно.
Потом что-то случилось в жизни человека, и его рука стала легче и небрежнее. Сперва на замену упрямству пришло изумление, потоками проходившее через графитовый сердечник, — карандаш и его хозяин вдруг обнаружили в себе множество оттенков. Отчаявшись совладать с однотонными формулами, человек поначалу несмело, без всякого движения к результату, рисовал фигуры. Под его рукой появлялась форма у конуса и сферы, несуществующий свет ложился на текстуру гипса, металла, дерева. Человек всякий раз точно знал все свойства того, что он отражает на бумаге, словно он держал это на своей ладони. Вскоре рука обрела уверенность. Теперь не бессильное упрямство владело им, когда глубокие и злые линии и плотно сжатые губы подходят на роль последних аргументов. Он старательно, со знанием дела стал вдыхать жизнь во всё, что обитало в его воображении. Разноцветный калейдоскоп мыслей, нетерпеливо дрожащий в ожидании выхода, поселился в графитовом сердечнике. Карандаш будто проживал всё, что создавалось его человеком, — он был оскалившимся львом, парусником в океане, печальной женщиной и загадочным существом, был далёкой планетой и утренним цветком. Человек создавал новую реальность, и карандаш был частью этого акта творения, ощущая, как через его сердечник из руки на бумагу проходит содержание, смысл, характер и само существование. Карандаш и его хозяин были счастливы. «Мне видится теперь, что я обрел целостность, — писал человек кому-то, — найти дело по душе — событие исключительное и в масштабах одной судьбы влияющее на ход личной истории. Но сколько отваги нужно, чтобы следовать ему! Краеугольный камень моего мироустройства у меня под ногами, но покуда я топчусь на нём в нерешительности, лишь стараясь не соскользнуть. Но чувствую, в скором времени найду в себе необходимые ресурсы, чтобы начать строить на нём цитадель моей счастливой судьбы. Даровать бы всем по такому открытию! Это же свобода в чистом виде — да, именно так, ведь мое сердце никогда не бывало таким вольным».
Случилось так, что на самом гребне волны такого нужного, полезного счастья хозяин бросил его. Человек зашвырнул карандаш, ставший вполовину короче, в пустой ящик стола — там было темно, пыльно и настолько бесполезно, что он впервые за недолгую жизнь ощутил себя простой деревяшкой с грифелем. Как же так вышло? Время всё шло и шло, но существование оставалось безропотно-пустым. Карандаш тосковал по созиданию. Где его человек?
Прошла не одна вечность прежде, чем яркий свет грубо ворвался в его застывшую жизнь. Ящик торопливо открыли, так, что карандаш выкатился навстречу своему человеку, звонко гремя всеми шестью гранями о деревянное дно. Его ухватили шершавые, чужие руки и небрежно сунули в нагрудный карман. Нет. Руки были те же, но человек стал совсем другим — он потемнел, из него ушли нетерпеливые мысли, он стал похож на те упрямые глубокие линии, что рисовал, примеряя на себя неподходящую жизнь. Карандаш знал, что больше они не станут создавать вселенные на бумажных листах, но он зачем-то ему понадобился — и одно это уже было маленьким, но смыслом.
Земля вокруг постоянно сотрясалась от грохота, и в воздухе плохо пахло, целая палитра неизменно дурных запахов. Человек нервничал, суетился и раздражался по пустякам, он часто был напуган и плохо спал ночами.
Когда, наконец, он достал из кармана старый карандаш с затертой на ребрах краской, то долго держал его в руке, медленно поднося к желтоватой измятой бумаге и тут же спешно отнимая руку. Поблекшая телесная память напомнила человеку, как с этой вещицей он пытался пробраться через дебри геометрии и физики, как после учился рисовать, каждым своим движением мечтая о будущем и приближая себя к нему. Теперь эти воспоминания отдавали едкой наивностью, и тепло, которым от них веяло, лишь раздражало уставшее сердце. Шумно и отрывисто выдохнув, человек наконец коснулся серым грифелем бумаги.
«Здравствуй. Со мной всё в порядке, мама. Кормят сносно, и ноги в тепле. Не обижает меня никто, только мои собственные мысли. Но я справлюсь, это не страшно. Видел здесь на одном лугу цветы — синие звёздочки, очень подойдут твоему саду, туда, между яблонями. Непременно возьму их с собой на обратном пути».
Человек сильно сжал карандаш в кулаке. Внутри него всё клокотало — шумный сонм мыслей, они наскакивали друг на друга, толкались, и всем хотелось на бумагу — скорей, скорей! Вытащить на поверхность все эти ужасы, которые творятся вокруг и внутри, поделиться, снять с себя часть груза. Нельзя. Ничто из того, что ржавчиной осело на его душе, не предназначено этому пожелтевшему клочку бумаги. Достаточно того, что он впитает в себя вонь и сырость окопов, так пусть хотя бы буквы скажут измождённой переживаниями матери, что у её сына всё хорошо.
Карандаш вновь отправился на покой. Вокруг продолжало грохотать, иногда древесина разбухала в промокшем от дождя кармане, но оправа не смела позволять себе трескаться, да и грифель мужественно оставался пригодным. Человек же всё больше опустошался. Он стал беднее на несколько десятков вселенных, что жили в нём прежде, и с каждым днём всё чаще боялся. Естественный страх за свою жизнь уже изжил себя, ушёл надоевшим гостем, и сильнее всего он теперь страшился того, что способно прийти на замену покинувшим его мирам. Природа не терпит пустоты, и если судьба выгнала из него свет и созидание, чего же тогда ему ждать взамен?
Однажды особенно сильный гром разорвал воздух. Треск, гул и хаос куполом накрыли мир, и карандаш чуть не выпал из кармана. Жар стал вокруг, как будто человек стоял рядом с костром.
Слышались крики.
— Достань… в кармане… Дай… Крепкий, выдержит.
Человек зачем-то положил карандаш к себе в рот. Другой человек, покрытый землёй и копотью, сделал резкое движение, от которого хозяин карандаша истошно закричал, со всей силы впившись зубами в древесину. Выдержать такое напряжение было чрезвычайно трудно, но он не сломался. Человек не надломил его и не коснулся зубами сердечника, но оправа навсегда сохранила на себе следы его боли — глубокие, синхронные, позже забившиеся грязью.
«Что-то прохудилось в жизни. Она стала протекать, доселе полная и густая, теперь она спешно убегает, как вода через сито. Я раньше любил запах сырой земли, помнишь? Всякий раз принюхивался после дождя. В окопах так сыро, что я больше никогда не смогу выносить его. Было сражение на реке. Я видел, как по ней плыли тела и окрашивали собою воду бурым. А листья — осенние листья, они обыкновенно кружат на поверхности, знаешь? Они тонули. Шли на самое дно, едва касаясь воды. Разве так бывает? Почему они тонули, мама? Вокруг меня вдруг стал неправильный мир. Неправильный мир. Я никогда не отправлю это чёртово письмо, меня крутит всего, когда я представляю твой тревожный взгляд, бегающий по строчкам, и слёзы, в которых уже не осталось ни соли, ни жизни, потому что это всё тоже вытекло через сито войны».
Рука человека дрожала. Он сильнее хватался за карандаш, как за поручень в трамвае, но никак не мог унять эту дрожь, стремительно теряя равновесие души и рассудка. Всё то, чем он доселе так тонко чувствовал вибрации мироздания, пришлось выкинуть или изменить. Уплотнить свои моральные рецепторы настолько, чтобы через них не могли просочиться запахи крови и дыма, что окружали его теперь.
«Я маленький человек в этом хаосе. Я вижу здесь порой, как ломаются сильные люди, и это наполняет меня таким страхом, от которого я не могу ни думать, ни двигаться. В детстве я твёрдо знал, что должен стать отважным и доблестным. Это кажется величественным ориентиром, но вместе с тем простым и достижимым — потому что это правильно, быть таким. Но я им не стал, ведь доблесть не поддаётся мне, а сила и отвага не приживаются в моём естестве, оно не подходит им по размеру. Я утешаюсь той простой мыслью, что доблестные люди тоже имеют право на страх, и их так же щемит от неуверенности и сомнений. Но очевидное их преимущество — в осознании собственного предела, в примерном понимании, в какой же точке находится тот рубеж, перейдя который они окажутся надломленными. Моя беда как слабого человека в том, что я не могу представить, где мой собственный предел, и потому мне приходится ждать его наступления всякую минуту. Это так жутко, пристально вглядываться в каждый момент бытия, пытаясь различить в нём шаг в пропасть».
Время совершенно потерялось в пространстве. Карандаш давно не точили. Его грифель затупился, стал округлым и мягким, и практически не показывался из древесины. Человек сильно истощился. Казалось, что эмоции утомили его, и он стал отмахиваться от них всякий раз, как они пытались завладеть его сознанием. Всё его нутро устремилось к равнодушию, осознав, что это единственный способ пережить происходящее. Многое из того, что вызывало отторжение, стало привычным, а то, что ужасало, — превратилось в досадный дискомфорт.
Впоследствии карандашу приходилось писать странные и непривычные вещи. Его наконец заточили отрывистыми движениями, пройдясь по грифелю безжалостным лезвием, и заставили перечислять боеприпасы, писать даты, фамилии, ставить плюсы и минусы, распределяя чьи-то судьбы. Как-то вечером, в грязном и сыром воздухе, пока вокруг бегали и суетились люди, человек написал на сером мятом листе под спи ском неизвестных фамилий: «Распоряжение: расстрелять». На секунду огрубевшие пальцы дрогнули, условным импульсом пытаясь отвести от себя реальность, но и эта эмоция была умело погашена. Карандаш перестал чувствовать хоть что-либо, что бы исходило от хозяйской руки. Казалось, будто его человек заперся где-то внутри самого себя, оставшись один на один со своим протестом, не выраженным и никем не распознанным.
Лишь раз он позволил себе вытащить себя наружу и самым небрежным почерком, быстро, покуда он сам себе не воспротивился, написать ещё одно письмо, которое никогда не будет отправлено. Карандаш к тому времени уже истощился на две трети, следы сжимавших его когда-то зубов истёрлись вместе с заводской краской. Он стал грязным и потрёпанным, огрызком, выброшенным в пыль дороги жизни.
«Мыши скребутся втихомолку, по ночам, не желая быть услышанными, но наверняка осознавая, что делают что-то плохое. Внутри у меня тоже скребётся, только это не мыши, и красть у меня нечего. В детстве я думал, что должен быть смелым и доблестным. Я им так и не стал, а вся мораль, которую ты, мама, успела во мне вырастить, оказалась под прессом войны. Порой я думаю, что проявил гибкость, но на самом деле я просто оказался раздавлен и теперь сную между осколками, уверяя себя, что это естественная среда обитания. И эти осколки, остатки, эти щепки скребутся внутри меня, неприятно щекочут и царапают. Они никак не могут угомониться, потому что не растворились во мне, не исчезли, но очень, очень устали от своей ненужности».
И после этого человек совсем не брал карандаш в руки. Он писал другими инструментами, сухо и по делу, не проводя через них своё сердце, как через знакомый коридор, чтобы в конце него открыть дверь в комнату, наполненную содержанием. Он избавился от этого свойства, как и от всего, о чём напоминал ему старый огрызок карандаша, купленного в про шлой жизни, когда он заканчивал школу полным жизни юношей. Жизни, которая выплёскивалась через край, стремилась найти выход вовне и, наконец обретя его, озарила своим явлением мир. Теперь человеку было неловко и мерзко вспоминать об этом, как будто он стыдился себя нынешнего. Так грязный нищий смущается в присутствии ухоженного господина, срамясь того, что не нашёл в себе сил обрести хотя бы малейшее достоинство и помыться. Срамясь, но так и не пытаясь найти этих сил, исподтишка лелея злобу на ложный источник собственного стыда.
Карандаш хранился в старом саквояже. Грохот и дым, которые, казалось, уже вжились в само существование и пронизывали собой каждую клетку пространства, со временем прекратились. Саквояж часто перевозили с места на место, то швыряя его небрежно, то подвешивая в состоянии покоя, словно в невесомости. Карандаш не чувствовал человека, тот как будто растворился или окончательно потерял себя в тех буднях, которые он проживал за кого-то другого. Грустные женщины, львы и далёкие планеты, оживавшие когда-то под рукой и грифелем, теперь казались неуместной шуткой и издёвкой, ведь они задумывались частью вечности, на деле же скончались скоропостижно.
Старая древесина оправы потрескалась, обнажив часть графитового сердечника. Карандаш прожил достаточно долго, чтобы более не жаждать новых свершений, он схоронился в месте, лишённом света, времени и памяти, ненужный и не обладающий никакой миссией.
Ещё лишь только один, последний краткий раз карандаш увидел свет дня. Его достали из саквояжа сухие жилистые руки, с застарелыми мозолями, пахнущие горьким табаком и краской. Это был человек, его человек, почти неузнаваемый, далёкий. Хозяин грустно ухмыльнулся находке и, прежде чем продолжить жить, достал чистый лист бумаги и приложил к ней старый грифель. Линии заиграли под его рукой. Оттенки пе
ремежались друг с другом, человек знал, что делает, но сердечник не вмещал в себе акта творения, лишь подчиняясь механическим движениям. Закончив, человек посмотрел на рисунок. Бескрайний океан, парусник на его поверхности и огромный кит-косатка на глубине. Исполнение было прекрасно, но ни судно, ни кит не плавали в этих водах, они всего лишь были нарисованы, а океан плескался в рамках листа, лишённый свободы. Нахмурившись и будто приняв какое-то важное решение, человек открыл окно и резким движением выбросил старый карандаш. Тот глухо упал на сырую землю, спрятавшись в траве, и на этом его жизнь закончилась — он стал ненужным.
Кира Османова

Александр Секацкий: «Поэзия Киры Османовой тяготеет к акцентированной ритмичности, поэт пишет, избегая того, что можно определить как «обыкновенное поэтическое», таких соблазнительных завитушек, которые (всегда есть на это надежда) сами сложатся в некую поэтическую фигуру, сами скажут за себя то, чего и не предполагал автор. Но у Киры Османовой доминирует принцип полной ответственности за речь — то есть мы имеем дело с экзистенциальной поэзией. Пожалуй, самой трудной, ведь здесь любой избыток пафоса легко способен разрушить всю постройку.
Может, какие-то ветки как нужно не выросли, выглядят детскими;
Может, иные — кривые, тяжёлые, попросту лишними кажутся.
Перед нами стволовая, стержневая поэзия, и чего в ней точно нет, так это лишних, кривых ветвей».
***
В голове стрекочет вновь камера,
Выбирает общий план медленно:
Я на сером берегу каменном
Строю башню для моих демонов.
Было время и без них, было же.
Надо как-то одолеть прочее.
Строю башню из камней вымокших,
Неприступная она, прочная.
Я уже на землю шарф сдёрнула.
Я молчу, но говорю будто бы:
«Выходите из меня, тёмные.
Вы теперь снаружи жить будете.
Я вам больше не приют, чур меня;
Я утратила вконец мужество.
Я устала вас в себе — чувствовать…»
Снято. Можно наложить музыку.
И меня лишили здесь выбора.
Ты прости, береговой наигрыш.
Это только говорят: «Выболит!»,
А на самом деле — нет, знаешь ли.
***
Такое бесконтрольное желанье —
Коснуться и услышать —
Всегда не вовремя, всегда на грани,
Всегда как будто слишком.
Во мне мгновенно мраморные скалы
Покрылись редким снегом;
И ревность вышла из меня и стала
Отдельным человеком. Она случилась.
Я её не знаю. Какой нелепый ребус.
Сухая, потемневшая и злая.
Ты видишь? Это ревность.
Когда молчать не хочется, молчится
Особенно красиво.
А снег лежит: невероятный, чистый,
Местами даже синий.
Со временем становишься картиной,
Ландшафтом, и не больше.
И если говоришь — то примитивно
И про одно и то же.
И думаешь — откуда я? куда мне?
И лес на скалах срублен.
Когда внутри — пронзающие камни,
То жить, конечно, трудно.
***
Правдами и неправдами
Держишь удар.
Это однонаправленность: «Только туда!»
Неинтересны прочие;
Нет их порой.
Это сосредоточенность.
Самоконтроль.
Мысль неотступно вертится,
Долгая мысль:
«Мне до сих пор не верится… Кто это — „мы“?»
Все нутряные чудища, Кажется, спят.
Я ничего не чувствую.
Только тебя.
***
Мы будем сидеть на заброшенной лодке,
Не сдвинемся с места, как будто бы к днищу
Прилеплены.
Смотреть, как деревья друг друга не ищут,
Какие у наших детей подбородки —
Рельефные.
Мы будем грустить, неизбежно и честно,
Что стать ни отцом безупречно не вышло,
Ни матерью.
Мы будем дышать, как охотники дышат,
И слушать скрип досок, стволов и качелей
Внимательно.
Мы станем одно самородное тело,
Что будет со временем мхом и травою
Украшено.
И ветер над лодкой надсадно завоет,
И дети нам крикнут: «Куда же вы делись?»
***
Внутренний лес узнаётся по рыжим просветам и мокрому запаху;
Дышишь спокойно, впервые себя измеряешь не только потерями.
Так и стоишь между гладких стволов, голова в восхищении задрана:
Выше высокого эти деревья, и сам ты — такое же дерево.
Может, какие-то ветки как нужно не выросли, выглядят детскими;
Может, иные — кривые, тяжёлые, попросту лишними кажутся.
Я вспоминаю тебя — это правда такое особое действие,
После которого чувствуешь, будто по телу смола растекается.
И понимаешь, какими мы стали в сравненье с собою — огромными;
Непоказными и очень красивыми; теми, кто всё же осмелился.
Ты исключительно сосредоточен на ярких фрагментах над кронами.
Жизнь — это вверх. И ты занят своей вертикалью.
И в этом — бессмертие.
Лариса Петрашевич

Александр Секацкий: «Текст представляет собой удивительное сочетание этнографии и экзистенции, достигнутое благодаря точной интуиции и следованию критериям инстанции вкуса. Получилась простая человеческая история, история о любви, которая была и прошла. А ведь создать, рассказать простую историю, которая так и будет воспринята читателем как остановленный фрагмент самой жизни, вовсе не просто. Куда проще соорудить искусственную конструкцию, оснащённую эрудицией и стилизованную под какое-нибудь господствующее направление, то есть текст второго порядка, ориентированный по отношению к уже существующим текстам. Создание хороших текстов второго порядка доступно далеко не каждому, и именно для этого требуется мастерство. Но тексты первого порядка всегда в дефиците, даже если это на удивление простые истории, и для их создания требуются фигуры высшего пилотажа, плохо поддающиеся спектральному анализу.
В рассказе «Дочь, родившаяся первой» фигуры высшего пилотажа присутствуют».
Дочь, родившаяся первой
Я стараюсь как можно реже ездить в то живописное шале среди гор у чистого озера, что зовётся Серебряным. Кожей помню, как ныряю в него — и в ту же минуту меня сковывает безжалостный холод, побороть который под силу только решительному брассу. А стоит выйти на берег и шагнуть по каменистому песку, как мелкая дрожь забьётся в мышцах, но уже не столько от озноба, сколько от озорного восторга и невероятной бодрости. Кругом — дивная картина в серебристых бликах. Я тогда знал фразу на оджибвейском языке, которая буквально переводится как «действительно прекрасное место для высадки», но в оригинале в ней заложен дополнительный смысл, подчёркивающий гармонию мира и духа. А теперь я её забыл.
***
С Веноной я познакомился в больнице, куда попал с гнойным аппендицитом и провалялся две недели вместо положенных двух дней. Она работала медсестрой и появлялась в моей палате чаще других — брала много дежурств. Xотя и без того было понятно, что она индианка, я не удержался и задал политкорректно сформулированный вопрос. «Да, из алгонкинского племени оджибве в Нью-Браунсвике», — ответила она без смущения.
Я родился и вырос в Монреале, в моей голове живёт стереотип индейской женщины: либо крупная с мощными конечностями, либо маленькая квадратная, из тех, что вечно пьяные сидят в метро и попрошайничают от удручающего безделья.
А Венона была среднего роста, худенькая, с длинными смуглыми пальцами. Я вначале только их и заметил, когда она капельницу мне ставила, а уж потом обратил внимание на лицо с выразительной мимикой и прозрачно-синими глазами. Хотя сейчас я не очень уверен, возможно ли, чтобы у человека были глаза цвета синего кита? А брови у неё были невероятно красивые: удлинённые, аккуратной формы, способные разлетаться, идти на излом, выгибаться в дугу, приподниматься страдальческим треугольником. Из-за такой подвижности бровей её лоб был исчерчен продольными морщинками, казавшимися мне трогательными.
В день выписки из больницы я пригласил её на ужин — в честь моего выздоровления и для поддержания знакомства. Она отказалась. Тогда с напускной небрежностью я позвал её на ужин в свою монреальскую квартиру — у меня на террасе стоит новёхонький гриль, хотел вот опробовать, да загремел в больницу… Она снова отказалась. Попрощалась и пошла к дежурному посту за назначениями для больных. А я отправился к своему грилю.
***
Я зажил своей обычной жизнью, умудрился даже получить повышение на работе с расширением соцпакета. Словом, предсказуемо шагал по прямой.
Наша неожиданная встреча произошла не в самом романтическом месте — в овощном магазине. Она стояла возле горы авокадо и внимательно рассматривала плоды. Я подошёл сзади:
«Венона, привет!» От неожиданности она локтем задела пира миду, и зеленовато-бурые пупырчатые авокадо стали шлёпаться на пол, как раздутые лягушки. Мы бросились спасать лягушек, и это было почему-то очень забавно. А потом я оплатил их всех, с десяток, — хотя в том не было явной нужды — и заявил, что теперь мы просто обязаны вместе заботиться о них. И, продолжая игру в лягушек, позвал Венону в шале, старательно перечисляя достоинства моего владения: спуск к кристальной чистоты озеру, за домом ручей, возле которого расположился лягушачий кампус, тут же гора, по которой можно бродить часами и даже немного заблудиться… «Поехали, — внезапно согласилась она. — Заблудиться со мной вряд ли получится, но совсем немного — можно, если ты хочешь». Она вообще часто делала небольшой речевой «откат», добавляя это «если ты хочешь». Вначале я грешил на её французский (всё-таки неродной язык), но потом сообразил, что она таким образом деликатно дистанцировалась от собеседника.
Вышло так, что все наши встречи происходили только в шале. Не любила она города, зато про лес знала поразительно много. Вот, скажем, бежит по лужайке скунс. Для меня это только противная мелкая зверушка, дико вонючая к тому же. А Венона сразу: ты обратил внимание на окрас? Нет, а что? Ну это же белый скунс, такого редко встретишь! Вернее, спинка и бока у него белые, а брюхо чёрное — как будто не зверь бежит, а нога в мокасине и белом носке. Любопытно, что белый скунс — в отличие от полосатого — ведёт уединённый образ жизни, находя себе пару только на брачный сезон. Зато детёнышей защищает неистово: если обидишь, брызнет тебе в глаза своим мускусным секретом, который поначалу вызовет нестерпимое жжение, а затем и неминуемую слепоту. А ещё… и так далее. То есть на всякого случайно пробежавшего зверька у неё имелось целое досье.
Или, скажем, садимся мы вечером у мерцающего, усыпанного отражёнными звёздами озера. Она закуривает косячок, передаёт его мне, молчит. А потом вдруг неожиданно вздра гивает: «Форель бьёт хвостом почти у берега, слышишь?» Как я ни напрягаюсь, но пробиться через тишину не могу. Или не умею.
Она придумала мне второе имя, так и обращалась — Сикис, что означает «друг». Я не смог скрыть своего разочарования: просто «друг» звучит уныло в отношениях мужчины и женщины. «А вот и неправда, — возражала она. — Имя Сикис необычайно мужественное, потому что друг — это точно не враг. С кем останешься надолго, на всю жизнь может. Не понимаешь? Посмотри, как это устроено в природе: разве рыжая лисица понесёт детёнышей от койота, своего заклятого врага, претендующего на её добычу? А от волка — вполне, да и от собаки тоже. В мире друзей и потомством обзаводиться не опасно».
Тогда мне такая параллель с миром диких животных казалась нарочито упрощённой, а сейчас многое бы я отдал за такую дружбу, а было бы потомство — встал бы на защиту, как скунс нетипичного белого окраса.
Она с удовольствием готовила, а сама ела очень мало. Для меня старалась, выходит. Легко могла состряпать с дюжину великолепных блюд из дикого риса, фасоли и тыквы. Чудесно делала индейку и подавала её с черничным соусом и кукурузным хлебом. Сидела напротив и смотрела, как я ем.
Однажды я не смог скрыть удивления, обнаружив, что она любит розовое вино: аутентично американская Венона и вина французского Прованса не хотели сочетаться в моей голове. Но она иначе расценила мою реакцию, брови мгновенно взлетели вверх: «Ты тоже думаешь, что у нас, у индейцев, нет фермента, расщепляющего алкоголь, и потому мы стремительно спиваемся, попробовав всего лишь раз? Так вот, это очередная ложь, призванная принизить и очернить нас».
Мне пришлось сказать правду, решительно разведя её и Прованс, но она вовсе и не обиделась. Брови плавно вернулись на своё место: «Да, во мне не течёт благородной крови, так что считай, что вино „розе“ — моя нелепая причуда». И прими рительно погладила меня по предплечью.
Она никогда не приглашала меня к себе домой, но при этом не скрывала, что снимает крохотную квартиру, находящуюся в цокольном этаже, с «шикарным» видом на асфальт. У неё есть брат, и он живёт в пансионе при школе. Там, конечно, всё бесплатно, но она тратит много денег на его развитие. Может ли она познакомить меня с братом? Нет, не может. Он душевно неустойчив, плохо идёт на контакт, так что ничего из этой затеи не выйдет. Да, не проси меня больше об этом. Пожалуйста.
Никогда.
Венона была предельно скупа на рассказы о своей жизни, предпочитая говорить о птицах, рыбах, еде — о чём угодно, лишь бы не о себе. Я знал, что медицинский колледж она окончила здесь, в Монреале, а всё, что было до того, — под замком. Я так и представлял себе её семью — моя маленькая медсестричка Венона и её хворающий братец. И смутная резервация в анамнезе, где всё давным-давно перебрались к предкам в Землю Счастливой Охоты. Как выяснилось, я почти угадал.
Она доверилась мне тогда, когда стала всё чаще и нежнее называть меня Сикисом, всё реже говорить «как ты хочешь», заменяя его на более тёплое «что ты думаешь, если?..».
Слушая её рассказ, я чуть было не решил, что у неё внезапно разыгралось воображение. Но тут же вспомнил, что она вообще не умеет врать. У неё, очевидно, не было энзима, расщепляющего правду на полуправду, не говоря уж о том, чтобы вырабатывать ложь.
***
Она родилась в резервации и была первым ребёнком у родителей. Недаром её назвали Веноной, что означает «дочь, родившаяся первой». Получив девочку вместо желанного мальчика, отец загоревал. Да так, что через два дня после родов выпил бутылку виски местного разлива и избил жену — чтоб в дальней шем неповадно было. А к дочке с первого дня стал относиться как к недоразумению.
Всё, что Веноне довелось узнать о лесе, животных, растениях, реке, рыбе, луне и солнце, — всё это не отцом ей было рассказано. С утра до вечера она бродила по лесу и собирала растения. Мать каждый год беременела и каждый год теряла ребёнка — вот почему нужно было настаивать и заговаривать особые травы. Отец после каждого выкидыша напивался и избивал жену. Выпустив пар, немного успокаивался и ждал следующих родов. Беременную не бил, но и пить не прекращал.
Той весной, когда Веноне исполнилось семь лет, в резервацию приехали представители Группы ООН по поддержке коренного населения. Люди эти, помимо того, что навезли подарков, усиленно предлагали различные образовательные программы для детей и взрослых. Такие призывы звучали регулярно, поэтому на них мало кто обращал внимание. Гораздо больше интересовали вопросы полного освобождения от налогов и получения компенсаций — поселенцы ловко манипулировали чувством вины перед автохтонами.
И тут подала голос мать Веноны. Поддерживая двумя руками выпирающий живот, она выразила твёрдое желание отправить дочь на учёбу в город. Отец опешил, но противиться не стал, хотя и не ожидал такой решительности от своей забитой жены. Впрочем, ему было только на руку отдать дочь государству на полное содержание — он в очередной раз ждал сына.
В конце лета Венона уехала в школу, а в сентябре наконец-то родился младенец мужского пола. Имя ему дали Ашкий, что так и переводится — «мальчик». Отец от радости не слышал земли под ногами, твердил, что это первый из десяти его сынов. Однако после рождения сына чрево его жены сделалось глухо к зачатию, и он снова бил её — теперь за то, что не беременела. Позже поговаривали, что по деревне вовсю бегали его дети от других женщин, но Венона в это не верила. Сколько бы она не вглядывалась в их лица — все были чужие. Только Ашкий был свой, единокровный.
Всякий раз, когда Венона приезжала на каникулы, отец целыми днями где-то пропадал, а вечером укладывался на циновку и пил. Ему и в голову не приходило поинтересоваться её жизнью в городе, зато мама с братишкой наперебой расспрашивали. Был отец словно кость лося, вымытая дождями и высушенная ветрами, — такая же белая и безжизненная.
И Ашкий, и Венона — оба пошли в мать. Та, пока не стала жить с их отцом, была быстрой, как олень, ловкой, как гепард.
А ещё она обо всём умела спеть.
«Знаешь, что такое индейское горловое пение? — спрашивала меня Венона. — Это когда из горла выпархивают, как трепещущие колибри, самые естественные звуки: крики животных и щебет птиц, шум дождя, рёв ветра, стон иссохшей земли. Очень красиво горлом поют женщины: становятся лицом к лицу, берутся за руки и распевают, подхватывая друг друга, пока одна не остановится в изнеможении — такое своеобразное соревнование на выносливость».
Когда Венона бывала дома, они с матерью обязательно пели. А Ашкий их слушал, радовался за победительницу и подбадривал побеждённую. «Вечно ты с бабами таскаешься, — выговаривал ему отец. — Ну да ничего, скоро всё переменится».
Венона допытывалась у матери, о каких переменах твердит отец, но та только мотала головой: не думай, дочь, об этом. «Не думай о белом медведе…» — сокрушалась про себя Венона.
Ашкия, разумеется, в школу не отдали, а когда ему исполнилось тринадцать, тут-то всё и случилось. Венона к тому времени перебралась в Монреаль, где на очередном этапе программы поддержки пошла учиться на медсестру. Поездки домой оплачивались не более двух раз в год, так что она отсутствовала по шесть месяцев. Однажды приехала — и глазам не поверила: её милого, ласкового Ашкия словно подменили. Стал он серого цвета, точь-в-точь как трупик кузнечика, а глаза — пустые, безжизненные, как у чучела песчаного журавля. Но больше всего потрясло то, что он не узнал её, родную свою сестру — ни голоса, ни касания рук. Чудовищная догадка настигла Венону: она-то думала, что это одна из легенд-страшилок; она-то жила в убеждённости, что такое могло происходить с их дедами, на худой конец с отцами (судя по её отцу — вполне), но уж никак не с современными мальчишками.
Это был так называемый «ритуал удаления детских воспоминаний». В алгонкинских племенах считалось, что детство служит препятствием в процессе возмужания, поэтому подростков отводили в горы, помещали в клетки и держали там не менее 20 дней. Вместо еды в них впихивали високан, известный своим мощным галлюциногенным потенциалом, главным компонентом которого является дурман (Datura stramonium). Прошедшие через это испытание говорили, что в первые мгновения тревожность и опустошённость затягивают сознание с такой силой, что создаётся иллюзия смерти. Затем это состояние замещается менее тревожным, с симптомами, возникающими при приёме тяжёлых наркотиков, включая чрезмерное возбуждение и бред, перетекающие в сотканный из диких галлюцинаций сон. Цель считается достигнутой при пробуждении, поскольку к тому моменту человек напрочь лишается воспоминаний. А если что-то и всплывает в памяти, то он пребывает в уверенности, что это происходило не с ним, — эффект «кино» с устойчивой деперсонализацией-дереализацией.
Именно такую процедуру и проделал отец, желавший иметь в сыновьях настоящего мужчину. Случился, правда, сбой: когда они вернулись в дом, жена впала в транс и запела традиционную песню смерти, и тут сын обронил: «Мама». Пришлось снова отправить его в клетку — для обнуления мозга без осечки. Когда мальчик вернулся во второй раз, матери в доме уже не было. Отец её так избил, что она скончалась от боли и страдания, не дожив и до сорока лет.
***
Венона ничем себя не выдала. Покормила Ашкия — он ел с омерзительной тупостью — и ушла в горы на двое суток. Нашла грот в скале и клетку, сплетённую из осоки, камыша и ивы, укреплённую шерстью дикого кабана и колотыми иглами ежей. Всё оказалось правдой, значит. Поставила силок, поймала зайца-беляка. Вырезала из его брюха кусок плоти, обмотала соцветием донника, положила в заячий желудок, крепко затянула его жёсткой травой, закопала в землю на полметра в глубину и оставила на 36 часов. Вынула. Закопала всё обратно, оставив только подгнивший донник, который опустила на дно холщовой сумки, переложив кленовыми листьями. Вернулась в поселение. Пока отец спал, бросила донник в начатую бутылку виски, потрясла, процедила через комариную сетку и снова залила в бутылку.
На следующий день уехала, объяснив, что подвернулась подработка в госпитале.
Спустя короткое время пришло известие, что отец умер, предположительно отравившись скверным виски.
Венона вернулась в деревню — там уже вовсю жгли костёр и били в бубен. Одела отца в лучшее, в могилу положила еду и табак, чтобы осилил путь в Долину Духов. Затем собрала вещи Ашкия и сказала, что тот переезжает. Мальчик отреагировал равнодушно, он вообще с виду вёл себя как аутист: мог, например, долго копать яму или разрубать брёвна, не уставая и ни на кого не обращая внимания.
***
Приехав в Монреаль, Венона обратилась в Центр защиты жертв домашнего насилия и в Комитет по защите прав коренного населения. Не прошло и недели, как Ашкий был определён в спецучреждение, где реабилитация детей и подростков с посттравматическим стрессовым расстройством успешно сочеталась с начальной образовательной программой.
К моменту, когда мы стали с Веноной очень близкими «друзьями», ему было уже двадцать лет и находился он на очередной ступени реабилитации и обучения. Результат был, но не блестящий. Умственная задержка оценивалась примерно в семь лет, хотя физически он был невероятно крепок и охотно занимался спортом. Потом он даже играл в нашей сборной по бейсболу — я видел его имя в списке команды.
Эта история ошеломила меня и напугала. Я понял, почему Венона отказала мне в знакомстве с братом (и принял это), но у меня в голове не укладывалось хладнокровное убийство отца. Я сразу занял позицию добропорядочного гражданина и стал объяснять ей, что в нашей стране адекватное законодательство, что нужно было подать в суд на отца, а не устраивать собственноручную расправу; что однажды это всё равно всплывёт, и ей не избежать заключения. Одним словом, я повёл себя как надменная сволочь, и это вместо того, чтобы подставить дружеское плечо. Хреновым я оказался Сикисом.
А вскоре после моего нравоучения наметились и первые признаки разлада отношений. Я психовал, противоречил сам себе, клялся, что никогда не выдам её, умолял верить мне… «Я тебе верю», — говорила она и исчезала из моей жизни, как дымок затухающего костра. Гораздо позднее я понял, что вера и доверие — далеко не одно и то же.
Она чаще стала ходить в лес одна, без меня. А однажды вернулась чрезвычайно опечаленная. Рассказала, что видела мелькнувший скелет девочки — верный знак, что ей надо отсюда уходить. «Почему?» — оторопел я. «Потому что я задерживаюсь там, где мне не место. И если я не прислушаюсь, то после своей смерти никогда не попаду в Страну мёртвых, а буду обречена вечно бродить по лесам, как и она… Пора мне, Сикис».
Внезапно я сообразил, что это такое её прощание, и даже не удивился, что она приплела какую-то примету. Она ведь и вправду видела тот скелет девочки, я уверен. Она никогда мне не врала.
А потом многие мне врали, и я им тоже. Да и сейчас вру. И настоящее имя моё мне кажется фальшивым, словно принадлежит другому человеку, который никогда не был мною. Мне бы хотелось, чтобы меня звали Викенинниш — «один в каноэ».
Воображаю себе картину: плыву я в каноэ по Серебряному озеру, а навстречу мне другое каноэ, а в нём — Дочь, родившаяся первой. Она мне улыбается — брови спокойные, морщинки на лбу разглажены — и говорит: «Это действительно прекрасное место для высадки».
Яна Шух
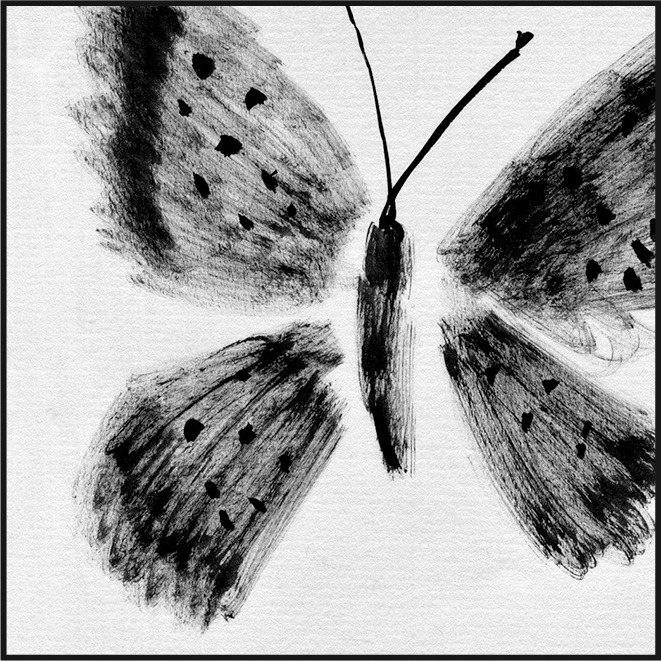
Александр Секацкий: «Очень короткое эссе Яны Шух решает достаточно странную и, можно сказать, трансцендентную для литературы задачу: выстроить пропорцию. И аргументы добавляются как гирьки на весах, чтобы зафиксировать итоговый результат:
«Набоков застыл в воздухе, раскачиваясь между временными эпохами, странами и континентами, между языками и реальностями. Оставшись ни там, ни тут. В точке баланса и гармонии».
Вроде бы мы ждём большего от текста, от литературы, от искусства письма. Но я был в Монтрё, это прекрасный город, и он точно таков, каким описан. Я видел памятник и признаю, что его загадка разгадана. Остаётся вывод, впрочем достаточно спорный: решённая микрозадача всё же лучше, чем проваленная сверхзадача».
Красиво, скучно, дорого…
Красиво, скучно, дорого. Так принято говорить о Швейцарии, брезгливо приподнимая бровь. Горы, коровы, туристы. Тишина. За последние 70 лет в стране мало что изменилось. Именно такой: провинциальной, умиротворённой, практичной увидели её Владимир и Вера Набоковы в 1960-ых, когда ураган «Лолита» порывами ветра славы занёс их в швейцарскую глушь. Почему же они, мечтавшие о французской Ривьере, остались именно в Монтрё?
Чета писателей, уставшая от назойливого внимания журналистов, в многочисленных интервью уверяла, что их решение обосноваться именно в Монтрё было вызвано ностальгией по детству и воспоминаниями о семейном отдыхе на берегу Лемана. Но любой, кто знал Набоковых близко, мог догадаться, что пара эмигрантов с 30-летним стажем, легко оставлявшая прошлое в прошлом, разумеется, чего-то недоговаривала.
Знал ли Владимир, видел ли третьим творческим глазом собственное будущее? Мог ли представить, что проведет последние 17 лет жизни и будет похоронен в Швейцарии? Ведь не случайно двумя важными швейцарцами в его жизни были франкоговорящая гувернантка из Лозанны и Гумберт Гумберт, скандально знаменитый рассказчик в «Лолите» и альтер эго писателя.
Принято верить, что у России особый путь. Какой, до сих пор остаётся загадкой. Право же на этот путь она в разных ипостасях отстаивает уже не первое столетие, и идеологическая борьба, ожесточённо развернувшаяся во время холодной войны, обозначила противоположный вектор развития Америки. Беженец Набоков неизбежно был притянут этим сильным полюсом, сулящим сытость, достаток и стабильность, бывшие в недостатке в Германии 41-го, откуда его семья бежала в преддверии Второй мировой. Но Америка, декларирующая мир и свободу, обманула ожидания писателя удушающей скупостью провинциальной академической жизни, культурным сухим пайком и отсутствием внимания к собственной персоне. Русско-американский писатель не боялся идти собственным путем. Сам Набоков, знаменитая аполитичность которого вызывала удивление и негодование, не мог найти страны лучше, чем профессионально нейтральной Швейцарии.
Не зря её называют островом в Европе за особое место на политической карте, за особые мнения и особый статус. В Швейцарии образовалась точка баланса весов, символизирующая иной возможный путь вне громких конфликтов, ожесточённых противоречий и войн. Страна сулит новоприбывшим спокойствие и процветание и в точности дарит обещанное. Пока две родины Набокова, Америка и Россия, выясняли отношения, пытаясь поделить зоны влияния в мире, Швейцария тихо выстраивала собственный мир, сделав приоритетом благополучие населения, во многом следуя кантовскому «категорическому императиву». Здесь уверены, что настоящая свобода — личности, традиций, вероисповедания, любви, творчества — рождается не в конфликте, но в нахождении единства. Ведь только разумная и свободная личность ценна сама по себе, а не масса, которой можно было бы легко управлять. В этом скрытая сила крошечной Швейцарии, недоступная гигантам, чьё внимание направлено вовне.
Кто-то сказал, что Монтрё хорош не сам по себе, а как декорация к личному счастью. Глядя на зеркальную поверхность Лемана, в глади которого отражаются будто застывший во времени силуэт городка, заснеженные вершины Альп и замок Шильон, сложно не ощутить внутреннее умиротворение. И не вспомнить
50 Глубина тихого омута
похожий пейзаж из рассказа Набокова «Облако, озеро, башня», так похожий на картинку из детской азбуки Бенуа.
В Швейцарии Набоков нашёл утраченный идеал беззаботного прошлого, волшебный остров тихого счастья, омываемый водами Женевского озера. Он, как и герой рассказа Василий Иванович, однажды подумает о комнате в отеле Мontreux Palace, где «из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья»: «Знаете, я сниму её на всю жизнь». Набоков исполнил заветную мечту своего героя, оставшись в удивительной стране, где человек и его достоинство — цель, а не средство. Так мнимая временность остановки Набоковых в Швейцарии обернулась увековеченным постоянством. Однако на то была и иная, более призёмленная причина. В письмах родным Вера, творческий партнер и неутомимый агент писателя, с приятным удивлением говорила о низких налогах, не идущих ни в какое сравнение с американскими.
Своим интеллектуальным домом Набоков называл Америку. Место, где добился признания, славы и богатства. Домом его памяти была царская Россия, исчезнувшая в водовороте истории. Пронзительно нежная, до боли идеальная, невозвратимая, как и само детство писателя. О Швейцарии, как о доме, Набоков не говорил никогда. За него это делала Вера, называя Монтрё одним из красивейших мест на Земле, где они оба впервые ощутили свою принадлежность и свободу быть собой. Как знает любой эмигрант, это трепетное чувство не обусловлено ни унаследованной национальностью, ни местом рождения по паспорту, ни приобретённым по оседлости гражданством.
В саду отеля Montreux Palace Набоков увековечен раскачивающимся на венском стуле. По замыслу скульптора, памятник должен был отобразить нелегкий выбор Набокова между писательством и лепидоптерологией. Но неизменно напрашивается совсем иное объяснение: Набоков застыл в воздухе, раскачиваясь между временными эпохами, странами и континентами, между языками и реальностями. Оставшись ни там, ни тут. В точке баланса и гармонии.
В Швейцарии, стране тихого личного счастья и низких налогов.
Ольга Крутилина
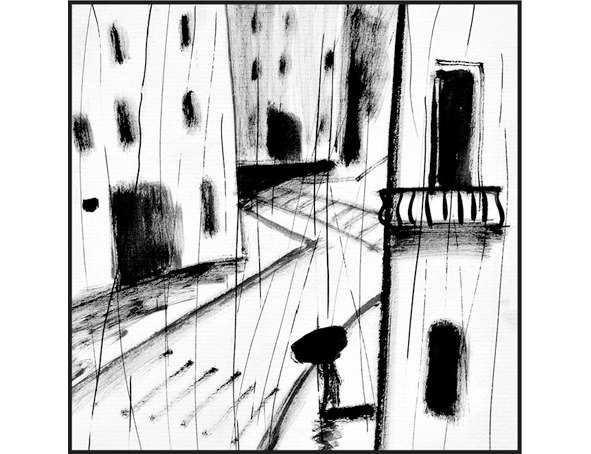
Александр Секацкий: «В стихотворениях Ольги Крутилиной присутствует удивительный размах, с позиций гегелевской эстетики это можно назвать мощью — сквозной амплитудой отождествлений, устремлённой к пределам возможного.
Еловая шишка станет воспоминаньем,
И шкура дорог покоробится,
Пламя развеет всё то, что мы так любили.
Во мне сохранится чертёж, указание, карта.
Фрагменты пейзажей смело перебиваются настроениями, воспоминаниями и заклинаниями: всем разнородным вкраплениям предстоит совпасть в единстве образа, ибо лишь такое совпадение достойно имени поэзии. Кажется, что в таком размашистом шаге прегрешение против инстанции вкуса неминуемо, но Ольга Крутилина уверена в своей поступи, и слова не подводят её…»
Город. Кто возлюбил этот город
Кто возлюбил этот город,
Ютящийся по углам,
Прячущийся в переулки,
Перерезанный рельсами старых трамваев?
Кто благословил
Его на существованье
В липовом мягком цветенье?
Впитывая выхлопные газы,
С основаньем, изрытым водопроводом,
Лечь у ног дворовой собакой?
Всё ещё держится память
Ветхой берёзой, изгибами винограда,
Брызгами васильков на клумбе,
Низкими огражденьями балконов,
Домом, где больше никто не помнит
Тех, кто здесь жил. Удерживаясь на волоске
Истории, только духом, уже не плотью
Он существует, но больше внутри, Чем снаружи.
Июльский дождь.
Дождь моросит, как будто уже сентябрь,
Сон в небесах, неосознанность в состязанье
Туч и летнего солнца, ещё горячим
Ветром взбиваются облака над нами,
Превращаясь в пломбир, молочные реки
Потекут, купая кусты жасмина,
Запоздавшего, белой пены белее
Опадают цветы. Бог тяжёлой дланью
В тёплых лужах взбивает густой напиток
Для бродячих собак. Угощайтесь вдоволь!
***
Кто осмелится написать:
Я там был, было так, я видел —
И свидетельствую перед людьми и Богом,
Что было так, и это — сущая правда?
Не смущаясь писаньями Дэвида Юма,
Утверждать: было пасмурно, день на убыль,
Полчетвертого, слишком поздно пускаться в дорогу,
Солнце в небе закрыли мягкие тучи
Так, что реальность окрасилась пастелью.
И светло-зелеными были тополя и клены,
И с хрустом отломленные ветки
Уже покорно подставляли каплям
Небесной влаги свои обнажённые суставы,
Свидетельствуя о прошедшей буре.
И всякая ямка набирала воду —
Про запас, насыщаясь, как морская губка,
И трава стояла в серебряных каплях,
Как в испарине. Цвели жасмин и липа.
Это было в июле, в самой его сердцевине.
***
Когда совершится: рванет,
Вскрывая нарывы плоти
Этого мира, когда распахнётся
Окно в бесконечность.
И только звёзды
С холодным любопытством
Будут смотреть, как слезает кожа
Осиновых перелесков, рязанских лугов,
Железной дороги над насыпью,
Усеянной иван-чаем,
Когда распадётся до атома
Воздух сосновый,
Еловая шишка станет воспоминаньем,
И шкура дорог покоробится,
Пламя развеет всё то, что мы так любили.
Во мне сохранится чертёж, указание, карта.
Мигрень
Колет иголкой в висок,
Восковая кукла сжалась от боли,
Но остриё проникает
Сквозь кожу,
Треснувшую апельсиновой коркой,
По восковым протокам
Бегущей крови
К самому нерву,
Нацелилась, бьёт, как жало
Осы, защищающей соты.
Юлия Пильц

Александр Секацкий: «Рассказы Юлии Пильц хороши своим темпом, такую скорость можно назвать оптимальной для того, чтобы рассказать историю или поделиться воспоминанием и уйти от подозрения, что ты просто хочешь написать рассказ. В сущности, именно это должно называться реализмом, и поэтому совершенно естественным выглядит ответ на вопрос, о чем же пишет Юлия Пильц: о жизни. Однако то и дело попадаются искорки точного психологизма, и они на редкость хороши:
«Однажды были танцы. Мы с Алёнкой сидели рядом в красивых платьях. Мальчики приглашали девочек. Он шёл к нам. У меня на тот момент не было ни малейшего сомнения в собственной неотразимости. Я пулей летела ему навстречу. На всех парах, буквально на крыльях любви. Но случился фэйл тысячелетия…»
Мне вдруг показалось, что любой искренний самоотчёт девочки-девушки-женщины должен включать в себя описание этого водораздела: «я ещё была уверена в своей полной неотразимости» и «у меня появились на этот счёт сомнения» — многое зависит от того, когда это произошло…»
Победитель по жизни
Фатальное везение в любви преследует меня с детского сада.
Был у нас такой Гришка. Кудрявый и весёлый. Умный, с широкой улыбкой и голливудскими зубами. Победитель по жизни. Мой папа говорил, что Гришка далеко пойдёт.
Гришка любил хулиганить, был круче всех на свете. Мы с ним первые в группе научились читать. Я приносила книжки со сказками, и мы читали на тихом часе. Больше никто не умел. Его даже отдали в школу с шести лет по причине этих самых выдающихся интеллектуальных способностей. Поэтому он пошёл на год раньше, чем я.
В общем, дико нравился мне Гришка. Но я была во «френдзоне». Ещё мы дружили с Алёнкой. Сказки она с нами не читала, но отличалась дивной красотой, звонким смехом и сиянием лучистых рыжих волос. Их с Гришкой родители дружили ещё до их рождения, кажется. Ну и Алёнка с Гришкой дружили всегда…
Однажды были танцы. Мы с Алёнкой сидели рядом в красивых платьях. Мальчики приглашали девочек. Он шёл к нам. У меня на тот момент не было ни малейшего сомнения в собственной неотразимости. Я пулей летела ему навстречу. На всех парах, буквально на крыльях любви. Но случился фэйл тысячелетия…
Ехидно улыбаясь, Гришка объявил: «Эй, я Алёну хотел пригласить!»
59
«Эй!»… Помню этот момент до сих пор. Так моя детская голова усвоила простую истину о том, что инициатива в любовных отношениях принадлежит уж точно не женщине.
У меня был тогда другой поклонник. Саша по фамилии Тыковка. В общем-то, фамилия говорит сама за себя. Гришка был Пуляковский. А Саша — Тыковка. Гришка победитель по жизни, а Саша тот, у кого ещё всё впереди…
Сашины чувства и восторги не знали границ, но вежливо отклонялись адресатом по причине отсутствия взаимности. Каждое утро Саша начинал с бесчисленных поцелуев. Его настойчивость и целеустремлённость я очень уважала. Не любила только сопли, которыми он чисто случайно обмазывал меня с головы до пят при всяком приближении. Меня «сдавали» раньше, а когда приходил Саша, я пряталась, надеясь, что любовной атаки можно избежать. Каждый день выбирала новое место — то за шкафом, то за шторкой. И он искал. А когда находил, тогда уж сопли вперемешку с излияниями любви текли на меня рекой. Забыть это я вряд ли смогу даже в старости.
Гришке нравилось моё платье. Синее с якорем. Мы сидели на подоконнике, и он сказал, что платье красивое. До сих пор храню его в шкафу. Почему-то в моём взрослом гардеробе куча платьев и блузок того самого глубокого синего цвета, где-то на границе с фиолетовым…
А я тогда обратила внимание на его синяки.
— Откуда? — говорю. — Папа ремня дал?
— Ага.
Не знаю, правду он сказал или так, для важности. Я, конечно, сделала большие глаза.
— Не плакал? — спрашиваю.
— Не.
— Крутооооой…
Это был обычный постсоветский детский сад самого начала 90-х. Оттуда на нас с фотографий сегодня смотрят серьёзные дети с грустными глазами. А Гришка смотрит с широкой улыбкой, голливудскими зубами и в красном комбинезоне.
В школы мы ходили разные. Но каждый год чётко друг к другу на дни рождения. У нас с Алёнкой в ноябре, у Гришки в декабре. Когда другие мальчики приносили мне цветы, эти цветы замерзали по дороге. Потому что в ноябре у нас зима. А Гришкины цветы никогда не замерзали. Потому что он победитель по жизни.
На этих днях рождения устраивались театральные представления. С кучей переодеваний в разные наряды — моя инициатива.
Один раз я даже придумала постановку сказки «Колобок» для детского сада, из которого мы уже выпустились. Раздала всем роли. Гришка долго отказывался выступать, но я его приболтала. Ему досталась роль Деда. Себя я назначила Колобком. Один маленький зритель даже заплакал, испугавшись то ли собственноручно нарисованной маски, то ли экспрессивной игры главного героя.
С возрастом Гришка становился всё более дерзким. Ему нравилось плеваться из лифта. Тогда были такие лифты в девятиэтажках — по типу железных клеток, не закрытые. Ему нравилось, что можно плеваться на каждом этаже и ехать непойманным дальше. У меня получалось уворачиваться.
На девять лет он подарил мне сказки братьев Гримм. Один раз даже заполнял анкету. Девочки тогда делали всякие анкеты с пикантными вопросами. Как сейчас помню, на вопрос «Что тебе в себе не нравится?» Гришка ответил корявым почерком: «Неаккуратность к вещам». Небрежный такой, крутооооой…
На дне рождения, когда мне исполнилось 15, его облепили все мои подружки. Самая красивая была Настя. Есть фотография, где Гришка смотрит на Настю и держит в своих голливудских зубах букет хризантем. Потом он даже её домой провожал.
После этого я Гришку не видела. Был октябрь, когда позвонила Алёнка и, рыдая в трубку, сообщила, что Гришка прыгнул со скалы. Как в той песне — вот я есть, и вот меня не стало. Он написал записку, в которой просил никого не винить. Просто на какие-то свои дерзкие вопросы Гришка не нашел тогда ответы.
На похоронах было много народу. Он сильно изменился внешне. Форма головы была какая-то квадратная, и цвет лица не очень.
Помню, его папа обычно ходил зимой без шапки. У нас в Сибири. Он тоже был крутой. На похоронах папа плакал. А мама нет. Она просто стояла вся белая и молчала.
Мой папа говорил, что Гришка далеко пойдёт. Он вспоминал об этом и тогда, когда накачивал меня валерьянкой и укладывал спать.
Уже 20 лет у меня на полке лежит книга — чёрная, в твёрдой обложке. Это сказки братьев Гримм. Иногда я открываю её и вижу там подпись, сделанную корявым детским почерком. И дату — 96-й год. Меня накрывает смиренное осознание того, что все мы здесь, в общем-то, ненадолго.
А Саша Тыковка недавно добавил меня в друзья в VK.
Ольга Велейко

Александр Секацкий: «Ольга Велейко в своём рассказе добивается редкого сочетания пронзительности и эпичности. Вот задан далекий инопланетный взгляд на уездный город М: среди люминисцентных огней, видимых даже из космоса, мелкая щепотка, завалившаяся куда-то за лес… Но где же ещё, как не здесь, в этой ничем не примечательной точке можно разглядеть суть слишком человеческого? И автор проводит своё расследование как раз там, где нужно, в стоячих водах тихого омута. Не хочется использовать стёртую метафору „богатый лексический пласт“ (хотя что есть, то есть), но точность речевых характеристик героев впечатляет и покоряет. И некая скрытая философская предпосылка рассказа достойна самого пристального внимания: трагические события жизни совсем не обязательно происходят тогда, когда враг сражается с врагом. Как раз в рамках слишком человеческого трагическая ситуация может возникнуть там, где одна мечта противостоит другой… Так встречаются две сокровенные мечты, моя и твоя. В наших мечтах, быть может, есть место друг для друга, но твоя мечта не обо мне, или моя не о тебе. И этого достаточно для трагедии, совсем не обязательно относиться друг к другу как враг к врагу».
Мечта
Как родился Виталька в уездном городе М***, так и рос курпяком бурьянистым, коренастым. Чтоб совсем от рук отбивался — того не сказать. Но если уж взойдёт на ум какая мечта, хоть бери дубину и вышибай. Ни крест, ни пест его не берёт, и гнёт Виталька своё не мытьём, так катаньем. За что и страдает.
Мать, конечно, жалко. Если подняться высоко к звёздам, можно увидеть большие города — сигнальные костры в тумане. Ближе они — клубки пламенных змиев-летунцов. Вокруг по дорогам разбросано их чародейское золото. Кто прикоснётся, не благословясь, того тщета с маетой закружат, жизнь потянут. Кругом змеиные гостинцы: тут — цепочками, там — горстями. А город М*** — мелкая щепотка, да и та завалилась промеж двух речек за лес. Мерцают обманные огоньки, простые, или галогеновые, или люминесцентные, а по вечерам вокруг садятся люди, хотят согреться. Не греет кровь — пьют водку. Не лучатся сердца — замещают подмигиванием экранов. Сидят пожилые, и те, кто помоложе, сидят без мыслей. Холодно. Виталькина мать так же сидит. Вяжет шерстяной носок, шевеля губами. И жалко её.
У матери варикоз под коленями и вечная гребёнка в волосах. А ещё — привычка зябнуть даже в жару, как зябнут древние старухи, когда сквозит через порог на тот свет. Потому и шерстина через палец, и стукотня спиц, и ползёт с них долгий носок. Мерклые материны губы без звука считают петли: двенадцать, тринадцать, четырнадцать…
Виталька матери своей теперь стыдится. Самому странно: раньше так не было, а нынешним маем стало. В летучий миг, когда сажали картошку и земля дышала теплом, травой и ожиданием, как стельная корова. Наклонилась мать над лункой, глянули изпод подола сизоватые подколенья — вены в них вздуты, будто насовали под кожу верёвок с узлами, — и всё изменилось. Изнутри живота поднялось раздражение сединами, морщинами, болями, телесными запахами. А Виталька оторвался и повис — ни свой, ни материн, ничей.
Обычное, в общем-то, дело — лопнула фантомная пуповина. Но Виталька этого не знал. Только затошнило его и захотелось отодвинуться, не касаться, не слышать, не видеть, нагрубить, заорать, сбежать за тридевять земель, где блестят большие города сквозь туман. Вспомнились отчего-то чужие матери с белыми молодыми шеями, золотом в ушах и важным качанием джинсовых задков. Тогда и пришёл стыд. Самый лютый, оттого что — за мать, оттого что — не такая. Стыд с полынной жалостью в сердцевине.
А она и не понимает — что с сыном стало? Бормочет обычное материнское (распустился-малец-дерзит-и-дерзит-управы-никакой-хучь-плачь), да как-то сонно, будто по обязанности. Отчим — тот, правда, отвесил пасынку «лещей» раза три, так мать поперёк кинулась: «Не трожь!» Отчим плюнул: «Ай, да провалитесь оба-два!» — на том воспитание и кончилось. Вот теперь сидит Виталька на насыпи и страдает. А мать не знает ничего. Сидит, поди, да без звука считает петли: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать… — вяжет, вяжет, вяжет…
А может и не вяжет, а уж бегает по дворам.
— Виталика моего не видели?
— Не, а чего такое?
— Пропа-ал!
— Да погоди, придёт ещё. Не поздно ж ещё.
— Времена-то какие!
Охо-хо, времена-то — такие… Лихие времена, и люди безумны, и дети их — степной горицвет на семи ветрах. Опасно щурятся экраны: в городе таком-то из школы вышел и домой не пришёл, в селе таком-то похитили и продали. Совратили и держат, изнасиловали и убили, расчленили и съели (оборони, Господи!). По тёмным улицам мечутся тёмные тени:
— Виталика не видели?
По парку за площадью ползают щупальца карманных фонариков. Хватают кого попало со скамеек, из-за деревьев, с фонтанного парапета, ощупывают, бросают — не он. Виталькин отчим допытывает знакомую молодёжь:
— Витальку нашего не видали?
— Не, а чё?
Но отчима Витальке не жалко. Мать ему только с мая почужела, а отчим, заскорузлый от соляры и мазута мужичок, своим отродясь не был — и пусть его.
Мать, коченея от предчувствий, уже к участковому стучит:
— Сын домой не вернулся!
— Сколько сыну?
— Тринадцать!
— Друзей обошли?
Нет Витальки у друзей. И в парке нет. А сидит он на рельсах у моста. Бабка Калюжиха так и сказала отчиму: видала, мол, проходил с мальцами вон туда, к мосту. С какими мальцами? Да кажись, Славка там был, внук сами-знаете-кого, а прочих Калюжиха не разглядела.
Славка — известный прощелыга. С малолетства баловень и к своим четырнадцати годкам мер и границ не ведает. Виталька, может, и не пришёл бы к нему, кабы не отчим. Ведь как человека просил: дай денег на «пи-эс-пи». А тот не понял:
— Чё? Какое такое «писпи»?
— Игра такая карманная.
— Карты, что ль?
— Да не карты. Электронная, типа маленького компьютера.
— Тьфу!
Отчим не одобрял такого-всякого. Сядут-де, уткнутся в свои компьютеры — вот уж дело от безделья! Отчим он — так себе. Ни то, ни сё. Вроде, не дурной, а дурак. Умный разглядел бы: тут не забава, а мечта. Виталька — к матери, не особо надеясь.
— И сколько ж стоит твоя игрушка?
— Шесть тыщ.
Шесть тысяч! Хос-спади Исусе, спаси нас грешных! Шесть тысяч — это четыре кубометра дров, а зима — не за горами. Или ботинки Витальке и отчиму да сапоги для матери. Или, напоследок, техусловия на газ, коли чуть добавить. Все соседи себе подвели, а мы всё печки топим — как в каменном веке, ей богу! Шесть тысяч — их заработай поди! А тут игрушка…
И сидит теперь Виталька в темноте, от страха и обиды ёрзая задом по щебёнке. Где-то вдали — большие города; мирно дремлют огненные змии, свернувшись клубком. Их колдовское золото блестит, манит путников. А Виталька, как родился в городе М***, так и помирать, видно, здесь будет. Вопрос-то не в «пи-эс-пи», а в крючках-зацепках, в опознавательных знаках. «Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет…» — вроде системы «свой-чужой» на самолётах. Нету? Сиди на насыпи.
Муторно Витальке. Ступило что-то поперёк горла, и не проглотить. Вздохнёшь поглубже, чтоб ушло, — не уходит. Сумеречная жизнь с четырёх сторон придвинулась, на Витальку не смотрит, ей дела нет, а Виталька своей чужестью, как слезами, тешится. Земная жизнь, природная, к человеку равнодушна, если вдуматься. Она — сама по себе, человек — сам по себе, будто и не сын ей, а так… нашему забору двоюродный плетень. С правого боку — тиховодье, речка с берегом целуется, а там — лещ по гречишнице ходит, чавкает. Хорошо слышно. О левую руку ничего не видно, хоть глаз коли, но известно, что дорога — молчаливая и одинокая в это время. Впереди — склон; сонно шевелится ракитник, где летом было гнездо камышовой курочки, а теперь оттуда за Виталькой смотрят. За спиной — тугие стрелы рельс, параллельные прямые, летят себе в одной плоскости, пока не пересекутся в бесконечно далёкой точке, где чугун распадается на железо и углерод, где всё теряет смыслы и имена, где звёзды сворачиваются в мышиную нору, где огненный змий-летунец дышит в лицо, и ничего не поделать, только кричать: ыыыыааааа!..
— Эй, — конвульсивно выдохнул Виталька. Тишина, и сердце бьётся. — Славич…
В ракитнике треснула ветка, что-то завозилось. Минута — и рядом колышутся два силуэта — худой и крепкий. ХУДОЙ. Ну чё тебе?
ВИТАЛЬКА. Славич…
ХУДОЙ. Чё? Мамку позвать, чтоб сиську дала? ВИТАЛЬКА. Давай не так… Я деньгами отдам… КРЕПЫШ. Да чё ты гонишь!
ХУДОЙ. Ага, типа у тебя есть. Чё тогда пришёл?
Мечталось Витальке, вот и пришёл. Думал, раз — и сорвёт банк. Грезились счастливые комбинации. Три «семёрки», как на «шевроле» Славкиного деда, из пятисот рублей — «штука», из «штуки» — две, из двух — четыре… Часть выигрыша припрятать, шесть — на «пи-эспи», и пусть отчим подавится тем, что у него под сарайной шифериной в пакетике заныкано… Знал Виталька, знал отчимов схрон потаённый. Кащеево злато — стопка свёрнутых зеленовато-голубеньких, с переливчатым медведем-гербом и блестящим окошком-конфеткой — мно-ого… Штук пятьдесят или, может, двадцать… Виталька не посчитал. Пока смотрел, в голове всё ворошилось и елозило: взять, взять, взять, — ах-х ты… бли-ин! Возьмёшь — что будет? Догадаются! Шесть возьмёшь — точно догадаются, и прибьёт отчим. А всеё возьмёшь — решат: воры были. И будто кто-то в ухо Витальке нашёптывал: «Бери всё, на тебя не подумают!»
Но в крайнюю минуту вспомнился чёрный ноготь отчима, и его венистая лапа на Виталькиной макушке, и как, дыша луком и выпитым, говорил он:
— Машину куплю к весне, на Ильмень поедем! Хочешь на Ильмень, брат?
— Угу, — не верил Виталька.
— Эх ты, фома, ядрить твою тудыть… Там знаешь какие жерехи? Во! А на зорьке соловьи поют…
Мать кривилась, затягивала туже крылья толстого пухового платка на плечах:
— Купишь… Козу облупишь. На какие шиши? Не глуми мальцу голову.
Отчим хмыкал и даже глаз не поворачивал к жене.
— Землю жрать буду, а в мае — на Ильмень!
У отчима — вишь, как оно! — тоже мечта. Ильмень-озеро, где на дне, говорят, летающая тарелка лежит, и Морской царь жерехами балует. Уже и пальцы тронулись, но завернул Виталька пакет, на место втиснул. Вынул из собственной копилки пятьсот рублей и пошёл туда, где знал — на деньги играют. Думал, раз — и сорвёт банк…
ХУДОЙ. Карточный долг, пацанчик, это вообще святое, понял? Долг чести, типа. Сам пришёл, сам играть сел, и чё теперь?
КРЕПЫШ. Славич, а чё — пускай топает! Завтра вся школа его зачморит, как бабу и трепло.
ХУДОЙ (после короткой паузы). Ну иди, девочка. ВИТАЛЬКА (мрачно). Ладно, я буду… ХУДОЙ. Чё ты будешь-то?! Чупа-чупс?!
Рельсы напряглись стальными нервами, и Виталька уловил, как сбоку крадётся горящий глаз…
КРЕПЫШ. Вон, товарняк идёт.
ХУДОЙ. Ну так чё? Ты нормальный пацан или завтра в школу в чулочках придёшь?
КРЕПЫШ (хмыкнув). В стрингах.
ВИТАЛЬКА (злобно). Нормальный.
ХУДОЙ. Давай тогда, чё… (удаляясь к зарослям под склоном). Головой к нему ложись, чтоб не зацепило.
Рельсы стонут, как живые. В ракитнике вспыхивает зелёный глазок — Виталькина расплата, долг чести. «Снимают», — думает Виталька, а язык становится наждачным. У Славки, внука сами-знаете-кого, своя мечта — «лайки» в соцсети, подтверждение статуса. Крутое муви ему — в тему. Виталька это понимает и не в обиде, но страшно… страшно! страшно! страшно… — Давай, баба!
…руки-ноги — не свои, и лицо сползло вниз, каменюгой на подбородке повисло, и разворот на колени долог, как гриппозный бред, судьба затягивает петли (двенадцать… тринадцать… четырнадцать…), а чугун вибрирует под пальцами и скользит — не преодолеть барьера, не преодолеть… — Давай, э!
…барьера, лишь изнутри толкать оцепеневшее тело, укладывать на шпалы среди чахлого осота, когда вселенная двинулась с места, понеслась сжиматься от краёв к распахнутому змиеву оку, тёмной массой притиснула Витальку к горизонту событий, где время умерло. Стоп-кадр…
Виталька: на путях, головой к товарняку, как учили.
Товарняк: в ста метрах, лучом прожектора — в Витальку, рукоятка крана — в положении экстренного торможения.
Ракитник: зрачок камеры погас, ветки подсвечены слева, с дороги.
Дорога: соседский «Урал» с коляской, горящая фара, мать на обочине, припав на одно колено, кто-то рядом, но не отчим.
Отчим: рука скрючилась на Виталькином загривке, в другой — фонарь, рот застыл в крике.
…а судьба, помедлив, распускает петли (четырнадцать… тринадцать… двенадцать…).
Пружина вселенной разжимается.
Время воскресает.
— Ты чё творишь, ядрить твою тудыть! — бабахает оно в Виталькино ухо луком и выпитым.
А потом дёргает вверх и в сторону. Засаднило шею, треснул ворот рубашки, заскрежетало по рельсам, завизжало с дороги, и мир окончательно вернулся на место.
В тот вечер Витальку пороли чем ни попадя и ругали «грёбаной сволочугой». Мать не бросалась поперёк и не кричала «Не трожь!». Мечта была поругана и стёрта в порошок.
Потянулись будни, серые и противные, как мышиный хвост. Копали картошку, смотрели телевизор, по истории — «два» за четверть, кололи дрова, смотрели телевизор, «три» по истории, «пара» по биологии, наряжали ёлку, смотрели телевизор, мать вязала носок, перебирали картошку, смотрели телевизор…
В конце мая поехали на Ильмень. Были восходы и закаты, пение лягушек и соловьёв, и вкусная картошка из костра, и уха с дымком, и славный спиннинг для Витальки («Во! „Шимано“, ядрить твою тудыть!»), но это ничего не изменило. По-прежнему большие города манят через туман, сверкает вдали колдовское золото, и блазнятся диковинные утехи, и хочется нагрубить, заорать, от всего, что рядом, отодвинуться. Как зеницу ока хранит Виталька новую мечту. Лелеет её, никому не рассказывает.
Будет июль.
Будет ему четырнадцать.
Будет паспорт.
И…
Светлана Галанинская

Александр Секацкий: «Три стихотворения Светланы Галанинской удивительны тем, что написаны в трёх совершенно различных „техниках“, что свидетельствует о нескольких разных вещах. О том, что автор свободно и легко выбирает себе точку отсчёта, легко входит в преднаходимую локальную поэтику не как в чужой монастырь со своим уставом, а уже зная устав и то, что им дозволено. Лирика, эпос, причет (и кто знает, что ещё) — Светлана может выбрать то, что совпадет с настроением, и читатель, последовав за её выбором, не пожалеет. Многие поэты дорожат всегда узнаваемым фирменным приёмом, но ясно, что Светлана Галанинская не из их числа, значит, она больше дорожит чем-то другим… Книга её стихов (не знаю, есть ли такая или ещё нет) легко представляется как гирлянда избранных приношений из различных миров. Легкокрылость ведь отнюдь не противоречит глубине тихого омута…»
Лето спрятанных бабочек и ледяных прудов
Лето спрятанных бабочек и ледяных прудов,
Кислых ягод, линялых небес и молчащих птиц.
Лето грязных тропинок, побитых дождём цветов,
Лето бледных коленок, невыгоревших ресниц.
Лето сорванных встреч, ненадёванных платьев, замёрзших рук,
Лето лютой бессонницы, сломанного зонта.
Начинает казаться, что мир завершает круг
И недолго осталось в аду ожидать Христа…
***
— Что ж ты, внучка моя, Снегурушка,
Так бледна лицом — ни кровиночки?
— Как румяной мне быть, милый дедушка?
В моих жилах лёд нерастаянный.
— Что ж ты, внучка моя, Снегурушка,
Так неласкова со мной, неприветлива?
— Как мне ласковой стать, милый дедушка?
Ты ж слепил меня из снега февральского.
— Что ж ты, внучка моя, Снегурушка,
Женихов и друзей всех отвадила?
— Как мне их привечать, милый дедушка?
У меня в груди прорубь чёрная.
— Что ж ты, внучка моя, Снегурушка,
Не смеёшься совсем, не радуешься?
— А над чем мне смеяться, милый дедушка?
Кроме смерти нет для меня пути.
— Что ж ты, внучка моя, Снегурушка,
В небеса глядишь, а не мне в глаза?
— А куда же мне смотреть, милый дедушка?
Я с небес пришла — в небеса уйду.
***
Моя девочка трудится птицей под куполом цирка
Для скучающих взрослых и сытых наследных младенцев.
На неё можно пальцем показывать, охать, дрочить или фыркать.
Из-под купола — все у подножья и некуда деться.
Она трижды в неделю летает — прожектор, фанфары.
На неё раскупают билеты заранее в кассах столицы.
Так приятно щекочутся нервы у малых и старых,
Когда кружится в танце под куполом девочка-птица.
Я смотрю на неё сквозь задёрнутый занавес, в тонкую щёлку.
Ничего кроме ужаса, холода, рваного пульса и дрожи.
Я боюсь, не удержатся в воздухе крылья из шёлка,
И молюсь, чтоб в полёте не лопнула старая лонжа.
Анна Гадалова

Александр Секацкий: «Анна Гадалова провела расследование на предмет того, кто и что действительно водится в тихом омуте, она потянула за ниточку и достаточно убедительно представила возможную жизненную мотивацию купца Солодовникова: за внешним антуражем „обыкновенного купеческого“ и вообще слишком человеческого и в самом деле могут скрываться „сюрпризы“, тут главное знать, что ищешь. Несмотря на то, что сама суть психологизма состоит в определении иновидимости (маскировки, выдавания одного за другое), тонкие и важные механизмы иновидимости по-настоящему ещё не исследованы. Так, мы помним замечательное высказывание Андрея Битова: „Если человек кажется хорошим, это ещё не значит, что он действительно таков, но если он даже кажется дерьмом, то он и есть дерьмо“. Звучит эффектно, но, пожалуй, слишком красиво, как раз глубины тихого омута могут нас убедить, что писатель в данном случае всё же не прав. И аргумент Анны Гадаловой заслуживает внимания».
РЕПОРТАЖ ИЗ ГЛУБИН
Если верить известной поговорке, в глубинах тихого омута чаще всего таится что-то нехорошее — людям свойственно бояться неизвестности. Поэтому тихони и молчуны вызывают недоверие — кто знает, что там у него на уме? А на уме может быть разное, и даже не всегда плохое. Просто не все любят публично высказывать мысли или эмоции, внутренний мир на то и внутренний, чтобы не пускать туда кого попало. Я сама из этих тихонь, которых модно называть интровертами, и могу с уверенностью сказать, что в тихом омуте водятся не только черти.
Там, в глубине, за семью замками и прочной защитной оболочкой, живут и ангелы, и демоны, и ещё целый бестиарий удивительных существ, кипят нешуточные страсти, случаются мелкие потасовки и целые битвы добра со злом. Результаты бурной подпольной деятельности часто становятся сюрпризом для окружающих. Приятным или нет — зависит от того, кто одержал верх в последнем сражении.
Вот, к примеру, история московского купца Гаврилы Гавриловича Солодовникова. Фигурой он был довольно противоречивой и таинственной. Всё, что известно о личной жизни, — большей частью слухи и домыслы, дневников он не вёл и особо ни с кем не откровенничал, поэтому многие поступки кажутся странными и непоследовательными.
Используя природное чутьё и жёсткую хватку, Солодовников сумел сколотить огромное состояние, но, даже получив официальный статус миллионера, продолжал исступленно экономить каждую копейку. О его скупости в Москве рассказывали легенды и анекдоты. Извозчики и официанты тихо ненавидели, а банщики в Сандунах, по словам Гиляровского, за спиной обзывали «храппаидолом» и другими нехорошими словами. Однако на благотворительность и искусство скряга Солодовников денег не жалел. Позавтракает вчерашней гречневой кашей, оставит в трактире жалкие полкопеечки на чай и пойдёт отдаст 200 тысяч рублей на строительство консерватории. Построил театр — самый большой в городе, кожно-венерологическую клинику — первую и единственную, был постоянным попечителем приюта для девочек-сирот. Да, всё не совсем бескорыстно — получил и орден, и дворянский титул, и звание почётного гражданина. Хотелось Гавриле Гавриловичу общественного признания и уважения. Но зачем же тогда он обманывал, мошенничал, жадничал — делал всё, чтобы вызвать к себе презрение и отвращение окружающих? Кажется, я поняла почему.
Мнение современников его не очень волновало, потому что в глубине тёмной, никем не понятой души, таился план, который стал главной целью и утешением этого странного человека. Солодовников мечтал о большой славе, он хотел, чтобы его имя вошло в историю и осталось там навсегда. Однажды в разговоре с одним из немногих приятелей, актёром Михаилом Лентовским, он даже почти проговорился: «Вот умру — Москва узнает, кто такой был Гаврила Гаврилович Солодовников! Вся империя обо мне заговорит». Но Лентовский в тот момент не придал значения этим словам. Он вспомнил их, когда в 1901 году Солодовников умер, и всё случилось так, как он сказал.
Почти всё своё огромное состояние, около 21 миллиона рублей, он распорядился пустить на благотворительность. В пересчёте на наши деньги это больше 10 миллиардов. Пётр, старший сын Гаврилы Гавриловича, не сразу сумел расстаться с отцовскими миллионами, но всё же к 1909 году на 2-й Мещанской улице были построены два больших дома для бедных, оборудованные по последнему слову техники. В домах было электричество и даже лифты! А также баня, прачечная, столовая, библиотеки и летний душ.
Тайный план сработал! Гаврила Гаврилович не только сумел удивить и обескуражить своих современников. Ему удалось оставить глубокий и отчётливый след в истории Москвы, в российской истории. В большой зал Московской консерватории ведёт парадная мраморная лестница, построенная на его деньги. Московский театр оперетты расположен в здании театра, построенного когда-то Солодовниковым. Кожно-венерологическая клиника, которой он отчего-то отказался дать своё имя, существует до сих пор, входит в состав медицинской академии им. Сеченова. Ну и дома для бедных, построенные на оставленные им миллионы, можно и сейчас увидеть на улице Гиляровского, бывшей 2-й Мещанской. Но это ещё не всё!
Одна интересная история, произошедшая в 1962 году во время расселения солодовниковских домов, очень подходит к рассуждению на тему о тихих омутах. Правда или нет — не знаю, но история отличная.
Однажды к местному участковому на приём пришла старушка-божий одуванчик и попросила помочь ей с организацией похорон сестры. Вроде бы ничего необычного, если бы не дата смерти. Оказалось, что сестра умерла ещё в 1943 году. Время было военное, и исчезновение одной из двух одиноких женщин никого не насторожило. А Мария Константиновна то ли паспорт не нашла, то ли не хотела расставаться с сестрой и её продуктовыми карточками, поэтому просто завернула умершую в простыню и оставила дома. Комната проветривалась хорошо, так что запаха никто не заметил. Тело постепенно мумифицировалось, и милая дама двадцать лет прожила в одной комнате с мумией сестры, хранившейся на антресолях. Соседи ничего не подозревали — старушка была тихая, милая, ни с кем не ругалась, гуляла себе с палочкой возле дома. Так бы всё шло и дальше, пока не настало время переезжать в новое жильё. Пришлось Марии Константиновне сделать «каминг аут». Был, конечно, скандал. Но в итоге старуху пожалели, да и статьи подходящей в уголовном кодексе не нашлось. Мумию отправили в музей судебной медицины, а история её появления вошла в учебники для будущих судмедэкспертов как редкий случай естественной мумификации. Разные судьбы, разные люди, разное время. Но в их историях есть кое-что общее.
Внешнее впечатление, как тёмные воды тихого омута, бывает обманчиво, и это может сбить с толку, зато внезапные открытия и неожиданные повороты делают жизнь интереснее, наполняют её новыми ощущениями, окрашивая серые будни в яркие тона.
Так что, как поётся в детской песенке, да здравствует сюрприз!
Татьяна Острейко

Александр Секацкий: «Язык Татьяны Острейко сразу же определяется как сочный и живописный. Смелые, точные метафоры, никаких уступительных наклонений:
«Из многих ресторанов доносился запах морепродуктов, и витрины были обращены к нему рыбьими головами. На льду лежали дары подводного сада, от которых он давно устал, и приглашали его к трапезе. Навстречу шли разные люди, но в каждом было что-то знакомое: красные выпученные глаза окуня, выдающаяся нижняя челюсть зубатки, хищные зубы хека, перекошенный рот палтуса, вздыбленный хохолок ерша. Будто кто-то взял и превратил улов в этих странных прохожих».
Но метафора не самоцель для автора, рассказ имеет внутреннюю глубину, настоящую изюминку: не сказанное важнее сказанного, и именно оно, то, о чём умалчивают слова, и производит главный эффект. Татьяна Острейко в этом тексте предстаёт как незаурядный мастер композиции».
РЫБА
Звало небо: глубина и бездна.
Так, чтобы уверенные руки на штурвале, ну, а если самолёт будет новенький, тогда одна профессионально и небрежно на джойстике бортового компьютера. Холодный взгляд голубых — а каких же ещё! — глаз — на приборы, сложные, никому не понятные, ему одному подвластные: только с ним говорят и ему всё рассказывают. Хорошо мечталось в юности! И особенно вот этот разбег и дикий, детский восторг: самолёт перед взлётом набирает скорость, разгоняется, с каждым мгновением несётся всё быстрее, вот-вот оторвётся от земли, и кажется, что лётчикам, этим прекрасным сумасшедшим, невдомёк, что такое страх.
Смотришь с земли ввысь, задрав голову, — видишь маленький крестик самолёта. В кабине пилот, а за спиной пилота люди, для которых на несколько часов полёта он и есть бог.
Выбрало море: глубина и бездна.
Старый рыболовный бот похож на притопленный в луже башмак. Назывался этот бот маломерным сейнером, и слово сейнер звучало романтически и красиво. Это на слух, а на деле обтрёпанные снасти, ржавое железо и холодный металлический запах рыбы. Далеко не ходил, так, прибрежный промысел на пару суток. Даже низкие сопки не всегда скрывались из виду. Поднял трал и оттуда, как из вспоротого брюха, улов устремляется на палубу, и уже скоро не видно настила. Рыба эта почти не бьётся, не серебрится, а вываливается мёртвым грузом, передавленная ещё в море под гнётом собственного веса. Из сети руками вынимал ту, что застряла в ячейках. Перед ним проплывали тысячи рыб. Муаровым узором ходила спина хищной уродливой зубатки, валунами перекатывалась тяжелая треска, выдающимся вверх острым плавником напоминала акулу пикша, ещё ловили маленькую лотошную мойву и сплющенную одностороннюю донную камбалу. И все эти древние твари с одинаковым абстрактным выражением смотрели в никуда слюдяными глазами.
Шкерил руками. Длинный разделочный нож заводил в отверстие клоаки и вёл остриё вдоль белёсого подбрюшья до самого подбородка. Будто молния на распахивающейся куртке, лезвие открывало всё, что было скрыто в сложносочинённой утробе. Первыми показывались из-под разреза промыто-розовые провода перекрученных кишок или охваченная капиллярами оранжевая икра, если попадалась самка. Аккуратно, стараясь не повредить опасно дремавший, как вулкан, желчный пузырь, вынимал мраморно-белую или желтоватую печень, проверял, не клубятся ли на ней бледные нематоды, удалял маленький комочек небьющегося сердца. Полукруглыми насечками обходил яркие фестончатые жабры. Следующий разрез, обнажавший хребет, шёл по спине, затем снималось филейное мясо, и рыбий остов отправлялся в отходы или на костную муку.
И даже во сне он доставал из бездонного северного моря свинцовые рыбьи туши, хладнокровные и бесстрастные.
Иногда весь промысел забирали с сейнера огромные заготовительные траулеры, настоящие плавучие заводы, оборудованные для полного цикла разделки, заморозки и хранения. Он знал, что там меньше работают руками, разве что измеряют, сортируют и потрошат: улов по жёлобу перетекает на мойку, маленькая проворная гильотинка отсекает рыбьи головы, и лента конвейера уносит обезглавленные туши дальше, на следующий этап. Что-то сдавали в порт сами, кое-что тут же заготавливали и оставляли себе. Ерша вялили, зубатку коптили, ещё хороши были из неё котлеты, треску охлаждали, домой везли филе.
Всё вроде бы и ничего, вот только жена переживала: нигде не бываем, никуда не ходим, дома разговоры про рыбу да про улов, и рыбой даже пахнет! Все подруги живут лучше, интереснее. Вот соседка недавно заходила. С тех пор как муж её, неплохой, кстати, механик, устроился на шельф, дела у них хорошо пошли. Соседка пахнула чем-то цветочным и сладким, не торопясь сняла новую шубу, выслушала от жены привычный набор жалоб, приосанилась и сказала: «А я вот не знаю даже, что и делать. Только к хорошей жизни привыкнешь, а она ещё лучше становится! Домик в Испании сейчас смотрим, и район такой, рядом с богатенькими!»
Жена кое-как утёрлась, а вечером он сам предложил, давай, может, съездим куда-нибудь, сменим обстановку, отдохнём, и ты отвлечёшься, и я хоть ненадолго забуду промысел и рейсы. Залезли в то, что отложили на пенсию, выбрали старый город гдето в Европе.
Перед отъездом жена захотела сделать причёску в разрекламированном салоне. Он ходил под окнами, видел её в кресле: на голове зиккурат из фольги, а лица не видно. В холле сидела девица с белыми волосами. Губы у неё были большие, надутые и лоснились, как живые опарыши. Вот уж на что никогда не ловил! Под мышкой у девицы дрожала и слезилась глазками собачонка.
— Это девочка! — жеманно произнесла девица, хотя он не спрашивал. Она наклонила голову, вытянула губы, и сучонка лизнула её в опарышевый рот.
Отвернулся. Из зала мастер вёл жену. Стрижка была остро модной, жене не шла и страшно её уродовала. Будто на него смотрела другая женщина, к которой бы он никогда не подошёл.
— Ну как? — жена, наверное, хотела увидеть на его лице новое, заинтересованное выражение.
— Вам очень, очень идёт! Посмотрите, как играет оттенок, какой переход цвета! Совсем другое дело, и форма ваша! Да ваш муж просто потерял дар речи от восхищения! — администратор за конторкой извивалась как угорь на сковородке.
Он кивнул, немой, как рыба, расплатился, и они вышли на улицу. Из порта тянуло костной мукой, и вскоре он совсем перестал различать эфир парикмахерской парфюмерии.
В отпуске, в старом городе тоже был порт, и они шли по набережной, разостланной по краю моря. Из многих ресторанов доносился запах морепродуктов, и витрины были обращены к нему рыбьими головами. На льду лежали дары подводного сада, от которых он давно устал, и приглашали его к трапезе. Навстречу шли разные люди, но в каждом было что-то знакомое: красные выпученные глаза окуня, выдающаяся нижняя челюсть зубатки, хищные зубы хека, перекошенный рот палтуса, вздыбленный хохолок ерша. Будто кто-то взял и превратил улов в этих странных прохожих. Под ногами, похожая на чешую, топорщилась булыжниками мощёная тысячу лет назад мостовая, а над головой алюминиевым рыбьим брюхом висело бесцветное небо. И ему казалось, что рыба повсюду, всё время рядом и никак его не отпустит.
В день отлёта по трапу поднимались в салон, и уже перед входом он повернул голову в сторону кабины и увидел молодого пилота: загорелые руки, лёгкое движение к приборам, угадываемая улыбка кому-то рядом. И когда самолёт пошёл на разгон, он, как всегда, представил себя командиром корабля, но впервые напрасно ждал забытого детского восторга, ликования от жути. А за миг до отрыва от земли подумал, что всё правильно, и он, немолодой, основательный и даже тучный, с дублёной шкурой и красными от холода и воды руками, и этот, почти юный и эфирный, — все находятся на своём месте.
Сергей Герасимович
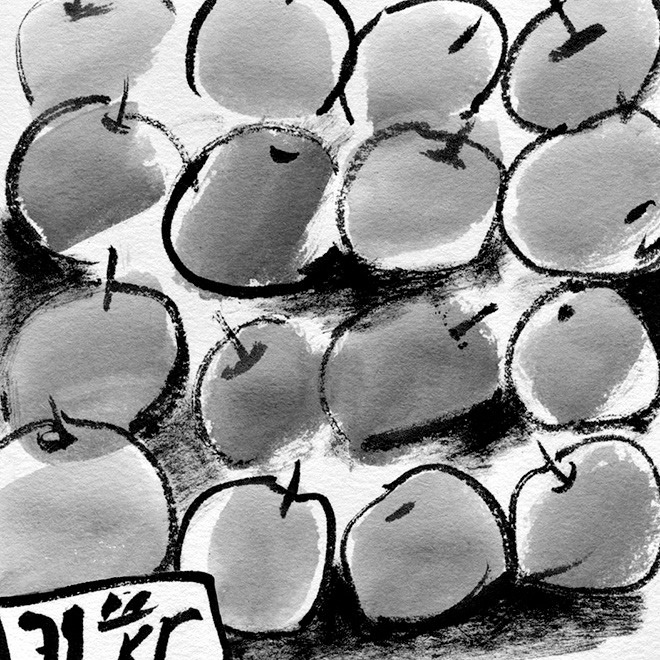
Александр Секацкий: «Если можно представить себе убаюкивающую поэзию (почему бы и нет?), то у Сергея Герасимовича дело обстоит с точностью до наоборот: каждое стихотворение работает на манер будильника. Ритмическая и лексическая прерывистость относятся здесь к числу выразительных средств, отсюда и образы, неожиданные, внезапные как зигзаги молний:
Зачем-то снится Помпея.
Но, кажется, я успею
прежде, чем выпадет пепел,
выдохнуть — «я люблю».
Хорошее поэтическое определение скорости, физике его не осилить. И ещё нельзя не отметить один момент: внутренняя декламация, заложенная в этих стихотворениях, сама просится наружу».
***
Яблоко не упало.
Крепко висит на ветке.
Ева его искала.
Может, ошиблась в веке.
Город виски сжимает.
«Как нам пройти к Эдему?»
Кто-то не понимает
даже вопрос и тему.
Ангел играет в прятки.
Крылья сложил тихонько.
Ангел приходит в святки
и живёт за иконкой.
***
Нет полутонов на Луне.
Сразу — либо свет, либо ночь.
Как на самой первой войне
тени, вспыхнув, уносятся прочь.
И неясен совсем исход,
и невидима павшая рать.
На скрижалях ни день, ни год.
И ни дать ничего, ни взять.
Тишина не проводит звук.
Первый взрыв был почти красив.
На ландшафте остался круг
неизвестных и тайных сил.
И Пилат снова кривит рот,
прочитав приговор суда.
Но безумный вопит народ,
чтобы Бог за них жизнь отдал.
***
В стену долбит перфоратор.
Ступор уходит в статор.
Я — неплохой оратор,
но почему-то молчу.
Зачем-то снится Помпея.
Но, кажется, я успею
прежде, чем выпадет пепел,
выдохнуть — «я люблю».
***
Давно не писал тебе писем…
Сатурн без кольца немыслим
и служит точкой опоры.
Время, теряя форму,
проходит сквозь щель Кассини
и образует иней.
Так выглядит вечность в покое:
кристалл формирует поле,
грядущую цепь событий,
причинные связи, нити
родства, квадратуру круга,
закат и морскую пену.
Короче — инсайт Вселенной.
Материал для Бога.
А также —
к Нему дорога.
Наталия Гилярова

Александр Секацкий: «Наталия Гилярова в своих небольших, но тщательно прописанных зарисовках рассказывает как о самых обычных, так и о весьма необычных действиях старушек. Старушки не только продают носки и букеты, но иногда и подпрыгивают. Иногда эти действия совмещаются, как в случае той бабушки, которая так удачно продала героине цветы! Автор как бы хочет сказать: вот какие разные повадки бывают у старушек. Подобный приём со времен Шкловского называется «остранением», и автор владеет им в полной мере. Но последний фрагмент текста решительно меняет общую картину: вдруг оказывается, что сокровенная мечта героини неожиданно связана с бытием бабушки-старушки:
«…посиживать на балконе, непременно именно на балконе, на втором этаже дачи, обязательно деревянненькой, и попивать чаёк, как купчиха Кустодиева, а не второпях… Лить его темной ароматной струйкой из носика чайника, вкушать благоухание и благодатный покой…»
И мы окончательно понимаем, что зарисовки преисполнены не только наблюдательности, но и сочувствия, даже симпатии. И это становится маленьким событием чтения, свидетельством хорошей прозы».
СТАРУШКИ
В 1997 году
По ночам на площади перед метро старуха сидела на ящике изпод апельсинов, и такой же ящик изображал у неё прилавок. Так девочки играют в магазин, а старухи — в девочек, или просто в жизнь. Она продавала с ночной надбавкой молоко, хлеб и яйца. Она притворялась, что занята всерьёз, — чтобы скрыть свою старость от себя — и от меня, прохожей.
Ночью, когда магазин закрывается, наступает их час. Старухи притворяются, что продать хлеб и сигареты — самое заветное их желание, дурача себя и меня. Я-то знаю, что все они полностью и безвозвратно истрачены. Может быть, одного из монстров на «Площади Революции» отлили из вещества жизни именно этой старухи. Виновато исследую её игрушечный прилавок.
— Чтой-то мизинчик мёрзнет, — жалуется старуха товарке, — чувство такое, как будто вылез наружу из тапочки и торчит.
Товарка вежливо заглядывает под прилавок.
— Так он у тебя вылез и торчит. На тапочке дырка, вот он и вылез. Поэтому ты мёрзнешь.
— Ах! — удивление и переполох.
Старуха лезет под ящик удостовериться. Она делает вид, что это ничего, что тапочки прохудились и её не любит никто на свете.
Она покорно и просто пропадает, как все те, кто пропал до неё, — ведь все умерли от недостатка любви. И мы, прохожие, однажды умрём по этой же причине. Я решаю купить молоко.
— А что ж у меня ухо-то замёрзло, и ветер в него дует? Что, есть ветер? — спрашивает старуха прозорливую товарку.
— Есть ветер. Холодно сегодня, осень. У тебя ухо из-под платка вылезло. Вот потому оно и мёрзнет, — утешает та.
Я покупаю молоко, старуха делает вид, что довольна жизнью. Муравей барахтается в капле воды — ему нужно доделать свои муравьиные дела — а что ему в них? У людей безотчётная жажда жизни художественно оформилась в надежду — абсурдный романтический фантастический сентиментальный мультик о будущем. Старуха потрачена уже вся, безнадёжно, неисправимо — но и она крутит свой мультик о будущем.
— Девочка, ты была в Лавке Жизни? — обращается ко мне. — Нет? А я думала: ты молодая, должна знать. Мне далё-ёко туда, — взгляд на тапочки, — а все говорят — Лавка Жизни открылась. Там всё продаётся полезное…
На следующий день этой старухи у метро не было, её магазин закрылся…
В 2002 году
В Москве случилась Неделя Высокой Моды, высокой и далёкой, заграничной… Обычная уличная толпа начала видоизменяться уже по пути от метро. Она приобретала черты небудничности, неуличности — праздничности, обрастая всё новыми нарядными и весёлыми людьми.
Под самой глыбой заветного здания оборванная старушка-пенсионерка протягивала руку, просила милостыню. Через двадцать шагов, под теми же стенами такая же (а может быть, та самая?) оборванная старушка ещё более жалобно просила лишний билет на Праздник.
А может быть, старушка и милостыню для того собирала — побывать на Празднике? Чего только она ни повидала за жизнь, а вот Версаче не видела. Кто знает, что нищей нужнее…
В 2007 году
Весна. В центре Москвы, на Шаболовке, по тротуару прыгает маленькая старушка. Старается снять берёзовые серёжки с нижней ветки дерева, чтобы показать внучке, которая ростом ещё меньше бабушки…
Прохожу ещё несколько шагов. Прыгает другая старушка. Она таким образом топчет металлические банки, чтобы сдать их в утиль.
В 2008 году и всегда
«Что-то ещё должно быть», — мысль-ощущение, открывающее простор над головой, строящее целую Вселенную над тесной Землёй. Недаром старушки собирают фарфоровые статуэтки.
Но какое это фарфоровое «что-то»? Здесь, в мире дольнем, оно может найтись, сотворённое из лучшего подручного материала? Или в мире горнем, из невероятных тамошних кирпичей? Ощущение не содержит топографических данных. Но оно придаёт смысл именно здешней жизни.
«Там, за горизонтом…» — ощущение далёкой, пусть недоступной пока, радости за горизонтом, и само по себе — радость, которой живут старушки. Фарфоровая пастушка тоже пока не ожила… но это не безнадёжно.
Старушка, знакомая с ощущением запредельности, несёт в себе тайну. И, храня свою радостную тайну, может быть по-настоящему прекрасна. Она сидит в длинном тёмном коридоре район ной поликлиники и улыбается мне, когда я занимаю за ней очередь. Её чудесное лицо освещает мрачный коридор.
В 2010 году
Старушка горбилась, нянча свои цветы на руках, с краю дорожки, по которой разряженная довольная публика, затоваренная добром, валила с увеселительных мероприятий ВВЦ… А её цветочки были переломаны, измяты… Видно, она подслеповата и не видит, что её товар не может пройти жёсткую конкуренцию… И так немощна, что не может вырастить и не в силах довезти до города цветы в нормальном приличном виде… Я приобрела её несчастный букетище.
Переломанные цветы ещё и подвяли — вот так долго никто на них не смотрел, не брал у старушки… Я расплатилась, как если бы это были свежайшие утренние лилии. И нахваливала товар, сколько хватало фантазии:
— Какие разноцветные! У вас, наверное, красивый сад?
Старушка прыгала от восторга, как маленький гномик, и заливисто смеялась.
— Иииии… Не совсем это сад! Так…
Она не обманула меня. Она — городская пенсионерка, у неё нет сада. Но она освоила трэш-цветоводство. «Трэш» — это мусор. «Трэш» — целое направление в искусстве, возникшее как антитеза лощёному и прилизанному Голливуду. Моя трэш-садовница взяла букет на помойке. А помойка, это, действительно, «не совсем сад».
Она противопоставила своё скромное дело бездушному лицу кичливо-праздничного города, всем грандиозным многомиллионным проектам, Газпрому и Сити, всем воротилам этого города. Старушка выдержала стиль!
Она, подпрыгивая и смеясь, обещала молиться за меня. И я поверила, что она смеётся не оттого, что меня одурачила, а от радости. Она радуется тому, что её товар конкурентоспособен. Она не просто играет в магазин. У неё настоящая торговля!
Какой же насыщенной перипетиями может быть жизнь цветка, по продолжительности почти бабочкина жизнь. Он мог появиться в блестящем танцующем букете какой-нибудь балерины, потом оказаться на помойке и, через трэш-старушку, наконец у меня в руках… А потом его, может быть, подберёт ещё кто-нибудь — ещё менее притязательный… По пути домой над моим вялым букетом смеялся благодушный сытый народ:
— Подарите цветочек!
Сюжет Андерсена, из его излюбленных: о скромных, но в душе прекрасных вещах, иголках, горошинах, кастрюлях, растениях, птицах и людях…
Но один, случайно выживший среди увядших цветков свежий бутон всё-таки распустился у меня в вазе. Этот один стоил многих. Он оказался прекрасной лилией, невиданной (мною). Я же не балерина, и не видать бы мне такой лилии никогда, если бы не та «треш» -старушка…
В 2017 году
Качусь в утреннем троллейбусе и ощущаю всеми своими фибрами и жабрами хрупкость, быстротечность, головокружительную мимолётность жизни. Мой троллейбус — медлительный транспорт, а для меня и он слишком стремителен.
Жизни свойственно убегать, как кофе. Нужно как-то приспособиться, организовать в соответствии с этим её свойством и свою побывку на земле. Подстроиться под ритм. Пролететь, как аквагорку, на едином дыхании, вызубрив правило безопасности: при движении «цепляться руками за края строго запрещено».
Понять и смириться с тем, что сегодня меня несёт троллейбус, а завтра это может быть поезд, марсоход, гироскутер или супер космический корабль, «скорая»… И непригодны для этой быстротечной побывки на Земле никакие палаты с лоджиями, а только ночлежки на пути…
А как же моя мечта? Моя дачная мечта Николая Ивановича Чимша-Гималайского? Тот крыжовник выращивал у Чехова на страничках, а я всю жизнь бессовестно мечтаю посиживать на балконе, непременно именно на балконе, на втором этаже дачи, обязательно деревянненькой, и попивать чаёк, как купчиха Кустодиева, а не второпях… Лить его тёмной ароматной струйкой из носика чайника, вкушать благоухание и благодатный покой…
Я никогда не стремилась ездить на гироскутере, как и летать на Марс. Но мечтала завести обычаи и традиции, и не торопиться, не замечать мимолётности жизни. Ежедневно на одной и той же остановке ждать один и тот же троллейбус, спокойно и основательно. Чередуются времена года, а я и троллейбус — неизменны, как фреска. Пребывание на свете, созерцание. Такого не бывает.
Вот я уже взобралась на какой-то балкон, и чай налит, и аромат его умопомрачительный слышен… Но нужно спешить, ноги закованы в гироскутер времени…
Успеть бы загуглить, где эта Лавка Жизни…
Екатерина Златорунская

Александр Секацкий: «Екатерина Златорунская избрала непростой жанр для своего вдумчивого эссе: изложить идею, рассказывая о кино. В этом жанре, впрочем, есть свои подлинные мастера, следить за их анализом фильмов порой бывает интереснее, чем смотреть сами фильмы. Екатерина, кажется, не ставит себе такой задачи, но её анализ следует признать содержательным и точным. Причём, если Славой Жижек в своем „Киногиде“ использует „киноматериал“ сугубо в своих концептуальных интересах, порой не принимая во внимание аутентичный замысел режиссёра, Златорунская очень внимательна к концепции каждого рассматриваемого фильма, что не мешает ей выстраивать линию собственного рассуждения. Говорит же она, фактически, о сущностном одиночестве миров, о том, что контакты (любой степени) сопровождаются аурой странности и случайности, а иногда ничего кроме странности и не содержат. Остается вопрос: справедливо ли это, если речь идёт о контактах между внутренними мирами людей?»
НЕБЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
Пролог: Времена года
Нет ничего более идиллического, чем картины, повествующие о человеческой жизни.
Так, в цикле «Времена года» Брейгеля месяцы, сомкнувшись над миром, словно дети водят вокруг него хоровод.
А в этом кругу: трудятся люди, стоят неподвижно в небе облака, летят жемчужными птицами над жёлтыми пшеничными полями, соломенными крышами, зной, жара; пастух гонит рыжих, чёрных, белых коров в оранжевых сумерках; вот снег уже валит, человек несёт хворост, возвращается с охоты, разводит костёр, ставит котёл, январь — самый холодный месяц в году; февраль, розовые сумерки; голубые сумерки марта, запах костра, реки; июль, коровы мычат, человек спит, идёт, смотрит на небо, на лицо любимой женщины, смотрит на ребёнка; дети шумливы, беспечны, веселы.
На эту жизнь кто-то взирает сверху, бесстрастно рассматривая с космической высоты каждую деталь человеческого быта. С того расстояния не видно лиц, только чёрные силуэты на белой земле. Птица парит над землёй, взлетает всё выше в бесконечную тишину, отделяющую одну форму жизни от другой.
За земным слоем облаков иные пейзажи.
Рождение
Самая первая сцена в фильме «Рождение» Джонатана Глейзера тоже почти брейгелевская по своему колориту и содержанию. Время года — зима.
Белый снег на дорожках Центрального парка, черные ветви деревьев, силуэт промелькнувшей собаки, фигура бегущего человека, его лицо наполовину закрыто капюшоном, овалы соединённых с собственными тенями мостов, алые пятна фонарей, сумрак, январь или февраль. Человек останавливается, встаёт на колени и падает в снег.
Можно представить, что предшествовало этой сцене.
Мы знаем, что бегущий по Центральному парку человек — профессор, у него есть жена Анна. За несколько часов до смерти он читал лекцию, возможно, в зале Публичной библиотеки между пересечениями c Пятой авеню 41 и 42 линии.
Шутил, что если его жена после смерти превратится в птицу, он будет жить с птицей. Ему, наверное, аплодировали, девушки улыбались, просили автограф.
В свои апартаменты на Пятой Авеню, 1136 он возвращался пешком. Затем принял ванну и вышел из дома на пробежку. Ещё снежно, ещё зима, ещё работает каток, и проплывают конькобежцы на плавнике лезвия, он переходит с шага на лёгкий бег, бежит всё быстрее и быстрее, ездят машины, шумят деревья, вороны садятся с одной ветки на другую, он падает, он умирает, он превращается в птицу / не превращается в птицу, возрождается в новом теле, возвращается на землю / никогда не вернётся на землю.
Ранней весной, десять лет спустя, когда Анна собирается замуж за другого человека, десятилетний мальчик Шон объявляет себя реинкарнацией её умершего мужа.
Человеческий быт с его ежедневными ритуалами, свадьбами, семейными праздниками, магазинами подарков умиротворяет, отупляет иглу смерти. В Нью-Йоркских апартаментах за Центральным парком, где мрамор на стенах, на полу дубовый паркет, кожаные диваны, лампы над кроватями и столами, кабинет, гостиная, спальни, — разыгрывается битва между двумя мирами — материальным земным существованием и внеземным бытием, и привычные пейзажи приобретают совершенно иное измерение.
Анна, желая воскресения умершего возлюбленного пусть даже в теле десятилетнего мальчика, всё время стремится выйти за пределы земной обители, и даже своего собственного тела. В сцене, где крупным планом на протяжении двух минут существует в кадре только её лицо, происходит обряд телепортации в бездну. Человеческая оболочка распадается на глазах зрителя, и за ней открывается хаос.
Анна ищет не доказательств перемещения души из одного тела в другое, а мучительно жаждет контакта с потусторонним, невозможного в пределах человеческого тела, человеческой жизни.
В одной из самых бестелесных сцен фильма, полностью голые, Анна и мальчик сидят напротив друг друга в ванной и смотрят не на тела, а сквозь, пытаясь за телами увидеть истинное обличие друг друга, и белое холодное пространство ванной комнаты обретает форму чистилища.
Попытка повторного соединения с умершим возлюбленным оборачивается поражением. Реинкарнация — пересадка души в новое тело, и оно, противясь чужеродному органу, отторгает её. Расстояние непреодолимо не только между двумя душами, но и между телом и душой.
Анна и Шон выбирают жизнь в границах эндемического существования. Анна возвращается к своему прежнему возлюбленному, Шон к обычной жизни школьника.
Теллурические пейзажи обретают всю свою полнокровность. Сверкает обновленное весеннее солнце, под ним наливается теплом песок. Шумит розово-пенный океан, и Анна, в розовом подвенечном платье, рыдает на его берегу под обрушивающимися на неё волнами, оплакивая свой неудачный побег на неизвестную территорию, признавая её иллюзорность под несокрушимыми доказательствами здешнего бытия.
Побудь в моей шкуре
Время года — осень. Немного дождливо, немного ветрено, немного холодно.
Инопланетное существо, — пол его не важен, это просто модель человека — облачённое для охоты в красивое женское тело, бесстрастно рассматривает земной мир через окно минивэна. Территория, отведенная ему для изучения, ограничена Глазго и его окрестностями. Повседневный ритуал человеческой жизни под бесстрастным взглядом пришельца обращается в хаос и распадается на фрагменты. Гранит, мрамор, бетон, кирпич — обмундирование города; автобусы, машины, дома, супермаркеты, люди — его внутренности одинаково не одушевлены, кожа — ткань человеческого тела, одежда — его фурнитура.
Цель пребывания его на земле определена одной функцией — поставкой пищи из человеческих костей, мяса и крови для некоей неназванной субстанции. Оно — механическая ловушка, завлекающая одиноких мужчин в глубокую чёрную пустоту, ничто. Но пребывание в чужом теле затягивает его самого в ловушку человеческого мира. Очеловечение начинается с извлечения существа наружу, сначала из металлической брони машины, затем из камуфляжа одежды, и внешняя незащищённость тела вынуждает к взаимосвязи.
Экзистенция под кожей пробуждает осознание, что и в других телах — под кожей, мясом и скелетом — находится кто-то живой, и как потребность нового знания у особи возникает желание почувствовать то же, что и человек. Телесная оболочка перестает быть только капсулой, и постепенно собственная плоть особи прирастает к ней, вступает в странный, почти любовный контакт. Изменение отношения к телу похоже на перерождение. Но различие инопланетного и человеческого организмов не предполагает симбиоза, и одно тело изгоняет другое. Утрата земного облика, обеспечивающего иммунологическую защиту от человеческой среды, сродни разрыву младенца с плацентой. Только здесь рождение из тела становится актом самоуничтожения. Последние секунды на земле инопланетное существо рассматривает свою поврежденную человеческую оболочку, и это прощание сходно с оплакиванием душой, изгнанной из обители тела.
Операция «Человек»
Опыт жизни инопланетного существа под видом человека повторяет Харри. Мыслящий Океан извлёк образ когда-то жившей на земле женщины, как файл с записанным изображением, из памяти её мужа — Криса, и воссоздал её точную копию из своей материи в стремлении через внешнее подобие внедрённого агента установить контакт. Но желаемый Океаном диалог с человеком ограничился только внешним наблюдением.
Желание Криса вернуть мёртвую возлюбленную на землю и прожить с ней прерванную жизнь подобно мифу об Орфее и Эвридике. Но в этой истории миф приобретает иную интерпретацию: для Хари не невозможно само возращение на землю, а невозможно стать человеком.
Посланник
Харри, созданная по образу человека, лишена ареала обитания на его территории. В киноверсии «Соляриса» она переживает опыт визуального соприкосновения с земной жизнью через картины Брейгеля. Её взгляд заворожённо останавливается на зимнем пейзаже. Слияние наготы снега и неба придаёт земному пространству космическую форму.
Брейгель, писавший аллегорический искривлённый искалеченный мир, где падшие ангелы принимали форму хтонических чудовищ, а люди единовременно предавались земным порокам, взял зеркало и отразил подлинное: бесконечную череду людей и их занятий, пустоты пространства, реки, покрытые льдом, обнажённые реки.
Над мирными пейзажами Брейгеля повисает тоска инопланетного разума, жаждущего контакта, но способного только на созерцание.
Каждый из миров — непознаваемые бездны друг для друга, зашифрованные законами своего создания, в их недрах посланник обречён на несуществование.
Максим Глотов

Александр Секацкий: «Два стихотворения, каждое из них передаёт особый спектр чувств. Первое напоминает о Есенине, похоже на мужской романс, на подзабытый фольклорный жанр страданий. Но за счёт нюансов, за счет небольших внутренних смещений, итоговый образ выстраивается как нужно, что свидетельствует о поэте и поэзии. Второе стихотворение — импрессионистский этюд с кульминацией двух последних строчек. И обещание будущего, надежда на то, что голос поэта не затеряется».
***
Отсырела в домах паутина,
Приведенья ушли на покой,
И знакомая эта картина,
Как всегда, переходит в запой.
Третий день шелестящей картечью
Летний дождь заметает следы,
И деяния ног человечьих
Исчезают под толщей воды.
Кружевное, как шаль, рукоделье
Протянулось к окрестным лесам,
И от пьяного вспухнув безделья
Плесневею и плачу я сам.
Никогда нам не слиться с тобою,
Мой последний, не встреченный друг.
Под зелёной болотной звездою
Нас подкосит смертельный недуг.
Средь раскосых, надуманных прядей
Утекает и наша вода,
И кружатся, беснуются сзади
Холода, холода, холода…
Всё размыто, забыто, залито —
Копья улиц, палитры домов.
Скоро утлое наше корыто
Захлебнётся водой до краёв.
Но ковчега не видно покуда…
Смотрит голубь, как льёт из ведра.
Одиночество требует чуда,
В жизни — брешь, и в бюджете — дыра.
Летний дождь — очарованный странник,
То пройдет, то вернётся опять,
Словно ищет в потёмках кого-то
И не может никак отыскать…
***
Описание есть лучший способ литературы.
Тёплый хлеб согревал мне руки, и шелест листьев
Доносился со всех сторон. Фигуры
Продвигались молча, усиленно пряча лица
В темноту, курили, плевали в лужи.
Я шагал, имея тридцать копеек сдачи,
Полагая, что этот хлеб — он кому-то нужен,
Как, возможно, и я, и что это, видать, удача.
Оплывал ноябрь, и, казалось, не будет больно,
Даже если всё окончательно прояснится.
Тьма сгущалась, непрерывно меняя формы,
И кленовые листья неслись, как последние колесницы…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
