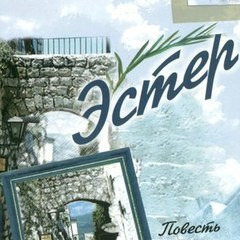Бесплатный фрагмент - Эстер
Повесть о раскрытии еврейской души
В повести Эстер Кей КНИГА ЭСТЕР сделана попытка — быть может, первая в мировой истории — рассказать о жизни любавического хасида, точнее, девушки, ставшей таким хасидом. Ставшей или только вступившей на путь становления.
Подведем общий итог этих шестидесяти трех глав.
…19 лет жизни, большая часть которых прошла в советской России времен застоя. Открытие вечных ценностей Торы, тем более впечатляющее, что происходит оно на фоне рушащихся идеалов коммунизма. Драматизм взаимоотношений внутри семьи, где русское влияние гораздо сильнее, чем еврейское. Любовь студентки МГУ к молодому израильскому раввину. Приезд в Израиль и замужество… Таков, в общих чертах, сюжет, его эмоциональная составляющая. А философская направленность книги — это идея скорого прихода Мошиаха, со всеми особенностями противоречивой эпохи последнего поколения изгнания и первого поколения освобождения.
Профессор Герман Брановер

О раскрытии еврейской души
Повесть веселая и Б-говдохновенная
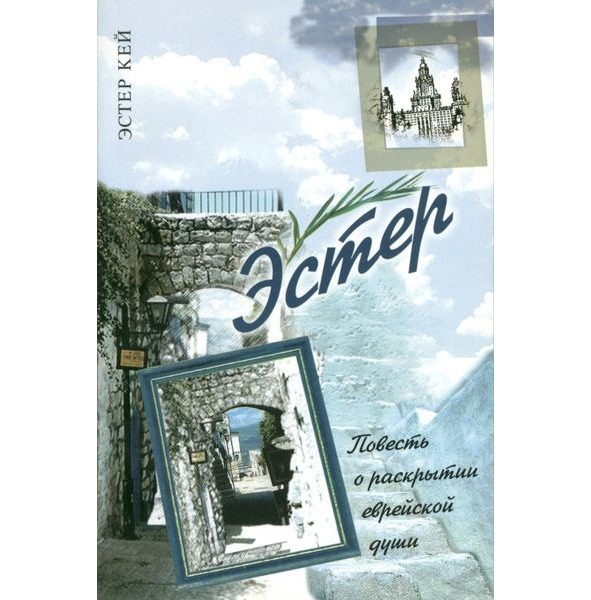
Написанная в оригинале на благозвучном русском языке и адресованная в первую очередь членам моей семьи как знак благодарности за понимание всего того невообразимого, восхитительного и удивительного, что произошло со мной… Благодарность за понимание, однако, не исключает возможности это понимание углубить и расширить, чему и будет, надеюсь, способствовать эта книга.
Честно говоря, я еще не решила, в какой тональности я хочу ее выдержать. Я — человек религиозный, но книга должна быть интересна всем, и поэтому мне следует спрятать свои убеждения, скрыть их таким образом, чтобы повествование шло естественно и не тенденциозно. Получится ли это у меня? Надеюсь. А кроме того, мне самой неясно, будет книга автобиографической или вымышленной. Будет ли главная героиня, Эстер, во всем похожа на меня? И насколько будет соответствовать моему я то дневниково-авторское я, которым я изначально воспользуюсь как литературным приемом? Я не знаю. Потому что это предисловие составлялось, когда книга еще не была написана. То есть она была вся во мне, как зародыш, но ее еще надо было ментально и психологически выносить и произвести на свет… При сотворении мира Б-г сказал: Давайте-ка сделаем человека! Почему во множественном числе — сделаем, а не сделаю? Трактуют мудрецы: сказал Всевышний самому же человеку, что они будут вместе заниматься сотворением человека. И так по сей день вместе этого человека и творят.
Вот я и говорю: давайте-ка сотворим книгу.
Как вы считаете, делить ли мне ее на главы?
…Да, вероятно. Ведь в этом мире есть небо и земля, есть направления, измерения, пространство и время. Все подразделено на категории. Раз Всевышний сотворил все именно так, то и нам подобает быть упорядоченными. Бесконечность будет очень удивлена, но мы сумеем проявить ее в рамках ограниченного.
1. Тумбочка с богами
…И бьющий ножками младенец-мозг?
С. Фитцжеральд
ДЕТСТВО ПРОХОДИЛО в обстановке духовно скудной.
Родители работали, строили коммунизм; брат Вова, бедолага, попадал в истории и кое-как из них выпутывался; сестра Валя, целеустремленная девушка, прилежно училась в университете и встречалась с хорошим парнем.
В моем детском сознании запечатлевались, однако, не эти общие объективные факты, а единичные — зримые и ощутимые — моменты. Мама, ее мягкий халат, ее колыбельные напевы, тепло ее рук. Вкусные пельмешки, супчик и картошечка, которые она готовит… Ощущение ее беззащитности — она очень добрая, и поэтому в школе, где она работает, ее часто перегружают всякими поручениями, дополнительными часами, а она вечно соглашается, тратит слишком много сил… Это я поняла, будучи еще совсем маленькой.
Папа — его походы со мной вместе на рыбалку ранним-преранним утром… За лиманом погромыхивают поезда и электрички, а мы сидим, бывало, в резиновой лодке и ждем, закинув приманку и примостив поудобнее удочки — когда клюнет? Папа — очень умный, надежный, с твердым характером. Особенно я ценю в нем то, что он мне любую задачку по математике умеет и решить, и разъяснить. Но только вспыльчивый он иногда. Мне кажется, слишком… Мой 22-летний брат, Вовка, — славный, и жалко его потому, что он водится с дурной компанией и вечно кем-то побит, обманут, обобран, споен. Ужасно жалко. И еще более жалко, что папа с мамой никак не могут договориться между собой, каким образом его воспитывать. Вот я бы смогла его правильно воспитать, так я чувствовала. Ведь я сумела бы быть строже, чем мама, и мягче, чем папа. Я-то бы нашла золотую середину!
Но кто меня захочет слушать? Мне всего 9 лет… …В моем внутреннем мире присутствуют эти, самые близкие, люди, а также — наряду с людьми — боги.
Боги живут в тумбочке, которую я отвела специально под храм.
Идея завести себе домашних богов появилась у меня в результате чтения книг по греческой мифологии. Мой восприимчивый ум легко подружился с Зевсом, Гермесом и Деметрой. А изображения этих дружественных богов, помещенные в вышеупомянутую тумбочку, были плодами творческого использования типичных советских статуэток боксеров и балерин. Камешки, бусинки, блестяшки нацеплялись на статуэтку и превращали боксера в громовержца, а балерину — в богиню любви. Перед статуей брызгались духи — благовонияи скапливались мелкие монетки — пожертвования. У богов можно было попросить всякие незамысловатые житейские вещи:
— чтобы в школе не отругали за опоздание (в этом мог помочь дипломатичный и быстроногий Гермес)
— чтобы мальчика по имени Игорь посадили со мной за одну парту (на это годилась Афродита)
— чтобы сдать на отлично экзамен по музыке (это входило в круг полномочий Орфея) … Родители мои согласились именовать тумбочку храмом, видя в этом наивном б-гоискательстве нечто трогательное и достойное уважения, в то время как сестра, конечно, предпочла бы забрать тумбочку в свою комнату и использовать ее по прямому назначению, для хранения белья. Ну, а брат Вова, несмотря на то, что деньги на выпивку ему были иногда нужны позарез, храмовую мелочь не трогал — уважал храм… Мое отношение к богам было двойственным. С одной стороны, я ждала от них помощи, с другой стороны, если они меня подводили и мою просьбу не выполняли, то я обижалась на них, забирала у них копеек двадцать и покупала себе мороженое в качестве компенсации.
Взаимоотношения с богами, при всей их ненадежности, были гораздо интереснее, чем занятия в школе или поручения по линии октябрятского движения — сбор макулатуры, расчистка школьной территории, зубрежка стихов к пролетарским праздникам, например, таких, как вот это:
Страны и всей планеты новосел,
Неистовый в мечте и дерзновенье,
Ты с партией сражайся, комсомол,
И вместе с ней выигрывай сражения…
…В моей жизни были также Григ, Чайковский, Бетховен… Звучание музыки, глубина и податливость клавиш, погружение в бессловесную гармонию… Ты неважно играешь, но хорошо чувствуешь, — говорила моя учительница. А иногда она воздерживалась от каких бы то ни было замечаний и только следила за моей игрой, переворачивая, когда нужно, листы нот, чтобы мне не пришлось делать это самой. Это ее безмолвное содействие для меня — лучше всяких похвал. После такого удачного урока я решаю, что теперь буду заниматься изо всех сил.
И действительно, несколько последующих дней подолгу сижу дома за пианино. Однако, если результаты не быстры и не блестящи, то вспышка энтузиазма может смениться неделями равнодушия. Когда же доходит до экзамена по музыке, мои боги получают от меня дары — монеты, ракушки… И соната исполняется мною почти безупречно, к восхищению сидящих в зале родителей… Сказал Данте: Земную жизнь пройдя до половины, в сумрачном лесу я очутился. А я? До чего я прошла свою жизнь? Наверное, даже не до четверти. Но я нередко чувствую себя так, будто оказалась в сумрачном лесу. Кто я? Никто. Вот Павлик Морозов, будучи в таком подростковом возрасте, как я, уже совершил свой великий подвиг. Мария Стюарт в пятнадцать лет стала королевой, Эдит Пиаф — певицей на бульварах… Володя Ульянов с ранней юности ненавидел царизм. А я — так себе, посредственность. На бульварах не пою, царизм не ненавижу, в революциях не участвую, и корона мне не светит. Живу себе, и все. Для чего живу, спрашивается?
2. Моя физическая оболочка
…Зеркало отражает девочку-подростка с белокурыми кудряшками, обрамляющими лицо, которое может быть разным, — то красивым, то нет. Сейчас, в момент напряженного и пытливого рассматривания самой себя, оно невыразительно и глупо. Когда человек занят мыслями о собственной внешности, он перестает быть оживленным и красивым.
Глядя на себя в зеркало, я всегда видела там какую-то недовольную, критическую гримасу. Улыбаться нарочно тоже не получалось. Так я и не поняла, какова я собой… В моем классе красивой девочкой считалась высокая, физически развитая и, как выражались учительницы, ухоженная Семдянкина с аккуратной косой. Я популярностью не пользовалась, хотя и острила в компании сверстников, и выскакивала с готовыми ответами на уроках, и получала хорошие оценки. Мальчиков я решительно не интересовала, а девочек, наверное, отпугивала острым языком и слишком правильной, от мамы воспринятой, речью. Мама вела в моем классе русский язык и литературу, что также создавало дистанцию между другими учениками и мною, учительской дочкой.
Меня же мальчики интересовали, без сомнения. Фильмы и французские романы рано вразумили меня относительно роковых страстей, которым я была готова предаться с большим энтузиазмом. Однако ничего похожего на роковые страсти в жизни пока что не происходило. Ну, правда, один раз погнался за мной одноклассник со снежком — вот я и подумала, что он ко мне неравнодушен… Действительно, оказалось, что он был ко мне неравнодушен: моя мама поставила ему в тот день двойку по литературе, и он решил за это намылить снегом учительскую дочку… Мне оставалось только пожелать, чтобы мама почаще ставила ему двойки, так как другого способа привлечь его внимание не представлялось… В нашем классе было два красивых мальчика: один армянин, Симонян, а другой еврей, Кантор. Правда, роста они были маленького, что сразу заносило их в категорию мелких, а херувимская гармония их черноглазых лиц вызывала у одноклассников только насмешки. Меня удивляло, что Симоняну все-таки прощали то, чего Кантору никак простить не могли. По-русски говорил и тот, и другой с акцентом, а все подколки доставались именно Кантору. Последний был очень умненьким, сметливым, решал задачки по математике первым — и, как мне казалось, сверстникам было за что его уважать! У Симоняна были свои сильные стороны: он коллекционировал всякую всячину, раздаривал иногда календарики, машинки и подкупал этим физически сильных ребят, чтобы заступались за него в случае чего… А Кантор не умел ничем восполнить свои недостатки — щуплость, нерусскую смазливость, картавость, чрезмерную талантливость… Вот и был бит нередко. А однажды, когда вихрастый крепыш Ковтун зло сунул ему кулаком в лицо, я не удержалась, схватила свой портфель и из чувства справедливости ударила им по ковтунской голове. Тот развернулся и как даст мне кулаком в живот! Часа два после этого отходила, даже дыхание сперло… А Кантор вроде бы даже и не понял, что это я его, мелкого, защищала!
Однако к любви это не имеет ни малейшего отношения. Мне же все время чудилось, что вот-вот войдет в мою жизнь нечто настоящее, взрослое… Иной раз в этом полудетском возрасте как просквозит, бывало, какой-то волшебный ветер странствий, как потянет куда-то смутное предчувствие любви — полдня можешь просидеть на одном месте, мечтая о несбыточных далях, о фиалках, которые будут тебе подарены, о своей собственной красоте, которая в один прекрасный вечер чудесным образом расцветет, о нежнейших взглядах, которыми обменяешься с неким таинственным незнакомцем… И думаешь — до чего ж противно быть девятилетней девчонкой! Вот было бы мне шестнадцать лет! Ах, что это будет за счастье, что за восторг, сплошное кружение вальса! … В конце июня у 10-х классов бывает так называемый выпускной вечер, вечер прощания со школой. Мама, работавшая в десятых классах, каждый год брала меня с собой на это мероприятие.
На торжественной части вечера ничего особенного не происходило, только выдавались аттестаты зрелости и говорились прочувствованные речи.
…Зато потом, в полночь, все выпускники и учителя едут к Дону и садятся в большущий теплоход, гремящий музыкой и светящийся огнями. Тут-то мне раздолье! Сколько угодно могу наблюдать за медленными танцами подвыпивших выпускников и выпускниц, которые просто шалеют от чувства взрослости и свободы. Учителя им не мешают, они заняты тортом и шампанским в салоне теплохода, далеко от шумной, превращенной в танцплощадку палубы.
Я уподобляюсь маленькому чертику: подглядываю за выражениями лиц танцующих, подслушиваю по темным углам теплохода разговоры, поцелуи и пощечины, пугаю обнимающиеся парочки индейским боевым кличем, а под утро, когда над Доном розовеет восход, засыпаю у мамы на коленях под музыку томительно-нежную, наверняка итальянскую… Когда же я буду взрослой, красивой десятиклассницей? — проносятся у меня мысли, — и кто пригласит меня на танец на выпускном вечере?
3. Возраст Вселенной
— Мам, почему сейчас 1983 год? — спрашиваю я как-то вечером занятую проверкой тетрадей маму. — Ну, вернее, не почему, а от чего, от какого счета?
Мама такая уставшая, что даже не удивляется вопросу. Ответа у нее, видно, нет.
А я уверена, что до истины можно докопаться. У кого бы спросить? Ведь люди научились отсчитывать время много, много лет назад. А раз у них было определенное летосчисление, то почему его вдруг заменили новым? Может быть, из-за какой-нибудь революции? До нашей эры и После нашей эры — это звучит вполне революционно… Но, с другой стороны, что может быть грандиознее, чем наша революция — Великая Октябрьская? Однако, когда она свершилась, летосчисление осталось тем же… Что же такое знаменательное произошло в истории мира, что сумело ее всю, эту историю, расколоть надвое: на периоды до нашей эры и нашей эры? И, стало быть, в чем заключается понятие новая эра?
…Отец уезжает в село Богатое, чтобы помочь своим стареньким родителям перебраться на новое жилье — к нам, в Ростов. Мы приготовили для них новый кирпичный дом, построенный посреди нашего дачного участка.
Раньше мы лишь навещали дедушку с бабушкой в селе Богатом, а теперь они будут жить в одном с нами городе, в Ростове. Здорово! Отец гордится домом, который сам для них выстроил, и особенно печами, вделанными в стены с таким расчетом, чтобы теплый воздух обогревал и полы жилища.
От нашей квартиры до дачи минут двадцать ходу. Я рада, что буду теперь ездить на велосипеде к дедушке с бабушкой. С ними так интересно!
И вот они переехали, и дом в саду обрел жилой запах, который складывался из печного дымка, аромата блинов в кухне, специфического запаха кож (дедушка их обрабатывал дублением и продавал на базаре) и того нематериального, но ощутимого мною духа, который я вслед за Пушкиным и Толстым определяла как русский дух. Был он и в иконах, и в псалтыре, и в прялке у окна, где кошка Мурка вечно терлась о бабушкины ноги, и в бабушкиных речах о Б-ге, и в дедушкиных насмешках над попами и монахами.
Спросить бабушку о том, почему и от чего сейчас у нас 1983 год, я не решалась — слишком уж очевидно было, что для нее время — категория не рационалистическая, а ветхозаветная, религиозная. А годы нашего века были для нее скорее ассоциациями, чем датами. Например, 1918 — это когда дедушку на войну забрали, 1929 — это когда раскулачивали, и бабушкина семья лишилась всех принадлежавших ей в Поволжье верблюдов, коров и лошадей, и один жеребенок так сильно тосковал по родному двору, что еще целых два раза сбегал из колхоза и возвращался домой, но дедушке приходилось скрепя сердце отводить его обратно, чтоб не лишиться головы… А, скажем, 1933 год — это когда ели лебеду и вареную кожуру лука и картофеля.
Такая вот хронология. Бабушка любила рассказывать истории, — и более того, она ими только и жила. Чувствовалось, что она уже перестала воспринимать реальность и замкнулась в своем собственном внутреннем мире, тем более что была почти совершенно глуха, да и зрение ее застилала катаракта… но этот ее внутренний мир был, на мой взгляд, чудный! Выпрядывая вслепую шерстяные нити своими старыми, темными пальцами, она повествовала мне о Б-ге.
— Земля — подножие ног Всевышнего, а небо — престол Его. Убережет Он тебя от сояща ночного и от беса полуденного. От сна восстав, Г-споди, к Тебе прибегаю.
Псалмы, молитвы и поучения так и лучились из нее, перенося меня в какую-то духовную сферу, далекую от советских трудовых будней, школы и пионерии.
Некий абсолютный Б-г, подножием которого является земля, очень меня заинтересовал.
А дедушка не относил себя ни к каким верам, ни партийным, ни религиозным. У него была после двух войн только трезвость и независимость разума и сознание отсутствия чего-то идеального. Он жил сегодняшним днем, трудился, копил деньги, старался никому не быть в тягость.
Я, однако, продолжала размышлять о своем: у кого же я смогу узнать о возрасте Вселенной?
4. Открытие
Здание школы было большое, кирпичное, окруженное просторным двором. На трех этажах ее имелось множество классных комнат, в каждой из которых помимо доски и парт красовались яркие наглядные пособия в духе развитого социализма. Да и коммунизм был уже не за горами, судя по вдохновенному взмаху руки мраморного Ильича в вестибюле.
Ну а пока что, в преддверии грандиозной эпохи, мальчишки дергали девочек за косы, били стекла, бросались портфелями и носились по коридорам как сумасшедшие, и ходить по школе во время перемен представлялось не особо приятным делом.
Зато со звонком в классах водворялась монархическая, тоталитарная власть грозных учителей, и школа замирала на 45 минут с тем, чтобы вскоре вновь взорваться буйством ученических эмоций.
У более человечных учителей и на уроках бывало шумно, никак не срабатывал гуманный и тактичный их подход к ученикам.
Клички, даваемые учениками педагогам, ярко свидетельствовали об их характерах. Была учительница по кличке Бульдог, была Цапля, был всклокоченный и рявкающий Циклоп, и у них-то на уроках тишина стояла невероятная.
Моя мама относилась к гуманным учителям, и, может быть, поэтому ее не наградили кличкой. Дисциплина на ее уроках идеальной не была, но знания по русскому языку и литературе, а также чувства добрые, пробужденные, как видно, пушкинской лирой, у ребят оставались, и даже спустя десятилетия многие ученики, повзрослев и разъехавшись по всей стране, писали ей благодарные письма из других городов.
Циклоп, преподаватель истории, пользовался в школе репутацией большого эрудита. Поэтому я и решила, будучи в 8-м классе, задать ему мучивший меня вопрос о возрасте Вселенной. И о точке отсчета времени, которая была почему-то расщеплена на два понятия — до и после нашей эры.
— Хм… Мир материален и принципиально познаваем. Материя первична, дух вторичен. Возраст Вселенной наука пока что затрудняется определить с точностью, но известно, что он исчисляется миллиардами лет.
Циклоп сказал все это со скучающим видом, как что-то затверженное, догматичное и пустое. А поскольку это было на перемене и в классе никого, кроме нас, не было, то он вдруг посмотрел на меня с живым, неподдельным интересом и спросил:
— А почему бы тебе не задать этот вопрос твоей маме, Голде Семеновне? Ведь вы же, евреи, все знаете. Вы самые умные!
5. Мамин паспорт
…Высказывание Циклопа произвело на меня эффект мины замедленного действия.
Во-первых, я всегда считала, что мою маму зовут Галина Семеновна, а не Голда. Во-вторых, какие еще евреи в нашей замечательной советской семье?
Евреи в моем (и общепринятом российском) понимании были чем-то вроде Гобсека — жадины, скряги, пролазы. Вечно они скрывают и переделывают свои фамилии и хитрят (так мне помнилось из житейских рассказов и анекдотов). По-русски говорят со смешным акцентом — как, например, тот же картавый Кантор, мой одноклассник. И космополитами их принято считать, потому что все они на Запад или в Израиль норовят удрать, а нашу Родину продать готовы. Жиды, в общем.
…И к этой странной компании относится моя мама? Как это возможно? Моя голова даже слегка заболела от напряжения, пока я во все это вдумывалась. Я попросилась выйти из класса в середине маминого урока литературы и пошла в пустую учительскую. Вообще-то ученики в эту комнату не допускались, но я иногда приходила сюда пить кефир на переменах. Вот и сейчас на мамином столе стояла для меня бутылка кефира, а возле него лежал мамин портфель. Я принялась в нем рыться и вытащила бумажник с документами без особой надежды на то, что найду в них какое-то решение возникшей проблемы. Бесцеремонно открыв паспорт, я сразу же наткнулась на страницу:
ГРАЖДАНИН СССР
АРАБЕЙ ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ еврейка
Я быстро засунула бумажник с паспортом обратно в портфель. Еврейка! Ну и дела! Этого я ожидала меньше всего на свете.
А Голду-то он откуда вычислил, этот Циклоп? Разве Галина и Голда — одно и то же?
Вот так новости, мысленно возмущалась я. А, остыв, подумала пушкинской строчкой:
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных…
…Я сидела и пила кефир.
Вопрос о возрасте Вселенной временно отошел на второй план.
Мне вдруг стало ослепительно-понятно, почему в прошлом году я так страшно возненавидела Ковтуна, ударившего еврейского мальчика-херувимчика Кантора и почему ответный удар Ковтуна так больно отозвался в моей печенке. Та драка была с моей стороны чем-то необычным, То есть просто заступничеством из чувства справедливости. Я ведь была очень тихой девочкой, никогда никого не трогала, настоящая маменькина дочка… Я полезла драться из-за Кантора только потому, что сама, оказывается… почти еврейка!
Но что же у меня общего с этим Кантором?
Я думала, думала… и внезапно додумалась. Улыбка! Бывает у меня иногда такая непростительно-еврейская, бесящая окружающих улыбочка превосходства… Например, когда все остальные размышляют над вопросом учителя, а я уже знаю ответ. Или когда вижу, что одноклассники заняты глупым, ни к чему не приводящим спором, и мысленно возвышаюсь над ними, смотрю на них как бы с высоты… Вот оно, еврейство Кантора, в его улыбочке, с которой он первым сдает учителю по математике свою блестяще выполненную контрольную работу!
Превосходство интеллекта? И это все? Или еще что-то, что за этой улыбкой кроется? Б-г мой, что же еще есть в нем, в этом Канторе? Глаза? Но чем они отличаются от армянских глаз Симоняна? Красивые такие, сладкие глаза с тяжелыми веками и черными ресницами, округлыми арками бровей и смиренным овечьим взглядом… Жалко, у меня нет таких чудных восточных глаз… Хотя — стоп! Держите меня! У мамы-то моей — именно такие глаза! Глубокие посаженные, четко очерченные, с темнейшими ресницами, которые контрастируют с ее пепельными седеющими волосами… И эта округлость бровей, и выпуклость век, и кроткая покорность во взгляде… Мне вспомнились слова из Маугли (да не просто вспомнились, а зазвенели в ушах):
— Мы с тобой одной крови, ты и я! Мы с тобой одной крови, ты и я!
6. Я, папа и мировая политика
У нас с папой было очень много общих интересов. Зимой мы вместе катались на коньках, летом ловили рыбу, осенью жгли садовую листву и распиливали дрова старенькой пилой, из-под которой разлеталась пахучая стружка… И восприятие мира у нас было схожее: мы так любили и умели (ведь не все умеют!) дышать свежим воздухом, так различали небесные оттенки вечерней и утренней зари, так трепетно прислушивались на берегу лимана в палатке к разным чудесным звукам ночи… то сова ухнет, то рыбка плеснет, то лягушка квакнет, то электричка на железной дороге громыхнет… а потом слышны лишь сверчки да соловушки… тишь, благодать кругом!
А в декабре, пока снег еще не успеет припорошить ледяную гладь, каково скользить на рассекающих лезвиях по озеру! Мы с папой катаемся, а Чомбик, щенок-овчарка, гоняется за нами с громким лаем, умоляет нас не подвергать себя опасности. Чомбик, не волнуйся, лед же толстый! Да какой гладкий, зеленоватый, волшебный! Просто взмываешь на крыльях, расстояния улетучиваются, и все огромное озеро пересекается нами из конца в конец за пару минут… На одном берегу озера стоят здания с большими неоновыми буквами Народ и партия едины, которые ярко вырисовываются на фоне вечернего неба, а на противоположном берегу золотится монастырский купол, вот и гоняешь туда-сюда, от монастыря — к партии и народу, которые едины, а потом от партии и народа — обратно к (разумеется, заколоченному) монастырю… Из года в год повторялось в нашей семье таинство изготовления виноградного вина, это тоже было нашим с папой общим делом. Давили осенью на даче мелкий виноград сорта изабелла, смешивали со всякой всячиной и погружали в огромные стеклянные сосуды, в которые вставлялись резиновые трубочки. Там жидкость точно вскипала — булькала, бродила… В декабре холодные бидоны с готовым вином ставились на чердак, и после дегустации слезть с чердака по приставной деревянной лестнице надо было уметь. Потому что голова кружилась от вкуснейшего вина, а зубы и губы, прикасавшиеся к краям обледенелого алюминиевого бидона, ломило от холода.
Еще у нас было увлекательное занятие, заполнявшее ненастные вечера: проявка фотоснимков. Что за магические слова — штатив, проявитель, закрепитель, не говоря уж о специальной красной лампе, о выключенном свете, о трепетном счете вслух, когда держишь фотобумагу на штативе! Один (не раз, это слишком коротко, а именно один) …два, три… двадцать… готово! Что за специфические запахи химикатов, сопутствующие чудесному выявлению черно-серых контуров, силуэтов и, наконец, лиц на абсолютно белом до того листе фотобумаги! Вот, глядишь, появились очертания двора, а вот и наш щенок, и уже видно не только голову, туловище и хвост, а даже умильное выражение довольной чомбиковской мордочки. А вот дедушка в валенках и тулупе, занятый растопкой печи, и тут же, под боком — я, подаю ему чурбаки-дровишки, любуюсь пляской огня за заслонкой.
Готовые фотоснимки мы налепляли на стекла окон, чтобы, во-первых, они не скручивались, а во-вторых, чтоб высыхали — ведь из закрепителя вынимаешь их мокрыми и липкими. Высохнув, фотокарточки сами слетали со стекла на письменный стол.
…А еще иногда по вечерам мы с папой включали старенькое радио и ловили заглушаемые помехами свободные заокеанские радиостанции.
Делали мы это не из злостного антисоветизма, а просто потому, что на шкале громоздкого радиоприемника было написано много названий столиц и городов мира и звучали они так маняще — Париж, Мельбурн, Калькутта, но в то же время нам нельзя было даже мечтать о том, чтобы когда-либо все эти места увидеть. Разве что по телевизору, в 40-минутной передаче Клуб кинопутешествий, которая бывала раз в неделю и в основном показывала тяжкую жизнь каких-нибудь никарагуанских крестьян, занятых обработкой сахарного тростника.
Но вот пришел день, когда, подсоединив какие-то особые проволочки к внутренней стенке приемника, папа научился среди треска, шума, непонятных какофоний ловить русскоязычные передачи — в частности, одну, именовавшую себя Радиостанцией Свобода.
Что за свобода имелась в виду и как вообще можно было быть свободнее нас, советских граждан, мы с папой не очень понимали. Однако все-таки приникли к мембране пыльного радиоприемника и отведали запретного плода.
Запретный плод, впрочем, оказался совсем невкусным.
Голоса дикторов были какие-то неприятные, недобрые, да и стиль передач казался чуждым. Информативная сторона была весьма однообразна, малоинтересна. Зато как глушили их советские глушители! Это яростное глушение весьма способствовало тому, чтобы пробудить мое любопытство к подобным передачам… Странно было слышать критику в адрес вроде бы незыблемого советского строя, иронию и осуждение тоталитаризма. Этого осуждения ведь не могло прозвучать внутри страны! Да мы и не знали, что в глазах Запада мы — тоталитарная страна. Когда мне было лет десять, я разметила все страны на большой настенной карте мира — какая страна за нас, за коммунизм и светлое будущее, а какая — оплот реакции. Я была очень рада, когда к нашим, прогрессивным силам прибавилась Эфиопия. А потом Кампучия. А потом Афганистан. Это было мирное завоевание планеты, которая, казалось, скоро уже вся покроется алыми флагами, белыми голубями и транспарантами Да здравствует коммунизм! Только вот толстопузая Америка и некоторые близорукие правительства Европы еще пока противятся этому историческому процессу. А есть страны — ни то, ни се, как, например, Швейцария. И Антарктика, к моему разочарованию, пока еще не была нашей. Следовало бы, по моему мнению, приобщить к процессу мирного коммунистического завоевания также и пингвинов, и белых медведей.
Став постарше, я услышала от взрослых всякие анекдоты о тупых престарелых вождях советской державы. На каком-то этапе эти анектоды, проникнутые инакомыслием (сталинский термин), перестали быть подпольными, и люди уже не боялись их рассказывать.
Но когда критика в адрес общественного строя звучит по радио, с международной трибуны, — это гораздо серьезнее, чем какие-то анекдоты.
— Пап, — спрашивала я с удивлением, — это они все врут? Мы же самые прогрессивные! Это они от зависти на нас клевещут, да?
Отец отвечал мне, что не все следует воспринимать всерьез. И наше радио, и антисоветское — предвзяты. Выводы делать надо самостоятельно и при этом, конечно же, не плевать в колодец, из которого пьешь, то есть не высмеивать собственную страну.
Вскоре после того, как Циклоп раскрыл мне происхождение моей мамы, я поймала по радио передачу Коль Исраэль и с бьющимся сердцем услышала язык иврит и еврейскую музыку. Где он на карте-то, этот крошечный Израиль, прозванный советской прессой ближневосточным агрессором? Его и найти-то, что иголку в стоге сена. Когда же я его отыскала, то решила его до поры до времени никак не помечать — ни нашим, ни оплотом реакции. Ведь говорит же папа, что выводы надо делать самостоятельно. Вот я и разберусь с ним как-нибудь, с этим Израилем. Потому что название ближневосточный агрессор ни в коей мере не исчерпывает внутреннего содержания этой таинственной страны, от одного имени которого — И 3 Р А И Л Ь — я почему-то впадаю в задумчивую тоску.
…Однажды осенью, водворяя на чердак тяжелые бидоны с вином, я не сразу слезла по лестнице вниз, а решила покопаться в чердачной пыли и извлечь из нее стопку старых-престарых газет — кажется, хрущевского времени. И, к своему удивлению, наткнулась в этих газетах на очень даже положительные статьи о социалистическом Израиле и на портреты Голды (опять Голда) Меир и других общественных деятелей! О небо, даже колхозы там упоминались, только именовались они кибуцами!
А в свежих газетах, которые мы регулярно получаем, Израиль иначе как агрессором и хищником не называется. Интересно, почему?
Еврейская страна… Кто они такие, эти загадочные евреи? Рога у них, что ли, растут — почему отношение к ним столь подозрительное, недоверчивое? Но у мамы нет никаких рогов! И у ее матери, бабы Муси, тоже не помнится мне, чтобы были рога. И у тети Милы, маминой сестры, которая живет в Москве, тоже нет: я с мамой и папой не раз гостила у тети, и она водила нас на ВДНХ, и вообще она очень хорошая.
Может, расспросить об этом саму маму?
Нет, нет, только не это!
Странными были устои нашего демократического и вроде бы покончившего с национализмом общества, если спросить человека насчет его еврейства мне казалось столь же неприличным и бестактным, как поинтересоваться наличием у него рогов…
7. Упавшая звезда Давида
Жизнь вернулась так же беспричинно,
как когда-то странно прервалась…
Б. Л. Пастернак
Прошло несколько лет, пока я решила последовать совету Циклопа и спросить все, что меня интересовало, у евреев, которые, по его насмешливому выражению, самые умные.
Был хмурый декабрьский вечер 1986 года, когда я прошла мимо Центрального ростовского рынка, разыскивая синагогу. Прохожие, к моему удивлению, добросовестно и подробно объяснили мне дорогу. Может быть, это были не прохожие, а переодетые ангелы… Я дошла до Газетного переулка, 17, и моему взору вдруг предстало угловое старинное здание с узором шестиугольных звезд на оконных решетках. Чувство узнавания — дэжа вю — пронзило меня и прохватило до слез. Я схватилась за дверную ручку, как будто за мной кто-то гнался.
За дверью был проход в зал. Однако нижний зал был закрыт, и мне оставалось лишь проследовать по лестнице наверх.
В холодном верхнем зале сидело шестеро старичков в пальто и шляпах, с глазами покорными и грустными, которые несли в себе вечность.
— Вы молитесь? — спросила я одного из них.
— Миньяна нету, — отвечал он, покашляв. — А что делает здесь барышня?
— Миньян — это что? — спросила я.
— Десять евреев надо, а где их взять, — ворчливо объяснил он.
— А что вы пишете? — не отставала я.
— Уборщица выбросила поминальный список, так я его восстанавливаю.
Он писал имена по-еврейски, а рядом — по-русски. Я взглянула на его записи, что-то очень знакомое показалось мне в одном из имен.
Эстер бас Голда, — прочла я вслух, — а знаете, моя мама тоже Голда. А что это — бас?
— Дочка, дочка, а тохтэр, — сказал подошедший к нам старичок. В руках у него была старинная, ветхая книга.
— Я бы хотела выучить еврейские буквы, — обратилась я к нему при виде книги. — А еще… у меня есть вопрос. Какой сейчас год? То есть я, конечно, и сама знаю, какой, но я спрашиваю — какой сейчас год ПО-НАСТОЯЩЕМУ?
— Какие странные пошли барышни, — удивился старичок, — вместо того, чтобы ходить на танцы с кавалерами, они ходят в синагогу и спрашивают, какой год. А какой год идет вам, девушка?
— Мне? Шестнадцатый.
— Ну, так надо вам найти жениха. Гершл, сколько лет твоему племяннику? — обратился он к писавшему.
— Не надо мне никого искать! — запротестовала я. — Я сначала в университет поступлю.
— В университет? А, ну тогда, конечно, не стоит. А для чего вам надо знать, какой у нас год? Это в университете требуют?
Я запуталась и замялась.
— Пять тысяч семьсот сорок седьмой, — решил пожалеть меня дедуля.
— А почему, — робко спросила я, — все считают, что 1986-й?
Старички переглянулись.
— Это от рождения одного бедного еврейчика, от которого пошло христианство. Нейбох!
…Слишком много новых впечатлений для меня за один раз. Я ищу повод откланяться, опасаясь, что разговор о сватовстве возобновится. Обвожу взглядом пыльный зал с тусклой люстрой, узорчатым высоким потолком и бархатными покрывалами на шкафах и столах. Шестиугольные звезды, вышитые на покрывалах, говорят мне многое. В ушах у меня стоит: Эстер бас Голда, 5747 год, миньян — это десять евреев. А что такое ней-бох? Это, наверное, означает, что основатель христианства — не бог… Я выхожу на улицу, обычную советскую улицу. Пьяницы бродят возле рынка, машины хлещут грязь, автобусы набиты битком. Я еду в автобусе, а внутри меня — синагога.
Возвращаясь мыслями к теме еврейства, я еще некоторое время после того колебалась, заговорить ли об этом с мамой. И решила, что не буду травмировать ее и свою психику. Надо быть выше национального вопроса! В нашей стране все — советские люди. И родители — они просто родители, абсолютно не важно, какой они нации!
Ну, а кто же в таком случае я?
А я, скажем, интересующаяся еврейством. Читающая Шолом-Алейхема и очень не равнодушная к имени Эстер. Ничуть не похожая на еврейку, кудрявая светлокожая девушка, которая пока что в духовном плане точно пластилин: какой ее жизнь вылепит, такой она и будет.
…Я снова и снова пыталась убедить себя: какая разница, что у мамы еврейские корни?! Это никого не волнует! Это меня ни к чему не обязывает! В паспорте мне напишут русская — а значит, я вполне нормальная гражданка.
Брат и сестра были настолько старше меня и настолько уже заняты своими, взрослыми, проблемами, что к ним я с подобными вопросами не могла обратиться. Кроме того, у Вали в жизни все было так разумно, взвешенно, сухо-правильно, а у Вовы — буйно и пьяно, что мне и по более простым проблемам не удавалось найти общего языка ни с братом, ни с сестрой… Я для них как была, так и оставалась малышкой.
А папе вообще лучше не знать, что мама на самом деле не Галина, а Голда. Ведь мама (так я решила) наверняка тщательно скрывает от него (и от всех) свою неудачную национальность, иначе зачем бы Циклоп поведал мне о ней с такой злорадной ухмылкой… В альбоме с семейными фотографиями я отыскала снимок дедушки с маминой стороны, о котором я знала совсем немного: что он был ленинградец и что скончался в 26 лет от туберкулеза. На фотографии был изображен человек с чистым, кристально-прозрачным взглядом больших глаз, с прямым и тонким, как клинок, носом, с тонкими и правильными губами, с общим выражением интеллигентности и хрупкости во всем облике. Эта фотография и послужила толчком к разговору, который все же состоялся у меня с мамой.
— Мам, я совсем не знаю, какой он был, твой отец. Он был еврей, да? И бабушка Муся тоже? Мам, я давно хотела тебя спросить: ты что, действительно еврейка? Только не обижайся! Я просто твой паспорт однажды раскрыла, и…А что это за имя такое — Голда?
Мама как стояла со сковородкой (первый блин комом), так и осталась держать ее, шипящую маслом, в руке, покамест я плавно и тихо обосновывала свою просьбу. Нет, меня не дразнят никакие антисемиты. Нет, никто меня не обижал. Я просто спрашиваю. Понимаешь, просто? Я уже и в синагоге побывала. Что ты так вздрогнула? Я видела еврейские буквы! Они очень красивые. Мам, ну пожалуйста, перестань от меня скрывать!
Мама неловко перевернула скомканный блин. Потом послушно поведала мне про всех моих дедушек и бабушек и прочих родственников, только ни словом не упомянула ни про репрессированных Сталиным, ни про закопанных живьем в землю немцами. Все они, по ее словам, просто как-то так сами по себе тихо и мирно скончались от самых разных человеческих недугов. (Это, я поняла годы спустя, мама оберегала таким образом мою подростковую эмоциональную сферу, чтобы не заставлять меня вступать в конфликт с окружающей средой). А по поводу еврейских имен своих родителей мама просто пояснила, что, конечно, есть у евреев свои особые имена, но в наше время лучше пользоваться именами общепринятыми, обыкновенными, не выпячивать своей национальности. К тому же, осторожно добавила она, евреев обычно считают богатыми и хитрыми, поэтому лучше всего вообще не открывать никому своей, пусть даже частичной, принадлежности к данной нации… А то, понимаешь, в университет могут не принять… Ну, не то чтобы совсем не принять, а… как бы это выразиться… не совсем охотно зачислить!
К концу этого разговора мама заметно устала от прикладываемых ею дипломатических усилий, и я решила больше ее не расспрашивать.
8. Подготовка к университету
Наступил долгожданный (казавшийся издали волшебным, как голубой зигзаг светозарной горы) рубеж — шестнадцать лет. В прошлое уходят увлечения детства: каток, велосипед, божки в храме. Через год — выпускные экзамены. Я усердно конспектирую учебники по истории СССР и компартии, штудирую грамматику русского, английского и немецкого языков, упражняюсь в написании сочинений на темы Горький — буревестник революции, Как закалялась сталь и тому подобное. Сосредоточение дается не легко, особенно если принять во внимание, что у моей сестры — пора волнений и любви, она уже шьет себе свадебное платье, а жених приносит ей то кассеты с ее любимой эстрадной музыкой, то распечатки по йоге, самосовершенствованию и отношениям полов… Я быстренько тайком приобщаюсь к этим сокровищам мировой культуры, после чтения у меня на многое раскрываются глаза, и я начинаю ощущать, что быть шестнадцатилетней девушкой в каком-то смысле… опасно.
Свадьба сестры совершается в ЗАГСе под благосклонными взглядами государственных служащих. Солидно ставятся росписи под брачным обязательством, и немноголюдная процессия движется к выходу из зала по ковровой дорожке. Я глупо ухмыляюсь — неужто это и вся процедура? Мне скучно от загсовой атмосферы и обидно за сестру, что она всего лишь выходит замуж, а не… скажем, увезена в дальние страны на корабле с алыми парусами.
Но оставим алые паруса. Надвигающиеся выпускные экзамены — немалая нагрузка на нервную систему. Все мысли переключаются на то, как бы успеть переписать, дополнить, выучиться, разобраться… Однако сдать выпускные экзамены — это еще не все, что требуется. Оказывается, чтобы поступить в университет на желанный факультет журналистики, надо после школы целый год проработать в газете в качестве внештатного корреспондента!
Обветшалый фасад советского строя к тому времени трижды сотрясен смертями престарелых вождей, и в нашей семье уже можно услышать анекдоты, которые бы раньше не прозвучали.
Особенно смел и инакомыслящ новый член нашей семьи — супруг моей сестры Вали. Он то и дело откалывает шуточки, окончательно подкашивающие мои социалистические воззрения. Однако программа школы и вузов по-прежнему застойная, и посему мои сочинения и конспекты носят весьма лицемерный характер.
Оценки выпускных экзаменов, в результате, прекрасные, и мама предлагает на семейное обсуждение идею, не отправить ли меня на учебу в Москву. У нее ведь там родная сестра, моя тетя Мила, что существенно облегчит мне пребывание одной в столь огромном городе. А поступить можно будет попытаться в университет имени Ломоносова, МГУ, и я сама приеду в Москву, подобно молодому талантливому провинциалу — Ломоносову!
…Но все это, конечно, лишь после того, как мною будет отработан целый год в редакции местной газеты Вечерний Ростов. Папе этот план нравится, а я и вовсе в восторге. Я получаю аттестат зрелости и немедленно отыскиваю редакцию, чтобы начать выполнять журналистские задания. Меня там принимают с удивлением (молодая, зеленая), но вскоре облекают доверием и посылают на пробу пера.
Там, в редакции, в прокуренных ее кабинетах и коридорах, я впервые вращаюсь в так называемой интеллектуальной среде, в атмосфере идей, пусть и не самых гениальных, но все же поднимающих человека на уровень творческого мышления.
Подражая окружающим, я начинаю покуривать сигареты в компании остроумных молодых журналистов, усваиваю себе легкость их суждений и свойственную представителям этой профессии нагловатость… От моего внимания не ускользнул тот факт, что те же люди, которые в кулуарах позволяли себе смелые и острые антисоветские высказывания, тщательно вытравляли все живое и талантливое из собственных газетных материалов. Газете полагалось выходить в свет безжизненной, штампованной, убогой и однообразной.
Поручения мне давали нехитрые — то спортсменку местную проинтервьюировать, то об ударных рабочих завода написать, то зарисовку о спектакле драмтеатра измыслить.
Лирику, какую я в эти сухие материалы привносила, обычно при редактировании вычеркивали, и под такой безликой заметкой даже не хотелось видеть свое имя. Только пару раз, когда я писала о своем любимом фигурном катании, у корректора не поднялась рука обрабатывать материал, и он прошел как был — полный сверкания льда, пышности театрального действа и драматизма чемпионских страстей.
Работавший в газете 30-летний фотограф, еврей, почему-то (почему-то?) принимал и меня за еврейку и очень хорошо ко мне относился. До такой степени хорошо, что чуть ли не при каждой деловой встрече вручал мне профессиональные снимки, на которых я была изображена в самом лучшем для моей внешности свете. А, кроме того, со всей душой оформлял к моим публикациям необходимые фотоматериалы. Однажды он сказал:
— Слушай, зачем ты балуешься сигаретами? Тебе это не идет! Неужели ты хочешь стать такой же, как все эти высохшие репортерши и корректорши, от которых несет табаком? Мне просто жалко смотреть, как милое, молодое существо себя губит!
Когда год закончился, фотограф решил со мной поговорить более откровенно о своих чувствах. Ты, — сказал он, — человек очень нравственный. Поэтому я и весь этот год не смел, и теперь тоже не смею предложить тебе выйти за меня замуж. Я — старый прожженный фоторепортер, — констатировал он, — Мы не подходим. Он действительно казался мне очень старым, ведь тридцать лет — это страшно много… Вы так здорово мне помогли, — говорю я смущенно, — вы совершенно избавили меня от комплекса неполноценности. Когда я училась в школе, то все время чувствовала себя непривлекательной, заумной, никому не нужной вундеркиндихой. А теперь, благодаря вам, я знаю, что во мне что-то есть….
Да, несомненно, в тебе что-то есть, — уходя, говорит он с присущей нашему народу печалью. Нашему народу? Какому это нашему народу? Еврейскому, что ли?
…Да, к тому времени я уже так начиталась Шолом-Алейхема, что воспринимала описываемый им еврейский народ почти как свой. Однако не имела никакого представления о реальных, современных евреях, кроме тех, которые были в моей жизни. К ним относились моя мама, умненький Кантор, старички в синагоге, и теперь еще этот влюбленный фотограф.
Тайна еврейских глаз не была мной разгадана, зато шаблонный образ жида-ростовщика из классической литературы окончательно померк, и старая, обывательская позиция по отношению к евреям уже казалась мне смешной. К тому же муж моей сестры однажды совершенно серьезно заявил, что огромный процент мировых гениев — это именно евреи! Теперь мне даже нравилось, что происхождение моей мамы столь таинственно, и я могла в какой-то мере вжиться в образ иудейки, все больше увлекаясь романтикой магических слов: Звезда Давида, Гнет изгнанья, Дщерь Сиона… Завершается год журналистской практики, и я иду к главному редактору с тем, чтобы показать ему все свои публикации и получить желанную Характеристику-рекомендацию, необходимую для поступления в университет. В этом документе мне написали, что у меня изумительное чувство стиля, и с такой характеристикой было не стыдно ехать в Москву.
Я попрощалась с бабушкой и дедушкой, неловко увернулась от Вовкиного поцелуя, слегка алкогольного, но искреннего, получила мудрые наставления сестры Вали и насмешливые советы ее мужа, после чего обвела взглядом пианино, гостиную с балконом, на котором теперь будет меня ждать мой велосипед, вздохнула и вместе с папой и мамой вышла из дому, ощущая запах жасмина, наполнявший наш двор в эту июньскую пору.
…В поезде устраиваюсь было на верхней полке, но заснуть не дают разговоры в смежном купе. Аморальная проводница плацкартного вагона и горячие грузины спорят о чем-то насущно-важном для них. Наконец проводница соглашается. Они веселятся всю ночь, пьют, гуляют. Я обиженно слоняюсь по коридору в джинсах и рубахе. Обида двойная: во-первых, почему не дают спать, а во-вторых, если уж пристают, то почему, скажем, не ко мне?
Если бы я в то время знала Песнь песней Соломонову, то подумала бы такой строчкой: Не будите любовь, девы иерусалимские, не будите любовь, доколе она не придет сама…. А впрочем, я-таки знала эту строчку. Но не из оригинала, не из еврейской святой книги, а из повести Куприна Суламифь…
9. Москва слезам не верит
Кремлевские башни с их алыми звездочками на фоне синего неба встречают меня на пути зданию факультета журналистики. Какая красотища! Мой взгляд просто тонет в этих далях.
Документы сданы в приемную комиссию, и я иду звонить своим московским родственникам, чтобы они, как было договорено, забрали меня к себе домой. Они живут в Люберцах, в аккуратном, тихом подмосковном гарнизоне.
Тетя Мила, мамина старшая сестра, кормит меня ужином и расспрашивает, как дела в Ростове, как прошло путешествие в поезде и что за экзамены мне предстоит сдать. Я горда и счастлива своей самостоятельностью — шутка ли, приехала одна в Москву! Деньги, врученные мне мамой, я передаю тете Миле на хранение. И начинается московская жизнь!
…Впервые в жизни я получаю за сочинение низкую оценку. При моем-то изумительном, как говорится в редакционной характеристике, чувстве стиля! Этого не может быть! Неужели допустила орфографические ошибки? Или неполно раскрыла тему? Надо обязательно подать аппеляцию!
Рыдания сотрясают меня. Здание университета начинает казаться злобным и противным. Выйти из стресса я просто не могу. Как ужасно они все подстроили, эти экзаменаторы! Наверняка поставили хорошие оценки лишь особенным — то есть тем, у кого особенные родители! Это несправедливо! Мое сочинение о жизни и подвиге Павла Корчагина шло прямо из души, оно было такое хорошее!
…Я ищу платок или салфетку, но не нахожу. Жалкая и несчастная, покидаю величественное здание и иду куда глаза глядят.
Меня ужасно тянет поговорить с Б-гом.
Б-г, Б-г, где Ты есть? Я знаю, что Ты есть везде, но где мне дано воспринять Тебя? В чем Твоя воля? Как ты хочешь чтобы я жила на свете?
Я скитаюсь по центру Москвы до самой темноты. Ночью город кажется сплошной громадой огней, он поглощает меня, маленькую и одинокую, мириадой своих светящихся точек. На Арбате со мной пытаются познакомиться какие-то лощеные интуристы, но я вспоминаю слова фотографа о том, что являюсь человеком на редкость нравственным, и, действительно, покопавшись, такое качество в себе обнаруживаю.
…Первая неудача сделала меня хладнокровной и равнодушной к последующим экзаменам. А поскольку по иностранному языку, истории и устному экзамену по русскому языку оценки оказались высокие, то зачислению я все-таки подлежала.
Гордая и счастливая, звоню в Ростов и поздравляю родителей с нашим общим успехом.
Мама и папа почему-то напряженно и неестественно реагируют — не радуются, а как будто скрывают от меня нечто случившееся в мое отсутствие. Догадка о смерти давно болевшего дедушки, которую я, похолодев, в себе вынашиваю, оказывается верной после дальнейших моих настойчивых расспросов.
Его нет? Как это — человек был и вдруг его нет?
Я не воспринимаю ни разъяснений насчет тромбоза, ни подробностей операции. До меня лишь доходит последняя фраза отца:
— И на могилке я сирень посадил, чтобы память была… Оглушенная, я закрываю глаза и только и вижу, что эту сирень. Куда же, куда ушел дедушка? Неужели совсем-совсем под землю? А что там, под землей?
Я думаю, думаю об этом, и внутри меня начинают звучать сами собой сложившиеся стихи:
Нечто вечное отчалит
В изначальное Ничто…
10. Студенческие будни
Занятия на первом курсе университета были в большинстве своем очень интересные. Кроме иностранного языка и спецкурса по ТВ, все они проходили в форме лекций, в огромных аудиториях, где, как правило, никто не отваживался ни о чем спросить оратора — целых полтора часа студенты только слушали и записывали. Я вела записи аккуратнейшим образом в толстенных общих тетрадях, четко выделяя главные темы, подзаголовки, тезисы и цитаты. С особенной любовью и старанием конспектировала лекции по античной, а также русской и зарубежной литературе.
Были, конечно, и скучные предметы: Партийная печать, Политэкономия, Советское строительство… На таких лекциях можно было и поспать. (А когда к концу года горбачевские инициативы круто переменили идеологическую атмосферу и в МГУ запахло демократией, то и эти предметы стали преподаваться несколько иначе. До того иначе, что даже странно было слышать преподавателя, который еще недавно клял капиталистов, а теперь за ту же зарплату и за той же кафедрой их превозносит.)
Изучая литературу древней Греции и Рима, я частично обрела ответ на свой вопрос по поводу того, куда ушел дедушка, когда его не стало. Ответ был, по Эпикуру, таков: Там, где есть я, нет смерти. Там, где есть смерть, уже не будет меня. А, стало быть, продолжила я Эпикурово высказывание, и задумываться об этом нечего!!! Живи как живется, и все тут.
Ну, хорошо, попробуем пожить ПО-ЭПИКУРЕЙСКИ — благо, есть молодость, красота, огромное количество людей вокруг, всевозможные перспективы, столичные развлечения… Проблема состояла лишь в том, чтобы избрать для себя сферу основного приложения сил и времени. Ведь интересным и влекущим было или могло быть (или, в крайнем случае, казалось на первый взгляд) решительно все происходящее вокруг меня!
Доска объявлений в вестибюле нашего факультета так и пестрела всякого рода анонсами:
КУРС ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ — ТВОРЧЕСТВО ДЖОРДЖО СТРЕЛЛЕРА — ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕАТР * ПРИНЦИПЫ НЕОРЕАЛИЗМА — ЧЕЗАРЕ ДЗАВАТТИНИ * ЮНОШИ И ДЕВУШКИ — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕКЦИЮ РОК-Н-РОЛЛА * ДЖАЗ И Я — ВЕЧЕР В БАРЕ * ЭСФИРЬ ШУБ — МАСТЕР КИНОМОНТАЖА НАЧАЛА 20-ГО ВЕКА — (ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ И ОБСУЖДЕНИЕ) * ЭКСКУРСИЯ В ОСТАНКИНО — ТАЙНЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ * ПОЭТИЧЕСКИЙ КРУЖОК: ОТКРОЙ В СЕБЕ ПУШКИНА! * ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ — КУРС-ЭКСПРЕСС * СТЕНОГРАФИЯ — БЫСТРО И КРАСИВО! * АЭРОБИКА: БУДЬ КАК ДЖЕЙН ФОНДА! * СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — В ПОМОЩЬ РОБКОМУ: ПРИДИ И ОБРЕТИ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ — и прочее, тому подобное… …Объявления завораживали. О, да. Я жажду всего. О, быстрый успех! Как тебя заполучить? Допустим, сначала сходим на аэробику. Потом в Останкино на вечер. Потом — познакомимся с итальянским театром. Потом одним глазком взглянем на занятия рок-н-роллом, на джаз-бар, на поэтический кружок, на стенографические крючки, на образцы киномонтажа Эсфири Шуб… А может, попытаться с помощью курса-экспресс освоить испанский язык? Мне как раз начал было нравиться один юноша с другого факультета, который происходил из испаноговорящей страны, Колумбии, и у которого была мать москвичка. Я успела заметить его на дискотеке, посвященной 7 ноября — он тихо стоял у стенки и совершенно не смешивался с пляшущей толпой. Должно быть, он не умел танцевать. Я слышала, как шушукались между собой косившиеся на него девицы, будущие журналистки и педагоги, вслух отмечая его нездешнюю красоту и строя планы, как бы пригласить его на белый танец… Но о любви и ее разочарованиях я расскажу попозже. Сейчас вернемся к выбору жизненной цели и достижению успеха.
Итак, рассуждала я, разорваться ведь невозможно — надо сконцентрироваться на чем-то одном, ограничить круг своих интересов. А может быть, не надо? Обязательные занятия по университетской программе в любом случае отнимут у меня львиную долю моего времени, зато уж все остальное — кинопросмотры, походы в театр, любопытствование тем или новым направлением в искусстве, танце, спорте, языкознании или психологии — все это вполне может протекать в русле стихийности, сознательно мною же выбранной. Пусть это будет как некая освежающая струя — вдруг взять да и смотаться на выставку Дали, на вечер Комеди Франсэз, на одинокую прогулку по парку Сокольники, в котором органная месса Баха сама себя несет из укрытых темнотой репродукторов, а ночь такая ясная, что можно нюхать звезды. И заблудиться в Москве тоже приятно, наткнешься то на Ордынку, то на переулок Калашниковский, то упрешься внезапно в сияние Василия Блаженного, пытаясь точно примерить на себя: по мне это его блаженное сияние или нет? Нет, пожалуй, не по мне… В церквях Б-г если и есть, то вкусненький какой-то, как кулич, как паска глазурная, как блины веселые и как масленица, православно-славненький, бабушкин Б-г, румяный колобок… Правда, он, по церковным понятиям, также и Б-г-страдалец, но, уж простите, его страдание — чисто еврейское, и судьба его (как человека) тоже совершенно еврейская. А раз так, то, как говорит булгаковский персонаж, это уже осетрина второй свежести. Религия у вас, господа христиане, не оригинальная, а взятая, заимствованная в своей основе у евреев.
Это открытие я сделала, когда мы изучали в университете историю религий и должны были перерыть в читальном зале много специальной литературы по данному вопросу. Но на эмоциональном уровне мною это ощущалось и раньше. Я чувствовала нутром, что еврейство — оно изначально-сущее, из первых рук полученное, аутентичное, только загнанное в подполье, а может, потому и загнанное, что истинное… Василий Блаженный был не более чем частью столичного архитектурного ансамбля. И, как таковой, меня, несомненно, восхищал. Осенне-зимняя Москва вообще была несказанна.
Ринемся же на поиски всего романтичного и зовущего, что только подвернется под руку! Что за дар Б-жий — иметь все или почти все… Мне восемнадцать лет, ростовский фоторепортер внушил мне, что я красива и умна, и даже то, что я — дщерь Сиона, становится все более внутренне-очевидным… Для чего же готовит меня Б-г, для какой роли, для какой миссии?
На лекциях и на переменах студенты общались между собой, но знакомства и дружбы возникали и завязывались в основном не здесь, в стенах университета, а в общаге, где проживали иногородние и иностранные учащиеся всех факультетов. Общага представляла два соединенных между собой мостом небоскреба, архитектурная мощь которых поражала воображение. Естественно, и мне хотелось бы жить в этом фешенебельном месте, наверняка кипящем духовной, творческой жизнью!
Тетя Мила, однако, в самом начале года провела со мной разъяснительную беседу, улучив момент, когда ни ее муж, ни дочь, ни внучка-подросток не были дома. Она выразила надежду, что я уже взрослая девушка и понимаю, что такое мораль. Затем она вкратце обрисовала мне нравы студенческих общежитии, упомянув, что азартные игры, употребление наркотиков, беспорядочные любовные связи и попытки самоубийства, к сожалению, составляют там естественный фон бытия.
Я не ужаснулась, наоборот, мне стало еще интереснее попасть в это место. Иначе я не узнаю, что такое настоящая жизнь с ее опасностями… А мораль у меня такая стойкая, что никакие соблазны мне нипочем!
Тогда тетя Мила объявила мне, что в общем-то меня никто не заставляет силой выбирать себе место жительства. Она просто предлагает мне вариант — остаться жить у них на весь первый учебный год. Я могу решать сама, могу посоветоваться с мамой. Она, тетя Мила, лишь считает своим долгом предупредить меня о том, что у жизни в общежитии есть не только привлекательные аспекты.
В заключение она сказала:
— Присмотрись к студентам старших курсов, а не только к сверстникам. Особенно к иногородним. И ты поймешь, что с ними происходит в результате самостоятельной жизни в общежитии.
Так я и сделала. Уже в начале учебного года я понаблюдала за нравами компании старшекурсников, пообщалась с ними, послушала их разговоры между собой. Увидела разболтанность, внутреннюю изношенность рано постаревших курящих и истеричных девиц, явную душевную беззащитность и дезориентированность парней, которые в профессиональном, да и в житейском плане, попросту говоря, плыли в никуда.
Это впечатление подтвердилось, когда я все-таки сходила пару раз в знаменитую общагу и — увы, увы, — мне не нужно было прикладывать усилий, чтобы воочию увидеть все те пугающие социальные явления, о которых предупреждала меня мудрая тетя.
Вот некоторые дневниковые записи, сделанные мною зимой того московского студенческого года:
12 НОЯБРЯ
Познакомилась с обитателями общаги. Татьяна, девушка из Вятки, показала мне свою комнату. Они там вчетвером живут, она и еще трое студенток с биофака. Говорит, что, когда ей надоедает здесь спать, она спит в мужской комнате этажом ниже, у нее там друг, еврей по фамилии Штудинер… 15 декабря. Увы и ах, Татьянин друг ее бросил, поскольку решил жениться на москвичке, чтоб прописку получить. Теперь ей ненавистны все евреи… От тоски Татьяна пошла в другую комнату спать. Там — дзэн-буддисты, в транс впадают. Ей с ними неинтересно, но она хочет показать бывшему другу, что, мол, нашла себе новую компанию. А эти мужики, буддисты, по ее словам, просто обманщики, которые девушек зазывают, ну и так далее.
…К концу беседы с Татьяной я стала старше лет на десять. Так мне, во всяком случае, показалось. Нет, не умнее, не осторожнее, не ответственнее, а просто старее, циничнее — в этом смысле старше. Может быть, даже старше самой Вселенной, возраст которой меня когда-то так сильно интересовал… 31 декабря. Новогодний вечер. Общага бурлит, хлопушки взрываются, все лифты переполнены. Я сначала прыгала на дискотеке, потом играли в бутылочкуу кого-то в комнате, потом пили, потом снова куда-то пошли… Компания, в которую я вписалась, была самая случайная: моя подружка Татьяна, истрепанные общежицкой жизнью старшекурсники с журфака Макс с Розой, несколько инязовскихдевиц и наивный (в противоположность девицам) москвич Гектор Эредиа с первого курса того же факультета иностранных языков. Что касается Гека, то он не совсем москвич, так как отец его — колумбиец. И вообще он — личность интересная, и внешне, и внутренне. Его отличает тонкость черт лица и изящество манер, но он так избалован любящей матерью и своим сногсшибательным успехом у университетских девиц, что, похоже, становится самовлюбленным и слабохарактерным. Впрочем, не уверена, так ли это — я плохо с ним знакома. Мне он, по правде говоря, нравится, и я наблюдаю за ним на всех университетских мероприятиях. Но сейчас мне не хочется смешиваться с толпой его поклонниц, поэтому я делаю вид, что совершенно к нему равнодушна… Продолжаю запись в дневнике уже через несколько дней. Ах, какие ужасные события произошли в новогоднюю ночь. Жалко, что я вообще поехала в общагу, лучше бы осталась у тети Милы, смотрела по телеку Голубой огонек, поднимала бокал с шампанским, приветствуя бой часов на Спасской башне, как все честные советские люди… Но, быть может, мне все-таки необходимо познавать жизнь такой, как она есть, а не сидеть под крылышком у тети, в теплице?? Может, я буду когда-нибудь писателем, и весь этот опыт мне пригодится?
Эту исходную действительность, небезразличную для художника, Гете называл материалом… Итак, продолжу описание моих горестных разочарований, тем самым помогая им поскорее перейти из категории действительности в категорию материала — быть может, это сделает их менее горестными для меня… Была новогодняя ночь. В пересекающихся огнях дискотеки яростно плясали две разбитные подруги, Татьяна и Роза, время от времени взглядывая на того, кому все эти их зовущие движения адресовались… Их страстные взгляды, сотрясения бедер и всплески рук предназначались тонкому аристократичному юноше Геку, который и пьян-то был впервые в жизни, и с девушками раньше не знался. У него в Колумбии, как было уже мною отмечено ранее, проживает папа-революционер, а сам он воспитан интеллигентной (и почему-то брошенной папой-революционером) мамой. Понятно, что на Гека уже с начала учебного года вешались все девицы, какие только имели хотя бы малейшее эстетическое чутье, ибо прекрасен он был легендарно… Но, поскольку он еще не был уверен, как поступать с этими девицами, то вешались они на него пока что лишь в своих мечтах.
Пьяное новогоднее веселье бурлило на всех этажах гигантского общежития. Я быстро устала от выпивки и танцев, втиснулась в переполненный студентами лифт, который с трудом закрылся и довез всю компанию до десятого этажа, и, дойдя по стеночке до Татьяниной комнаты, просто-напросто завалилась спать. Насколько мне помнится, комната была пуста… И вот, проснувшись среди ночи, я с удивлением обнаружила, что, во-первых, в ней кто-то есть, а во-вторых, в темноте происходит какая-то подозрительная возня. Голоса были мне знакомы. По восклицаниям я поняла… то есть я предположила, что… Но умолчим о том, что и так понятно.
…Вылетев пулей из комнаты, я стою в коридоре с гневным заспанным лицом и всклокоченными волосами, сунув руки в карманы джинсов и в задумчивости покачиваясь с пяток на носки. Я негодую на безнравственное поведение студентов МГУ. Возле мусоропровода снуют мыши. Голова моя гудит. По коридору идет Лях-фарцовщик, львовский парень не без талантов… — Лях, где можно поспать? — спрашиваю я. — У меня нет сил сейчас к тетке ехать. Да и метро закрыто.
— Ладно, не злись. Пошли ко мне.
— Только без приколов, Лях, ладно?
…Лях хлопает меня по плечу, по-братски угощает сигаретой, и мы идем по коридору. Я ему доверяю. Я вообще склонна доверять парням гораздо больше, чем девицам. Особенно после того, свидетельницей чего стала этой ночью… Комната Ляха — уютная, в меру прокуренная. За стеной клокочет музыка, ритм, та-та-та… Ах, Лях, как хорошо, что у тебя тут такой мирный свет настольной лампы, такой домашний коврик возле кровати. И как прекрасно, что ты ко мне даже не пристаешь! Мы пьем чай, помешивая его в стаканах почему-то вилкой, курим противную крепкую Верховину, и тут-то Лях начинает меня соблазнять. Правда, не на что иное, как на совместный бизнес. У него во Львове, оказывается, разветвленная мафиозная сеть, и ему нужны культурные, честные работники для чистой и хорошо организованной деятельности.
Он видит, что мое душевное состояние не таково, чтобы я могла серьезно что-либо воспринимать, но все же, пользуясь подвернувшимся случаем, намекает мне, что речь пойдет о… сдаче экзаменов в престижные вузы. Заработок — по две-три тысячи за сезон.
— Мы же договорились, что я смогу в твоей комнате отдохнуть, — возражаю я, — отдохнуть, а не обсуждать дела. Предложи мне работу как-нибудь в другой раз, ладно? — Ладно, спи, — согласился Лях, вставая и скрываясь за перегородкой, — спи и думай над тем, что я сказал.
…Наутро, первого января, пьяный угар все еще продолжался, общага гудела, и мне расхотелось ехать в Люберцы к тете. За утренним кофе мы с Ляхом подробно обсудили все детали предполагаемой львовской авантюры.
Дело оказалось достаточно серьезным, даже слишком серьезным для новогоднего утра… Оно пахло неплохими деньгами и опасными приключениями. Требовалось не больше ни меньше как сдавать экзамены по чужим документам. Сдавать за тех абитуриентов, которые не обладали требуемым для поступления в вузы объемом знаний, но могли себе позволить хорошо оплачивать подобные услуги.
— Для начала, — говорил он, глядя на меня светлыми холодными глазами, — приедешь ко мне во Львов. В июне и июле у нас — посевная, то есть сдача экзаменов, а в августе — уборочная, то есть подведение итогов и расплата с сотрудниками.
Выучишь свои данные: биографию, адрес, сведения о родителях. Пройдешь собеседование по документам твоей подопечной. Если она будет на тебя похожа, то оставим на документах ее фотографию. Если нет, то посмотрим… есть разные варианты. Дальше — сдашь три письменных экзамена: сочинение, английский, историю в один или два вуза. Это для тебя не проблема, у тебя ведь светлая голова… До тех пор, пока будут известны результаты зачисления, можешь разгуливать по Львову и заниматься фарцой или чем хочешь. Когда твоя подопечная окажется в списке зачисленных, то получишь деньги непосредственно от меня. Вопросы есть?
— Что произойдет, если вдруг разоблачат? — спрашиваю я, обладательница светлой головы.
— Вопрос логичен, — квалифицированно консультирует Лях, — отвечаю: надо отпираться до конца, говорить, что подруга попросила оказать услугу, так как очень боялась экзамена. Тогда невозможно обвинить тебя ни по какой статье. Закон здесь бессилен.
— Бывали случаи, что кого-то из ваших ловили?
— Крайне редко.
— Чем все заканчивалось?
— Отпускали под честное слово.
Я отвожу взгляд и смотрю вдаль, на панораму Москвы. Студенческое кафе, звяканье посуды, запах сосисок. Лях заказывает завтрак на двоих. Ему самому всего двадцать пять лет, но меня он снисходительно именует девочкой и вообще ведет себя как солидный отец мафии.
— А что я буду делать с деньгами? — вдруг наивно спрашиваю я. Мне было уже ясно, что я вот-вот соглашусь на сделку и что осталось только выяснить этот последний вопрос… Ведь тысячу рублей моя мама зарабатывает больше чем за полгода, а я это сделаю за месяц… — И этот вопрос неглуп, — Лях подает мне горчицу и тарелку с сосисками, — если ты захочешь, я могу пустить твои деньги в оборот, чтобы они утроились. Или поведу тебя к полякам — закупишь какого хочешь товара… Есть еще вопросы? …Ты умна, девочка. Я люблю умных людей. С такими приятно работать.
…Мимо нашего столика проходит поддерживаемый Розой и Татьяной Гек, шатаясь от пьяного угара и беспомощно бормоча, что ему надо бы позвонить маме… Знала бы его мама о том, что произошло… Я подумала: хорошо бы добежать до двенадцатого этажа и посмотреть вниз, на заснеженную Москву, на желтые фонари, угасающие в новогоднем утре, и, если найдутся силы, то, быть может, полететь с балкона прямо туда.
Почему? Потому что в меня вошла какая-то грязь, духовная нечистота, я точно наглоталась чего-то чрезвычайно дрянного… У меня нет мужества остановиться, мне хочется, наоборот, окончательно растратить все… Остаться жить в общаге, вляпаться по самые уши во все происходящее здесь, уйти от трезвой и честной реальности… Не прикладывать никаких усилий, а просто катиться, катиться под откос, не ужасаясь больше уже ничему… 1 января, полдень… Сижу на балконе, с которого так и не сбросилась… Отрезвление. Момент истины. Жалко, сигарета кончилась. Ах ты черт, до каких же пор испытывать горечь, когда что-то кончается… пусть это всего лишь сигарета. Неужели нет ничего твердого, истинного, такого, что не обманет и не перестанет быть?
Учеба, лекции, конспекты — что за чушь! Жизнь — совсем другое. В учебе можешь быть отличником, а в жизни — щенком… ежиком в тумане… Может, действительно согласиться работать на Ляха? Вписаться в его мафию, стать независимой, богатой, разъезжать по всем континентам… Ох, тяжко. Может, от таких мыслей-то брат мой и спился. Вовка ведь не глупый парень, и красивый. Может, его в свое время вот так же точно девки обработали, как этого Гека… А такие, как Лях, эксплуататоры светлых умов, заманили в преступную компанию… Неужели у меня будет такая же судьба, как у брата? Пропаду… Я ведь не такая правильная и дисциплинированная, как моя старшая сестра. И не такая благородная, как дорогая моя мама.
Б-же мой, куда же себя девать-то?
В монастырь пойти? Может быть, только там спасешься от безнравственности?
Да ведь еврейке, пожалуй, нельзя. А кто сказал, что я еврейка? Это мать у меня еврейка. А я сама — очень даже русская… …7 января. Каникулы. Забрела я в подмосковный монастырь. Гладкие, сытые бабки-монашки обласкали меня, молочком напоили, рады-радешеньки были такую молодицу принять. Вот, сказали, дьяконица-то придет да поговорит со мной. Ну, волосы, конечно, у меня слишком длинны, это надо будет срезать. И ногти тоже. А коли голос у меня звучный, так это в самый раз, на клиросе воспевать, дьяконице помогать… Сны свои монашки порассказывали, все у них видения какие-то случались… А больше-то не о чем им было говорить. Заскучала я, да и ушла, не дождавшись дьяконицу. …10 января. В Новодевичьем монастыре встретила художника-реставратора, начался было роман. Кончился мило и никак. Но опишем все по порядку:
Я с детства неравнодушна ко всяких чердакам, пристройкам, лабиринтам и прочим таинственным местам. Зайдя в Новодевичий, я обнаружила, что монастырскую территорию отделяет от кладбища толстенная стена, в которой наверняка — решила я — полно келий, закутков, всевозможных приделов и башенок. Так оно и оказалось. Подтянувшись на руках, я увидела некое окошечко, или бойницу, или нишу на вполне достижимой высоте. Несколько попыток — и мне удалось через нишу проникнуть внутрь крепостной стены, а дальше уже вся трудность заключалась в том, чтобы не взвизгивать при попадании носом в паутину и не шарахаться при передвижении по темным участкам лабиринта, пока очередная башенка с оконцем не впустит некоторое количество света в узкий проход, по которому я то шла, то бежала, то ползла, то карабкалась вверх, то спускалась по крученой лесенке.
Внезапно я очутилась в луче света, падавшего вполне цивилизованным образом через решетку оконца на голову художника-реставратора, сидевшего за заставленным иконами столом в одной из келий. То был весьма живописный иконописец, или, с вашего позволения, иконописный живописец.
— Что это вы делаете? — спросила я, отдышавшись и с некоторым смущением осознав, насколько странно мое вторжение, если принять во внимание спокойствие созерцательно-трудовой атмосферы в келье и — на ее фоне — степень ободранности моих локтей и джинсов.
— Да вот, св. Пантелеймона подновляю, — ответствовал реставратор.
Казалось, он ничуть не был огорчен помехой, скорее даже ей обрадовался и вполне мог предоставить Пантелеймону ждать сколько угодно.
— У меня лицо сильно испачкано? — сказала я как бы сама себе.
— Какая интересная смесь семитских и европеоидных черт! — отметил реставратор, рассматривая меня и при этом тоже обращаясь как бы к самому себе. После чего добавил: — Нет-нет, вы вполне прилично выглядите. Совсем не видно, что часа два карабкались по монастырским катакомбам. Сокровище искали?
— Нет… Ничего я не искала. Так, интересно было полазить. А вы что, только рисуете или… в священном звании состоите?
— В звании — не состою. Но в духовной семинарии учился.
— О, вот это здорово! — я сразу почему-то стала доверчивой и развязной, — а вот знаете ли, когда я зашла в один подмосковный монастырь, то с монашками мне было совсем не о чем разговаривать. А вы бы мне могли ответить на мои вопросы?
— Ну, если сумею… то почему бы и нет. Надо молодежи помогать, — сказал он, как мне показалось, кокетливо, потому что и сам был отнюдь не пожилым.
— Так вот! — обрадовавшись случаю получить разъяснения по поводу своих жизненных и философских проблем, я забралась на широкий подоконник кельи и принялась припоминать самые главные и жгучие вопросы из числа тех, что тревожили меня издавна… Реставратор отложил кисти и тонколикого Пантелеймона в сторонку.
— Вот, к примеру, время… — заговорила я, — сколько времени, по-вашему, существует мир? Это — раз. Во-вторых, если Б-г есть и Он один, то почему есть разные религии? А в-третьих… куда человек девается, когда умирает? А в-четвертых… почему нам, советским людям, нельзя ездить за границу? И в-пятых, такой вопрос: если… к примеру… я за кого-то сдам экзамен наотлично, а тот человек даст мне за это деньги, то это очень страшный грех или нет?
Реставратор вскинул голову и захохотал. Глаза его блеснули совсем не по-церковному. И понес он такую псевдоинтеллектуальную чушь, из которой всякая разумная девушка на моем месте сделала бы только один вывод: что с ней заигрывают. Правда, по ходу этого хитроумного трепа у него проскальзывали и интересные мысли, например, утверждение о том, что Ветхий Завет — книга иудейская и что все в ней — истинная правда и что у евреев — прямая связь с Б-гом и что, как ни крути, Б-г — Он один для всех… Но сам стиль речи не оставлял сомнений в том, что перлы мудрости в ней если и рассыпаны, то лишь для завлечения пытливой юницы в сети соблазна.
Поначалу я было развесила уши, а потом — смотрю, не к тому дело клонится. Слезла с подоконника и осторожно пригнулась, чтоб о притолоку кельи не ушибиться.
— Ладно, — говорю, — вы тут вашего Пантелеймона заканчивайте, а я, пожалуй, пойду себе.
— Как? Уже? Но мы же только-только подошли к самому главному! Подождите! Я вам календарик церковный подарю! С посвящением!
Реставратор чуть было не выскочил из-за стола, разведя руки в изумлении от моего ухода и разочарования, им, видимо, по этому поводу испытываемого.
…Быстрыми шагами я пересекла коридорчик и толкнула дверь во двор. Январский снег на земле искрился так, что глазам становилось больно. По двору огромного монастырского комплекса расхаживали группы интуристов с экскурсоводами, щебетавшими на самых разных языках.
Вот нормальные туристы, ходят на экскурсии, получают стандартную информацию обо всем… Одна я лезу внутрь, в лабиринты, все доискиваюсь какой-то особой правды… …11 января. Когда встречаю Ляха в университете, то избегаю разговоров с ним, не имея мужества прямо отказаться от участия в его мафии. А что будешь делать? Это ведь было так по-киношному заманчиво — сидели, обсуждали детали авантюры, оговаривали плату, условия контракта… Тогда, десять дней назад, я уже почти обещала сотрудничать с ним. Если сейчас откажусь, то вдруг он начнет мстить? Боюсь попадаться ему на глаза… …13 января. Занесло меня в гостиницу Россия. Антрепренер Аллы Пугачевой (так, во всяком случае, значилось на его визитке) зазвал в гостиничный номер, якобы для прослушивания и определения вокальных способностей (это была моя идея — попробовать петь если уж не на клиросе, так на эстраде). Мужик оказался конкретный, закрыл дверь на ключ и… что сказать? — дралась, кусалась, — вырвалась. Злой и разочарованный антрепренер в конце концов открыл дверь и выпустил меня из комнаты, обозвав вдогонку холодной рыбой.
— Не все то рыба, что из рук ускользает, — находчиво ответила я, хотя была страшно перепугана этой историей… Сердце колотилось от ужаса. Мое спасение было абсолютно невероятным. Я даже и не надеялась, что этот маньяк меня выпустит… Теперь, когда с моими вокальными способностями все было ясно, мне почему-то расхотелось искать дальнейших приключений. Я смирилась с контролем тети Милы, поняла, что лучше ее просто слушаться и не беситься… Стала давать внучке тети Милы ежедневные уроки по музыке, чтобы хоть отчасти проявить благодарность за ее гостеприимство и житейскую мудрость.
Итак, она оказалась права. Она помогла мне понять, какая жизнь не для меня. Ну, а что же способно заполнить мою жизнь действительно достойным содержанием? Неужели только учеба? Но что стоит и учеба, если результат ее — цинизм и душевный вакуум?
В синагоге города Ростова мне в свое время открыли, какой год является настоящим годом от сотворения мира. Может быть, там же мне могли бы помочь осознать и другую, не менее важную, вещь: для чего они, все эти годы? И что такое настоящая жизнь?
С этой мыслью я отправилась на поиски московской синагоги.
Конец цитаты
из дневниковых записей
11. Марьина Роща
Небольшой деревянный дом, окрашенный в голубое, стоял на задворках массивного, жутковатого здания КГБ. Я отыскала этот синагогальный дворик с забором и калиткой в пятницу вечером, потратив на поиски и расспросы добрую пару часов.
Поверх фасадного окна виднелась резная деревянная звезда под крышей, звезда Давида, памятная мне еще по ростовской синагоге. А на калитке при входе во двор что-то завернутое в целлофан висело по правую руку от входящего. Снег покрывал зубчики голубого забора и весь двор, а также покатую крышу синагоги.
Странное чувство, чувство возвращения в родной дом, заставило меня остановиться и снова и снова обводить этот заснеженный дворик ошарашенным, узнающим и расплывшимся от слез взглядом.
О Г-споди, как совершенны
Дела Твои, думал больной.
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Как сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Б-же! Волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
…Прочтя наизусть пастернаковские строчки несколько раз и полностью прочувствовав все описанные в них симптомы тоски по Всевышнему, я двинулась ко входу в синагогу. Дверь легко и скрипуче отворилась, за нею были сени, затем еще дверь — и коридор. Из нижнего зала в коридор доносились звуки то ли учения, то ли молитвы.
Пребывая в трансе узнавания, я вбирала в себя это древнее святое бормотание, одновременно чутко улавливая запахи — старых книг, слежавшейся одежды, отсырелых досок и какой-то особенной еды с луком.
По лестнице, темной и узенькой, быстро спустился в коридор некий бородатый человек, который поспешно обратился ко мне:
— Слушайте, зажгите нам свечи! Вы еврейка? Шабос, шабос скоро! Поднимитесь в женское отделение!
То, что я проигнорировала его вопрос, еврейка ли я, почему-то послужило для него доводом, что это, несомненно, так, и он привел меня в женское отделение на втором этаже и указал:
— Вот здесь женщины молятся. А свечи зажгите нам в столовой.
Мы проследовали в столовую — также на втором этаже — и он поспешно подал мне коробок со спичками.
— Зажигайте!
Я как во сне поднесла зажженную спичку к двум свечам.
— Закройте глаза ладонями. Скажите: Борух Ато… Слово в слово за ним я произнесла требуемое благословение на древнееврейском.
— Гут шабос, — сказал человек и вышел.
— Гут шабос, — отозвалась я знакомым мне по книгам Шолом-Алейхема выражением, все еще вглядываясь в маленькие, нежные язычки пламени.
— Гут шабос, гут шабос, — медитировала я с нарастающим счастьем.
В столовой стоял запах селедки, винегрета, свежеиспеченного хлеба и, пожалуй, водки.
— Гут шабос, — пропела я кастрюлям и бутылкам.
В женском отделении, куда я вышла из столовой, никого не было. Стояли простые деревянные стулья и скамьи, перегородка, за которой виднелись книжные шкафы и учебная доска — наверное, тут и преподавали иврит для отъезжающих.
Женское отделение было, собственно, обрамлявшим нижний зал балконом, галереей. Я приникла к перилам и увидела нижний молитвенный зал. Там были люди, обращенные лицами все в одном направлении — туда, где стоял некий покрытый тканью с вышивкой шестиугольной звезды шкаф, по обеим сторонам которого горели свечи.
Среди молившихся были и молодые, и старые, и неказисто одетые, в шапках-ушанках, и элегантные, в черных шляпах и во фраках пушкинской эпохи, однако почти все бородатые.
Молились с книгами в руках, то сидя, то вставая, иногда повышая голоса и вторя ведущему, а то вдруг замирая в абсолютной, трепетной тишине уединения. В конце недолгой молитвы несколько молодых парней принялись танцевать, ухватясь друг другу за плечи, с громким и дружным пением. Евреи, евреи, — взволнованно говорила я про себя.
— Гут шабос, — произнес женский голос за моей спиной.
Я обернулась.
Судьбоносная, как сказал бы Горбачев, минута в моей жизни наступила.
12. Сара
Сара была, в отличие от меня, типичной еврейской красавицей с черными умными глазами, бледной, чуть ли не белой кожей и блестящими черными волосами. А одета она была как принцесса — в черное приталенное платье с белым кружевным воротничком, что заставило меня устыдиться за свои потертые джинсы.
— Тебя с рождения звали Сарой? — недоверчиво спросила я после того, как она представилась.
Как это возможно, чтобы советскую девушку звали Сара? Она ласково улыбнулась и жестом пригласила меня в столовую.
— Идем, сейчас кидуш будет. За едой познакомимся получше, и я тебе расскажу, если хочешь, как получилось, что я Сара.
Мы зашли в столовую, где уже собрались все мужчины, и, скромно стоя поодаль от них, ответили что-то вроде Аминь на произнесенное раввином благословение на бокал вина. Вслед за Сарой я отпила вино из поданного нам тускло-серебряного кубка, а затем она набросила на мое плечо полотенце и объяснила, каким образом нужно мыть руки на хлеб.
Вот чудеса-то! Даже мыть руки — это, оказывается, еврейское дело… — подумала я. — И вино пьют здесь тоже как-то особенно, по-еврейски. Я повторила за Сарой благословение на мытье рук — и впрямь, мои собственные руки ощутили некую святость, появившуюся в них вместе с чистотой.
Сюрреализм какой-то, — решила я.
Мужчины заняли длинный стол, а мы с Сарой примостились в смежной со столовой кухне, где уютно теплились укутанные полотенцем кастрюли с едой на плите, накрытой какой-то железной пластиной.
— А почему огонь накрыт? — заинтересовалась я. Сара деликатно поднесла палец к губам и передала мне кусок хлеба.
— Скажи: Борух Ато… Я сообразила, что опять требовалось произнести благословение. Я была послушна, так как осознавала, что это не просто застывший ритуал, а что-то очень живое и насущное.
Сказав благословение, я увлеклась вкусным хлебом и забыла о вопросе, который хотела задать.
Мы положили себе в тарелки винегрет, селедку, салат из тертых яиц и принялись за еду.
Мужчин мы могли слышать, но не видеть. Через приоткрытую дверь доносились их разговоры на русском, идише и английском языках, перемежаемые смехом и стройным пением. Отблеск субботних свечей из столовой на кухню не доходил, но духовно наполнял и ее, придавая всему какую-то возвышенность.
— …Меня вообще-то Катей звали, — возобновила разговор Сара, — еврейское имя я сама взяла.
Что значит взяла? Имя дается родителями! — мысленно воскликнула я, но решила не перебивать Сару.
— Мой отец, видишь ли, еврей, а мама русская. Я всегда к Б-гу тянулась, но о синагоге ничего не знала.
Я понимающе кивнула — что и говорить, ситуация весьма знакомая, похожая на мою.
— …Поступила я в университет, — продолжала Сара, — на исторический факультет… — А я на журналистике учусь, — вставила я реплику, не утерпев.
— Да? А где ты живешь? В общаге?
— Нет, у тети в Люберцах. А ты — в общаге?
— Нет, не дай Б-г в таком месте жить… Я, к счастью, москвичка.
— Ясно. Ну, давай, рассказывай дальше, извини, что перебила.
— Так вот, два года назад я поступила в университет, и в один прекрасный день подходит ко мне парень и говорит: Катя, почему ты не ходишь в синагогу, ты ведь явная еврейка. Приходи на субботу! Мне стало интересно, а этот парень — он, кстати, тоже здесь присутствует, — привел меня на ближайший шабос сюда, в Марьинку. Сразу представили меня реб Довиду — я тебе покажу его — и расспросили о семье. Тут же выяснилось, что по еврейскому закону, по Торе, никакая я не еврейка.
— Почему? — воскликнула я, представив себе разочарование Сары.
— Потому что определяют по матери, а не по отцу.
— Правда? Ну, и что же ты могла поделать?
— Я не только могла, я и сделала, — сказала Сара, просияв всем своим чудным ликом, — я прошла гиюр.
— И тогда тебя назвали Сарой?
— Ну да.
— А гиюр — это что, посвящение в еврейство?
— Да, вроде того.
— Здорово, — вздохнула я, — значит, еврейское имя получаешь только если проходишь гиюр. А если мне, например, его не надо, то я и имя получить не могу? Жаль. Мне так хочется быть Эстер!
— Ты хочешь взять имя Эстер? — переспросила Сара.
— Очень! У меня так и звучит в ушах: Эстер бас Голда.
— Кто это — Голда?
— Моя мама. То есть она Галина Семеновна, но Циклоп сказал, что она Голда.
— Кто сказал? — совсем запуталась Сара.
— Ну, учитель один. Он евреев не любит. И он так насмешливо сообщил мне в свое время, что имя моей мамы — Голда. В тот же день я утянула мамин паспорт, чтобы заглянуть в него. И точно, там было написано, что она еврейка! Но вместо Голды было Галина.
— Почему ты не спросишь об этом у самой мамы? — удивилась Сара.
— Я спросила. Тогда мама мне и рассказала, что ее родители были евреи. Но распространяться на эту тему она не любит.
— Понимаю, — отозвалась Сара. — Во всяком случае, имя Эстер ты спокойно можешь взять. Реб Довид объяснит тебе, как это делается. А кстати, в следующем месяце будет Пурим, праздник королевы Эстер! Ты здесь появилась как раз вовремя!
Сара встала из-за стола, чтобы подать на мужскую половину второе блюдо — им оказалась горячая разваристая гречневая каша — после чего снова уселась и продолжала разговор.
— Скажи-ка, — переменила я тему, — эта община — как бы подпольная? А все эти иностранцы — раввины?
— Иностранцы — это прежде всего люди Ребе, не обязательно раввины.
— Какого Ребе?
— Любавичского. Он в Бруклине живет и уже долгие годы поддерживает все еврейские общины Союза. Посылает еду, книги, учителей… Благодаря ему все и держится. Раньше было очень тяжело, постоянное давление, слежки, угрозы… Сейчас посвободнее стало. Конечно, все мы под колпаком. Но уже можно одновременно и посещать синагогу, и сохранять место работы или учебы. Это, по крайней мере, позволяет молодежи приходить сюда без каких-то серьезных осложнений. Для парней уже есть иешива, они здесь и спят, и учатся. А девиц, кроме нас с Дорой, больше пока нет.
— Кто это — Дора?
— Приходи завтра утром на молитву, познакомишься, — ответила Сара, дуя на горячую кашу.
— Завтра — вряд ли, — неуверенно сказала я.
Во-первых, утром по субботам есть занятия в университете. Во-вторых, не слишком ли быстро я позволяю втянуть себя в этот внезапно открывшийся мне еврейский мир, так резко отличающийся от привычной реальности?
На сладкое Сара раздала всем какое-то простенькое домашнее печенье, после чего мужчины занялись произнесением застольной молитвы.
Мои свечи догорали.
Москва лежала в снегу — огромная, важная, надменная. Москва и не знала, что есть тут, в районе Рижского метро, в Вышеславцевом переулке, маленькая деревянная синагога, уголок духовного Израиля.
Небо — знало, судя по хитренькому мерцанию звезд, но не выдавало тайну. Снег не был антисемитом. Он нежно убелял все постройки, и синагогу тоже.
Мы с Сарой спустились по лестнице к выходу. Она приложила палец к дверному косяку и объяснила мне:
— Видишь, прибита мезуза. Внутри нее — пергамент с главной еврейской молитвой Шма.
На воротах во дворе также имелась мезуза, и я решила последовать примеру Сары и тоже поцеловать приложенные к мезузе пальцы.
Меня охватило ощущение святости, исходившее от моих собственных пальцев.
— Очень интересно, — только и сказала я.
Сара проводила меня до автобуса, и мне показалось, что она колеблется, сказать мне что-то или нет.
В конце концов она лишь спросила:
— Тебе далеко ехать, да?
— В Люберцы.
— А… Ну, давай, пока. Я тут близко живу. Счастливо!
Мы попрощались, и я со странным чувством вошла в автобус. С меня точно слетела вся чудная святость субботы, и я с ощущением внутренней пустоты оплатила проезд и уселась рядом с парнем в наушниках, который внимал рок-музыке и экстатично дрыгал ногой в такт.
13. Сон и реальность
Через несколько дней после этого шабоса я увидела сон, который был странен, как все человеческие сны, ибо к чему так подходит слово странный, как не ко снам, однако было в нем, помимо присущей всем снам странности, и что-то пророчески-ясное, загадочное, но подлежащее разгадке в будущем.
…Я смотрю на заброшенные рельсовые пути посреди степных трав и слышу во сне, как мне говорят — это Любавичи. Иду вдоль заросших травой рельсовых путей. Рельсы кончаются. Я останавливаюсь. Озираюсь по сторонам. Сбоку от путей нахожу некое строение, похожее на станцию метро, начинаю идти. Спуск в подземный зал. Люди. Одеты — как те мужчины, которых я видела в Марьинке. Впрочем, есть разные. Центр их внимания — старый и очень сияющий человек. Он смотрит на них, собравшихся в этом огромном подземном зале. Стоя на возвышении и безмолвно обращаясь к ним, он делает движение снизу вверх обеими руками, как бы говоря:
— Летите. Летите. Вот так! Выше!
Он побуждает их подняться над собой, над реальностью, над физическим. Они пробуют и вздымаются на метр-два над полом. Я тоже с усилием поднимаю себя и зависаю в воздухе.
Это длится долго. Попытки и взлеты. У всех хоть как-то, да получается. Ребе улыбается и неустанно делает круговое, ободряющее движение руками. То, что это Ребе, я понимаю с чьей-то подсказки, точно так же, как поняла вначале, что местность называлась Любавичи.
Это был сон.
Проснувшись, я тут же решила ехать в синагогу, чтобы найти Сару и спросить ее, что бы такое видение могло означать.
Я застала ее в верхнем отделении синагоги за перебиранием книг в одном из старых деревянных шкафов. Даже не здороваясь, с ходу принялась рассказывать:
— Слушай! Мне снился Ребе. И Любавичи. И рельсы какие-то посреди степи. К чему бы это?
Сара удивленно выслушала эти и другие подробности, продолжая в то же время возиться с книгами, а вместо ответа на мой вопрос принялась рассуждать:
— Ну и чудеса! Я думала, что ты в синагоге больше ни разу не появишься! Такой у тебя был вид в субботу… скептический, отчужденный. А ты вдруг опять прибегаешь, да еще сон просишь разъяснить!
Действительно, подумала я, почему этот сон сразу заставил меня примчаться в синагогу? Подумаешь, сон! Вон у монашек-то в монастыре каждый день видения случаются… Сны — это несерьезно.
Сара прервала мои мысли вопросом:
— Какой Ребе тебе снился? Вот этот?
И положила на стол маленькую черно-белую фотографию.
Меня аж пробрало!
— Этот! Этот! И руками все вот такие круги делал, будто нам на воздух подняться велел.
— Ну, бывает, — спокойно сказала Сара. — Ребе как кому захочет помочь из тьмы на свет выбраться, так тому и приснится. Это даже скорее не сон, а проявление твоей Б-жественной души. Твоя душа как бы проснулась.
— Что ты имеешь в виду?
— Что тебе надо к Торе приблизиться, к заповедям.
— К Торе? Что за Тора?
— Ветхий Завет знаешь? Вот это Тора и есть. Только никакая не ветхая, а — вечная.
И она показала мне древнюю книгу с тиснеными тусклыми буквами на громоздком коричневом переплете: Т–О–Р–А. Не по-русски, а по-еврейски, конечно. Я вгляделась в эти буквы, и мне захотелось их поцеловать. Но я постеснялась. А Сара вытерла с книги пыль и, поцеловав, поставила обратно в шкаф.
Я подумала: раз эта Тора такая недоступная, такими дивными буквочками написана, то как было бы здорово ее изучить!
Усевшись, по университетской привычке, на стол, я небрежно сдвинула к краю лежавшие на нем книги, и заговорила, взволнованно жестикулируя:
— Слушай, Сарка, научи меня по-еврейски читать! Хочешь — буду каждый день приходить!
Сара почему-то насупилась.
— Во-первых, слезь со стола. Не видишь, святые книги на нем лежат? Да и не принято у евреев на стол усаживаться! Стол — он как жертвенник. И уж не думаешь ли ты, что у меня слишком много свободного времени? Я вон сколько полок еще протереть должна!
— Извиняюсь.
Я в смущении слезла со стола, при этом удивившись, чем это он похож на жертвенник и что вообще это слово означает.
— Ну, уж так и быть: алфавит еврейский я тебе покажу, — сказала Сара.
Мы уселись рядом, и она открыла передо мной книгу, на первых страницах которой был изображен еврейский алфавит.
— Это — Алеф. Выглядит как палочка, соединяющая верхний и нижний крючочки. Это как бы символ: мы, люди, внизу, а Б-г — наверху, и у нас с Ним устанавливается связь. С помощью чего? Изучения Торы и соблюдения заповедей, мицвот. Поняла?
Понимать я не старалась. Я просто… поглощала Сарины речи, а понимание шло само собой. Когда человек ест что-то необыкновенно вкусное, что ему надо при этом еще понимать? Ничего! Вот так и у меня с этими буквочками — в них был такой внутренний свет, что, казалось, вовеки от них отрываться не захочешь. Весь алфавит за пару часов вошел в меня как по волшебству. Алеф, Бейс, Вейс, Гимeль! Шин, Тов, Сов! Я готова была целую вечность сидеть и вглядываться в причудливые буквы, разрисовывать ими листы в толстой тетради по политэкономии.
Сара увидела, что я легко схватываю, и поспешила меня озадачить:
— Главное, да будет тебе известно, это не учение. Учение тебе может показаться легким и приятным. Но главное-то — это соблюдение заповедей. А тут легкой жизни не жди! Меня вот, например, целых два года проверяли, соблюдаю ли я все заповеди как положено — и только потом гиюр сделали. Быть евреем — это целая работа! Столько всяких правил, ограничений!
— Ну, и хорошо, что есть ограничения, — вдруг сказала я, — мне уже надоело жить без ограничений. Дворняжка уличная пусть живет без ограничений!
— Ты вряд ли отдаешь себе отчет, о каких ограничениях идет речь. Я ведь тебе еще ничего не рассказала!
— Зато я и без твоих рассказов знаю, каково жить без ограничений. У нас, например, в университете — нет никакой разницы между парнями и девицами: все одинаково одеты в джинсы, с одинаково распущенными патлами ходят, вперемежку спят, вперемежку прыгают на дискотеках… Разве это нормально? Раньше я думала, что нормально. Я никогда не задумывалась о том, в заключается достоинство или какая-то особая роль, скажем, девушки! У меня и мыслей таких не появлялось, пока я тебя не увидела. Ты ВЕДЕШЬ СЕБЯ по-особенному, как бы сказать… вот именно… КАК ДЕВУШКА!!! Это же просто потрясающе! И если для того, чтобы быть такой, как ты, нужно принять на себя всякие ограничения, то я, пожалуй, с удовольствием приму.
Сара выслушала сии сбивчивые речи, кивнула величественно, как королева, и лишь поправила кружевной воротничок своего черного платья.
Мы договорились, что снова встретимся в синагоге в ближайшее воскресенье. Но мое нетерпение познавать все больше и больше было так велико, что я примчалась в синагогу уже на следующий день. Сару, правда, не застала, но зато просидела целых два часа в женской галерее, перебирая старинные книги, пытаясь узнавать разученные буковки, наслаждаясь самим фактом пребывания здесь, в Марьинке, проникаясь ее святым воздухом, прислушиваясь к беседам мужчин, изучавших Тору в нижнем зале. Даже заплакала почему-то — снова думая при этом пастернаковской строкой:
— О Г-споди, как совершенны дела Твои! … А еще, ни с того ни с сего, у меня в голове пронеслась мысль: вот бы вообще отсюда никогда не уходить! Посуду бы мне им мыть, этим загадочным еврейским мудрецам, полы бы для них драить, что хотите поручите — только дайте остаться здесь навсегда!
И сказала я, обращаясь ко Всевышнему, на этот раз своими словами, не пастернаковскими:
— Г-споди, вот я Тебя и нашла. Спасибо, что привел меня к Себе. Как бы я скиталась всю жизнь, не зная, где Тебя искать? Разве ж можно жить, не зная Твоей воли? А теперь уж дай мне поплакать вволю, ухватясь за деревянные перила галереи и прижимаясь к ним мокрыми пальцами, мокрыми щеками. А уж если зарыдаю во весь голос, то и тогда не взыщи, потому как… люблю я Тебя, благодарю я Тебя, ликую от счастья, так бы и завопила — ибо приблизил Ты меня к Себе настолько, что, кажется, больше уже и некуда!
Интонация у меня пошла, как в плохой русской литературе. Была такая довольно бездарная церковно-славянская литература до Карамзина. Увы, из меня полезло все то русское, что во мне было, и именно так я в своих мыслях изъяснялась, таким напыщенным и судорожным слогом. Однако из песни слов не выкинешь, и потому я передаю все как есть. Я уважаю в себе те чувства, которые тогда испытывала, они были очень, очень искренними… Мужчины в нижнем зале начали молиться. Я плакала себе одна, не могла сдерживать спазму в горле — а потом наступило просто счастье, тихое благодарное спокойствие. У них там, внизу, закончилась молитва, а я тоже свою молитву, свою сокрушительную, страшную, душераздирающую минуту истины пережила, и все прошло, улеглось. Переродилась. Теперь уж больше душа моя не уснет и от Б-га никогда не оторвется, не позволит никому и ничему заслонить от нее истину!
После этого я поехала в университет и… чуть не задохнулась от атмосферы бездуховности, которая там царила. Какие-то мелкие интересы, страстишки, официоз, лживость… Лях, мой неудавшийся работодатель, подошел и подозрительно посмотрел на меня, все больше убеждаясь, что я его избегаю, а я вдруг увидела его абсолютно неживым, мертвым, как статуи в костеле. И не испугалась ничуть ни необходимости ему отказать, ни возможной мести агентов его мафии!
— Что такое с тобой? — написал он в записке, которую перебросил мне во время следующей лекции. Я взяла ручку и быстро нацарапала следующие строчки эпиграммы:
— Ляху.
Ты очень тих — и внутренне застрелен.
Как храм, где нет молитвы уж давно.
Ты движешься к весьма разумной цели…
Лишь сердце католически темно.
Прочитав сию эпиграмму, Лях перестал меня преследовать. Очевидно, в ее скупых строчках ему открылось нечто, что сделало и без объяснений понятным мой отказ от предложенной им львовской авантюры.
Я с трудом высидела несколько лекций, думая только о своем и разрисовывая еврейскими буквами листы в толстой тетради.
Нет здесь жизни. Нет воздуха. Нет воды.
Надо бежать. Куда? К евреям, которые заняты изучением и исполнением Б-жественной воли. Там есть ощущение жизни, родниковой воды, чистого воздуха.
После лекций заканчиваю работу в читальном зале, где надо было выбрать главные идеи из нескольких книг, прохожу мимо университетской столовой, и запах мясного борща почему-то ужасает меня, точно это не мясо, а падаль, мертвечина.
Что со мной происходит?
Этот очищающий сон, лицо светлого человека — Ребе, слово Любавичи, произнесенное кем-то так внятно посреди степи… Сара, прекрасная гордая Сара… Возьми меня с собой, в этот мистический чудный мир, еврейский мир!
…Очередной сокурсник пытается познакомиться со мной на выходе из университетского здания.
Как бы Сара на такое реагировала? — пыталась сообразить я. Вообще-то это лестно, когда с тобой хотят познакомиться. Но обычная светская реакция — улыбнуться и пококетничать — мне почему-то сейчас не удавалась. Не потому, что я строила из себя недотрогу. Просто что-то мне мешало действовать по банальному образцу. В сознании у меня засветился некий новый эталон поведения, к которому я начинала тяготеть.
Я посмотрела на ситуацию Сариными глазами.
Я — выше этого. Ко мне так запросто не подходят. Вот к Саре бы никто не стал так приставать, а у меня, наверное, что-то вызывающее в облике, что-то нескромное. Да, что и говорить, Сара — королева. Учиться у нее надо. Этот поток сознания отразился, надо полагать, на моем лице, ибо парень утратил бойкость, глянул на меня с удивлением и отошел.
Еще более ярко мое впечатление от знакомства с Сарой проявилось в уже упомянутом мною любопытном факте: я стала брезгливой к нееврейской еде. За неимением ничего другого я ее ела, но чувство было премерзкое. А откуда было взять еврейскую еду? И что это вообще означает — еврейская еда? Каковы требования к ней?
…Изголодавшись морально и физически по синагоге, я пришла туда вновь, уже не в брюках, а в платье, что свидетельствовало о некотором прогрессе в работе над собой.
Было воскресенье, единственный свободный от университетских занятий день. Я увидела нижний зал синагоги открытым и полным детей. Среди шума было трудно понять, что здесь происходит. Присмотревшись, я поняла, что у каждой группы детей есть учитель, просто за неимением классных комнат все учатся в одном зале.
Сара вела урок, сидя в уголке, окруженная ребятишками.
— О, Эстер! — воскликнула она, увидев, что я пробираюсь к ним. Я испытала внутреннюю дрожь при произнесении ею этого столь желанного мною имени.
— Привет. Посиди с нами, я скоро заканчиваю, — предложила Сара.
В руках у нее была красочная книга, присланная, видно, из-за границы, судя по качеству печати и смелому названию Еврейская традиция. В Союзе таких книжек не видел никогда и никто, по крайней мере, до перестройки.
— Итак, Авраам-авину был сыном идолопоклонника Тераха, — рассказывала Сара, — и в доме у них шла торговля статуями идолов. Однажды отец уехал на рынок и поручил Аврааму торговать за него в лавке. Что сделал Авраам?
— Разбил все фигурки, — сказала одна девочка.
— Верно. А теперь послушайте, чем все кончилось. Этого я вам еще не рассказывала. Авраам, оказывается, разбил не все фигурки. Одну, массивную, статую идола он оставил.
— Зачем?
— Сейчас узнаете. Мы сказали, что отец Авраама уехал на рынок. Так вот, когда он вернулся и увидел, что в лавке полный разгром, он стал кричать на сына. А Авраам спокойно ответил, что он тут ни при чем. Просто идолы передрались между собой и расколотили один другого, а этот, большущий, вышел победителем. Терах стал смеяться, а Авраам сказал отцу: Вот видишь, ты и сам в идолов не веришь и смеешься. А зачем же ты торгуешь ими и морочишь людям голову? Эту историю я слышала впервые. Вспомнив про своих божков в тумбочке, я осознала, что это не такая уж невинная вещь — держать в доме идолов. Надо бы мне своих тоже расколотить при случае, когда поеду в Ростов. Ведь, если вдуматься, в свое время я этих божков действительно считала способными управлять событиями человеческой жизни!
Сара завершила урок записью домашнего задания и отпустила детей на перемену.
— Интересный урок, — сказала я, — это каждый день у вас такие занятия?
— Конечно, нет. Это ведь Воскресная Школа. Я рада, что тебе понравилось. Хочешь пойти со мной на обед? Заодно я тебя представлю реб Довиду.
Сара предварила наше знакомство с реб Довидом некоторыми данными о нем. Оказывается, он был единственным на весь Союз настоящим раввином. Он сумел в советских условиях приобрести тот же уровень знаний, какой дается в зарубежных раввинских институтах. Химик по специальности, он перешел к изучению Торы под влиянием посланников Ребе и добился невероятных успехов.
Как только Сара сообщила мне это, конечно же, мое любопытство возросло, и я приготовилась увидеть этого гения.
Он стоял в дверях столовой — высокий молодой человек с каштановой бородой доброго дедушки — и разговаривал с библиотекаршей Дорой, о которой Сара тоже мне немного рассказала. Реб Довид произвел на меня впечатление своей лучистостью, лучезарностью, которая пряталась в его карих внимательных глазах. За ласковым тоном его речи, однако, чувствовалось наличие духовной несгибаемости и сильнейшего внутреннего стержня. Но еще не зная его лично, я могла лишь догадываться об этом.
Дора казалась женщиной лет сорока, лицо ее обрамлял черный гладкий парик, в руках у нее была стопка книг, и весь вид ее выражал благоговение перед объяснявшим ей что-то реб Довидом.
Сара дождалась, пока реб Довид закончит разговор, затем представила меня ему и Доре.
— Это Эстер из Ростова.
— Из Ростова? — обрадовался реб Довид, — из святого города Ростова?
Я подумала, что он шутит, ведь обычно говорят — Ростов-папа, Одесса-мама, имея в виду бандитизм и мафию. Однако реб Довид пояснил свою мысль:
— В Ростове есть могила праведника, пятого Любавичского Ребе. Так что тебе повезло. Надолго ты в Москву?
— Я в МГУ учусь, на первом курсе.
— Понятно. Сара тоже, если я не ошибаюсь, студентка МГУ.
— Я на историческом, а Эстер на журналистике, — добавила Сара, после чего спросила:
— Реб Довид, вы обещали нам организовать урок для женщин. Смотрите, уже трое желающих! Может быть, назначим время?
— Может, и назначим, — усмехнулся реб Довид, — а ты уверена, что Эстер тоже хочет изучать Тору? Ты ее об этом спросила?
Сара замялась, а я поспешила ее выручить:
— Да, конечно! Мы с Сарой обе хотим!
Дора присоединилась к нашим просьбам, и было решено, что сделаем по средам урок по философской книге Тания.
У реб Довида была очень мягкая манера реагировать на все: и ирония, и радость выражались полутонами, нюансами.
Тонкий человек, подумала я. И очень чистый.
На первом уроке по Таниия услышала от реб Довида очень много новых слов и понятий. Я принялась записывать их в одну из своих университетских тетрадей. И вот что это были за понятия:
ХАБАД — аббревиатура из трех терминов, выражающих последовательность основных этапов постижения: 1 — Зерно мудрости, озарение новой идеей, 2 — Логическое построение, развитие этой идеи, 3 — Применение этой идеи на практике.
Любавич — местечко под Витебском, с которым связано начало хабадского движения, а в честь этого местечка и само движение получило имя Любавического.
Хасиды ХАБАДа — верующие евреи, которые в своем служении Всевышнему прежде всего опираются на концепцию подчинения своей эмоциональной сферы — разуму, а, в свою очередь, человеческого разума — Высшему Разуму Б-га. Хабадское движение существует более двухсот лет, оно является и новаторским, и в то же время традиционно-ортодоксальным. Лидер Хабадского движения — Ребе. Нынешний Ребе проживает в Бруклине и является седьмым по счету, хронологически, в династии Шнеерсонов. Все Шнеерсоны ведут свою генеалогию от царя Давида.

Сара и Дора, скорее всего, уже знали эту информацию, но слушали реб Довида с живейшим интересом. А потом он начал говорить такие вещи, которые и им были новы: например, об истории создания книги Тания и о том, на какие пять частей она подразделяется. Затем реб Довид начал переводить с иврита начало первой главы, слово за словом. И я впервые в жизни узнала, как выглядит первая страница Тании, держа в руках эту книгу с таинственными буквами и пытаясь постичь ее Б-жественный смысл.
Реб Довид говорил просто, но слова складывались в мелодию. Во всяком случае, в моих ушах.
Заклинают его (человека): будь праведником и не будь грешником. Так написано в Талмуде. Если сказано будь праведником, то зачем еще раз повторять другими словами то же самое — не будь грешником? Быть может, это не просто повтор? Что скрывается за этим кажущимся многословием? На самом деле, речь идет о двух возможностях. Первая — Будь праведником. Это — как бы программа-максимум. А вторая — Не будь грешником, это — программа-минимум. Как назовем человека, который не грешник, но и не праведник? Назовем такого — Средний, на иврите — Бейнони. Значит, существуют три статуса: праведник, грешник и Бейнони. Герой книги Тания — это именно средний, то есть Бейнони. Человек, потенциал которого не предполагает, что когда-либо он сможет стать абсолютным праведником, разве что случится чудо. А в реальности его выбор заключается в том, чтобы предпочесть путь Бейнони пути грешника. Кто же его заклинает и при каких обстоятельствах? Заклинает ангел. Слово заклинает может быть истолковано в переводе с иврита и как насыщает, снабжает всем необходимым. Душу, которая готовится спуститься в этот мир, специальный ангел заклинает избрать путь Бейнони, а заодно и оснащает нужными для выполнения этой задачи душевными силами.
Урок закончился. Сара с Дорой тут же принялись о чем-то шептаться, и я не стала им мешать. Да мне и не хотелось ни с кем разговаривать. Иногда человеку лучше побыть наедине с собой, чтобы не выплескивать информацию и эмоции наружу, а, наоборот, углубиться, погрузиться в свою же собственную обновленную душу. Я вышла из синагоги, миновала Вышеславцев переулок и побрела по широкой заснеженной улице, осмысливая услышанное.
События последующих трех-четырех дней дали мне еще большую пищу для размышлений.
…Стояла мощная, нахрапистая зима. Москва как раз на той неделе содрогалась в конвульсиях денежной реформы. А солнце светило себе, как будто ничего не замечало: ни сорокаградусного мороза, ни того факта, что старые денежные знаки — сто, пятьдесят и двадцать пять рублей — были внезапно отменены правительственным указом.
Люди бегали со своими сбережениями как безумные, пытаясь поскорее избавиться от устаревших купюр, обменять их на новые. А в сберкассах стояли очереди как в войну — за хлебом. И, когда рабочий день подошел к концу, кассирши хладнокровно захлопнули окошечки перед самым носом у многочисленных трудящихся — рабочих, крестьян, прослойки интеллигенции, и представители всех этих неантагонистических составных частей советского общества либо возопили к небесам, либо выместили обиду в кулачном бою, либо упали в обморок… Были и такие, которые скончались в тот же день от инфаркта, переволновавшись. Шутка ли? Все накопленные деньги, которые человек не успел обменять, превратились в прах!
Вчера еще можно было за эти бумажки купить многое, даже чью-то, скажем, совесть, если пообещать (как тот же Лях) много денег. Для скольких людей эти крупные купюры были божком! И вот — божки повергнуты в прах… Тяжелое переживание, а?
А в синагоге Марьиной рощи никто не суетится, не волнуется.
Евреи сидят себе над книгами. Тора ведь — вечная ценность, никто и никогда ее не отменит… Заклинают его: будь праведником и не будь грешником… Кто заклинает? Ангел. Когда заклинает? Перед тем, как душа спускается в этот мир… У меня (в русской части моего я) в очередной раз возникает мысль, что, пожалуй, к таким евреям — духовным, кристальным — и я хочу относиться. Хочу, чтобы они считали меня своей. Буду с ними, потому что их путь — прямой. Хочу быть чистой и ходить прямыми путями. Слышишь, Г-споди? Чистой! Ходить прямыми путями! Если уж не дано мне быть праведником, так буду хоть этим, как его называют… Бейнони!
14. Крылья
…Тетя Мила жарила котлеты, предварительно вымочив фарш в молоке, и я, уже знавшая от Сары о еврейских правилах кошерности, упорно сидела в гостиной за пианино и не желала даже показываться в кухне, придумывая, как объяснить тете свой отказ от еды.
Есть эти котлеты я, конечно, была не в состоянии. Но котлеты — это еще что! Суббота в квартире с работающим телевизором для человека, который пытается ее, эту субботу, прожить по-еврейски, — сущее наказание.
И еще одна вещь с некоторых пор мешала мне даже больше, чем телек по субботам и некошерная еда. А именно — то, что и тетя Мила, и члены ее семьи называли меня моим простым, а не еврейским именем. А мне было так необходимо слышать все время — Эстер, Эстер! Имя ведь служит каналом жизненной энергии для еврея. Так мы учили по Тании.
Однако я ничего не говорила тете Миле о своих синагогальных увлечениях из простых соображений такта: ее муж, дядя Сережа, был русским военнослужащим, человеком явно не симпатизировавшим еврейству (когда в том году по радио передавали сводки событий войны в Персидском заливе, он даже выражал удовлетворение от того, что Израилю приходится туго).
Надо бы спросить реб Довида, как мне быть — как соблюдать субботу, как реагировать на непонимание родственников, чем питаться… Я ведь хочу все-все выполнять и ничего не нарушать из того, что написано в Торе.
На одном из первых уроков по книге Тания он объяснил нам, что в обывательском сознании обычно грехи разделяются на тяжкие и легкие. Легкие, думают люди, иной раз не страшно и позволить себе.
На самом же деле эта дифференциация обманчива. Хасид — то есть человек, старающийся выполнить волю Б-га самым наилучшим образом, — не должен быть расчетливым. Не важно, выражается ли воля Всевышнего в сложном или простом, одноразовом или постоянном, этическом или сугубо материальном повелении, — нет, в общем-то, для нас никакой разницы. Важен лишь сам факт Б-жественного желания.
Поэтому, говоря о грехе, мы не определяем его как легкий или тяжелый. В любом случае это — отрыв от Б-жьего желания.
— Но мы говорим, конечно, — добавил реб Довид с мягкой улыбкой, — о сознательных нарушениях. В нашем же поколении и особенно в этой стране евреи так мало знают о Торе, что вряд ли можно кого-то обвинить в сознательном ее нарушении.
— А если нарушаешь несознательно, — спросила я, — то тогда все в порядке?
Реб Довид ответил вопросом на вопрос:
— Ты хочешь, чтобы Всевышний присутствовал в твоей жизни?
— Конечно.
— Тогда тебе следует изучать Его Тору и заповеди и соблюдать их. И стараться, чтобы вся жизнь была проникнула сознанием этого. Бессознательная жизнь — это не для еврея.
— А сколько их всего, этих заповедей?
— 613.
— Батюшки! Это ж ужас сколько!
— Хотите, расскажу вам историю? — сказал реб Довид интригующим тоном.
Мы хотели.
— Так вот, жил был голубь. Самый первый голубь на свете. Сотворил его Всевышний, как и всех птиц, в пятый день Творения. Голубь по каким-то причинам не получил крыльев и не мог летать. Ему было трудно убегать от врагов, и был он такой маленький, что ему все время казалось, что кто-то на него наступит. Пришел он ко Всевышнему и стал жаловаться. Тогда Всевышний дал ему крылья. Через два дня голубь опять пришел и сказал, что с этими тяжелыми перепонками ему стало еще сложнее убегать от врагов. Зачем же ты волочишь их по земле? Ведь это крылья, они для полета! — сказал Всевышний. И голубь научился летать.
Так и заповеди. Они тяжелы лиша тогда, когда не понимаешь их предназначениия. А когда твое сердце раскрывается, заповеди становятся крыльями, которые возносят тебя вверх.
Вот почему я видела во сне Ребе и взлетающих по его указаниям людей! — подумала я, вспомнив о своем сне, — Оказывается, крылья — это заповеди! А Ребе учит евреев тому, как с помощью этих крыльев летать… …Жена реб Довида, Шуламис, показалась на пороге женского отделения синагоги, держа за руки двоих детишек. Увидев папу, они сразу же забрались ему на колени и радостно загалдели. Урок реб Довиду пришлось закончить чуть раньше времени. Мы с Сарой и Дорой попрощались и удалились, поцеловав мезузу.
Природа пробуждалась, мартовский снег розовел в закатном солнце, голые черные ветви деревьев четко вырисовывались на фоне чистого вечернего неба.
Все обычные люди ходили в кино, театры, парки, на дискотеки. Слушали музыку, наслаждались жизнью. На то и весна, чтобы трепетать, волноваться, предчувствовать любовь… А мы, спрашивается, что — не люди? Все человеческие порывы для нас — грех?
Как бы угадав мои мысли, Дора взяла меня за руку, другой рукой приобняла Сару и весело спросила:
— Девчонки, вам замуж не хочется?
15. Женские разговоры
— Замуж? Ну, вот еще, — смущенно ответила я.
Сара заулыбалась.
— А я, например, очень даже хочу, — сказала она откровенно, — только меня наши, местные парни совсем не интересуют. Мне бы хотелось стать женой иностранного раввина. И жить в Америке или в Израиле.
— Неплохо, — поддержала Дора, — а мне пока что надо закончить все дела с разводом, и тогда можно будет думать о чем-то новом.
— А почему вы разводитесь, Дора? — осмелилась спросить я.
— Как сказать… мы давно уже не вместе, — неопределенно ответила она, — а официально еще не развелись. Мне для этого придется специально в Минск ехать.
Мы дошли до метро Новослободской.
— Пошли ко мне, поужинаем, — предложила Дора.
Сара, видно, часто бывала у Доры, потому что сдержанно приняла приглашение и лишь добавила:
— Когда придем, я там у вас минху помолюсь.
И действительно, когда мы пришли в Дорину квартиру, она сразу же раскрыла Сидур и стала читать дневную молитву возле стены.
Я удержала себя от желания во всем ей подражать. Принялась разглядывать плакаты с видами Израиля на стенах, портреты Ребе, альбомы, книги… все, что так явно определяло Дорину квартиру как еврейскую. И мезузы у нее тоже были, прямо-таки на каждом дверном косяке!
А в кухне четко разделялись молочные, помеченные голубой краской, приборы от мясных, на которые был нанесен мазок красной. Это была поистине кошерная, святая, еврейская кухня!
Мы втроем уселись доедать оставшийся с шабоса куриный холодец, и я спросила Дору:
— А каким образом кур делают кошерными?
— Для этого нужен резник, шойхет. К нам иногда из-за границы приезжают специальные посланники и зарезают сразу помногу кур.
— Как раз к Пуриму должны опять приехать, — добавила Сара, — сто пятьдесят кур забить обещали. Только не пугайся: знаешь, кому придется их ощипывать и потрошить? Нам!
Я и не испугалась, для меня звучало не страшно, а очень даже интересно.
…За чаем мы с Дорой и Сарой обсудили международное положение. Ситуация в Израиле была очень напряженная. Еще в декабре начались угрозы Хуссейна подвергнуть Святую Землю бомбежке и газовой атаке. Дора, однако, сказала, что все хасиды Ребе полны абсолютной уверенности в благополучном исходе. Израиль — самое безопасное место на земле, — объявил Любавичский Ребе, — все, что произойдет в ходе конфликта, послужит лишь доказательством неприкосновенности евреев.
16. Пуримские куры
…И Сарино провидение сбылось: во дворике синагоги заквохтали забиваемые спокойным и умелым шойхетом куры, а мы должны были их, еще теплых, ощипывать. Поскольку шел снег, перья, кружась в воздухе и приземляясь, сливались с ним по цвету.
После ощипки надо было немедленно приступать к разделке. К нам подошел высокий, богатырского сложения рыжий человек по имени реб Борух и стал показывать, как и что следует отделять.
— Вот это — легкое. Это раввин должен проверить. Это — зоб. Яички положим в сторонку. Кишки — в мусор. Сейчас реб Довид придет, будет вами руководить. Руки-то мерзнут?
Реб Борух не ограничился этой сочувственной репликой, а тоже вооружился ножом и, не опасаясь за свой талмид-хахамовский авторитет (а он, по отзывам Доры, был весьма выдающимся талмид-хахамом — знатоком Торы), принялся работать вместе с нами.
Рыже-седая борода его была полна снежинок, большие руки покраснели от мороза. Хорошо еще, что у него была теплая шапка-ушанка.
Реб Довид, в такой же шапке, подошел к нам и занялся осмотром куриных зобов, желудков и легких.
— Эта курица — трефная. Пятно видите какое темное! Положите в пакет, можно на рынке продать, — комментировал реб Довид. — Борух, ты сегодня радио слушал?
Наш добровольный помощник молча кивнул.
Реб Довид, перебирая куриные желудки и зобы, говорил:
— В Израиле всем выдали противогазы, народ прячется по бомбоубежищам. Боятся, что Хуссейн перейдет к химической атаке.
Это мы знали. Интересно, что реб Довид собирался добавить к уже известному? Тема была такая животрепещущая, что я даже слегка порезала палец ножом, напряженно ожидая, что он скажет.
— Что-то новое от Ребе? — нетерпеливо спросил реб Борух, — был факс из Нью-Йорка?
— Да, новое. Такое новое, что закачаетесь, — реб Довид торжественно потряс бородой. — В это воскресенье к Ребе подошел американский офицер, еврей, и получил на свои вопросы такой ответ… Мы замерли с ножами в руках и уставились на таинственно замолчавшего реб Довида.
— Ребе сказал, во-первых, что Израиль — самое безопасное место на земле… — Это Ребе и раньше говорил, — перебила Дора.
— …И что никто не пострадает от взрывов… — Ясное дело! Уже столько чудес было… — …И что война закончится в Пурим, — спокойно-решающе поставил точку реб Довид.
В Пурим? Да это же на следующей неделе! Мы с Дорой и Сарой переглянулись. Вот счастье-то! Дай Б-г, чтоб это пророчество сбылось!
А реб Довид уже переключился обратно на кур и, как назло, объявил некошерными целых две… — Батюшки, когда ж мы это все закончим? — заунывала я, окинув взглядом горы кишок, яичек и тушек.
Пальцы мои были грязные, противно-скользкие и к тому же замерзшие.
— Иди погрейся минут пять в помещении, — сказал добрый реб Борух.
Так я и сделала. А зайдя в синагогу с черного хода, увидела возле склада нечто, вселившее в меня оптимизм.
Грузчики вносили на склад ящики с продуктами, и моего знания английского языка хватило, чтобы прочесть на ящиках слова Кошерный сыр! Это после целого месяца, когда я, узнав о том, что магазинный сыр некошерен, вообще его не ела… И вот, через месяц мужественного воздержания, выясняется, что на свете существует кошерный сыр! И что — более того, он уже поступил на склад!
Понятно, что я побежала доделывать куриную работу с живостью и поспешила обрадовать Сару с Дорой сообщением о прибытии сыра.
Они оживились, а реб Борух остался невозмутим — наверное, материальные блага его вообще не трогали, — зато он обратился с предложением к Доре, проявляя заботливость и чуткость:
— Может, вы теперь пойдете погреетесь?
От меня не ускользнуло удовольствие Доры, которая точно расцвела под влиянием душевного тепла, исходившего от реб Боруха.
— Да, пожалуй, — сказала она и пошла мыть руки.
Вот бы они подошли друг другу! — сообразила я. — Реб Борух, видно, одинокий, недаром он в синагоге целыми днями. А Дора оформит свои разводные дела, и им можно будет пожениться… Потом я посмотрела на Сару и занялась продумыванием вариантов ее устройства, одновременно потроша курицу.
Кажется, я понимаю, почему Саре так хочется выйти замуж и уехать за границу, — догадалась я, — ведь в цивилизованной стране ей не придется разделывать кур вручную! Как интересно поворачивалась моя судьба! До 18 лет я в жизни не приготовила ни одного блюда, кроме яичницы. Мама меня не загружала никакими домашними поручениями — хотела, чтобы я раскрывала исключительно свой интеллектуальный потенциал и свои музыкальные способности. А тут, в синагоге, в центре еврейства, являющегося духовной колыбелью всей мировой культуры, вручили мне безо всяких церемоний курицу и — как хочешь, так ее и потроши!
…Если учишь книгу Тания, то такой поворот дела вполне понятен. Всевышнему ведь, как там написано, не достаточно оставаться Владыкой только в высших мирах — среди ангелов и чистых душ… И даже властвовать умами гениев и праведников Ему мало. Он хочет присутствовать в людской повседневности, пронизывать Собой все мельчайшие детали быта. Если потрошишь курицу, делая ее тем самым кошерной, — то вершишь Б-жественное дело, даешь Всевышнему возможность раскрываться в этом мире.
В моей жизни теперь не проходило ни дня без посещения синагоги, без дружеского контакта с Сарой или Дорой, без беседы, хотя бы краткой, с реб Довидом или реб Борухом. В этих людях — точнее, в том, как они себя вели, — было столько интересного, поражавшего меня своей новизной, абсолютно иным, нестандартным, подходом к любой житейской вещи, что я спрашивала и переспрашивала их обо всем бесконечно.
Они жили вроде бы в Москве, столице страны советской, а на самом деле были подданными совсем другого, тайного, королевства. Подданными Всевышнего. Тора, выражающая волю Б-га, регулировала их частную и общественную жизнь буквально во всем. Они ничего и никого не боялись, потому что их существование поддерживалось Бесконечным, ни от чего не зависящим Источником.
День их (и всех прочих московских хабадников) всегда начинался с молитвы, потом плавно переходил в изучение Торы с перерывами на завтрак и обед, потом, насколько это требовалось, осуществлялся контакт с внешним миром — работа, или учеба для получения профессии, или общественная деятельность — после чего оставалось лишь завершить вечерние часы дополнительным уроком хасидута и кругом домашних обязанностей. И везде присутствовал Б-г: в покупке овощей, в поездке на метро, в подготовке к занятию с детьми или взрослыми, и, само собой, в молитве, учебе и добрых делах. В каждой мелочи дневного распорядка содержались некие Б-жественные требования, учитывая которые, ты соединялся с Волей Того, Кто заповедал тебе их.
Меня очень радовало, что можно служить Всевышнему столь многообразно, многогранно, буквально каждым своим действием. Еврей — он ведь если и в туалет, извините, сходил, то каждый раз после этого обязан руки помыть по-особому и краткой молитвой восславить Всевышнего за мудрое устройство своего человеческого организма.
А еда! Как много нужно знать еврею, чтобы иметь право хоть что-то съесть!
А одежда, а законы скромности, касающиеся взаимоотношений между мужчинами и женщинами! А ежедневное давание денег, хотя бы мелких, на нужды других людей (это должно стать привычкой — ни дня без самоотречения!) Огромная, всеохватная, всеобъемлющая система самовоспитания — вот что такое еврейство. И главное, что это все не человеком придумано, а Создателем. Это просто трогательно-мило, я бы сказала, с Его стороны, что Он, такой Непостижимый и Вечно-Сущий, проявляет интерес к нашим жизням. Представьте себе: великий царь велит вам принести ему стаканчик чаю. Разве вы не побежите, осчастливленный этой просьбой, заваривать самый лучший на свете чай? Разве не ощутите свою избранность? Из тысячи придворных царь выбрал именно вас для выполнения этой миссии!
В начале своего общения с Сарой я услышала от нее слово кошер и решила, что кошерной может быть только еда. Теперь, по мере проникновения в сущность еврейства, я осознала, что кошерным, в принципе, может быть быть все: стиль разговора (ведь не каждый разговор Тора разрешает — например, сплетни или грубости строго запрещены), форма одежды, музыка, и мало ли что еще. Соблюдающий Тору человек тоже называется кошерный еврей. Кошерными или некошерными могут быть молитвенные принадлежности, мезузы. Свитки Торы.
Кошерной может (и должна) быть ЖИЗНЬ.
17. Пророчество
Наступил пост Эстер, предшествующий празднику Пурим. С бурчащим от голода животом я слонялась по квартире в Люберцах и, чтобы скоротать время, то бренчала на пианино, то перелистывала Трех мушкетеров. Я не была уверена в том, что Три мушкетера — это кошерная книга, а шопеновские мазурки — подходящая для моей души музыка. Однако решила, что прежде, чем спрошу у реб Довида, как с этим быть, — не стоит, пожалуй, запрещать себе все сразу… Тетя Мила, которой я уже объяснила, что становлюсь религиозной и что сегодня пост, с ужасом представляла себе, как она будет оправдываться перед моей мамой за голодания порученного ее попечению ребенка.
Ее не удивило, что я пощусь — она сразу поняла, что речь идет именно о еврейском посте, а не о каком-либо другом. Она была старше моей мамы лет на пять и лучше помнила своих местечковых дедушку с бабушкой, от которых восприняла в свое время отрывочные представления о традиции предков. Но нельзя сказать, чтобы эти воспоминания доставляли ей удовольствие! Наоборот, они, казалось, ее очень раздражали… Когда мы с ней иной раз были одни в квартире, она произносила целую речь по поводу того, что, мол, евреем достаточно быть в душе и что не надо выпячиваться и привлекать к себе внимание своими еврейскими фокусами и что вообще религия — это опиум для народа. Что-то подобное она начала проповедовать и сегодня, правда, к концу своей тирады неожиданно попросила меня привезти ей из синагоги праздничное печенье в форме треугольников, оменташн, если таковое там будет.
Окончание ее речи прозвучало гораздо искреннее, нежели начало и середина, а потому я сочла возможным прервать свое скучающее царапанье ногтем по столу и отреагировать:
— Тетя Мила, а как вы, собственно, поняли, о каком празднике идет речь?
Тетя Мила поджала губы, посмотрела в сторону спальни, (где дядя Сережа, наверное, отдыхал с газетой в руках), и выразительно ответила:
— Мы же не гоим!
— Кто это — мы!?
— Ну… я… ты… твоя мать… Любой еврей знает, что такое Пурим… Только гоим могут такого не знать!
Меня удивило это грубоватое обозначение всех иноверцев — гоим. Я знала его только из книг Шолом-Алейхема, а слышать — в жизни не слышала. Я даже обиделась на тетю Милу за это проявление национализма и заявила в ответ:
— Вы хотите сказать, что дядя Сережа чем-то хуже вас? Или что мой папа хуже моей мамы? Я не совсем понимаю, что означает гоим или не гоим!
— У нас — свое, у них — свое.
— А зачем же женились между собой?
— Время было тяжелое.
Я удивленно подняла брови. Местечковая логика какая-то. Из-за того, что время тяжелое, так все можно? А если уж живешь с человеком другой нации, так зачем при этом хранить в душе эту высокомерную отстраненность по отношению к нему? Да если бы про моего папу кто-нибудь хотя бы пикнул насчет гоим — не гоим, я бы, честное слово, сразу в лоб дала! А гой, надо думать, это (в бытовом употреблении) такое же ругательное слово, как русское изгой, как польское жид. Если не хочешь, чтоб тебя обзывали жидом, так и не обзывай других гоями!
— Вам, тетя Мила, учиться надо. Пойдите со мной на урок Торы, — предложила я, — потому что у вас в голове все запутано. Вы гордитесь чем-то, непонятно чем, и презираете неевреев тоже непонятно за что. Когда понимаешь, что такое Тора, то и своим еврейством есть основание гордиться, и других тоже есть за что уважать, поскольку Б-г ведь всех создал. Тора — она универсальная. Для всех народов. У евреев есть 613 заповедей, а у всех остальных — 7, однако их выполнение поднимает человека любой нации на уровень праведника. Но вы, наверное, никогда не изучали Тору — время ваше действительно было тяжелое, с этим я не спорю… Тетя Мила пробурчала что-то на сочном идише, но я не решилась разузнать, что именно.
— Может, поедете вместе со мной на праздник в синагогу? — снова обратилась я к ней, — там, наверное, интересно будет!
— Это вам, молодежи, интересно, — сказала она ворчливо, — а нам уж свой век дожить в покое, и на том спасибо. Наши интересы были, да прошли.
— Ну, сейчас все возрождается — традиции и так далее… — Возрождается, пока новый Сталин не придет и башку не скрутит, а наррише коп!
На том разговор завершился.
Наконец солнце зашло, и я поехала в синагогу на праздник, толком не зная, в чем он, собственно, заключается. Бывает, что и еврей не знает, что такое Пурим — да, бывает, уважаемая тетя Мила, представьте себе… Сара встретила меня во дворе, вынула из кармана пальто черную полумаску, надела ее и таинственно сказала:
— Идем в АЗЛК!
— Куда?
— В Дом культуры А-Зэ-Эл-Ка. Там все будет.
Что — все? Какой еще АЗЛК? И когда уже, наконец, можно есть? — все эти вопросы у меня не было сил задавать, и я даже не выразила удивления при виде Сариной полумаски. Она привела меня в заводской Дом культуры, видимо, арендованный синагогой.
В вестибюле происходило что-то вроде новогоднего карнавала, только без елки. Я отогнала ненужные ассоциации и спросила Сару, куда нам идти.
— В зал, — сказала она, — там будут Мегилу читать.
При чем тут могила? — лениво соoбражала я.
Зал был полон детей и взрослых в масках, раздавалась музыка, выстреливали хлопушки с конфетти и серпантином. На сцене стоял стол, за которым сидели: бородатая обезьяна, король и кто-то похожий на разбойника.
Разбойник встал и принялся разворачивать большущий свиток, лежавший перед ним на столе. Тогда король и обезьяна тоже встали и стали ему помогать.
— Дети! — вдруг закричал разбойник голосом реб Довида, — а ну-ка руки вверх!
Он вытащил из кармана пистолет и уставил на зал.
— Я вижу, — вскричал он удивленно, — что вы меня совсем не боитесь! Что это вы такие храбрые сегодня!
Вместо ответа дети принялись отчаянно крутить деревянными трещотками, которые им, видно, раздали до того.
— Ой-ой-ой! — завопил реб Довид, — да вы меня совсем запугали! Сколько вас тут собралось — целая армия! Как же называется ваша армия?
— Цивойс Ашем! — хором заорали ребятишки.
— А какое же ваше оружие?
— Тойра! Мицвойс! — скандировали дети.
— Ах, вот оно что! А какую же мицву мы с вами будем выполнять сейчас?
— Мегилас Эстер! — закричали самые знающие из детей.
— Тогда, — сказал реб Довид уже спокойнее, — приготовьтесь слушать чтение Свитка. Кто прозевает хотя бы одно слово, тому мицва не в счет.
Реб Довид предоставил человеку в костюме короля подступить к Свитку и произнести благословения.
В полной тишине чтец принялся исполнять заповедь о Мегилат Эстер. Свиток повествовал о событиях, имевших место в Персии более 2 с половиной тысяч лет назад.
Сара держала в руках раскрытую книжицу с русским переводом Мегилы, и я тут только поняла, что это слово и означает — Свиток.
Мне лично больше всего нравилось, когда по ходу чтения упоминалось имя Эстер — ведь это было и мое имя тоже. А детям, видно, сильнее всего хотелось трещать своими трещотками, и поэтому их радовало упоминание имени злостного Амана, которого они должны были бить.
Кто же такие все эти Мордехаи, Аманы и Ахашвероши, я еще пока не успела сообразить, хотя глаза мои и следили за переводом.
По окончании чтения детей приглашали на сцену и присуждали им призы за лучшие костюмы и за умение читать наизусть фразы из Торы.
А потом вся публика перешла в зал с накрытыми столами, и там нас ждали хорошо знакомые нам кошерные куры… Те самые, которых мы потрошили на морозе в синагогальном дворике, беседуя о войне в Персидском заливе… Я была благодарна этим курам, поскольку в них был вложен мой труд и тем самым меня хоть что-то стало связывать с этим абсолютно новым для меня праздником.
Появились на столах и печенья в форме треугольников, уши Амана, и я наконец-то расспросила Сару, в чем заключается их символическое значение.
Утром, когда мы пришли в синагогу, чтобы слушать Мегилу вторично, навстречу нам с Сарой и Дорой выскочил парень в костюме шута, который подпрыгивал и кричал:
— Война закончилась!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.