
Бесплатный фрагмент - Дьяволенок Леонардо
Рассказы и эссе
Об авторе

Родился в 1943 г. Закончил Институт восточных языков при МГУ по кафедре африканистики.
Кандидат филологических наук.
Автор ряда книг по фольклору, литературе, религиям народов Африки. Переводчик, эссеист, литературный критик.
Книги художественной прозы:
• Реабилитация Фрейда. Бахтин и другие. Завтрак на пленэре. Актеон. М.,1992
• Американское издание: «The rehabilitation of Freud. Bakhtin and others» (Transl. by Richard Grose). N.Y.2002
• Роман «Смерть прототипа, или портрет». М., 2005
• Английское издание: «Death of a prototype. The portrait. Transl. and with an introduction and afterword by Leo Shtutin. London, Anthem Press, 2017
• Старик с розами. Рассказы… и другие рассказы. Издательские решения. 2019
Публиковался в журналах «Иностранная литература», «Знамя», «Звезда», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Время и место», «Лехаим», сетевом издании «Букник».
Опубликовал статьи о современных русских поэтах в немецких литературных журналах. В 1992 году переселился в Германию.
Читал курсы лекций во Франкфуртском и Байрейтском университетах.
Участвовал в передачах радиостанций «Би-би-си» и «Свобода».
Послания
Я стал замечать с некоторых пор, что различаю какие-то посылаемые мне знаки. Не могу объяснить, что это за знаки и почему я считаю их знаками, ясно только, что неспроста.
Впервые я задумался об этом во время прогулки за городом. Я набрел тогда на дохлую сороку, которая лежала на траве в своем торжественном черно-белом облачении, приподняв лапу, как будто собиралась еще в последний раз ступить — то ли по земле, то ли по воздуху.
Я остановился над ней, снял кепку, бегло подумал о том, что с ней могло случиться, и пошел дальше, увлеченный потоком других мыслей, в которых не было места птицам. Я уже дошел до другой поляны, когда мне вдруг ударило в голову, что я видел нечто не совсем обычное: припомнилась трава под тельцем сороки. Везде была сочно-зеленая поросль, вокруг же дохлой птицы трава была серебристой, как если бы покрылась изморозью. Словно бы включился морозильный агрегат с целью подольше сохранить на поляне мертвое тело.
Я разом повернул назад, желая проверить свои впечатления, но сколько ни бродил по поляне, сороки так и не нашел, хотя несколько раз мне казалось, что место найдено — вот оно! — но нет, никаких следов. То ли меня морочили, то ли я сам ни с того ни с сего стал морочить себе голову. Что за дело мне, в конце концов, до издохшего животного — сколько их гибнет в мире ежеминутно!.. Но, с другой стороны, этот иней на майской траве! Или помстилось, не было никакого инея?
Я ничуть не удивился бы, если бы с ветки ближайшего дерева, кося хитрым взглядом, на меня смотрела бы та самая сорока. Но на ветке резвились самым обычным образом белки. Никаких подвохов, никакого шулерства по отношению ко мне никто не затевал. Тем серьезнее, стало быть, знак. Хотя в чем он, знак-то? Да и знак ли? Выбросить к черту из головы!
Я и выбросил, пока не набрел на другие послания, смысла которых я также не сумел разгадать.
Вот еще.
Поляна, поросшая травой, но вся покрытая земляными кучками: кроты сооружают свои подземные коммуникации. Я ступаю осторожно, не хочу измазать обувь липкой глиной. И вдруг прямо под занесенной для совершения следующего шага ногой взрывается кучка, но не просто как маленький и тотчас умолкающий вулкан, а из кратера стремительно вылетает подземный строитель и при этом не слепнет, подобно всем своим собратьям-кротам, на свету. Он видит меня, я это знаю точно: я чувствую, как он меня боится; более того — он внимательно меня разглядывает, хотя глаз его я отыскать на его лице не могу, лишь еле заметные складочки там, где предполагаются органы зрения. Я медленно, чтобы не потревожить оплошавшего зверька, опускаю ногу и, стараясь больше не шевелиться, смотрю на крота, и мы некоторое время упираемся глазами друг в друга. Я все еще не решаюсь двинуться дальше, но мой визави, видимо, обдумав проблему, вдруг осмеливается на неслыханную дерзость: он ступает навстречу мне и, совершенно как дружелюбная собака, прижимается к моей ноге и сладко попискивает. Я снова замираю, потом наклоняюсь, глажу, бархатный черный комочек и, уже распрямляясь, успеваю заметить сползающую из глазной складочки крота слезу. Он видит и плачет?
Я человек чувствительный и по опыту своему знаю, что в таких случаях, особенно когда животные проявляют как бы человеческие эмоции, я не умею удерживаться от слез. Я полез за носовым платком, но… он мне не понадобился. Я задумчиво уставился сухими глазами на свою ладонь, держащую платок, а когда снова посмотрел на землю, крота уже не было, и я мог созерцать лишь глиняную кротовину.
А вот что произошло на острове Сицилия.
Наш автобус ехал на экскурсию к вулкану Этна. Мы уже видели залитые лавой, погибшие и заново прямо на застывшей лаве возрожденные деревни. Гид, говоривший сразу на трех европейских языках и строивший фразу так, чтобы никто не заскучал, пока он произносит непонятные слова, то есть он начинал по-итальянски, незаметно переходил на английский и заканчивал по-немецки, этот гид сообщил нам, что если кто-нибудь после экскурсии подойдет к нему и скажет: «Francesco, (имя свое он не повторял, переходя с одного наречия на другое; и я перевожу на русский его слова), Франческо, я был в Неаполе, я видел Везувий, и Везувий тоже красив», Франческо отвернется от этого человека и больше не станет с ним разговаривать, потому что Этна и Везувий несравнимы, Этна — несравненна. Incomparabile, incomparable, unvergleichlich.
Мы видели дом, целиком сохранившийся, но залитый лавой, и видели другой дом, подойдя к которому на расстояние полуметра, поток лавы раздвоился и аккуратно, чтобы не задеть стены, обошел дом и потом, через полметра после строения, опять сомкнулся и понесся дальше, сметая все на своем пути. Мы были впечатлены, и никто не осмелился подойти к нашему гиду и сказать ему: «Франческо, я был в Неаполе, я видел Везувий…»
Я подобрал шершавый кусочек лавы, из которой здесь делают сувениры для туристов: пепельницы, бусы, статуэтки, изображающие Бенито Муссолини с по-прежнему мощным («волевым») подбородком.
Мы возвращались другой дорогой, и автобус въехал в цветущую долину, где двое стариков собирали дикорастущий фенхель. Гид рассказывал о роскошных поместьях, построенных в этих местах еще в девятнадцатом веке. В этих домах больше никто не живет, и деревни, некогда располагавшиеся вокруг поместий, больше не существуют. На поместья никто не претендует, потому что отреставрировать их дороже, чем построить новую богатую виллу. Они стоят заброшенные, но не разграбленные, никем не тронутые, как памятник прежним временам.
— А вот как раз один из таких домов, — сказал Франческо, указывая на дивной красоты строение с распахнутыми дверьми, но неразбитыми окнами.
— Stop! — неожиданно для самого себя закричал я и, обращаясь к Франческо, пояснил: Resto qui, I’ll stay here, Ich bleibe da, я остаюсь здесь (для убедительности по-русски).
— Questo è impossibile, — отрезал Франческо, — сегодня здесь больше не будет автобусов, только завтра, domani, to-morrow, Morgen.
— Я вернусь в отель завтра, — успокоил я его, — я здесь заночую, ночи сейчас теплые.
— Ma… – начал было гид, но я уже придерживал водителя за локоть.
Мы недалеко отъехали от соблазнившего меня поместья, и я прямиком отправился к нему. У распахнутой двери немного потоптался, опасаясь, что на полу лежат засохшие, а может быть, и свежеизготовленные кучи дерьма, как оно бывает в брошенных и уже разграбленных домах. Я заглянул внутрь, и почувствовал, словно бы тень наползла на мое лицо. Краски исчезли — все стало черно-белым. Я непроизвольно оглянулся назад — долина сияла и переливалась всеми своими сочными цветами — зелеными, желтыми, красными. Продолжая смотреть на лужайку, я протянул руку к двери, потому что забыл, что дом не заперт, и, как незрячий, шагнул в темный проем.
Почти на всех окнах были жалюзи, и переход из залитого солнцем дня в полумрак и впрямь превратил меня на время в слепого. Я остановился у порога, чтобы свыкнуться с освещением. Когда мои глаза восстановили способность различать предметы, я заметил, что свет, проникающий сквозь жалюзи, совсем не солнечный, а скорее лунный — серо-сизый. Что-то еще было необычное с освещением — я не сразу понял, что именно, а когда понял, стал глазеть, как завороженный. Создавалось впечатление, что свет был впущен в помещение лишь с моим приходом, и он не сразу заполнил комнату, а лишь постепенно просачивался в нее, как если бы вода медленно проникала в полый сосуд через слегка приоткрытый клапан. Сосудов было много, они были сообщающиеся, а клапаны — всюду узкие. Я подошел к той части комнаты, которая уже была освещена, и разрубил луч ладонью — в свете образовался перерыв, и он ничем не восполнился, хотя световые частицы продолжали свою экспансию, несмотря на устроенный мною провал. Устраивая пальцем перерывы света, можно было рисовать по воздуху, и я, как сумел, нарисовал свой профиль, который завис между полом и потолком, не желая рассеиваться.
Здесь повсюду было чисто, и даже следов пыли не было видно, хотя и человеческое присутствие никак не проявлялось. Пустой дом обычно вызывает чувство печали, а тут, несмотря на голые стены, было почти уютно. По крепкой лестнице я взобрался на второй этаж и ахнул: прямо напротив меня стоял рояль! Я открыл клавиатуру; справа лежал женский носовой платок. Я осторожно взял его и встряхнул. На нем были вышиты инициалы: M.M. Подобно мотыльку из него выпорхнула желтенькая бумажка, подняв которую, я разобрал, поднеся к свету, единственное слово: Addio. Неужели же никто до моего прихода не выказывал никакого любопытства? Я продолжил свои исследования и полностью раскрыл инструмент, как если бы собирался играть перед полным собранием. Подпирая крышку рояля, я нагнулся, чтобы разобрать надписи на деке, и тут мне в глаза что-то сверкнуло. На одном из колков я нашел перстень с камнем, цвет которого я установить затруднился, потому что, подставленный к несильному источнику света, он заискрился сразу всеми цветами, и я почему-то сразу подумал, что это опал.
Что-то подсказывало мне, что оставаться здесь больше не следует. Я завернул перстень в найденный мною платок, закрыл рояль, не прикоснувшись к клавишам, и пошел прочь. Внизу я отпрянул от собственного профиля, так и висевшего посреди комнаты между полом и потолком.
Я выбрался на дорогу, и там совершенно случайно меня подобрал какой-то смуглый сицилиец на раздолбанном «Фиате», который молча, без попыток вступить со мной в разговор довез меня до Таормины. Выходя из автомобиля, я попытался найти итальянские слова, чтобы выразить благодарность водителю, но, взглянув на его лицо, понял, что он не слушает меня, потому что его глаза медленно наполнялись тем же светом, который вползал через жалюзи в брошенный дом. Тогда я коротко попрощался, но он и тут не ответил.
— Addio, — сказал я еле слышно.
Он очнулся при этом слове и, что-то пробормотав в ответ, резко нажал на газ.
Я подошел к тому месту в Таормине, где фуникулер начинает свой спуск к морю, к Isola Bella.
Море смотрело на меня. И горы смотрели на меня. Castello Molo смотрел на меня. И море уплывало от меня. И горы отодвигались от меня. И деревья махали мне ветками. Все уходили от меня. Я стоял один — спокойный и один, а они теряли цвет, размеры, объемы, формы, приличия, правила, законы, привязанности. Они выходили из себя, волновались, совершали ошибки, а я был равнодушен, и один, и непогрешим.
Я еще хотел было что-то сказать, но передумал, потому что я…
12.05.06.
Souvenir de Florence,
или Кое-что о жанре мемуаристики
Во Флоренции я гостил в русском доме, у Галины Х. По-итальянски начальная буква ее фамилии не произносится, и она всегда, называя свое имя, добавляет: «Кон прима леттера акка» (то есть инициалия — латинское «Н»), — иначе ни в каком компьютере не найдут. Так я и стану называть ее: «Акка». Я много знал о ней понаслышке — от друзей, из бесчисленных мемуаров о Бродском, где можно почерпнуть детали ее биографии и замужеств, а также из книг о знаменитых русских во Флоренции, где она упоминается в связи с чудесной флорентийкой русского происхождения, оставившей Акке в наследство свои квартиру и фамилию.
Мы сразу же понравились друг другу, о чем немедленно и громко оповестили всех, кто был рядом, — нам показалось (и справедливо), что мы можем обсуждать все что угодно без какого-либо изъятия, как если бы в предыдущей жизни, в том числе и на территории Советского Союза, где мы, впрочем, проживали в разных городах, мы уже затронули все темы, и нам нужно лишь досказать что-то, пусть и очень важное, но к моменту последнего (хотя, по-настоящему, первого) разговора ни для кого из нас не новое.
Помимо достопримечательностей квартиры — дивного узорчатого мраморного пола (почему-то с могендовидом, — вероятно, первым хозяином дома был еврейский негоциант), любопытных картин и фотографий на стенах (от академика Сахарова до каких-то мне не известных, но симпатичных бородачей-шестидесятников), многоязычной библиотеки, — здесь можно было насладиться обществом двух котов, проживающих вместе с Аккой и ничего против нее не имеющих, поскольку она никогда не покушалась на их свободу, но не всегда разделяющих ее доброжелательность по отношению к гостям. Коты Вася и Ваня (имена, по понятным причинам, я изменил), обладающие совершенно разными характерами, считали, что все радости жизни они уже испытали и ничего экстраординарного в грядущем не ожидали, полагая, что надо теперь лишь достойно встретить неизбежное и, главное, не потерять независимости. Никакой особой мудростью они не обладали, порою вели себя, как последние эгоисты, и застенчивости никогда не выказывали. О своем здоровье они заботились, выполняя упражнения утренней гимнастики неодинаковой трудности: Ваня явно щадил себя и часов в десять приходил слегка поободрать обшивку дивана, на котором я спал, Вася же в восемь утра врывался в мою комнату, чтобы как следует поточить когти об антикварную мебель. Враждебности по отношению ко мне коты не испытывали, но рассчитывать на их дружбу не приходилось, и они не упускали случая, чтобы сделать мне то или иное критическое замечание, а то и выговор за какой-нибудь faux pas, и я всякий раз вынужден был признать реприманд справедливым и поспешно обещал исправиться, чему они никогда не верили, ни в грош не ставя нравственные способности человеческой породы вообще и моей персоны в частности. С моей женой отношения у котов были проще: они, в зависимости от настроения, принимали или не принимали ее ласки, обходясь без нравоучений.
На следующий после приезда день мы отправились побродить по городу, не задаваясь никакими целями, не захватив ни карт, ни путеводителей. Заблудимся — тем лучше: это один из самых верных способов узнать не слишком знакомый город. Мы прошли через центр, добрались до Понте Веккио и решили погулять вдоль Арно, который был в этот день особенно золотист. Мы почти не разговаривали, думали каждый о своем, но при этом ничего не упускали из виду. Во время нашей прогулки — мы подходили к какой-то площади — внутри меня словно бы включилась тихая музыка, и я долго не мог узнать ее; стал прислушиваться к голосам и не мог разобрать, звучит ли камерный оркестр или это секстет. Хотел было спросить у жены, но вспомнил, что играют только для меня. Я все же взглянул на Лену и увидел, что она, сама того не понимая, напевает именно то, что в настоящий момент исполняют для меня.
— Что ты поешь? — поинтересовался я.
— Я пою? — удивилась Лена.
— Ну да, — настаивал я.
Она неуверенно насвистала.
— Это?
— Вот-вот!
— Я не помню.
Тут меня осенило: Чайковский! Мы оба думали о Чайковском.
— А знаешь, почему мы вспомнили о нем?
— ?
— Вот в этом отеле на углу площади, к которой мы подходим, он жил около двух месяцев, в течение которых он полностью сочинил «Пиковую даму». Здесь ему хорошо работалось и жилось, все казалось дешево и удобно, здесь он любовался красивым мальчиком-посыльным с чудесным певческим голосом, отсюда он направлялся гулять в сад с почти русским названием «Кашино» (на самом деле — Cascine).
— Откуда ты все это знаешь, мы ведь здесь впервые?
— Я это чувствую. Ты знаешь, как я не люблю посещать дома умерших знаменитостей, куда люди стремятся, чтобы увидеть, например, кресло, в которое поэт погружал свои телеса. Но я очень живо ощущаю среду обитания интересных мне творческих личностей. Помнишь, когда мы вот так же гуляли по Риму, я вдруг сказал: «Где-то здесь, должно быть, жил Гете», и оказалось, что мы стоим прямо напротив его дома на Корсо, хотя мы не собирались отыскивать это место в Риме.
Короче, как мы выяснили позже (никаких памятных досок на стенах гостиницы не было), Чайковский жил именно в этом отеле. Оставалось узнать, что за музыка звучала для нас, и я докопался до этого далеко не сразу, в отличие, вероятно, от возможного читателя, который тотчас же поймает уже имеющуюся здесь подсказку и не станет, как я, долго ломать над этим голову. Скажу лишь, что изначально этот опус задуман и сочинен как секстет, но я знаком с ним в аранжировке для камерного оркестра, — именно в этом исполнении кто-то мне его и транслировал.
Мы продолжали прогулку и дошли, как и предполагали, до парка, который уже навсегда назывался для нас по-русски: Кашино. (Так по имени какой-нибудь деревни мог бы называться район одного из крупных российских городов, да хоть бы и Москвы. Легко представить себе разговор москвичей: «Вы где живете?» — «Недалеко от метро „Кашино“»). В этом парке, кстати, любил гулять и Достоевский.
В тот день мы так же совершенно случайно, уже возвращаясь домой, набрели на русскую церковь, закончив на ней знакомство с русской Флоренцией, неизвестно кем для нас подстроенное. Неправославные русские, каковы мы с Леной (да простят мне этот эвфемизм подлинные патриоты), мы все же испытали что-то вроде умиления (не эстетического восторга, а именно умиления, почти религиозного), глядя на эти, столь диковинные среди зданий и церквей 12—15 веков русские купола.
Акка вскорости поинтересовалась, не собираюсь ли я написать мемуары, и очень удивилась моему нежеланию этим заниматься.
— Ну, хочешь, я попробую прямо сейчас, — собрался с мыслями я. — Вот послушай: тебе первой — до сих пор никому не рассказывал. (Почему-то заинтересовался Ваня и сел рядом с Аккой, внимательно глядя на меня).
— В начале шестидесятых я часто наезжал в Ленинград, где был вхож в одну филологическую компанию. Имен не называю — нынче это самые известные люди Санкт-Петербурга. Да вот, некоторые из них тут у тебя на фотографиях. Устраивались домашние вечера с авторским чтением только что написанного. Многие опасливо глядели на меня: я имел репутацию скептика и сурового критика, и, надо сказать, по молодости, бывал свиреп в своих суждениях, полагая, что для работы в такой литературе, какова русская, нужна несравненная отвага, потому что сопоставлять себя следует не с тем говном, которое пускает в печать советская власть, а с классической литературой, и уж если взял в руки стило, то будь добр оглянуться на Хлебникова или Мандельштама.
Однажды как-то особенно нетерпеливо ждали одного поэта, который оказался рыжим картавым красавцем и который мне сразу не понравился своей самоуверенной повадкой и просто-таки нескрываемой наглостью в обращении с едва знакомыми людьми. Он тотчас вышел на середину комнаты и гнусаво-монотонно завыл: «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик нелюдимый из Александровского сада». Стихотворение было длинное, а на второй строфе я уже не помнил о гнусавости и несколько комической выспренности декламации и не представлял, что эти слова можно произнести другим голосом и иной интонацией, более того, я потерял смысловую нить и даже не пытался ее восстановить, довольствуясь самопроизвольно возникающей семантикой, не отягощенной значением, а это был первейший признак: стихи сохраняли первоначальный и первозданный гул, из которого только и возникает поэзия.
Закончив чтение, он сразу подошел ко мне, не обращая внимания на слова, к нему со всех сторон обращенные.
— Гениально, да? — скорее утвердительно, чем со знаком вопроса, произнес он, и я понял, что никакое это не нахальство, а просто восхищение тем, что ему дано было зафиксировать, уловить, записать диктант без ошибок и описок. — Пойдем со мной, — сказал он, — я хочу тебе кое-что показать.
Мы пошли по ночному Ленинграду. Он мог рассказать что-то практически о каждом доме, а когда мы дошли до Васильевского острова, он вдруг топнул ногой и пропел: «Вот сюда, вот на это самое место я притащусь, если хватит сил, чтобы последний раз выдохнуть. Конечно, хорошо бы увидеть Венецию и умереть, но чтó выбирать страну, да и все равно не выпустят, нет, умирать я приду на Васильевский остров».
Галя, как знаменательна даже эта его пророческая ошибка: похоронили-то его в Венеции.
— Ну-с, как тебе мемуар? — спросил я.
Ваня освещал своими глазами кухню и странно выгибал шею, Вася еще раньше покинул помещение, Акка же в голос хохотала. Отсмеявшись, она проронила:
— Милый друг, а ты вообще-то встречался с Осей?
— Нет, а что, — забеспокоился я, — что-нибудь ложное в моих воспоминаниях? Я ведь могу еще много нарассказать. Не хуже других. Разве необходимо знакомство?
— Но ты же не станешь отрицать, что существуют мемуары, в которых можно отыскать драгоценнейшие детали и которые лишь данный рассказчик способен преподнести?
— Слово «преподнести» ты употребила весьма уместно. Мемуаристы главным образом себя и преподносят.
— Но подчас и беспощадно по отношению к самим себе. Раз уж ты заговорил об Осе, припомни хотя бы то место в книге Анатолия Наймана, где Бродский говорит автору: «Что это вы мне все время тычете своего Христа?» Не всякий отважился бы зафиксировать такую реплику.
— Галя, да ведь нет на земле человека — от Евгения Рейна до Папы Римского, который не мог бы сказать это Найману.
— Но диалог продолжается приблизительно так: «Были люди и получше вашего Христа». — «Кто, например?». — «Например, Сократ или Моцарт».
— Дорогая Галя, не было человека — от Бродского и Довлатова до футболиста Эдуарда Стрельцова, — за которого Найман не сумел бы придумать остроумного ответа.
— Ты и сам что-то расточаешь сарказмы.
— А ты освежи в памяти, как все эти люди из окружения Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам взвились и завелись сполоборота, когда до России дошли мемуарные рассказики Георгия Иванова. А ведь тот даже не скрывал, что это всего лишь беллетристика, имя для него было только усилителем, попыткой сохранить образ на вымышленном материале. Откровенное художественное завирательство несравненно благороднее и интереснее попытки представить истину в последней инстанции. Какова, например, явно придуманная история о Шилейко! Украденная Шилейко рука египетской мумии, которая оживает и шевелится от слов какого-то невзрачного заклинателя. При этом понятно, что ничего бы такого не произошло, если бы до этого сеанса с чтением заговора Шилейко сам не прошипел, не просвистел, не нашептал, не выдохнул вместе с бешеной слюной «Заклинание» Пушкина так, чтобы всем стало страшно и волосы зашевелились бы на голове, как змеи на голове Медузы. Дальше все очень просто: Георгию Иванову для достижения поставленной цели остается лишь процитировать всем известные строки, и действительно становится страшно.
О, если правда, что в ночи
Когда покоятся живые
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы…
Явись, возлюбленная тень…
— Прекрати, — вдруг сказала Акка, — и я, опомнившись, понял, что невольно стал подражать описанной манере чтения и произносил стихотворные строки именно как магический заговор, я всерьез вызывал из небытия возлюбленную тень, и от пушкинского «Заклинания» способна разверзнуться чья угодно могила — и гораздо естественнее, чем от невнятного «Бегут по земле три кобеля, растут на земле три гриба…»
— Не кажется ли тебе, любезная Галя, что в упомянутом рассказе объект мемуара — Пушкин, с которым Иванов, разумеется, знаком не был. Из воспоминаний, которые вызывают уважение, можно назвать лаконичные записи — в буквальном смысле, обрывки — Ахматовой, которые очень похожи на начальную строчку ее стихотворения: «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике». Несколько слов, написанных о Модильяни, конгениальны рисунку, изображающему Анну Андреевну. И то и другое эмблематично и не вторгается в тайну мифа, не пытается предложить плоских разгадок. Ты думаешь, Ахматова не могла бы сочинить «Записки о Осипе Мандельштаме»? Она оставила несколько строк, в том числе и бесконечно болезненную для меня — о том, что Мандельштам был ей неприятен как мужчина. Как сама-то она относилась к женщинам, которые посмели о Пушкине подумать: «Quel monstre!» А мне, ей-богу, легче из самых желанных для меня уст услышать в свой адрес: «Экая образина!», чем узнавать, как прекрасный пол обижал именно этого поэта отказами. Honni soit, Мария Петровых и др-р-р.
Один из отпущенных нам дней с утра не задался. Акка прихворнула и решила отправиться к врачу. Лена вызвалась ее сопровождать. Я остался с котами дома. Пошел в душ. Обычно дверь в ванную комнату в квартире не закрывалась, так как коты пользовались туалетом наравне с остальными жильцами: там для них стоял таз с песком и дезодорантом. Я же, принимая душ, заперся из чувства стыдливости, неизвестно перед кем, поскольку все дамы помещение покинули. Стоя под душем, я внезапно услышал стук в дверь, как будто в коммунальной квартире сосед напоминает мне, что гигиенические процедуры необходимы всем.
— Сейчас, сейчас, — сказал я и тотчас взял полотенце.
Когда я ровно через пять минут вышел из ванны, в квартире по-прежнему никого не было. Это показалось мне странным, и я направился в кухню. Не успел я ступить на роскошный каменный пол, как ноги мои заскользили в аккурат на могендовиде, как будто на этом месте был пролит шампунь, и я всей своей немалой тяжестью рухнул, успев на лету еще с еврейской подозрительностью подумать, без всяких тогда еще оснований: «Васька — антисемит». Кряхтя и охая, я стал подниматься, зная, что в моем возрасте следует в подобных случаях опасаться за шейку бедра. Где точно находится шейка бедра, я не знал, как не знал, есть ли вообще на теле у мужчин место со столь соблазнительным названием. Васька, действительно присутствовавший при моем падении, саркастически глядел на мое копошение, и когда мне удалось подняться, я увидел, что Васька тут не вовсе ни при чем и что извиняться за мою подозрительность, вероятно, не придется. Дело в том, что это именно Васька ломился ко мне в ванную и, обнаружив дверь запертой, не стал дожидаться и немедленно насрал на мраморный пол на кухне.
— Все-таки в этом есть и моя вина, — признал я. — Но зачем же так грубо намекать на национальные корни моей вины. При чем здесь могендовид, на который ты насрал, а, скажи, Васька?
— На нем не так заметно, — ответил кот, — иначе ты успел бы разглядеть заранее. Ну, прибери все и помиримся. Как говорится, будь жид, и это не беда, — и он спокойно вышел из кухни.
Обрадованный, что наш конфликт не имеет оттенка национальной неприязни, я взял тряпку, вымыл пол и опять пошел в ванную — вновь заниматься собственной гигиеной, но на этот раз дверь уже не затворял…
Все тело ломило: ушибся я основательно. Хорошо еще ничего не сломал. Я улегся в постель и решил, пока никого дома нет и идти никуда не нужно, немного отлежаться. Взял было книгу, но читать не хотелось. Какое-то дуновение пробежало по моему лицу, словно бы мимолетный сквозняк от того, что открывается входная дверь, когда кто-то пришел, хотя я точно знал, что ждать некого — слишком мало времени прошло с момента ухода Акки и Лены.
И тут я на пороге увидел Эммку Гинзбург.
— Ты откуда взялась? — закричал я, но она молча приложила палец к губам, и я заткнулся, продолжая тем не менее таращить глаза.
— Я пришла отдать долг, — тихо сказала Эммка и подошла к постели. Она склонилась надо мной, нашла мои губы, и мы надолго замерли в поцелуе, в одно и то же время любовном и совершенно спокойном.
Мы не виделись, наверно, лет тридцать, но она была в точности такой, какой я запомнил ее в год ее отъезда из России. Она выпрямилась и пошла к выходу.
— Где ты живешь? — глупо спросил я вдогонку.
— Нигде, — ответила она, и больше я ее не видел.
Я мотал головой и все вспоминал, вернее, все разом вспомнил. Одновременно я пытался осмыслить сказанное ею.
— Что значит: «нигде»? Нигде не живет? Она сказала, что нигде не живет? То есть она не живет во Флоренции? Или вовсе не живет? Она умерла? Да, — понял я, — она умерла, и долг, который она упомянула, был поцелуй, обещанный мне ею, когда я провожал ее в эмиграцию.
Провожал, надо сказать, как в последний путь. Она почти умерла для меня уже тогда, и я простился с ней навсегда, хотя она твердо была уверена, что мы еще увидимся. Правда, когда она уезжала с мужем за границу я, если не лгать, больше не любил ее и даже не ревновал.
Мы познакомились с нею где-то на юге — не то в Гурзуфе, не то в Одессе на двенадцатой станции Большого Фонтана. Вокруг нее, несмотря на присутствие Гинзбурга, вечно увивалась целая ватага веселых раскованных парней, с которыми она перекидывалась колкостями, но часто и горячими до страстности взглядами. Ей очень шел юг, и она прекрасно подходила к нему — с жаркими восточными глазами, длинными черными волосами и неуемной радостной энергией. Я ни разу не видел ее в коротком платье, она всегда носила длинные до пят или надевала брюки, — это было единственное, что не соответствовало южному образу жизни. Поначалу я не задумывался над этой странностью — фигура у нее была замечательная, — потом же, когда поостыл, предположил, что она таким способом пыталась скрыть свои непомерно большие ступни. Темперамент ее, вероятно, определялся еще и смесью многочисленных кровей: в ней было что-то итальянское, армянское, еврейское и, кажется, югославское — иллирийское, что ли.
Первое, что она произнесла после знакомства со мной, были какие-то непонятные слова, что-то вроде «као маче». Я только заметил, что Гинзбург при этих словах криво усмехнулся и внимательно взглянул на меня. Я переспросил, но она только засмеялась. Потом во время наших свиданий и совместных любовных трудов она неоднократно повторяла эти слова, но никогда их не объясняла, несмотря на любопытство, которое я проявлял всякий раз, как она их произносила.
Муж ее был со мною неизменно ласков, как он, впрочем, был приветлив со всеми, несмотря на то, что не мог не замечать характера отношений своей жены со многими мужчинами из ее окружения, которое постоянно обновлялось, теряя старых завсегдатаев, но неизменно приобретая новых. Скандалов я никогда не наблюдал, но сцены, а вернее, приступы жесточайшей ревности у разных действующих лиц видел часто. Да что там, я сам однажды, как в амоке, без остановки пробежал в сорокоградусную жару несколько станций Большого Фонтана. Когда я вернулся после этого пробега в ту же компанию, близкий к инфаркту, но не успокоившийся, она легко приветствовала меня, даже не поинтересовавшись, куда это я отлучался.
Она продолжала обмениваться с неким Андреем взглядами, настолько откровенно похотливыми, что, поймав этот взгляд хотя бы на мгновение и хотя бы на секунду приняв его на свой счет, нельзя было не возбудиться до самого крайнего предела, как невозможно было не почувствовать оглушительного удара молотком по самому средоточию напряжения, когда ты осознавал, что случайно перехватил послание, не тебе адресованное. В тот вечер Гинзбург почему-то отсутствовал, и все засиделись глубоко заполночь. Эмма первая сказала, что пора и честь знать, хочется спать. Уходя, Андрей — я видел это, я виделлл! — обнял ее за талию, точнее, на талии был только большой палец, а остальные, растопыренные, разместились существенно ниже, она же притянула его голову и поцеловала в шею за ухом.
В комнате оставалось еще несколько человек, когда я поднялся, чтобы попрощаться.
— Останься, пожалуйста, — сказала она так, чтобы это слышали все, и все испарились в ту же минуту.
Когда за последним из гостей закрылась дверь, Эмма шагнула ко мне и, глядя тяжелым взглядом мне в глаза, нетерпеливыми пальцами расстегнула пуговицы на моей рубашке и положила голову прямо на мое сердце, которое стучало в этот момент, как пулемет, так что она в какой-то степени повторила тогда подвиг Александра Матросова, оставшись, впрочем, среди живых, да и желанных.
— Боже мой, как я соскучилась, как истосковалась, — прошептала она с такой нежностью, что я тут же захотел умереть, потому что ничего лучшего грядущее не сулило.
— Погоди, я помогу тебе прибрать со стола, — предложил я.
— Ничего убирать не надо, — ответила она, решительным движением сдвигая посуду и садясь на освободившееся на столе место.
Короче, в тот раз это было на столе, и она заставила меня забыть обо всем, обо всем, что было, главное обо всем, что было сегодня: о моей дикой пробежке, о руке Андрея на ее попе и т. д.
— Као маче, — пробормотала она, слезая со стола.
Так бывало много раз. На месте Андрея мог оказаться Дима, на моем — Андрей. Но меня никто не увольнял, и сам я не в состоянии был вычеркнуть себя из списка.
— Как Гинзбург, — думал я про себя, испытывая невольную симпатию по отношению к рогатому мужу и забывая порой, что своими рогами несчастный обязан в частности и мне.
По счастью, в годы о которых я вспоминаю, я умел смотреть по сторонам и вскорости высмотрел Наденьку — крохотную, беленькую, с зелеными глазами, курносую — чудо как хороша: трогательная, доверчивая и верная. С нею я, пусть и не сразу, отказался от встреч с Эммой, хотя, когда я случайно встречался с Гинзбургом, он настойчиво приглашал меня заходить. Как мне потом кто-то объяснил, Гинзбург именно обо мне почему-то думал, что я для Эммы — всего лишь интересный собеседник. Не знаю, льстит ли мне такое мнение или оно унизительно для моего мужского достоинства. Впрочем, не мне рассуждать в связи с Гинзбургом об оскорблении мужского достоинства. Я рассказываю не о нем и не о бедной Наденьке (ох, это грустная история, да простит мне Бог!), а об Эмме.
Я перестал о ней думать и даже раздражался, если кто-то пытался мне каким-либо образом напомнить о ней. Я, впрочем, знал, что она долго болела, что родила девочку, которая долго не прожила, что врачи посоветовали ей сменить климат, и она решила не наездами выбираться на юг, а поселиться там навсегда, для чего по еврейской линии мужа эмигрировала, как все в это время, в Израиль. Гинзбурги позвонили мне и пригласили на проводы, я неохотно согласился — все еще был зол на Эмму. Правда, злость моя прошла, когда я увидел ее, непривычно грустную, даже заплаканную, больную. Она взяла меня за руку, привела в комнату, куда гостей не приглашали; она сквозь слезы неотрывно глядела мне в глаза и твердила: «Приезжай, приезжай, приезжай. Все будет хорошо, да? Ну приезжай — я буду только твоя». Я молчал. Тогда она попросила: «Поцелуй меня». Я повиновался. Она безвольно обвисла в моих объятиях и лишь приняла поцелуй, не ответив на него. Но тихо пообещала: «Поцелуй за мной». Я вышел из комнаты и вскоре покинул дом Гинзбургов — навсегда.
Некоторое время до меня еще доходили какие-то слухи о ней, о том, что до Израиля она не доехала, закрепившись каким-то образом в Италии, что развелась с Гинзбургом, который поначалу очень горевал, но потом связался с одной довольно красивой путаной. Затем слухи заглохли, и мне не хотелось выспрашивать тех, кто мог о ней что-либо знать. Так до сих пор ничего и не слышал о ней…
Я очнулся, когда у входной двери прозвучали голоса вернувшихся Акки и Лены.
— Как, ты до сих пор не подымался?
— Я подымался не один раз, при этом не всегда с постели.
— А где же еще ты валялся?
— Посмотрите на кухонном полу: там должна бы остаться вмятина.
— Ты что, упал? — сильно занервничала Лена.
— Да, споткнулся обо что-то, — соврал я к явному удовольствию слушавшего нас Васьки.
— Но ты успел что-нибудь поесть? — продолжала заботиться жена.
— Да, я нашел сосиски, — успокоил я ее.
— Друг мой, — сказала Акка, — ты в состоянии встать? У меня есть на тебя кой-какие виды. Можешь подойти к компьютеру?
Кряхтя, я вылез из постели и пошел за Аккой в ее комнату.
— Сейчас я покажу тебе один текст, который мне нужно перевести и в котором я не все понимаю. Вот, смотри… Э, любезный друг, куда ты смотришь?
Я действительно смотрел не на монитор, а на фотографию, висевшую над ним на стене. Там была Эмма Гинзбург, какой я не знал — с сединой в черных волосах и в довольно коротком платье — вся повадка какая-то другая, мне незнакомая. Она отличалась и от той, что я видел сегодня. Фотография была снята явно в этой самой квартире.
— А, это ты любуешься Эммкой Ризнич. Ты был с ней знаком?
Пока я думал, что мне отвечать, Акка неожиданно продолжила:
— Као маче?
Я вздрогнул.
— А-а, — довольно протянула Акка, — ты был с ней близко знаком.
— Ты сказала: Ризнич. Это что за имя?
— Как, ты ее хорошо знал и никогда не слышал этого слова?
— Это имя я знаю только из пушкиноведческой литературы, но почему ты так называешь Эмму?
— Потому что это было ее прозвище. Впрочем, не исключаю, что это была ее девичья фамилия. Во всяком случае, она как бы строила свою биографию по образцу той, известной тебе по комментариям к стихам Александра Сергеича.
— Ох, ты даже не представляешь, как много это объясняет. Но что с ней, где она?
— Она умерла года три назад. Жила здесь, во Флоренции, на via Marconi. Это недалеко отсюда. Мы часто встречались.
— Где ее похоронили?
— Этого я не знаю.
— А скажи, пожалуйста, ты повторила слова, которые я часто от нее слышал, не зная их смысла.
— Совершенно случайно я могу ответить на твой вопрос. Как ты знаешь, все русские в той или иной мере интересуются книгами о Пушкине. Недавно мне в руки попалась книга о донжуанском списке Пушкина. Я, естественно, сразу же заглянула в главку об Амалии Ризнич. Так вот, муж Амалии, серб по национальности, предаваясь мемуарам о своей покойной жене, рассказывал о «неудачливом», с его точки зрения, поклоннике своей жены А. С. Пушкине, который увивался за ней, «как котенок» (по-сербски: «као маче»), как, должно быть, и ты, милый друг, за Эммкой, n’est ce pas?
В один из дней мы собирались поехать во Фьезоле. Автобус шел от самого нашего дома. И я уже давно предвкушал, как мы будем с фьезоланских холмов, уже осмотрев древний театр и этрусские развалины, глядеть на лежащую внизу Флоренцию, радостно узнавая храмы, баптистерий, сады и все, с чем мы успели познакомиться вблизи. Такая перемена масштаба и точки зрения помещает укрупненные было детали на надлежащее место, и ты по-настоящему понимаешь, что с чем соседствует, и прозреваешь план, а может быть, и самое идею города. Но не только это подгоняло меня. Дело в том, что, когда я здоров и весел, когда знаю, что вот-вот грянет радость, я твержу про себя стихотворение Михаила Кузмина, которое сейчас с удовольствием произнесу для вас наизусть, — затвердите и вы: счастье — прополоскать рот этими словами.
Если завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем.
Если завтра будет дождик,
То карету мы наймем.
Если встретим продавщицу,
Купим целый ворох лилий.
Если мы ее не встретим,
За цветами выйдет грум.
Если повар наш приедет,
Он зажарит нам тетёрок.
Если повар не приедет,
То к Донелю мы пойдем.
Если денег будет много,
Мы закажем серенаду.
Если денег нам не хватит,
Нам из Лондона пришлют.
Если ты меня полюбишь,
Я тебе с восторгом верю.
Если не полюбишь ты,
То другую мы найдем.
В русской поэзии очень немного таких легких, таких беззаботных, таких беспечальных стихов. И, конечно же, невозможно забыть, что это воспоминание о Флоренции их навеяло. Кузмин эти стихи пел. Сохранились ли ноты? Я, во всяком случае, не слышал об этом, но в тот день, сидя в автобусе (а не в карете — светило солнце, в карете не было нужды, и мы ехали во Фьезоле!), я почти в голос и на собственную мелодию распевал любимые строки. Флоренция в первую мою поездку была для меня совершенно неправдоподобной, она вызвала во мне трепет не только тем, что на улице Данте есть еще и Casa Dante, а рядом церквушка, где похоронена Беатриче, не только тем, что микельанджеловский Давид запросто стоит на площади рядом с другими, такими же знаменитыми скульптурами, а тем, вероятно, что этот город и впрямь стоит на берегу Арно, как об этом, оказалось, правдиво рассказывали многочисленные вруны. Вот только теперь, сидя в автобусе, который через пятнадцать минут прибудет во Фьезоле, я с восторгом верил, наконец, что я во Флоренции, я чувствовал, как она ко мне ласкова, что она, красавица, вовсе не недотрога и позволяет приблизиться, она улыбается и отвечает на вопросы без всякого жеманства.
Я много фотографировал — получалось то же, что запечатлено на многочисленных открытках. Я пытаюсь теперь найти слова для этого города и уже знаю, что не найду их: будет все то же, что в сотнях похожих друг на друга описаниях. Оригинален был разве что Блок, в яростных стихах назвавший Флоренцию блядью, и подозреваю, что главным образом потому, что был истерзан комариными укусами, хотя делал вид, что — приехавший как турист — раздражен многочисленными туристами, а также новостройками и велосипедистами (видел бы он нынешних байкеров!).
Выразить свое чувство к Firenze я мог бы, только представив нежнейшие барельефы одного из ее сыновей — Дезидерио да Сеттиньяно, выставленные во дворце Барджелло. А в остальном — de la musique avant toute chose! И то: из наслаждений жизни одной любви муз'ыка уступает! Скажем тогда так: Флоренция — одно из сильнейших наслаждений жизни. И поставим точку. Dixi.
Мы уже собирались уезжать из Фьезоле, но меня чем-то привлекла улочка, уходящая куда-то вверх. По ней ездили машины в обе стороны, но я не представляю себе, как они могли бы разъехаться, если бы встретились. Мы взобрались на самый верх, но там улица кончалась, упираясь во вход на кладбище. Мы переглянулись: идти ли дальше? Решили посмотреть. Прошли несколько шагов, и я остановился, как вкопанный, так резко, что Лена испугалась.
— Что случилось? — спросила она.
— Смотри, — сказал я, указывая на могильный камень, на котором русскими буквами было выбито: «Эмма Гинзбург», и дата упокоения: апрель 2002 года… — Подожди, пожалуйста, я схожу за цветами.
Я бормотал про себя безумные, нелюбимые слова из Блока:
Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
О, Bella, смейся над собою
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морщиной гробовою
Искажены твои черты!
Когда я вернулся с букетом, Лена, стоявшая там, где я ее оставил, вытирала слезы.
Ах, какие странные сближения случаются в этой жизни, господа!
Что русские сделали для своей Флоренции, что Флоренция сделала для чужих русских?
И все-таки еще из Блока:
Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной,
Весь день в пыли твоих Кашин?
О, сладко вспомнить безнадежность:
Мечтать и жить в твоей глуши;
Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души…
Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя.
Флоренция, октябрь 2004,
Франкфурт, март 2005
Амаркорд
Моему сыну
Я никогда не был поклонником мемуаров, ни, тем более, мемуаристов. И все же что-то заставляет меня засесть, если не за воспоминания о жизни, то за рассказ об одном эпизоде, который я попытаюсь восстановить со всей доступной мне точностью и полнотой, а также без каких-либо беллетристических прикрас.
Итак, я вспоминаю. Амаркорд…
В 80-е годы я каждое лето возил своего сына в небольшой латвийский поселок на берегу моря. Там ежегодно собиралась московско-ленинградско-рижская компания, в которой приятельствовали все — и дети, и родители. Возраст детей от года до четырнадцати. Дети готовили театральные представления, а взрослые придумывали и разыгрывали для детей шарады. Устраивали походы, раскидывали палатки, играли в футбол (при этом детская команда всегда выигрывала, с минимальным, впрочем, счетом). Сюда приезжали многодетные семьи, которые еще и разрастались из года в год. Здесь были два рыжих мальчика — близнецы, один альбинос, девочка-хромоножка, кто-то заикался, кое-кто обещал стать красавцем или красавицей, или даже (как оказалось из детских показаний) были уже таковыми. Все милы необычайно. Радость и благодать!
Вечером, уложив детей спать, взрослые собирались в одном из снятых домов, чтобы выпить водки и, по примеру детей, поругать советскую власть. Об этой последней страсти родителей в поселке догадывались и потому вполне дружелюбно относились к приезжим. Один старик, которому я помогал по хозяйству, как-то даже решился высказаться в этом же ключе. Он произнес весьма эвфемистическую (почти эвфуистическую) фразу, смысл которой я тем не менее ухватил. Сделав рукой широкий жест и словно бы описывая весь после Ульманиса начавшийся бардак, он сказал: «Это все тимикали, тимикали, тимикали!» Что, безусловно, должно было означать: «Весь этот развал и загнивание — дело рук большевиков».
Я выслушал его с уважением, ценя то доверие ко мне, с которым крамола была высказана, и спросил, как же прежде-то было? — При Ульманисе? — улыбнулся старик, подтверждая тем самым мою догадку, что слово «химикалии» синонимично советской власти. Он много рассказал мне тогда, начав с демонстрации выразительного монумента, который он сам установил на своем участке и который должен был символизировать контрастность настоящего и прошедшего. Это был большой бот, служивший во времена Ульманиса для рыболовецкого дела, а нынче, после запрета большевиков на частный промысел, распадающийся на части, но красивый и горделивый, хотя и несколько нелепый, вросший в землю рядом с кустами смородины.
Про Ульманиса вспоминала и старушка Эрна, находя, что я чем-то напоминаю бывшего президента. Впрочем, еще больше я походил, по ее словам, на какого-то не то боксера, не то штангиста — непобедимого латыша-богатыря, чье имя она позабыла, но утверждала, будто он был знаменит во времена ее молодости.
Я, конечно, не мог не гордиться такими сравнениями и чувствовал себя и славным и могучим, до тех пор, пока не увидел огромного рыбака Эгона, кулаки которого сильно превосходили размерами мою, да и его собственную голову. При первой встрече он только слегка покосился на меня и ничего не сказал. Встретившись со мной вторично, он направился прямо ко мне и, не замечая моего невольно испуганного взгляда, сказал:
— Ты меня извини, милий друг, я сегодня немножко полон, как трамвай.
В дальнейшем он всегда начинал разговор именно этой фразой, потому что и впрямь всегда был полон — не знаю, каким может быть трамвай, наполненный тем же, чем Эгон, — но последний был всегда под завязку.
— Почему не заходишь, милий друг? — спросил он однажды. — У меня есть рыба, яйчики. Вон тот дом, видишь? Ты по-латышски читаешь? Там написано: «Willa Freddy». Заходи!
Когда я разыскал «Виллу Фредди», я несколько минут оторопело разглядывал ее. Она была оформлена, как старинное морское судно. Между первым и вторым этажами был прикреплен огромный штурвал. Над окнами второго этажа действительно было написано готическим шрифтом: «Willa Freddy». Внутри дома все стены были обклеены коробками из-под сигарет заграничного производства. И чисто, как на корабле.
Эгон был в состоянии трамвая, выполняющего свой рейс в часы пик, за что немедленно принес свои глубочайшие извинения. Он провел меня по дому, который никому и никогда не сдавался, но был всегда открыт для тех, кого Эгон называл своими друзьями, каковые могли нагрянуть в любой момент.
Друзья и правда появлялись неожиданно, быстренько становились трамваями и отправлялись в депо. На следующий день они выходили в море за рыбой, обрабатывали пойманное в домашней коптилке, и копченая рыба помогала несколько отсрочить наступление часа пик в трамвайном графике.
Хозяйство Эгон содержал в замечательном порядке. У него были куры, приносившие отличные «яйчики», он выращивал помидоры и клубнику. Женщины рядом с ним не было, и на мой невысказанный вопрос он ответил:
— Я, милий друг, одинокий волк.
Однажды я встретил Эгона недалеко от его дома. Он медленно брел по дороге, и слезы величиной с его собственные кулаки одна за другой стекали по щекам.
— Что случилось? — спросил я у Эгона, впервые не извинившегося за свою переполненность.
— Не спрашивай, милий друг, — сказал он. — Я сейчас в клубе смотрел индийский фильм. — И он зарыдал.
— Хороший фильм?
— Грустный, милий друг, тяжелий.
Здесь я должен рассказать о поселковом клубе, в котором два или три раза в неделю показывали самые разные фильмы, куда допускались даже младенцы, в том числе и на тяжелые индийские и фривольные французские картины, и где сущим удовольствием было смотреть приключенческие фильмы: «Трех мушкетеров» или «Фантомаса». Наслаждение заключалось, впрочем, не в самих картинах, а в наблюдениях за зрителями, большую часть которых составляли дети, получившие от родителей двадцать копеек на билет и свободу на два часа (в обмен на равнозначную, вернее, равно-мерную, изохронную свободу для родителей).
Я почти никогда не пользовался своей свободой, хотя, как мне кажется, не лишал сына его собственной вольницы: он получал свои двадцать копеек, приходил в клуб независимо от меня и садился, где хотел (обычно на подоконнике, подчас срывая занавески, обеспечивавшие в зале полумрак). Я вглядывался в лица детей, ах, что это были за лица: умные, индивидуальные — нигде на всем пространстве Советского Союза невозможно было в те времена увидеть такое скопление ничем не задавленных личностей! Как они хохотали, как шутили!
Дети знали, что их родители согласны с администрацией клуба в вопросе о допустимости показа любых фильмов, в особенности тех, что разрешены советским кинопрокатом, людям, по тем или иным обстоятельствам еще не достигших шестнадцатилетнего возраста. Позволялось все. В тот день я поинтересовался у сына: «Что сегодня в клубе?» Он никак не мог вспомнить — трудное название. Вместо него ответила хромоножка — девочка четырнадцати лет: «Амаркорд».
Когда мы остались одни, сын спросил:
— Па, ты пойдешь в кино?
— Нет, — ответил я. — И тебе не советую.
— Почему? Ты видел? Плохой фильм?
Я отвечал, что фильм замечательный, но что он не всем понятен, а детям может быть просто скучен, как он скучен большинству отечественных зрителей.
— Все идут, — сказал сын. — Михайловы идут — все четверо.
— Как все? — удивился я. — Младшему три с половиной года. (Моему собеседнику, между прочим, девять).
— Ну да! Так я пойду?
— Как хочешь, я тебе все объяснил, — сдержанно сказал я, сообразив, что мои разъяснения могли скорее подогреть интерес, чем охладить его.
Но сын неожиданно для меня решил не ходить, однако в качестве возмещения потребовал от меня участия в его мальчишеских — не то разрушительных, не то созидательных — планах, поскольку на время сеанса никого из человеческих особей старше года-полутора не останется в поселке на открытом пространстве. Я согласился, и так случилось, что, когда мы вышли из лесу, выполнив поставленную перед нами задачу, закончился сеанс, и все распаренные зрители пробкой вылетели из клуба. Сын сказал:
— Видишь, вон Михайлов (так он называл своего одногодка, вечного друга-врага)? Сейчас подойдет и скажет: «3ря не пошел — здоровский фильм!»
— А, привет, — заметив нас, заорал Михайлов, — зря не смотрели — здоровский фильм!
Дальше мы пошли вместе. Всем, без исключения, детям фильм понравился. Один только младший (трехсполовинойлетний) Михайлов озирался по сторонам, вращал своими черными глазами и время от времени оповещал, а вернее, сам себя уговаривал:
— Я в кино бойше не пойду — там стъяшно!
Тут мы увидели Эгона. Он ничего не говорил, ни за что не извинялся, — он просто залезал, и очень ловко, на высокую сосну. Все остановились и стали глядеть на Эгона. Когда тот устроился на одной из высоко растущих ветвей, рыжие близнецы без слов подмигнули друг другу, и один из них что было духу заорал:
— Хочу женщину!
Все так и покатились, кроме моего бедного сына, который, не видев фильма, процитированного рыжими, ничего не понял. Испытывая острое чувство вины за то, что лишил сына удовольствия совместного с другими переживания (по тогдашнему популярному жаргону, чувства соборности), я быстро рассказал тот эпизод картины, в котором умалишенный, взятый родственниками из сумасшедшего дома на прогулку, забирается на яблоню и именно теми самыми словами, что выкрикнули близнецы, объявляет о своем желании, побивая всех, кто пытается воспрепятствовать ему, плодами дерева, на которое взобрался.
Едва я успел пересказать этот фрагмент «Амаркорда», как события получили дальнейшее развитие. Не обращая никакого внимания на собравшийся под деревом народ, не слыша реплики рыжих хулиганов, Эгон сделал то, чего никто от него не ожидал. Он громко закричал, и поначалу ни один человек не разобрал его слов. Но поскольку он повторял свои выкрики через равные промежутки времени, я с третьего раза понял:
— Voglio una donna!..Voglio una donna!.. Voglio una donna!..
Это был обратный дубляж: он озвучил реплику рыжих по-итальянски и продолжал орать без перерыва, пока под деревом не прозвучал тихий женский голос:
— Sono la donna.
Все обернулись на голос:
— Кто это? Кто это? — зашелестело вокруг.
— Это Гунта, — объяснила хромоножка. Она знала все.
Гунте не пришлось повторять дважды. Эгон тотчас слез с дерева, и они вместе пошли на «Willa Freddy» при всеобщем внимании, не ослабевавшем до самого завершения их пути. Все притихли — и взрослые, и дети, — никто больше не проронил ни слова. Лишь на следующий день юниоры сказали, что на готовящийся футбольный матч с командой родителей хотели бы пригласить к участию в игре (разумеется, на их стороне) маэстро Феллини.
— Что?! — поперхнулись взрослые.
— Да-да, — подтвердили дети свое требование и поручили мне провести переговоры с итальянским мастером.
Я ядовито поинтересовался, будут ли мне оплачены командировочные и билет в Рим, а также, сколько времени отводится на то, чтобы уговорить синьора Федерико. Дети спокойно ответили, что командировочные мне не понадобятся, а матч, как мне должно быть известно, назначен на завтра. Тут у меня в голове что-то забрезжило и, обаятельно улыбнувшись, я спросил:
— Вы хотите, чтобы я сыграл за режиссёра?
— Ну уж нет, — возмутились юниоры.
— Тогда, может быть, мне следует загримироваться под Феллини?
Мои мучители отвергли и это предположение.
— Чего же вы хотите?
— Но мы же ясно сказали: надо с ним переговорить.
— Да где же я вам его возьму?
— Он снимает веранду у Гунты, — сказала хромоножка, которая, как мы уже выяснили, всегда все знала. — Иначе откуда бы Гунта знала, как по-итальянски ответить вчерашнему сластолюбцу!
Это было логично, я должен был это признать — действительно, Гунта, вероятно, справилась у своего постояльца, как необходимо ответить забравшемуся на дерево. Что же касается Эгона, думал я, то он, возможно, запомнил, что произносит персонаж в итальянском фильме.
— Что ж, — согласился я, — попробую.
Дети перевели меня через большую дюну, за которой располагался дом Гунты, и остановились. К дому я подходил уже в одиночестве.
— Signor Fellini, — вполголоса репетировал я. Потом погромче: Signor Fellini!
Вдруг дверь веранды в доме Гунты распахнулась, и я услышал:
— Che vuoi?
Не знаю, как описать мой ужас: я задрожал, затрепетал, я загорался, но не гас, а вновь загорался, я трясся, я буквально бился крупной дрожью. Дело в том, что я человек книжный и читал мистический роман загадочнейшего Казота «Влюбленный дьявол». Там точно эти же слова произносит сатана, обращаясь с этим громовым вопросом к несчастному, который принимает его за прекрасную женщину.
— Vostra eccelenza, — сказал я в замешательстве, пугаясь еще больше оттого, что передо мной стоял не дьявол, а сам великий маэстро, который хмуро и неприветливо меня разглядывал.
— Parla russo, imbecile, — сказал он, — comprendo tutto.
— Синьор Феллини, — с некоторым облегчением начал я уже по-русски, — завтра состоится футбольный матч между командами взрослых и юниоров…
— Avanti, avanti, — нетерпеливо подгонял меня маэстро. — Come va? — спросил он вдруг, посмотрев куда-то в сторону.
Проследив его взгляд, я увидел подходящего к нам Эгона, который еще издалека начал говорить:
— Scusa, mio carissmo amico, oggi sono un po’ pieno, come un tranvai!
Закончив эту почтительную фразу, он повернулся ко мне и не менее учтиво сказал:
— Ты прости меня, милий друг, я сегодня немножко полон, как трамвай.
Потом подумал и объявил:
— Завтра в клубе опять индийский фильм. — И спросил у Феллини: «Trovai diletto a cinematografica delle Indie?» — И ко мне: «Я знаю, милий друг, что ты любишь индийский кинематограф».
Оказалось, что прославленный итальянский режиссер обожает индийские фильмы, что он пять раз смотрел фильм «Бродяга», песню из которого может спеть хоть сейчас на языке хинди. Этот фильм, по его словам, оказал весьма существенное влияние на его собственную картину «La strada», которая совершенно верно называлась в русском прокате: «Они бродили по дорогам», ибо русское название, как бы угадывая означенное влияние, словом бродили подчеркивает связь между двумя фильмами. И, конечно же, amico Egon, твой приятель Федерико пойдет с тобой завтра в клуб.
— Но ведь завтра футбол, — напомнил я, бледнея от предчувствия неудачи своих переговоров, — и дети просят Вас, маэстро, занять место голкипера в их команде.
— Con bambini? — вдруг оживился Феллини.
— Per favore, Federico, — попросил неожиданно подошедший альбинос.
Это решило дело. Маэстро извинился перед Эгоном за то, что не пойдет завтра в клуб, потому что, конечно, не может упустить шанса поиграть в футбол на стороне детской команды. Он радовался неимоверно, обнимал подошедших к нам детей, прыгал на одной ноге, подмигивал и обещал показать этим кретинам (взрослым) класс настоящей игры.
— Хвастун! — пробормотал я, не выдержав унижений.
— Cretino sei tu, — тут же отозвался находчивый режиссер и без какого-либо акцента к полному восторгу слышавших это детей прибавил по-русски: «Сам дурак!»
Дети ликовали, хлопали «Federico» по плечу, и весть об участии regista illustre в завтрашнем соревновании облетела весь поселок.
Я не думал, что в поселке было столько народу, сколько собралось посмотреть наше футбольное состязание. Вратарь детской команды, маэстро Феллини, пришел заранее. Он был в клетчатом пиджаке, повязал на шею малиновый шарф, а на ногах у него были двухцветные черно-белые лакированные туфли. Встреченный веселыми возгласами товарищей по команде и приветственными аплодисментами собравшихся зрителей, голкипер юниоров картинно раскланялся, достал из принесенной с собой сумки спортивную форму и на глазах у всех начал в нее обряжаться. Особое внимание и самого спортсмена, и его товарищей по команде было обращено на кроссовки. Когда Федерико достал их из сумки, по полю прокатилось:
— Вот это да! Вот это адидасы!
Феллини самодовольно улыбнулся:
— Si, si, ragazi, «Adidas»!
Дети ликовали, взрослые смущенно переглядывались. Все продолжали смотреть исключительно на великого маэстро, который, обувшись в свои роскошные кроссовки, стал разминаться: подпрыгивать, приседать, совершать небольшие перебежечки, набирать полную грудь воздуха и с шумом выпускать воздух изо рта. До самого начала состязания Феллини был в центре внимания всех собравшихся — и зрителей и спортсменов. Наконец, по свистку команды вышли на поле. Я оказался vis-a-vis маэстро, то есть стал на ворота команды родителей.
Что сказать о матче? Дети повели его в привычной для себя манере: они захватили мяч и всем скопом повели его к воротам под вопли болельщиков. Возглас: «банку, влепи им банку! — привел гостя юниоров в восторг, и он, захлопав в ладоши и подпрыгивая, закричал:" Banca! Banca!» Должно быть, мои ворота пригрезились ему как хранилище драгоценных голов, забитых его командой. Не знаю, почему, но это взбесило меня до последней степени, и, вместо того чтобы привычно пропустить детский гол, я в красивом прыжке взял мяч. Это огорчило всех, кроме родителей. Более того, видя в воротах противника солидного спортсмена в роскошных кроссовках, а не малого ростом альбиноса, взрослые пошли в наступление, и с этой минуты до самого окончания матча наше господство на поле стало неоспоримым.
Незадолго до финального свистка, когда счет уже достигал 27:0, голкипер юниоров картинным жестом показал, что принимает игру на себя, вышел из ворот с только что забитым туда мячом и с криком: «Ragazzi, ultima banca!» (как будто до этого был хоть один мяч в наших воротах!) повел мяч через все поле. Игроки обеих команд приостановили всякие действия, чтобы не мешать маэстро. Однако, когда он приблизился ко мне, я тоже покинул свое место и, с легкостью отобрав у знаменитого игрока мяч, с силой послал его в никем не охраняемые ворота противника. И я попал! Ликующий рев всей взрослой команды перекрыл финальный свисток. Мой гол, разумеется, защитан не был. Ну, да не в этом дело. Взрослые выиграли и, не скрываясь, торжествовали.
Странно, однако, было то, что юниоры нисколько не огорчились таким разгромным счетом и вообще непривычным для них поражением, они ничуть не сердились на очевидного виновника катастрофы, не считали ситуацию позорной и по-прежнему относились к своему голкиперу, как к герою дня. Вместе с ним они весело обсуждали эпизоды матча, как если бы были победителями, при этом Федерико объяснял, что главной ошибкой было назначение его на место вратаря, в то время как он — прирожденный бомбардир, мастер bombardamento.
Не успели мы разойтись после матча, как подошел к игрокам один москвич из нашей компании и объяснил, что, часто бывая по долгу службы в Риге, он имеет множество знакомых среди местного партийного начальства, каковое начальство предоставило в его личное распоряжение баню с сауной сроком на одни сутки.
— Словом, — сказал он, — я приглашаю всех в баню, тем более, — добавил он, поводя носом, — что после таких энергичных занятий спортом это просто необходимо. Сейчас сюда подадут автобус — баня расположена в лесу в тридцати минутах езды отсюда.
Не все захотели принять приглашение. Феллини же первый отреагировал восторженно:
— Volontieri, grazie, mille grazie!
Подошел автобус, и человек двадцать в него погрузились. Через полчаса мы были на месте. Ничего более сказочного в жизни своей я не видел. Нас выгрузили на обочине, и по узкой тропинке мы углубились в лес, пока через семь минут не дошли до поляны с небольшим озером, на самом краю которого располагалась баня, оснащенная желобом — съездом в воды озера, поросшие кувшинками. В самой бане было два помывочных отделения — мужское и женское, — сауна и банкетный зал. Труба уже дымилась, столы уже были накрыты!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ах, что это было за счастье. Все мгновенно опьянели, еще до того, как поднесли что-либо ко рту. Мы разобрали шайки и разобрались по отделениям, затем мы встретились в сауне, потом, подталкивая друг друга, мы съезжали по желобу в озеро и плавали в нем, раздвигая кувшинки руками. Наконец, собрались за столом в банкетном зале. Открыли бутылки, нарезали угря и огромные помидоры, разделали копченых кур. Дети прыгали и визжали, родители произносили тосты и опорожняли стаканы. Врубили музыку и организовали танцы (у детей это были пляски). Вконец окосели, и тут Феллини, про которого все забыли, обращаясь к четырнадцатилетней девочке, сказал:
— Tu, piccola, vieni qui!
И, когда та подошла, взял ее за плечи и стал шептать:
— Mi face…
— No, no, signor, no… sono vergine...no…
Не знаю, чем бы все это могло кончиться, если бы не произошло неожиданное, вернее то, что почти каждый из присутствовавших в бане так или иначе мог ожидать либо же тем или другим способом примериваться к ситуации, возникшей в ту минуту, а, впрочем, все-таки всегда и для всех огорошивающей. Короче, дверь рывком отворилась, и на пороге выросли трое мужчин. Стоявший впереди весело и чрезвычайно отчетливо, как бы представляясь иностранцам, произнес:
— Константин — Георгиевич — Брежнев.
— Константин Георгиевич — это Жуков, — отпарировал наш бывалый хозяин, — или нет, Жуков — Георгий Константинович, а Брежнев — это Леонид Ильич?
— Он имеет в виду, — вдруг совершенно чисто по-русски сказал Феллини, — «Коммунизм — Гестапо — Блядь».
— Вот товарищ правильно понимает, — одобрил незнакомец, — и резко скомандовал: Всем в машину!
— Я сказал: всем в машину! — пресек он наши попытки натянуть на себя какую-нибудь одежду.
Мы стали выходить по одному, но…
Я вынужден на этом месте оборвать рассказ.
Я записал, как вспомнилось, но, проанализировав написанное, нахожу, что сработала не столько житейская память, сколько беллетристическая (оставим сейчас в стороне эстетский разговор о том, какая из них точнее и что из них есть память сердца). Словесность требует драматизации. Сюжет имеет свойство самозакручивания. Будем считать, что я указал на возможность такого поворота. Но я ведь обещал голый мемуар и хочу сдержать слово.
На деле, я думаю, КГБ, если и интересовался нами, то не настолько, чтобы портить нам культурный досуг и нескромно заглядывать в нашу феерическую баню. Даже, напротив, один из нас, профессор 3. отказавшийся присоединиться к нам в нашей поездке, пустил на следующий день словцо, что вот, мол, оно и видно, что диссиденты и коммунисты из одной шайки… моются.
Впрочем, вот еще одна аберрация, исправление которой не слишком существенно для сюжета, но значимо для безупречной достоверности рассказа. Слова и впрямь были сказаны, но не профессором 3. — тот уже был вне советской юрисдикции, — а профессором 4, который стал верховодить в отсутствие профессора 3. И уж чтобы совсем точно: никаким профессором профессор 4. не был, но, пожалуйста, разрешите мне все же продолжать именовать его именно так. Он много и со вкусом учительствовал, при случае принял бы (и, вероятно, еще примет) степень доктора Honoris causa Кембриджского или какого другого прославленного университета, пусть будет профессором 4.
Профессор 4. умел красиво говорить, как бы слушая свои рассказы со стороны, отмечая эстетические достоинства собственных повествований и даже успевая ими полюбоваться. Случалось, он обрывал новеллу в неожиданном месте, досадливо морщился и объяснял: «Нет, так нельзя, пуанта нет!» А на следующий день торжествующе и величественно: «Есть пуант!» — и рассказывал совершенно другую, еще более правдивую (потому что с пуантом) историю. Истина была ему открыта, и, читая в ней, как в книге собственного сочинения, но при этом имея в виду Книгу, он мог твердо обо всем и обо всех судить, вернее, всех судить — и без колебаний, свойственных тем, кому не было откровения.
Феллини он не любил давно, а встреча с ним только подтвердила его убеждение в том, что режиссер — «мошенник, фигляр и, главное, безбожник». Он не отрицал некоторого артистизма в итальянце, но приписывал это этническому своеобразию и личному сатанизму. Случай в бане он как раз и объяснял присутствием среди нас Диавола.
На следующий после матча и банного счастья день я был еще полон, как трамвай, воспоминаний о вчерашнем (почему-то только о бане, о футболе странным образом никто никогда не вспоминал, я сам припомнил, лишь когда засел за мемуары, и даже не уверен, что кто-либо согласится подтвердить мой рассказ). Я отправился в магазин за провизией, обдумывая всеобщий экстаз от посещения злачного местечка партийной элиты и рассеянно глядя по сторонам. Краем глаза я заметил, что ко мне присоединились рыжие близнецы, и мы молча пошли рядом. Затем я издалека разглядел ладную фигурку Гунты и пожалел, что не успел с ней познакомиться — она мне очень понравилась, когда стояла под деревом в миг одержимости Эгона.
— Конджо сет, айделлем? — сказал один из рыжих.
— Ышши, — горячо откликнулся я, — бэттам!
— Шермута! — презрительно произнес второй близнец.
И тут мое сознание прояснилось.
— Прохвосты! — взвизгнул я, — на каком языке вы разговариваете?
— На том же, что и ты, — удивились братья, — на амхарском.
— Черт побери, но мы же не учились вместе в Институте восточных языков, да вас и на свете еще не было!
— А что ты так кипятишься? Что такого мы сказали? (Да, я, кажется, должен объяснить, что же было сказано? Думаю, не все могут изъясняться на языке Эфиопии так, как это умели близнецы. Просто мое тогдашнее изумление превосходило ту оторопь, с которой отвечают мне эфиопы где-нибудь в парижском или франкфуртском метро, когда я обращаюсь к ним на их языке. В переводе на русский вышеприведенный диалог выглядит так:
— Красивая женщина, нет?
— Да, очень!
— Проститутка!)
Тут Гунта остановилась, поглядела в нашу сторону и, дождавшись нас у магазина, сказала, обращаясь только ко мне:
— Ты на них не сердись: они не понимают сами, что говорят. («Конечно не понимают, — внутренне согласился я, — они же говорят по-амхарски). Тем более, — добавила Гунта, — что они, кажется, говорят по-амхарски.
И, повернувшись к близнецам, она с легким латышским акцентом спросила:
— Амарынья йиннаггераллю вой?
— Ауо, ыннаггераллен, — мрачно ответили рыжие в унисон.
— Ну, вот видишь! — широко улыбнулась Гунта и прощальным жестом взяла меня за руку — не открытой ладонью, а согнутыми пальцами сжала пальцы моей левой руки.
И ушла…
……
Близнецы смотрели на меня, черт побери, глумливо!
…
Глумливо…
Мне поручили найти место для пикника, и я ходил по лесу и по дюнам, отыскивая подходящую поляну, где можно было бы разбить палатки, устроить состязания в стрельбе из луков, накануне тщательно изготовленных сыном из орешника, как следует, полакомиться и с разбегу окунуться в море.
Когда я, наконец, увидел подходящее во всех отношениях место — и в лесу, и за дюной, и море в двух десятках шагов, и даже черничные заросли в дополнение ко всем прочим удовольствиям, — из-за деревьев вышла девочка, та самая, что отбивалась от Феллини в бане, и сказала, что поможет мне в подготовке пикника.
Я велел ей собирать хворост для костра. Она, как мне показалось, недовольно поморщилась, но сразу же принялась за дело. Вскоре я заметил, что она, наклоняясь, негромко постанывает и потирает поясницу. На мой вопрос о причине вскрикиваний она ответила с некоторым вызовом, что, должно быть, застудила придатки. Мою озабоченность её состоянием она презрела и продолжала приносить хворост и небольшие поленья. Я распорядился прекратить работу и сходить за участниками пикника, чтобы показать им дорогу к выбранной нами поляне.
— Сами найдут, — отрезала она и оказалась права: как по команде, веселой гурьбой высыпали на поляну дети и их родители.
Они похвалили место и стали разбивать палатки, готовить мишени для соревнований в стрельбе из лука, раскладывать еду. Все были охвачены каким-либо видом деятельности.
Профессор 4. миролюбиво разговаривал с Феллини, наставляя его в вопросе об отсутствии психологических тонкостей в Библии, что, по его мнению, избавляет нас от необходимости прививать тонкость чувствований нашим детям и даже выставляет перед нами императив ни в коем случае не добиваться этого. Я несколько бестактно встрял в разговор, отметив, что последняя максима сформулирована профессором 4. без присущей ему обыкновенно тонкости, за что удостоился гневного взгляда и последующего и немедленного охлаждения отношений. (Это, надо сказать, до сих пор огорчает меня, хотя бы потому, что я не смогу послать ему этот мой первый мемуар и услышать его суд над ним. Профессор, буде попадутся Вам на глаза эти строки, прошу Вас одобрить пусть только стремление к лишенной какой-либо тонкости прямоте и неукрашенности речи).
С некоторой ленцой и явной неохотой разговаривать на предложенную тему, в ответ на вызов указать хоть одно место в Библии, которое свидетельствовало бы о психологической тонкости, Феллини сослался на книгу Иова. Это вызвало неудовольствие профессора, и он попросил, не трогая Ветхого Завета, привести пример из Евангелия. Феллини почему-то заартачился и сказал, что он, разумеется, может сделать и это, но не находит необходимым, потому что считает Священное Писание Книгой, а не двумя книгами.
Разговор и вообще всякая деятельность были прерваны холодящим душу воплем. В центре поляны каталась по земле, вырывая руками траву, девочка, только что помогавшая мне собирать хворост. Она кричала по-звериному, до пены на губах. Все бросились к ней, но расступились почему-то перед девочкой-хромоножкой, которая сосредоточенно распорядилась:
— Срочно костер, вскипятить воду, приготовить полотенца: у нее родовые схватки.
Никто не стал спорить, хотя до сегодняшнего дня никаких признаков беременности или даже просто знакомства с половой жизнью за девочкой замечено не было. Даже мало-мальски округлившегося живота — не было! И тем не менее все сразу приняли как должное слова хромоножки, которая спокойно взяла на себя роль повивальной бабки. Все тотчас же подчинились ее диктату, но она обращалась за помощью только к детям, и инвектива профессора о необходимости устранить детей даже в воздухе не повисла: ее проигнорировали так естественно, как если бы она и не прозвучала вовсе.
— Постели одеяло, — обратилась хромоножка к альбиносу. — Теперь осторожно перенесите ее, — скомандовала она близнецам. — Держите ей ноги, вот так, — приказала она красавице и моему сыну. — Полотенце мне и сюда, — и она склонилась над роженицей.
Не оторвать глаз от этой совершенно космической картины! Никто и не отрывал. Все словно бы укрупнилось. Нечто подобное по своей грандиозности и величавой подробности я увидел только годы спустя в Сикстинской Капелле Ватикана.
И все же это были странные роды, насколько я могу судить. Должны были отойти воды — вод не было. После того как появился на свет крохотный комочек и хромоножка велела накрыть молодую мать одеялом, мой сын спросил:
— А послед?
Последа не было, и его даже не ждали.
Все стали рассматривать новорожденного. Я не оговорился, когда сказал, что это был комочек, вернее сказать — колобок. Ни одной человеческой черты в нем не было, нельзя даже утверждать, что в нем различимы какие-то члены — просто кусок плоти (мяса). Тем не менее этот колобок обмыли кипяченой водой, отрезали пуповину, после чего он как бы толчком раскрылся, выбросив вверх голову, вниз ноги, и раскинул в стороны ручонки. Это был чернокожий ребенок, и все разом выдохнули:
— Девочка!
Мальчики, словно бы подчиняясь неслышному приказу, похватали луки, и каждый выпустил в воздух стрелу. Между тем взрослые со смутной настороженностью и тревогой разглядывали девочку. Новорожденную передали матери, которая, продолжая лежать, держала ребенка на вытянутых руках. Стало видно, что у девочки на ногах диковинные браслеты, на руках запястья, а на шейке амулеты. Удивительно было, что у младенца женские груди — небольшие, но как бы старческие, дряблые и отвисшие. Глаза — при темном цвете кожи — иссиня-голубые. Вдруг эти глаза закатились, так что остались одни белки, а груди, словно глиняные лепешки, стали отваливаться.
Мать закричала:
— Эгба ми, ара э ма нтуту! Ара э ма нтуту!
— Что она говорит? — спрашивали взрослые.
— На языке йоруба это означает: «Помогите, она вся холодеет!» — объяснили близнецы.
— А почему она говорит на йоруба?
— Потому что она родила абику, — тихо и печально произнес альбинос, и мы увидели его пронзительно-зеленые глаза под воспаленно-красными веками.
— Абику, — вступил я, — это сверхъестественное существо, которое умирает и снова рождается, уходит в другой мир и возвращается — этот цикл бесконечен. Смотрите! Ребенок меняет пол!
Все взгляды устремились к младенцу. Его глаза вновь обернулись зрачками к этому свету, и он с видимым любопытством наблюдал за метаморфозами, с ним происходящими. Казалось, он даже усилием воли слегка приподнял свой новый отросток, чтобы лучше разглядеть его.
— Я боюсь, я боюсь за мое дитя, — шептала мать, вновь обретя дар родной речи.
К ней подошла Гунта, невесть откуда появившаяся на поляне. Она стала на колени рядом со страдалицей и что-то ласково зашептала ей на ухо.
— Я знаю, что надо делать, — тихо сказал альбинос, и младенец метнул в его сторону испепеляющий взгляд. Альбинос продолжал говорить (привожу слова, как я их запомнил, то есть не в полном виде):
— Бог Богов и Господь Господей, огненных чинов творец и бесплотных сил хитрец, небесных и поднебесных художник. Возьми своею владыческою рукою из новорожденного скорби и болезни, злыя дела, помрачительныя, и силы дьявольские поверзи в огнь лютый.
— Икоты-икотницы — шепотную икоту, потяготную икоту, клокотную икоту, смехотворную икоту, плач неутолимый, усовники, болетки, внутренняя огневы, топорки, глухую тоску, подданную, поддельную, подвивную, взглядную, сполюбовную, с буйной головы, с семя, с мозгу, с ясных очей, с черных бровей, с длинных ресниц, изо рта, из носу, из губ, из десен, из зуб, с языку, с могучих плеч, из белых рук (он немножко запнулся и посмотрел на темнокожего младенца, который, впрочем, как все проследившие взгляд альбиноса заметили, стал совершенно белым), из белых рук, из завитей, из костей, из перстов, из-под ногтей, с белой груди (еще один взгляд — и уверенно), с белой груди, с ретивого сердца, с черной печени, с белого легка, с серого желудка, из желтой желчи, изо всего чрева человеческаго, с поясницы, с подколенных жил, из лапастей, из перстов, из-под ногтей, из крови горячей, изо всего тела человеческаго.
Сказав это, альбинос изнемог и, прислонившись к сосне, медленно сполз на землю. Младенец глядел на него с ухмылкой и только произнес:
— Ишь ты!
Видя состояние альбиноса, в дело вступили близнецы (они говорили по очереди):
— Окаянныя дьявольницы, как имена ваши? Рцыте нам!
Со стороны младенца послышался низкий женский голос:
— Мне есть имя Трясовица — распаляю у человека все члены и кости.
И двенадцать раз разными голосами на вопрошания рыжих отвечал младенец:
— Мне есть имя Медия, зноблю все члены.
— Мне есть имя Ярустошо…
— Мне есть имя Коркуша…
— Желтодия…
— Люмия…
— Секудия — всех проклятейшая…
— Пухлия…
— Чемия…
— Нелюдия, ночью сна не даю, с ума человека свожу…
— Мне есть имя Невия — вся проклятая и старейшая трясовица… Не может человек от меня излечиться и лишится жизни.
И опять вступил альбинос:
— Выходит морской петух единожды в год. Вострепещешь своими крыльями и воспоешь: от твоего петушьего гласу потрясется мать сырая земля, море и мелкие озера всколышутся, текучия реки возмутятся, власти устрашатся, а сила дьявольская укроется в светлые воды, ухоронится в горы, пещеры, в стоячий деревы, под лежачий колоды…
И он вновь ослаб…
Тут неожиданно вошел в круг Маэстро Феллини. Он приседал, приплясывал, взмахивал руками и неистово скандировал в стиле рэпа (В то время о рэпе, конечно же, мы не слыхивали, так что Феллини можно по праву считать предтечей или даже родоначальником этого стиля).
— Шикалу, Лукалу!
Шагадам, магадам, викадам.
Пинцо, пинцо, пинцо, дынза!
Коффудамо, нираффо, сцохалемо, шолда!
Жу, жу, Згинь! Згинь!
Веда, шуга, лихорадка, на да шуга!
— Прекратить бесовство! — перекрывая все голоса, закричал профессор 4. Все замерло, и все посмотрели на профессора. Тот гневно размахивал кулаками перед лицом Феллини и бросал в него словами:
— Богохульник! Сатанист! Ирод окаянный! Убойся, бежи, отыди весь, о, бес нечистый, злый, сильный, преисподние глубина и лживый блазном, льстивый, необразный и многообразный…
И он долго еще восклицал в полнейшей тишине, пока не заметил, как переменилась картина на поляне…
Не знаю, как продолжить рассказ, чтобы не лишиться доверия дочитавших до этого места. Дело в том, что все исчезло. То есть исчез лукавый младенец, исчез костер, роженица стояла в кругу детей, готовившихся к состязаниям в стрельбе из лука. Все происходившее на поляне было чьей-то рукой вынуто из памяти участников пикника (в том числе и моей). Почему и как я вспомнил это сейчас — честно говоря, не знаю. Перед тем, как описать это лето, я осторожно выспрашивал у участников событий какие-то детали — никто ничего не помнит, даже дети, уже, разумеется, повзрослевшие. Один лишь альбинос произнес загадочно:
— Он еще вернется.
Что еще сказать: мелькают лица — профессор, Гунта, Феллини, Эгон, Гунта, Михайловы, Гунта… Гунта…
Стоят три гроба, в тех гробах три доски, на каждой доски три тоски; первая тоска убивалася, с телом сопрягалася; вторая тоска убивалася, с телом сопрягалася; третья тоска убивалася, в сердце вошла. Аминь.
Весна 1998 г.
Дьяволенок Леонардо

Помню детское свое ошеломление, когда я впервые увидел в альбоме репродукцию этой картины Леонардо да Винчи.
Согласно названию, на картине изображен Иоанн Креститель. Молодой полуобнаженный человек глядит на меня глазами, переполненными соблазном и насмешкой, почти глумлением. Мне становится страшно.
Этот человек первым признал Христа и призывает креститься в реке Иордан? А что за жест? Допустим, правый палец его назидательно поднят кверху, и, возможно, он что-то объясняет и проповедует, хотя это все же не жест проповедника: что-то в нем есть такое же издевательски-соблазнительное, что и в зловещем взгляде, сулящем недоброе. Можно предположить, что палец направлен на слегка проступающий из темноты крест, хотя в это верится с трудом: слишком чужероден крест всему настрою этой картины и, вероятно, ее смыслу. Мне, честно говоря, этот жест кажется сродни современному, имеющему смысл: «А вот на-ко-ся, выкуси». Да и в лице юноши скорее лукавство, чем прозелитство. А и можно ли назвать лукавством оскорбительность, издевательство и почти скабрезность? Здесь изображены сознающее себя предательство и измена, надувательство и коварство.
Разумеется, в детстве я не формулировал все это буквально этими словами, но я смутно ощущал все, что сейчас пишу. Когда много лет спустя я увидел эту картину Леонардо в Лувре, мои давние впечатления подтвердились с лихвой и еще усугубились, хотя все-таки оставались смутными.
Я, конечно, понимал, что во времена Леонардо художники названия своим картинам не давали, что представление о том, что на картине изображен Иоанн Креститель, могло возникнуть много позже создания шедевра, что автор названия мог преследовать какие-то свои, посторонние портрету, цели, но ведь закрепилось же название и живет нераздельно с картиной. В искусствоведческих работах я увидел предположение, что крест и одеяния, возможно, были написаны не Леонардо, а кем-то другим, вероятно, одним из учеников мастера, но значительно позднее.
Не буду сейчас ссылаться на свои розыски в области искусствоведческой и символологической литературы, где толкуются и жесты, и мистические смыслы, и аллегории, связанные с портретом. Желающие смогут найти в интернете видео с интереснейшими лекциями Алексея Назарова, в которых прослеживаются аллюзии на Гермеса Трисмегиста, Еноха и Метатрона.
http://tv.tainam.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=26
Оставляю конспирологию в стороне. Я пишу не искусствоведческое исследование, хотя многие догадки ученых мне известны и интересны. Да ничего нового я, пожалуй, и не скажу. Хочу только рассказать историю своих локальных открытий, совершенных мною не как специалистом (каковым я не являюсь), а просто не лишенным внимательности любителем живописи.
Несколько лет назад я впервые пожил несколько дней в Милане. Здесь, конечно, было на что посмотреть и помимо «Тайной вечери» Леонардо. И вот в одном из залов Pinacoteca Ambrosiana я застыл напротив картины Gian Giacomo Caprotti — San Giovanni Battista.
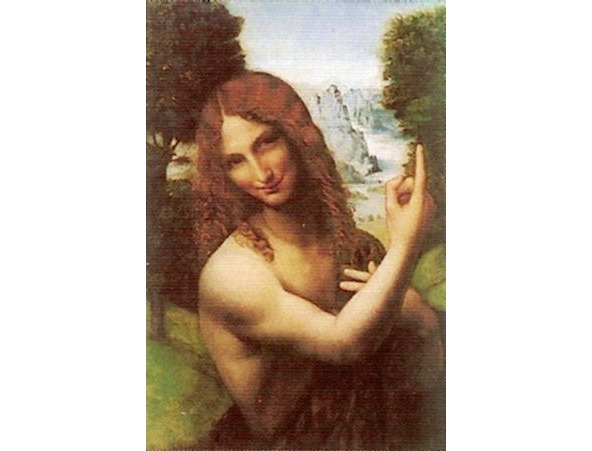
Мне не показалось, что это удачная копия работы Леонардо: она была попроще, в ней не было мощи учителя… но сохранялась некоторая глумливость. Художник Джан Джакомо Капротти вошел в историю скорее как факт биографии Леонардо, чем как мастер. И вошел-то он не под именем своим, а под прозвищем Салаино. А прозвище, между прочим, глумливое: Salai — значит «нечистый» (так называли дьявола, в том числе и в России), Салаино — уменьшительное от этого слова, то есть «чертенок», «дьяволенок».
На памятнике Леонардо, установленному в Милане неподалеку от Ла Скала, у подножия стоят скульптурные изображения учеников Мастера. Одна из фигур — Салаино.

Кличку свою художник получил в десятилетнем возрасте, когда определился к Леонардо в качестве ученика и при этом сразу же, в тот же день обворовал учителя. Он тут же был уличен, но потом неоднократно в различных ситуациях без зазрения совести прибегал к воровству, подчас даже рискуя жизнью и вызывая бешенство и ненависть других учеников Леонардо. Учитель же, аккуратно занося в свой дневник прегрешения дьяволенка, неизменно защищал и выгораживал миловидного мальчика, вызывая при этом сплетни и слухи о собственных несколько извращенных повадках.
Слухи живут (и множатся) до сих пор, тем более что почти все свое наследство, включая и «Джоконду», Леонардо оставил именно Салаино, который через несколько лет после смерти учителя (и любовника?) погиб в пьяной драке. Известно, что Салаино был постоянным и любимым натурщиком Леонардо.
Недавно итальянский искусствовед Сильвано Винчети высказал гипотезу о том, что даже сама «Джоконда» писана Леонардо именно с женоподобного Капротти.

Но я и не об этом. Говорят, в коллекции английской королевы Виктории было несколько рисунков Леонардо, которые считались эротическими. В какой-то момент эти рисунки стали полагать утраченными, во всяком случае, из Великобритании исчезнувшими. В последние годы они таинственно всплыли, и уже в нескольких местах выставлялся рисунок с загадочным названием Angelo incarnate (Ангел во плоти).

Это до чрезвычайности странный ангел, имеющий по современным критериям признаки порнографического изображения — в силу напряженности своего гендерного состояния (прошу заметить мою законопослушность в выборе терминологии. — В. Б.)
Не знаю, ближе ли мы к разрешению загадки «Иоанна Крестителя» или дальше от нее. Но вот, наконец, мы видим совмещение изображений: это и портрет (карикатура?) Салаино (дьяволенка? ангела во плоти? похотливого развратника?), и набросок глумливого и обольстительного Иоанна с его уже знакомым нам жестом (проповедника?).
Мучитель! Мучитель! Мучитель!
Май 2013
Курпарк
(Рассказ о немецкой философии
и русской мистике)
Либерман закончил телефонный разговор, и к нему сразу же подошел Бэр и требовательно заглянул в глаза.
— Любопытствуешь? — умилился Либерман. — Ну, да, тебя это, конечно, тоже касается: мы едем отдыхать. Это недалеко — километров 250 — 300 отсюда. Тебе там будет хорошо.
Бэр покрутил шеей и несколько раз приподнял уши, осваивая информацию. Он всегда принимал участие в семейных советах и настаивал на том, чтобы его точно оповещали о том, что происходит или замышляется. Повернув голову в сторону двери, пес спросил:
— А Мирра уже знает?
— Конечно, Бэрушка, она в курсе. Мы со всеми обо всем договорились.
Либерман потрепал Бэра по холке, как похлопал бы сына по плечу. Он уже привык к мысли, что детей в их семье не будет.
Много лет назад, еще в Советском Союзе, когда Натан встретился и сошелся с Миррой, оба словно сошли с ума от собственной пылкости. В минуты близости оба закрывали глаза, потому что не могли справиться с пошатнувшимися стенами и потолком, пускавшимся вприсядку, в то время как за закрытыми веками вначале включался огнемет, извергавший медленно опадающее пламя, на месте которого так же замедленно разворачивались перья огромного розового психоделического бутона. Одновременно разлепляя веки, они сколько-то мгновений не различали друг друга, потому что все еще созерцали продолжавший перед ними разворачиваться диковинный цветок их любви. Совместными усилиями они сумели словесно описать свои «коллективные» галлюцинации, и никто из них не мог с уверенностью сказать, видел ли он сам этот цветок или его образ навязан партнером.
Все это накрепко сцепило их друг с другом, и оба хотели, чтобы их радость материализовалась, чтобы в доме были похожие на них самих дети, они прикидывали, как будут подкладывать ладони под нежные попки. Года через два после женитьбы, супруги Либерман обратились к врачам, и те в результате разнообразнейших исследований пришли к выводу, что семя, имеющееся у Натана в избытке (оно вскипало по нескольку раз за день и бурно требовало выхода), — мертво. Ни Мирра, не предполагавшая до замужества, что ее супружеские долги окажутся так велики, ни Натан не могли поверить, что такая очевидная избыточность, такой напор, могут оказаться неживыми, точней — бесплодными. Они еще года два помыкались, прежде чем окончательно убедились, что неутихающая радость физической близости не принесет им умиротворяющих плодов. А когда им предложили пробирку и Натан, поразмыслив, согласился, Мирра решительно отвергла «чужое семя» и вдруг выпалила:
— Едем в Германию, там медицина, верно, что-нибудь уже придумала.
— Ты с ума сошла! — вскинулся Либерман и сразу затих. — А ты сможешь там? — тихо спросил он затем.
— Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, — грустно спела Мирра строчку из «Зимнего пути» Шуберта.
— Да, да, — прошептал Натан, — чужим пришел я сюда, чужим и ухожу. Это так, так. Ты права.
Но… как чужими (и бесплодными) пришли они в Германию, так чужими (и неплодными) и остались. Немецкая медицина предложила им… пробирку.
Натан Либерман, получая немецкий паспорт, настоял, чтобы его имя было записано не так, как оно транскрибировалось в русских документах на выезд, и чтобы фамилия заканчивалась двойным эн. Короче, теперь он был Nathan Liebermann («Nathan, der Weise», — говорили его немецкие приятели). Знатоки истории понимали, конечно, что фамилия еврейская, но это было наруку: в Германии, как и в России, люди любят обращаться к еврейским врачам и адвокатам, а Натан очень быстро сумел подтвердить свой диплом дантиста и, неплохо владея немецким языком, сразу же получил широкую клиентуру не только в эмигрантской среде. Он и жену свою сумел приспособить ассистентом у себя в кабинете. Купили небольшой домик, завели собаку — коричневую и мохнатую, назвали Бэр (Медведь). Натан полюбил слово gemütlich (уютно) и теперь часто произносил его и дома и на работе.
— Nur immer gemütlich! — говорил он пациентам, если видел, что они склонны к беспокойству.
Он также с удовольствием рассуждал о том, что уют — чисто германское понятие — и что по-настоящему это слово доступно только для немецкого менталитета и ни в одной стране Европы или Америки его не способны воспринять адекватно.
Работы было много, но она приносила неплохой доход, и Натан никогда не жалел денег на то, чтобы хорошенько отдохнуть и развлечься во время короткого отпуска. Он заранее интересовался, в каких местах принимают постояльцев с домашними животными, и все трое, то есть Натан, Мирра и Бэр — семейство Liebermann — уже побывали на всех морях и океанах. Они посетили Таиланд и Доминиканскую Республику, Ибицу и Крит, Израиль и Сингапур. Всюду было великолепно и роскошно. Но… роскошь — не уют, а Натан хотел на этот раз отдохнуть без блеска, но сохраняя ту Gemütlichkeit, с которой он обустроил свой дом.
Предприняв тщательные расспросы, Натан остановил свой выбор на небольшом курортном местечке Bad W., где, как он выяснил, были целебные воды, холмы, смешанные леса и озеро в каком-нибудь десятке километров от окраины. Сговорившись заранее с Дианой, хозяйкой сдававшегося домика с зеленым участком на той самой последней окраине, которая как раз и была ближе всего к озеру, Либерман (н) привез на новеньком фольксвагене все свое семейство — отдыхать!
— Ach du, meine Güte, — сказала хозяйка, — wie heißt der Hund? (Боже, как мило! Как зовут пса?)
— Er heißt Bär (Его зовут Бэр), — поспешила ответить Мирра: у нее было более понятное произношение, а если бы отвечал Натан, то хозяйка наверняка стала бы переспрашивать, приняв Bär за Beer (ягода), что никак либермановскому псу не подходило.
— Медведь, как мило! — одобрила хозяйка и, слегка засмущавшись, задала вопрос:
— Вы ведь, как я слышу по выговору, из России, для вас медведи привычны, а у нас эти животные повывелись и собак так не называют. Впрочем, говорят, в прошлом году кто-то спугнул в малиннике медведя: я слышала медведи понемногу возвращаются в Германию.
— Пойдем, собаченька (Hündchen), я познакомлю тебя с Робертом.
Все ожидали, что сейчас им представят хозяина, но Робертом оказался мохнатый той же окраски, что и Бэр, кролик. Он сидел в клетке, приподнятой на метр от земли, и поочередно приподнимал кверху то левую, то правую ноздрю. Бэр в ту же секунду, как увидел Роберта, стал перед ним на задние лапы и просунул в отверстие клетки нос, вероятно, чтобы понять, к чему там кролик принюхивается.
— Бэр! — предостерег Натан, но хозяйка успокаивающе улыбнулась:
— Я думаю, они подружатся.
Бэр, видимо, сумел понять то, что и пытался выяснить, но почему-то два раза тревожно взвизгнул, а Роберт перестал гримасничать, но вовсе не от испуга: приближение Бэра к его жилищу скорее умиротворило его: если вначале он почему-то крутил носом, то теперь по какой-то причине перестал.
— Das Tier an sich (Животное-в-себе), — подумал Liebermann.
Рядом с домом стоял старый во многих местах прохудившийся амбар, явно принадлежавший хозяйке, хотя, как впоследствии выяснилось, никто из домашних сельским хозяйством не занимался — все работали или учились в городе. Впрочем, к дому примыкали многочисленные поля — «желтеющие нивы», как умильно назвал их Натан, — и амбар могли сдавать под уборочные машины, да так, скорей всего, и было. Поля не были бескрайними, ибо со всех сторон ограничивались холмами, поросшими лесом, или же просто лесами, и Либерманы с удовольствием предвкушали упоительные прогулки — через поле в лес! Внутри дома тоже было, как и мечталось, незатейливо, но удобно, все необходимое под рукой, чистая ванная с цветочными отдушками. Словом, gemütlich!
Быстренько распаковав чемоданы, все семейство отправилось для начального знакомства в курпарк, самый, как указывалось в табличке при входе, большой курпарк в Европе — с целебными источниками, прудами, лебедями и т. п. По дороге Натан говорил Мирре о том, что город меняется в зависимости от того, кто в него приезжает, от того, о чем люди думают и чего хотят. Один и тот же воздух может быть целебен для одних и враждебен другим, даже если у них сходные недуги. Более того, упорные мысли приезжих сгущаются где-то, например, между деревьев курпарка, и приходят потом в голову, как свои, людям, совершенно не причастным к их рождению.
— Представь себе, даже похоть какого-нибудь безусого школяра может вдруг возбудить недужного старика, приковылявшего сюда, чтобы попить лечебной водички из бювета, — говорил Натан. — Я уверен, мы понравимся этому курорту, мы ведь милые, правда, Бэрушка? Да, Миррочка?
— Ох, Натан, я тебя умоляю, не валяй уже дурака, — также дурачась, почему-то с еврейским акцентом сказала Мирра.
Пес разделял веселый настрой остальных членов семьи, но сохранял достоинство и величавость.
Едва войдя в парк, Натан чуть не захлебнулся:
— А это что за красная жопа?
— Где? Где? — заинтересовалась Мирра.
— Да вот же, справа от аллеи. Давай подойдем поближе.
То, что удалось разглядеть Мирре, действительно было похоже на здоровущую задницу совершенно кирпичного цвета. Оказалось, что здесь поставлена скульптура, название которой было закреплено в надписи на подножной плите, и звалась статуя «Die Rote Dame “ (Красная дама). Вся она была карминная, за исключением лобкового треугольника — тот, как и следовало ожидать, потребовал черной краски. Правая рука красной дамы выдвинута немного вперед и сложена лодочкой, словно бы красножопая просит дать ей что-то. И впрямь, в протянутую руку ей положили… нет, не камень, противу того, что подсказывают русские стихи, но свежесорванные полевые цветы.
— Трогательно, — сказал Натан и похлопал девушку по ягодицам.
— Наташка, веди себя прилично в европейском курпарке, — слегка взревновала Мирра: она называла мужа Наташкой, когда чем-то была недовольна, зная, что ему не нравится это имечко.
Бэр на всех троих глядел иронически и своих чувств по отношению к Красной Даме не выказывал. Зато у гостей курорта дама пользовалась очевидным успехом, судя по тому, сколько туристов попытались приобнять статую, позируя для фотографии на память. Несколько десятков таких открыточек было выставлено в витрине располагавшегося тут же неподалеку фотоателье. И нельзя не отметить, что никто никаких скабрезных жестов себе не позволил (сравни для примера измусоленную сиську Джульетты в Вероне).
— Клянусь, это он! — вскричал вдруг Натан.
— Кто — он? — удивилась Мирра.
— Ну, тот, что положил ей цветы.
— Где?
— Вот, на фотографии.
Натан показал на карточку, где коротышка в шортиках стоял на принесенной с собой табуретке, чтобы оказаться вровень с партнершей. Очки, вдумчивый взгляд, полная серьезность и значительность момента.
— Почему ты так уверен, что это он?
— Потому что этот ее любит. По-настоящему. Посмотри, это же ясно.
Мирра еще раз взглянула — и согласилась.
Впечатлений уже было много, а прогулка ведь только начиналась. Вот пруд с пятью неправдоподобно розовыми фламинго. Они дремлют, стоя на одной ноге, но кажется почему-то что их поза выражает застывший экстаз. Один из них вдруг возвращается к действию и, продолжая стоять на одной ноге, изгибает шею и клювом проводит круг по воде, принимая за центр самого себя.
— Смотри он изображает артиста Ярмольника, показывающего циркуль, — восхитился Натан.
— Похоже, — развеселилась и Мирра.
Другие фламинго пытались сыграть входящих в штопор змей, но делали это даже более убедительно, чем мог бы Ярмольник, а потому и не смешно, а только похоже. Вообще своим выступлением они скорее отрабатывали еду, которую им не приходилось добывать, потому что рыбу им приносили, а не запускали в пруд.
Натан предположил, что рыбу здесь не разводят, чтобы туристы не отлавливали ее, отбирая у птиц, но жена подняла его на смех.
— Ты видел хоть одного немца, сорвавшего на общественной клумбе цветок, или переходящего дорогу на красный цвет, или едущего в метро, где билетов не проверяют, — зайцем?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.