
О папке и об авторстве
Понимаю тех, кто не любит предисловий. Но в данном случае короткой предыстории не избежать. Причина в том, что моей фамилии на этом произведении быть не должно. Я ее и не ставил, когда много, лет пять назад, предлагал эту книгу редакциям. Но на анонимность лит. работники реагировали очень болезненно. Меня принимали в лучшем случае за авантюриста, в худшем — за человека с другого берега, затеявшего здесь какую-то разоблачительную кампанию.
Во избежание неприятных последствий я решился поставить свое Ф. И. О. Конечно, я был наивен, и мне советовали обратиться к психиатру, говоря, что только идиот может входить в лит-ру с таких толстых и с таких вольных вещей. И я понял, что прежние владельцы рукописи также бывали в моем положении и благоразумно старались от нее избавиться.
Тогда я придумал легенду и в духе добрых традиций принялся объяснять, что когда-то очень давно, приехав на каникулы к своей добрейшей бабушке Алене в глубинку, где на пыльных дорогах в огромных лужах лежат пятнистые свиньи, а по утрам орут недорезанные петухи, я, легкомысленный студент, в припадке примитивнейшего романтизма и от скуки залез на пыльный чердак бабушкиного дома и там среди кованых сундуков и разного антикварного хлама обнаружил…
Но какой современник этому поверит? Мне говорили: «Пшёл, пшёл отсюдова, провокатор и клеветник!»
И оставалось дожидаться лучших времен. Они долго не наставали, и не один вечер я потратил на разгадку истории папки. Я понял, что это всего лишь осколок какого-то многотомного и кропотливого труда, одна из последних страниц которого была под номером 8756. Кое-где наряду с машинописным текстом были вписаны куски разным почерком. В некоторых местах мне ничего не удалось разобрать: то расплылись чернила, то строчки совсем непонятные. Подозреваю, что один из первых читателей в спешке выдрал серию листов, объединенных каким-то специфическим смыслом. Кто это сделал, почему и когда? Я в неведении.
Но все эти странности свидетельствуют о накале страстей вокруг содержания.
Также встречались листы непронумерованные и какие-то ветхо-жёлтые, они были рассредоточены среди основного повествования и объединялись судьбой некоего Андриано Нунеса. Я попытался сложить их по смыслу, но не ручаюсь, что мне удалось.
В конечном итоге я даже кое-что изъял, и сделал собственную нумерацию, оставив только то, что явно касается главного героя.
Пожалуй, после этих объяснений остальные странности будет легче осмыслить.
Вы спросите: как же все-таки папка попала ко мне? Мне стыдно признаться, но она валялась долгие годы на антресолях в нашей коммуналке. Мне казалось, что это что-то сугубо бухгалтерское, соседское, для заклеивания оконных рам или для иных естественных надобностей. Да и кто из нас, покопавшись в собственном доме, не найдет кучу непонятно откуда взявшихся вещей?
После первого прочтения она показалась мне несъедобной и оставила неприятный осадок в душе. Но в другой раз меня что-то затронуло и как-то, знаете, обволокло, и в каком-то сопереживательном пылу я сам написал несколько лирических строк. Набравшись дерзости, я вставил эти строки в текст, посчитав, что имею право, так как все эти почерки и мутноватые страницы мне пришлось восстанавливать и переписывать в одиночку. Но и эти несколько строк не дают мне оснований называться даже соавтором тех, кто начинал и дописывал.
Много лет эта папка была со мной, и мне жаль с ней расставаться. Но теперь иное общество и, может быть, настало время узнать её тем, кто пожелает заглянуть в прошлое и воскресить будущее.
Вот почему этим предисловием я хотел обратить внимание на то, что имя автора нужно воспринимать не традиционно, а как имя составителя, что ли. Поймите правильно, не желал бы я оказаться в положении самозванца и посмотреть в глаза самому первому автору книги, а так же всему его творческому воинству.
Посему, на критические оскорбления не реагирую, но от скромного гонорара не отказываюсь.
********
Отчёт-1
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА:
Величина съёма — 25 Долей Излучения.
«Ф» -актов — 110.
Искомые — 1392.
Проникновение — обширное.
Ракурс — «Ф».
Воздействие: нейтральное, точечно-мозговое.
1 разряд — 12 1 класс — 17 1 категория — 10
2 разряд — 15 2 класс — 26 2 категория — 3
3 разряд — 8 3 класс — 9 3 категория — 1
А так же смешанные методы в произвольном количестве и свободном объёме. В том числе 6 критических вариантов (отчитаюсь лично).
Средство «В-60» (для Певыквы) за свой счёт.
Прибор «Соносъём» — 1.
Информатор «РК-Глюк» — 1.
Самонаводящийся аппарат «КЮ-ДТ-109» — 1.
7567 (семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей телепатических хрустящих. Достоинствами — 10, 50, 100, 500 и медью — в основном по «10» и «5».
Сиюминутная маска — 1 экз.
Техническая маска — 40 экз.
Шесть пачек валидола
Четыре анальгина — телепатические казён.
Заменитель коньяка — 2 пач.
Заменитель водки — 6 ц.
Тридцать пачек ложных сигарет (на угощения).
Словарь наиболее распространенных вульгаризмов — 1
Канцелярская папка — 20 штук.
Костюм х/б — 1 компл.
Куртка — 1
Нательное бельё — 2 компл.
Постельное бельё — 2 компл.
Головной убор — 1 компл.
2 квартиры-муляжа
Палатка — одна
Надувной мешок — 1
Портфель — свой
Чернила — шесть блоков (зелёные, синие)
Бумага местная — 10 651 лист (приобретена с помощью гипноза)
Отчёт об употреблении денежных и питейных средств в приложении №8.
Проба печатей, подручно (хоккейные игровые шайбы, найденные)
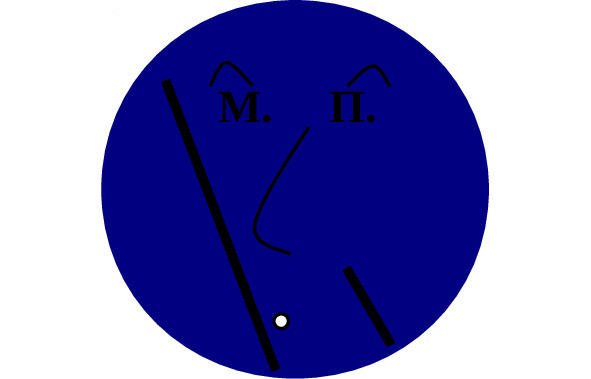
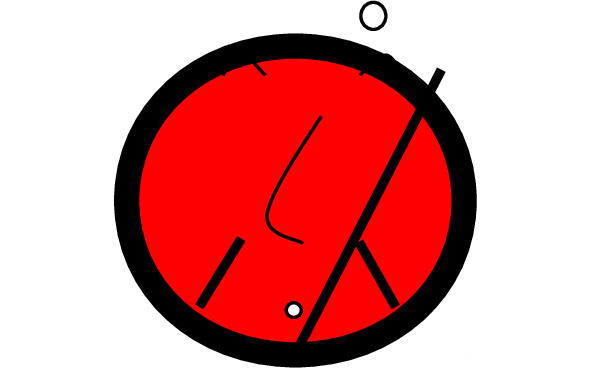
Черновое:
Куль-ры-дых? — уточнить
Карьера — основное, культивирование
Фарц (фарцовщик) — здесь близко сл. «блат»
«блатной» — большой заключенный… — (упустить)
Счастье — «ништяк»
Браток — родственник, убийца…?
«упакован» — тара, достаток, саван…
дефицит — изобилие
секс (&)
гарнитур (!)
пент хаус -? — круто? (клёво?)
«Крыша» — прикрытие от?..
! — трезвый образ жизни
трест столовых и ресторанов (ликвидирован)
! — главбух
кадры (ТРИ ЗНАЧЕНИЯ)
дисциплина
гонорар — гонор малосемейка
разведённый награда (предрассудок)
ЖЭК — РЕУ — БТИ (тёмный лес)
бутылки сдавать? -! — (стеклотара, пластик)
?взятка
!+ главный квартиросъёмщик
сберкнижка (любимая, настольная)
банк. Счёт
туса, ШОПЫ, ланд крузер, Крайслер (смена ориентиров) ….
Зона
Престиж
Моральная устойчивость (категория Н.К.)
Импортное (%)
Отщепенец (=)?
Секретарь — первый, второй….
Мер, зам. Зам…
Губернатор — в том же ключе запросить
Комитет пр. «Ж» за 71 — 82
И. О. ВРИО
Депутат
Речь
Программа
Русск. идея
Нарко
Меломания
Филателия
Туризм
Бокс
Болельщик
Пампасы?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
.
Акт технический
(Тетрадь массового производства. 96 листов. Довольно потрёпанная по краям. На черной обложке нет никаких помет. Тетрадь открыта. По отношению к поверхности пола ее почти перпендикулярно держат широкие пальцы, чуть схваченные волосяным налетом. Примечательно, что ногти несколько запущены; на правой руке на безымянном пальце обычное стандартное золотое кольцо не самой высокой пробы. Тишина почти абсолютная.)
КРУПНЫМ РАСХЛЯБАННЫМ ПОЧЕРКОМ:
5 ноября лучшего года!
Еще одна попытка. Продержаться, писать, писать — во что бы то ни стало. Теперь это мой хлеб, мой пот, моя стезя, моя судьба, мое призвание. А сколько уже было этих дневников! Но лучше поздно, чем никогда. «Где вы, дни любви?» (цитирую в шутку). Но нет, мне и впрямь весело и чудно! Вот она осуществившаяся мечта — в моих руках. Тепленькая и живая! Посмотрел бы я сейчас на лица своих сопартников. «Кто ты такой! возмущались. — Ты пьеску написал и думаешь всё? Куда тебе?!» — завидовали. А вот он я! Доказал. Молодой, здоровый, и впереди всё. Как я это понимаю! Черт! Понабежало! Нужно привыкать к многолюдности.
20 ноября
Сегодня кратко обсуждали наши конкурсные работы. Шеф (что за душа!) в основном критиковал. Меня — мало. Но кое-что я действительно перегнул… Поправим, какие наши годы! Есть задумка — оформить небольшую пьеску. Тема быта. Бомбочка. Но — пока в голове. Преемственность — вот в чем насущная задача!
4 декабря
Странный он какой-то. Нервный, что ли. Познакомились в курилке. Я не курю, но люблю побыть среди курящих. Информации набираюсь. И он меня расспрашивал о моей родине. У меня как-то незаметно язык развязался. Умеет, подлец, слушать! (подлец — в похвальном смысле). Вообще-то этот Г.И. мне симпатичен. Прочел мои вещи. Одобрил. «Всё впереди», — сказал. Он старше. Ну там посмотрим!
5 декабря
Г.И. предложил переселиться к нему. Там у них третьего не хватает, а у нас в комнате — четверо. Подумаю. Хотя, что тут думать! Он третий курс, я первый, и с ним еще один с третьего живет. А здесь каждый день пустая болтовня и пьяные рожи. Не займешься ничем. Видят, что не пью, и всё равно пристают. А интересы-то у них! Ох уж эти мне интересы!..
6 декабря
Вообще-то пьют везде. Перебрался к Г. И. И вот сижу на кровати, пишу. Они пьют с какими-то девицами (нет — девчатами). Г.И. тоже. Он дал мне прочесть свою вещь. Любопытная, но истеричной показалась. И формы, и темы необычные… Плохо я еще умею судить о поэзии. Терминология, да и читать нужно побольше. А я-то даже в своей стихии (во как!), в театре мало разбираюсь. Нужно возвести в необходимость просмотр критических статей — каждый день. Каждый день! Конечно, что я прошел творческий конкурс — это невероятно! Ведь я чертовски молод! Только теперь я это понял. Экзамены для меня были пустяком. Тем более один — для золотого медалиста. В приемной комиссии как узнали, так другими глазами стали смотреть, для них здесь такие как я — редкость. Ну еще бы, считай по любому профилю, куда угодно почти стопроцентные шансы поступить. Не зря я добивался на выпускных пересдачи сочинения, не зря.
7 декабря
Что-то я зачастил здесь писать. Нужно бы лучше взяться за пьесу, не зря ли время и пыл растрачиваю? Мои школьные вещи — дрянь. Шеф со мной хорошо, но дал понять, что дрянь. Я ему нравлюсь. Кое-кто косится. Но я-то не заискиваюсь. А ну их!
Редко бываю в комнате. Занятия, транспорт, столовые, библиотеки, музеи, парки. Центр! Как-то уже не чувствуется, что недавно здесь. Кажется — вечность. И все же скучаю по дому. Маман, братишка и папка, конечно…
Посмотрел вчера Ухова. Блеск! Это моё — в духе ретро, уходящее прошлое, проникновенные, несчастные лица… Надо бы попробовать в этом ракурсе. И — сатира!
10 декабря
Г.И. всех приходящих в нашу комнату баламутил. Они тут спорят постоянно. С.У. тоже жару дает. Е.Б. ему доказывает, чуть в лицо не плюет, а Г.И. его распаляет. Е.Б. часто сюда заходит. Вечно нечёсаный, мятый, в ботинках на босу ногу. Я его не переношу. Меня уже три раза втаскивали в их дискуссии. Хватит. Все безрезультатно. Этому Г. И. ничего не докажешь. Он, конечно, начитанный, но всё отвергает, предполагает да фантазирует. И спор ради спора. Есть дело — главное. А у меня две детские пьески… Про школьную любовь и символическое прозрение. Даже стыдно. А у Г.И. вон… Ничё, еще повоюем!
11 декабря
Плохо, что все время хочется есть. Е.Б. называет меня пухленьким. А сам ест, как свинья. Руками и весь пиджак в жирных пятнах. Но преподы его уважают — отличник. Правда — башка у него о-го-го!
Г.И. мне рассказывал о себе. Покрутило его, ничего не скажешь. Я как-то по-новому на него смотрю. Да, здесь многие, как и он, после армии или с рабочим стажем. Нас, после школы, раз и обчелся.
Г.И. один раз просил меня сходить в магазин. Уговорил. Ему-то, правда, некогда было. Я ему тогда рубль занял. Да что это я? Он мне о себе рассказывал, а я про этот проклятый рубль думал! Забыть нужно про этот рубль и точка. Нужно быть великодушным.
17 декабря
После всех этих разговоров с Г.И. чёрти что со мной творится. По-другому на себя смотрю.
Тля, вот ты кто, Славик! Да, да — тля. Ни черта не видел, и низменный притом. Сегодня, когда за столом в складчину ужинали, всё боялся, что тебя обделят, куски считал и хватал побольше. Они же видели! Живот у тебя, Славик, главное, а все остальное побоку! Только о том и думаешь, чтобы наесться. Привык к маминым пирожкам. Пора бы тебе похудеть, мордашенция эдакая! Пора бы.
21 декабря
У меня сегодня на душе праздник! Радостно. Был на танцах во дворце у принца (символика). Познакомился с прекрасным человеком. Учится на пианистку. Провожал. Здешняя. Коренная. Умница! О родителях говорили. Что за чудо — теперь уже мой любимый город! Жалко, как жалко, что Лида не поступила сюда. Были бы вместе, ходили бы по вечерам вот так, вдвоем. Как у нас все было чисто, ровно. Помнишь, Лида, нашу скамейку, наш парк?
Лида, Лидуля, не думай ничего плохого, эта девушка так, умный человек, а ты для меня — всё: будущее, счастье… Я, когда сегодня возвращался, решил пьесу о Лиде написать. Она обязательно поступит на следующий год и будет здесь вместе со мной. Ведь правда? Красивая ты моя!
22 декабря
Иногда мне кажется, что Г.И. надо мной тайно издевается, что я для него эксперимент, подопытный кролик. Никогда не поймешь, шутит он или говорит серьезно.
Но сам-то он кто? Ну, что-то пока пишет, но неизвестно, что из этого выйдет и будет ли он писать потом. Прозу пишет. Ничего, вот эту сессию сдам, чтобы освоиться, и тоже засяду. Г.И.-то что, ему бояться нечего. Он и на занятия почти не ходит. А когда пьёт, не пьянеет почти, только заводится, глазами ест. Нет, конечно, он меня за пацана считает, ну и прав он, прав, а вот после сессии посмотрим!
23 декабря
Сегодня мы с ним вдвоем ночуем. Сидели, говорили. Он мне разборки устроил. Его слово «разборки». А теперь по комнатам пошёл. К друзьям, наверное. У него-то их хватает. Он говорит: «Нужно крылья растить, чтобы людей встряхивать. Чтобы песню запевать, а не мараться карьерой». Ха карьерой! Я отбрыкивался, но куда там! А тут еще Е.Б. пришел, и они меня вместе, как клопа, в стену вдавили. Им только покажи кусок… Психолог чертов! Сам матерится, а о любви, чистоте, о совести! И пьет к тому же. Когда он куда-то вышел, я Е.Б. это сказал, а тот мне, куски хлеба перемалывая: «Ну и дурак же ты, Славик! Людей он научает, и меня и тебя в том числе. Он еще выкинет фортель, взвизгнет страна-матушка». Говорит, сходи с ним в ресторан, посмотри, как он беседы ведет. В «кабак», извиняюсь. Ну и тошно же мне! Облупленный какой-то! И не уснешь сразу…
Точно, не могу уснуть. Пришел Г. И., стал извиняться за резкие суждения. Лучше бы молчал. Е.Б. похохатывает. От этих его извинений у меня слезы выступили… Как баба, честное слово. Себя жалею.
Вон, сидит, читает, цитатки выписывает. В тетрадочку. Я уже туда заглядывал. Дневник. Мыслишки… Нет! Ни за что! Что за бес во мне шевелится! Ему-то что, ему хоть всю ночь сиди, все равно на лекции не ходит, а мне утром вставать. Сова проклятая! Нет, Славик, ты в ересь впадаешь. Нельзя тебе так. Никому нельзя. Все люди. Любить нужно. Ближнего. Вот Толстого перечитаю.
Будет жизнь! Будет!!! Я воспарю. Мне нужно набраться… Все увидят! Должен же я доказать… Как все мрачно и пустынно. Знания, знания! Взять всё, что возможно, тогда будут свои мысли… Да, да!..
28 декабря
Что мне эти зачеты! Семечки. А Г.И. страдает. Хвосты бегает, сдаёт. С.У. тоже. Он теперь у нас живет. Смотреть на них смешно. Тактику разрабатывают, день и ночь планируют как пробить «стену» (Г.И.). У нас постоянно «Биттлз» и «Пинк-Флойд». Эта музыка напоминает мне о Лиде, о тех днях, когда мы вместе слушали. Как она там, добрая моя? Я, гад такой, редко ей пишу. Всё сессия…
С.У. два раза доводил меня до бешенства своими приколами. Не стоит обращать внимания.
5 января
Это не сессия, а отдых. Все дни в городе. Свобода! Так лучше, чем вести беспорядочный образ… Г.И. и С.У. почти не вижу.
Приходила Оля. Мы музыку слушали. Приносила Моцарта и Вагнера. Умница Оля. И «Времена года». Что за наслаждение! Я был у нее дома. Квартира — высший класс. Папа — величина, но держится просто, безо всякого превосходства, даже коньяку мне предлагал. Я отказался. Им понравилось. Фортепиано. Мама — прелесть, только говорит много. Симпатичные люди. Ольге наше общежитие не понравилось, но, говорит, у нас тут, должно, живут люди интересные, будущие звёзды, ведущие. Ей бы Е.Б. показать — как он ест. А вообще — у меня всё отлично. Спокоен и выдержан. Плевать на то, что было! Главное то, что будет! Решили с Олей обойти все театры. Олина мама имеет возможность доставать любые билеты. У Оли сессии нет, а мне учить нечего. Всё со школы помню.
12 февраля
Бежит, ой как бежит время! Побывал дома. Там всё то же.
Даже обидно было. Живет мой городишко прежней жизнью, тих и обветшел (или — шал? Что-то я совсем), и нет ему дела, что я уехал и приехал. Собрались с одноклассниками. Посидели. Ну, конечно, вопросы. Я чуток прихвастнул. Но и чуток нельзя. Что за гниль во мне такая? Завираю и собой любуюсь. Пора прекращать. Нашёл дома на листочке свою программу: как стать писателем мирового значения (вступить, отличная учеба, научный багаж, общественная деятельность, общения и знакомства). Смешно! Девятый класс. Каким я был! Совсем не знал жизни!
Отъелся дома. Ни на что смотреть не мог. А здесь опять возня возле кружки чая. Да! — сессия на пятерки! Потянул ты передовую нагрузку, Славик! Выдюжил! Отрадно, и так держать! Бедная Лида. Машинисткой работает. Какая-то другая. Поступать не хочет. И вообще, холодно у нас с ней. Посмотрим.
С.У. опоздал на десять дней. Г.И. на пять. Справки привезли. Очковтиратели (шутка). Целый день Высоцкий. Вся общага гудит. А вчера в бытовке даже драка была. С.У. полез разнимать и ему перепало. Смеётся. Пьёт каждый день. У нас в комнате суетня. Девчонки со всего города ошиваются. Хорошо, что спать не остаются. Этого бы мне еще не хватало. Зуев рассказывал — у них в комнате «вечные сексуальные трения».
Нет, эти девчата ничего себе, я с ними запросто.
Г.И. привез кучу стихов. Один мне посвятил. Поучает и выражает надежду, что я встану на верный путь. Смехотура! Я сел за драму. Но вот три дня, как ничего не лезет в голову. Они опять сбили меня с толку своими разговорами.
Сегодня спорили о возникновении вселенной и жизни на земле. Г.И. выдвинул гипотезу — и ни одного сколько-нибудь существенного факта. И не гипотеза это вовсе. Я ему популярно изложил все последние открытия в этой области, а он говорит — знаю, и все твердит о замороженных матрицах-зёрнах жизни. Конечно, говорю, это возможно, но не так, как у тебя. Будто они всюду по вселенной и ждут в любой точке условий, будто в каждой «матрице» программа, будто любая из них при определенных условиях может стать хомо… С.У. с ним не соглашается, но и со мной тоже.
А, все эти споры ни к чему не приводят! Только из колеи выбивают. А они пену изо ртов выбрасывают.
Пришел Е. Б. и вмешался в спор. Всю теорию Дарвина и Вернадского перепахал, изъездил, а в конце оскорбил меня драматуришкой. Вы, говорит, балласт для нашего богонеугодного заведения. Что, говорит, вы за пьесы пишите, что вы всё слюни пускаете, ни одной пьесы, говорит, после Мейерхольда не было поставлено стоящей, или нет, поправляется, две-три было и всё — с настоящим чувством понимания сцены. Бедные актеры, кричал, они из кожи вон лезут, чтобы ваши дурацкие пьесы хоть чуть-чуть смотрелись. Вас, говорит, в три шеи нужно отсюда. Современность, мол, не по зубам. А сам-то, прозаик долбанный, все шефу своему подражает. С.У. говорил, что он из таких, кто кому-то должен подражать от и до.
С.У. молодец, но потягивает. А это добром не кончится. А Г.И. сказал, что Е.Б. просто шефу льстит внаглую, потому что у шефа дома бывает и изучает его там вдоль и поперек. Ну это уж слишком, не верю я, что такой человек, как его шеф, мог дать так себя водить за нос. Надо бы взяться за свое самообразование, побольше читать, а то я подлинники совсем не успевал читать, в этом Г.И. прав. И вообще пора укреплять характер. Воли мне!
14 февраля
Если все же говорить По-правде, то мне здорово повезло. Сколько ни видел здесь комнат, в них ужас как живут! Есть, конечно, ребята интересные, но так — слабачки по духу. А в основном — всё, как везде. И разговоры в основном пошлые. В карты дуются, о «пузырях», слухи разные, да всё о девках, о девках. А я тоже хорош. Вчера в бытовке стоял и слушал, как четверокурсник пакости рассказывал. За полгода шестерых за аморалку выгнали. Благо есть библиотеки!
И у Оли душа отдыхает.
16 февраля
Перечитывал и подумал: какого черта я энергию на этот дневник трачу. Нужно определиться. Или мне в своих произведениях отображать свои размышления и идеи или все-таки параллельно вести дневник. Что он мне может дать? Прежде всего он поможет мне определиться в мире, выработать объективное мировоззрение. Второе: самокритика. Мой дневник должен стать полем битв с темнотой во мне самом, с теми привычками, что довлеют надо мной, не дают быть целостным и устремленным к лучшему, что есть в мире.
Стоп. А что же такое «лучшее»? Вот и первая проба пера, философские задачки. Лучшее — добро, откровение, правда, любовь, честность, бескорыстие. Г.И. как-то сказал: «Ты слеп, но пока ты не виновен, как я. Тебе показывали звёзды слепые, самое трудное — открыть глаза».
Он молодец, хоть и туману у него в голове много. С.У. с ним поссорился. Принципиально не пьёт чай вместе с нами, свой сахар купил. А у нас с Г.И. складчина, я хожу в магазин, беру что нужно, мы даже ужины настоящие стали готовить. Хорошо, что есть старший товарищ.
С.У. дымит. К нему приходят эти фарцовые. Он когда в этом дурманном состоянии, доводит меня до бешенства приколами. Как идиот.
Я решил сбросить излишки веса. Теперь с одним парнем договорились по утрам бегать и обмываться холодной водой. Последнее время у меня появился интерес к фольклору. Хочу заняться им всерьез. Планирую разные сюжеты. Пока буду их здесь выписывать. Шеф одобряет.
Вот это идея! А что если сделать великолепную панорамную пьесу и поставить ее под открытым небом, на улицах и площадях, на крышах домов, с участием всех желающих, с оркестрами, плясками и песнями. За основу взять что-нибудь из истории Руси. Да хотя бы взять тему, как собирался всклокоченный (!) народ под знамя Александра Невского, как тревожно гудели колокола, как возрос патриотический дух, как поднимался над миром лязг щитов и мечей, как ревели бабы и скот, полотняные рубахи, высокое небо, молодцеватая песня над всем этим и ржание боевых коней. А что! Шедеврик. Но для этого нужно взяться за русский язык, за его историю, народные истоки. «Слово о полку Игореве» в первую очередь. Хочу обговорить это с Г.И.
Читал его стихи. Некоторые, если честно, взволновали. Есть что-то при всей непосредственности. Подозреваю, что из-за стихов С.У. так на него зол. Во мне ведь тоже что-то шевельнулось. Почему он, а не я? Он не такой, как все, даже в чём-то хуже меня… Но я сумел преодолеть эту гадкую ересь, нужно быть выше пошлой зависти. Он делился со мной планами. Вообще, когда он говорит, как-то незаметно забываешь о себе. Даже другим себя чувствуешь, и будто бы способен на что-то фантастическое… И вроде говорит он просто, обычно, только страстно и загадочно, что ли?.. Во! как Славик расписался!
18 февраля
А я один на драматургии после школы.
По утрам бегаю. Плююсь, задыхаюсь, но зато — какая бодрость! Я даже общительнее становлюсь, коммуникабельнее — что мне необходимо для моего будущего как воздух.
Г.И. днями и ночами сидит за столом. Раздражителен. А на С.У. смотреть неудобно. Всё порывается помириться, мнётся, бледнеет, но Глеб его будто не замечает.
Был на концерте Юровой. Классная певица, хоть и осуждают ее за якобы наглое поведение на сцене. Талант — он везде вызывает нападки.
Г.И. спрашивал про Олю. Он нас видел вместе. Оля — это полёт!
Был дома у шефа. Масса впечатлений, много мыслей. Но об этом как-нибудь потом, устал сегодня.
21 февраля
Гнусно! Ох, как гнусно. Дурак же я! Бедная Оля! Это я во всём виноват, прости меня! Не нужно было ее сюда приводить, хоть она и настаивала. Познакомились называется!
С.У. ей такие разборки устроил! И про папу, и про маму. Но это бы ничего, куда ни шло, она больше смеялась, его слушая, но когда Г.И… Ну что за человек! И человек ли? Самому не по себе, так зачем же бередить душу другому, тем более женщине. А он мне сказал: «А женщине — в первую очередь, она детей будет воспитывать».
Какое у нее было лицо! Она не хотела после этого всего меня видеть и уехала одна. А что я могу! Я бы ему всё высказал, я бы драться даже полез, но она же сказала: «Он Прав». В чем прав?
Ты чиста, Оля, ты непосредственна! Он твоего мизинца не стоит! Он критикан! Его выпрут из института! Он ни с кем жить в мире не может. Да, он деятельнее, чем эти — за стеной, но на бумаге, но говорит о невозможном и бредит несбыточным. Его бы в сумасшедший дом…
29 февраля
Всё утряслось, устоялось, но я мучаюсь Олей. Страдаю по ней. Мы видимся изредка, у нее много занятий. Я люблю ее! Слышишь, Оля! Это честно и навсегда. Это Настоящее.
А я всё не могу добить пьесу. Быстрей бы лето!
Рассказывал Г. И. о панорамной пьесе. Бредишь ты, говорит. Ну это мы посмотрим!
Ходил с ним и с С.У. в ресторан. Они чуть выпили. Была еще одна девушка. Глеб выбрал жертву, подсел к одному мужчине в форме и завел с ним разговор, а потом устроил ему разборки. Да, у него талант раскручивать человека, в душу залезть. Этот взмыленный ушел. А потом за второго взялся. Обычный обыватель, каких миллионы. А Глеб к нему с вечными вопросами, о личной и профессиональной жизни, обо всем вообще. Зачем живете? Почему живете? С кем живете? Так ли живем? Не прямо, конечно, но в этом русле. Были такие моменты, что мужик багровел и запросто мог въехать ему кулаком. Но Глеб ускользал, парировал так, что мужик начинал отчитываться, заискивать. У меня глаза на лоб лезли — фигуристый такой, представительный, не без карьеры, с определенными мерками, а тут раскис, размяк, всхлипывал даже, и все удивлялся, что не пьянеет. Куда ему пьянеть, если все время у Г.И. спрашивал: «А вы не оттуда?» — «Откуда?» — «Ну, не оттуда?» — и на плечи или вверх показывает. Расстались друзьями. Адрес дал и телефон. Говорит, если права есть, то машину будет давать собственную. Ну мы и хохотали потом!
У Г.И. после таких разговоров этих адресов штук двадцать уже скопилось. Без мыла в душу влезает. Это и хорошо и плохо. С С.У. они помирились. Но тот всё-таки на Глеба зуб имеет. А чего бы он хотел, если Г.И. все время пишет и книги читает, а этот только дым пускает. Доиграется он с этим дымом!
Бедный мужик! Он так свои мозги напрягал, что, верно, ему еще долго будет Глеб сниться, и будет он бояться, что посетят его «оттуда». Что ни говори, а мне на пользу этот поход. Можно этого мужика в пьесе вывести.
2 марта
Ходил с Олей в ресторан. Посидели. Рыбу заливную ели. Музыка. Поговорили. Мне так хорошо с ней! Неприятно, что она так много спрашивает о Г. И. Но не ревность же это! Хотя у меня сложилось подозрение, что она ради этих вопросов согласилась на ресторан. Да нет, всё это мнительность! После встреч с таким и после этих разборок невольно будешь думать о нем. Нужно ее оберегать от таких волнений.
Она спрашивала, что он читает. Ну читает и читает, обычное — классику. Только что много и быстро… И я читаю, только мне еще заниматься нужно. Я хочу взять от образования всё. Чтобы оно действительное было. Поэтому мой принцип одни пятёрки.
Да, я думаю о будущем, что же в этом зазорного? Отличное образование поможет мне быстрее добиваться своего, выйти на зрителя и нести ему прогрессивное, идейное, нужное, действенное. Пусть говорят, что мою голову забивают чепухой. Пусть! И раньше учили богословию и различной несусветице, но люди усваивали всё, сдавали на «отлично», и потом из них выходили отличные, настоящие патриоты. Главное — не утрачивать чистоты! И против фольклора они зря! Это наша основа, нужно создавать истинно народные произведения. Пусть Г. И. пишет приличные стихи, но в них смятение, в них неуверенность в завтрашнем дне, в самом себе, разные сомнения, и всё оттого, что он беспрограммен и всё отрицает.
Я усвою многое и взлечу. Пока что я изучаю общеобразовательные предметы, но это пока и это для всех. Без этого немыслим современный человек.
3 марта
Какой я всё-таки гад! Тайком жрать эти чёртовы конфеты! Дошел! Подлец! Трус! Проглот! Жлоб!! Какое отвращение к себе!
И С.У., кажется, заметил, но молчит. Это хуже всего. Всё на других хорохорюсь, критикую, говорю о возвышенных материях… А если признаться честно (да, Славик, только честно!), то об этих знакомых девчатах плохо думаю, а по утрам такое бывает, такое… И в голове всякие сцены перевариваю, оттого и сны… Они как наваждение — приходят, сколько ни гони. Это потому, что без настоящего, без занятости! И даже об Оле плохо думаю. Не плохо, но…
Всё!!!!!! На полу буду спать, без матраса!!!
7—00 — подъём.
7—15 — уже помылся.
7—45 — уже пробежался.
8—00 — уже еще раз помылся (холодная вода, только холодная!)
8—30 — позавтракал.
9—00 — полпути прошел пешком.
до 15—00 — занятия (в обед есть строго по порции, в основном овощное).
до 19—00 — подготовка к занятиям.
до 20—00 — прогулка по городу.
до отбоя (23—00) — программа «Время», чтение худ. литературы, творчество.
Никаких разговоров!
В выходные дни — творчество, книги, выставки, театр, гигиена, Оля, занятия физ-рой.
Всё!!!!!
10 марта
Пока всё идёт нормально, подарил на 8 марта Оле подарочное издание «Слово о полку Игореве».
11 марта
Закончил пьесу. Шеф сказал: «Для начала ничего» и название другое придумал. С.У. самовольно дал прочитать Е.Б., который (свинья!) начал умничать и ржать, как обезьяна. Я заметил, что ему Г.И. и С.У. не очень-то доверяют.
16 марта
Похудел на два килограмма тридцать грамм.
17 марта
Ну и свинья я! Как последний предатель нажрался пирожных и торта.
Вчера у нас в комнате было празднество. Девчата, танцульки. С.У. напился вдрызг и бушевал, лез ко мне целоваться, а потом гонялся по коридорам за какой-то лошадью. Теперь у коменданта. Меня эти торты как магнитом тянут.
Г.И. в одиннадцать часов всех выгнал и что-то всю ночь писал. Как он может, когда выпьет? Конечно, всякую галиматью. Меня так и тянет заглянуть. Он последнее время мне почти ничего не даёт и со мной мало разговаривает. Конечно, я сам виноват. Я гнусь. Да, Слава-растислава, ты гнусь! Последняя скотина.
А вдруг они читали мои записи?! Нужно прятать хорошенько. Нет, я не боюсь, но лучше прятать. Какой я стал мерзкий. Распорядочек себе устроил и не выдержал. Амёба ты, Славик. Ты всё что угодно за один обед продашь!
19 марта
Прочел последние записи и вот что решил: ты, Слава, себя любишь. Написал «подлец, продашь», а сам упивался — какой я самокритичный, сам любовался собой, то есть — ты дважды подлец, а теперь, разоблачая себя в третий раз — трижды и, наблюдая за третьим разом — четырежды, и так бесконечно. «Вот бы взвыть сейчас, жалко…» Нет, так дальше продолжаться не может. Нужно что-то делать, но что?
21 марта
И всё-таки Древняя Русь — это моё. Быстрей бы лето. Едем собирать фольклор. Г.И. и С.У. ходят хмурые. Что-то у них обоих случилось. Меня сторонятся. Вчера и позавчера какие-то люди за ними приходили. Скрывают. Вчера я не выдержал, открыл дневник Г. И. Так, чуть-чуть полистал. Всё какие-то мысли. Это не я, это он бредит!
Но я мало что понял. Свои записки прячу. Снова бегаю. Познакомился с интересными ребятами из университета. Есть любопытные характеры. Ходят в воскресные походы, гитары, песни, игры, музыка.
А здесь тоска и дебаты. Сколько можно?..
Оля, Оля, где-то она? Лида, Оля. …Что-то я путаюсь. Но в конце-то концов не это главное. Но никогда, да никогда не вернусь в город. Маму люблю, буду приезжать, но всё это не то, там серость.
А здесь будет размах, будет, вот посмотрим! И Г.И. увидит, кто я.
Ноте бене — забыл! Новость: Е.Б. поперли. Собрал вещички и смотал. Аморалка. До чего же свинья! А С.У. по этому поводу бросил: «Сегодня он гений!» Знания свои выказывает. Троешник. Нет, я не бахвалюсь своей золотой медалью, но нужно же и меру чувствовать.
22 марта
В комнате стали появляться подозрительные личности. Сегодня стучал, стучал, а С.У. открывает и говорит: «Ты, Славик, прогуляйся покудова». Я и рот не успел открыть. А потом заметил, как трое выходили. За тридцать. Они меня за сосунка считают. Ну мы еще увидим!
24 марта
Сегодня ЧП! В таком положении я еще не был. Что за люди!
Помылся под своим любимым душем, прихожу в комнату, а Г.И. сидит и мой дневник листает. Я так и сел. Дыхание свело. А он: «Извини, Славик, мы были вынуждены». С.У. участливо ухмыляется. А Г.И. предлагает: «Если хочешь, прочти мои». Я выхватил тетрадь и вон из комнаты. Насилу отошел.
Как муторно было! Полдня не появлялся. И смех и грех. Ведь теперь они всё обо мне знают: и что я втихаря конфеты ем, и что я про них писал, и про Олю, и что я дневник Г.И. читал, и — всё!
Ходил я, ходил, потом надел маску и зашел клином: «Я вас презираю!» Они молчат. Я: «Свиньи!» Смолчали. Ну и чёрта им лысого! Что я ребенок бесправный, что ли?
Теперь-то я знаю, почему они были «вынуждены».
27 октября
О-го-го! Дневник! Бросить бы тебя, да начать заново. Сколько перемен, закончилось слюнтяйство. Новый год, новые планы, новые встречи. Сколько всего было! Долго не писал. Бурные события. Перемены. То, что было серьезным вчера, становится смешным и пустячным сегодня. Диалектика. И я теперь совершенно другой. Теперь я могу сказать своё…
После того случая я вскоре из комнаты съехал. Поселился с сокурсниками. Глеб, или вернее, Г.И. (традиционно), пропал без вести, то есть по семейным обстоятельствам уехал еще до начала сессии. Потом, говорят, академ попросил, да, что ли, не дали… С.У. пьёт и дымит. Оля? Оля замуж наверное выйдет. Не за меня, разумеется. Мне пока рано.
Вообще я стал гораздо общительнее. Ликвидировал пробел. Есть друзья и новые знакомые. Где я только за это время не был! И с фольклором удачно. Потом опишу. Был дома. Лидок замужем. Ну и слава Богу. Замучила неопределенность.
Устроился охранником. Стыдно сидеть на маминой шее. Нас пятеро, вместе хотим снять квартиру, чтобы было где встретиться, серьезную музыку послушать, поработать. Это замечательно, если так будет!
Колька говорит, что мою пьесу можно было бы поставить общими усилиями. Авось потянем! Для начала, а?
А дневник нужно писать — для становления, для потомков, для своих детей, чтобы твои ошибки не повторяли.
Был вчера корифей литературы. Алатов. «Штормовой причал» — тенденциозная вещь! Железный мужик. Вот уровень! Есть к чему стремиться.
А та задумка про Древнюю Русь у меня до сих пор из головы не выходит. Отступаться от этого нельзя. Преступно! Только не А. Невский, а ярмарочная площадь, скоморохи, балаганы, канатоходцы, крики торговок, частушки, беседы горожан бородатых, грубых, и каждый мог бы, соответственно одевшись, вступить в этот живой спектакль. Ну, конечно, не на главную роль. А в центре всего — народный протест. Нужно подумать как и в чем его выразить. И финал продумать.
ноябрь
Со смехом прочитал об обжорстве своём. Бывает же! Нет, теперь я не тот. Ну и общежитское бытие! Через что только не пройдешь!
«Все это было, было… сменился дней круговорот…»
Теперь иначе. Без истерик. В детском саду ужинаю, охраняю его, иногда обедаю и завтракаю там же, а недавно даже в ресторан-с…
— — — — — — — — — —
«Ф» -акт проникновенно-ручной, третьей категории
(Комната в двухсотсемидесятивосьмитысячном городе. Стены дома почти полутораметровой толщины. Пятый этаж. Исправный санузел. Счётчик не мотает. На кухне, в прихожей и в комнате — кавардак. В комнате — большое, старинное, потёртое кресло, два голых стола, обшарпанный комод, довольно сносный двуспальный диван, всюду вещи, раскрытые чемоданы и коробки. Окна не завешаны. Запах прокисшей пыли, тройного одеколона и подержанных рукописей, плюс — рыбные консервы. Время к обеду.)
Он резко захлопнул тетрадь. С ним давно уже такого не было: чтобы он вот так лежал и в себе копался. С наслаждением выругался, посмотрел, куда бы забросить — подальше, дабы не мозолила глаза и не портила и без того неустойчивое настроение, — передумал и мягким равнодушным движением опустил ее на пол.
Он долго читал и устал. Помассировал затёкший затылок, отодвинулся от спинки дивана, мощно вздохнул и мощно выдохнул.
«До чего неудобно без подушки! Нужно купить в первую очередь. Потом куплю… и наволочки. Куплю, всё куплю…»
Он лежал, укрыв глаза тяжелыми морщинистыми веками, на голом диване — мужчина — в костюме и приспущенном галстуке. Руки вдоль тела, ноги прямо, дыхание ровное, здоровое, безо всякого там напряжения.
Он слушал, как из тела уходит проклятая дрожь, как сквозь поры сочится к потолку утомительное раздражение.
А голова между тем работала и работала. Как всегда. Чётко. Бесперебойно.
Тикали часы, и за стеной бубнили. Он прислушался. Ничего нельзя было понять.
«Скотство, — журчало в этот момент в голове, — вечное скотство! Было, есть, будет. И это был я. И это есть часть меня, и, значит, из этого получится моё «я». Во веки веков, аминь! Софистика. Сопельки. Не нравишься ты себе, Вячеслав Арнольдович! Вот оно — грязное бельё твоей поганенькой юности! А у кого лучше? Кто больше? Но при чем все? Ты, Веча, ты… А о других не беспокойся. На повестке дня ты. Вот и возьми тетрадочку, поддень ручонкой-то, поковыряйся, полистай, далее, далее почитай, поинтересуйся вшивеньким. Дальше и первые попоички, и первые девочки, и вторые, и… там многое, и про любовь, и про Глеба, и про живот… То-то и оно, что ты, голубчик, знаешь, что далее грязь и мура, а идеи, какие к черту идеи! — так себе гнойнички, тебе бы их и не вспоминать вовсе. А почему они были вынуждены твоё бельишко перетряхнуть — и вовсе нельзя вспоминать, истерикой новой пахнёт. А истерики тебе сейчас совсем ни к чему. Это всё переезд проклятый! Переехал, и тетрадочка обнаружилась. Сколько-то я ее не нюхивал? Двадцать один годочек. Динь-динь и всё такое. Нет, поначалу-то ты ее частенько листал, посмеивался, жёнушке зачитывал, веселился и комментировал. А потом дотронуться до нее боялся. А ноне — ноне баста! Ноне ты все этапики прошел. Звонят колокола, и ты у обочины. Вон куда занесло! Доволен, энергичен, но у обочины. У тебя жизненный принцип, ты проживешь везде…
Ну-ну, давай, давай… На самокритику потянуло. Это от тетрадочки. От юности пахнуло. От Глебова комплекса… А как этого Е.Б.? Ефим? Да-да, Ефим, Бузов, кажется. Его еще Обузой величали, что ли. Где-то бродит или во земле сырой обитает. А С.У.? С.У. ту-ту! Ручкой от борта, шляпой от сердца. Простонародье. От винта. Странствующий рыцарь. Желчь, а не мужик. И кончил со временем всё-таки. Хорошие вещички выдавал. Мутные.
Да-с! Разбрелись все от бед… С.У. мне в последний раз гадостей наговорил. Я тогда и не сказал себе, что это гадости, перестраховался, но у него и кишка тонка заставить признаться, не то что у Глеба. Инаков… Нет, сейчас бы я это вынес. И что выносить-то? Так суета, от самолюбия. Завидовал, дурак, по молодости лет. Он избранный, я не для мира сего, вот и вместе бы наблюдали за суетой, авось, там придется кому-нибудь пересказать. И про пьеску несостоявшуюся, балаганчики-балалаечники. Матушка-Русь. Она тебя воспитала, она тебя и похитила. Растащила. И куницей, и серым волком, и селезнем… Эка печаль! Ручата на себя задирать. А ну-ка!
Угу-гу! Интеллигенция!
Становись! Равняйсь! Смирно!
Слушай мою команду!
Я, Вячеслав Арнольдович Нихилов, собираю под свои златокрылые знамена лучших падших сынов отечества и непадших тоже! Я на горячем коне, с золотой медалью! Вы — на холодных с бубенцами. Я доскакал, вам еще предстоит. За дело, други! В галоп, а-ля! Я фантазирую, следовательно, я существую. Мы еще познаем жизнь во всей полноте и гармонии! Помирать нам!..
Да, я прав. Я еще скажу нечто. Какие наши годы, как говорил розовощёкий Славик. Нет, непременно еще поскачем, повоюем! Расцвет сил, масса жизненного опыта, профессионализм, мастерство, какое-никакое имя. А тетрадочку эту подальше, в чемоданчик, а потом сожгу, как Николай Васильевич, а ну ее, чтобы я еще тут… Нельзя раскисать!
Мне хорошо. Я чувствую, как по телу медленно и тягуче распространяется теп… За художника говорят его дела, полотна…»
На этом самом месте (когда про «полотна» и «дела») в голове у Вячеслава Арнольдовича произошла мгновенная перестановка. Как бы круговорот воды в природе. Вечное таинство. То, что было в сознании, ускользнуло в закрома подсознания, и наоборот. По этой сложной причине Вячеслав Арнольдович тотчас прекратил обсуждение дневника и перешел к анализу современных событий. И сделал это невероятно чисто и легко. Так, будто не читал дневника и не думал о нем вовсе. Бесспорно, что с вами (кто ни есть вы) наверняка случалось нечто подобное, так что этот мозговой процесс вам должен быть ясен без дополнительных объяснений.
А потом Вячеслав Арнольдович очень долго и безоблачно лежал на голом диване, то открывая, то закрывая затуманенные глаза, не шевелясь, ровнехонько дыша, не шмыгая носом. Покоился.
Когда-то он упоенно увлекался аутотренингом, йогой и в том числе различными течениями в обширнейшей индийской философии. Немало было прочтено, немало потрачено времени на разные там манипуляции с руками, ногами, головой и прочими частями тела. Многое со временем он позабыл-позабросил, а вот привычка лежать в замороженном состоянии как-то прочно укрепилась, вошла в кровь и плоть; и ничего в этом факте нет странного, настораживающего, мы все с возрастом приобретаем что-нибудь эдакое, специфическое, то, от чего ни жена, ни подруга, ни теща, ни какой иной коллектив не отучит и не отдерет. И не нужно отдирать. Зачем? Какого такого лешего?! Пусть себе отличается. Может быть, он оттого и живет и существует, что подобную «странность» имеет. Может быть, в эти специфические моменты он жизненной энергией заправляется или, скажем, от сумасшествия предохраняется. А что? Очень даже может быть.
А раньше он и не такие чудеса мог творить. Достиг, например, того, что с ходу многие органы отключал и полностью вычеркивал какую угодно информацию — запросто загонял её в мозговые отстойники, вето накладывал, консервировал, и будто ничего и не было… А, бывало, брал из общества идеи и развивал их в голове до такой степени, что идеи обретали совершенно отличный, так сказать, нихиловский блеск. Потом он эти идеи в произведения вносил, и получалось новое, очень передовое. Еще он научился при необходимости не замечать того, чего замечать не стоит, достиг необыкновенных вершин в планировании и еще многое другое. И даже медитации сочинял. Вот как сейчас помню:
— Лама, прекрасный Лама,
— Поведай мне о Шамбале.
— Приближается Великая эпоха.
— Правитель Мира готов к битве.
— Эти столбы света и лучи света — Твои!
— Они от Шамбалы,
— О, Великий Приходящий!
Или вот строки — жгут душу, бередят сердце, волнуют и не дают покоя ни днем ни ночью:
— Чанг Шамбалин Дайн!
— Истинно, время Шамбалы придёт!
— Гуру видит камень Граль!
— Монгол, друг мой, умрем,
— Чтобы родиться витязями
— Владыки Шамбалы.
Много у него, и все разные. А в конце каждого цикла вместо подписи знак ставил, в смысле, что не сам он писал, Вячеслав Арнольдович, а Вселенная глаголила устами его. Так сказать, Бескорыстный аноним.
Вот такой, точь-в-точь:
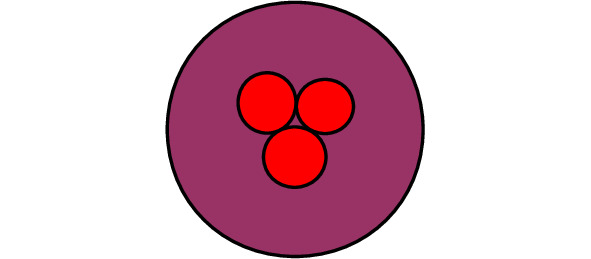
И я думаю, что простой человек так не пишет. Тут не простой талант нужен. Байрон!
А теперь он и не стремится к этому. Интересы теперь у Вячеслава Арнольдовича иные, давно прошел он стадию самовоспитания. Отбросил шелуху, что по молодости лет в виде поисков места в жизни поналипала. И если взять внешние данные Вячеслава Арнольдовича, то они удивительным образом соответствуют его планам и желаемому образу жизни. Их можно за образец вывести.
Рост у Вячеслава Арнольдовича чуть-чуть выше среднего. Но кажется повыше и даже стройным. Полнота… умеренная полнота, второй подбородок имеется, по годам, совсем приличный и выразительный. Зубы у Вячеслава Арнольдовича замечательные. Всем бы такие зубы! И волосы густые, темные, с проседью шелковистой, умудренной. Он их назад зачесывает и длину писательскую соблюдает. Разве вот на самой макушке природа что-то устраивает, куда так и норовят разные крылатые насекомые приземлиться. Но, знаете, иная плешь и украшать человека будет. Еще как может! К тому же, если человек достойно голову и себя держит, не заикается, не чешет нос и не лезет среди разговора всей пятерней в свои и без того зализанные вихры, когда не обмирает на каждом своем или должностном слове, как это себе позволяют некоторые не совсем уверенные в себе лица. И смотреть Вячеслав Арнольдович может прямо в глаза — открыто и честно, безо всякой там видимой задней мысли. Смотрит серыми глазами, в которых тайна, и что-то, знаете, с вами происходит, очаровывает вас, а может, влюбляетесь? Или постигаете нечто?.. Странное, одним словом.
Ну а достоинств в фигуре Вячеслава Арнольдовича хоть отбавляй! Ступает по земле основательно, всегда с какой-нибудь папочкой, в костюме, при модном, но в меру, галстуке; всегда знает в какой момент какое слово нужно произнести и как произнести, и кому. И на годы планы имеет, день ото дня в эти планы коррективы серьезные вносит. Мыслит неустанно, и потому со всей ответственностью можно заявить, что исполин Вячеслав Арнольдович! Кентавр!
Да вы только посмотрите, как он вопросы задает, как слушает, как кивает, как сморкается и зевает в обществе, как ест, как думает, как идет и извиняется, если кого локотком заденет. И не то, чтобы там присюсюкивает или альфонсом крутится. Не то! тут весь смак в цельности натуры, в том, что если человек и смущается или мнется, так совсем не потому, что сбит с толку и запутан, а потому, что его цельности что-либо мешает, и механизм защиты уникальности обороняться начинает.
Это еще понять нужно.
А с женщинами?! Нет, он просто аристократ! В благородном смысле, как это бывает.
Тут уж я эмоций не удержу. Скажу со всей страстью. Будь что будет.
Люблю я его, он мне дорог, близок и мил. Еще бы! Как мне его не любить, ведь это я его нашел и помог открыть. Вам понравился его юношеский дневник? Какие мысли! Какие усилия к Высшему! Зря он чтение прервал. Вот бы и дальше почитать, дальше лучше: размах, объемы и ситуации.
Очаровашка! Так бы и пошел с ним рука об руку до конца жизни и напоследок кисть бы долго и мучительно жал, облобызал бы всего и высох бы от горючих слез. Честное слово! Герой! И какой герой! Класс! Супермодерн! Герольд! Ваятель! И все самые лучшие выражения.
Вы не беспокойтесь, я не автор. Куда уж мне! Я вон — приличным языком поговорил и в жар бросило. Не могу без эмоций и своего личного мнения. Я приближенный. Бывший сосед Вячеслава Арнольдовича.
Давно я уже живу в другом городе, а Вячеслав Арнольдович в третьем. А жена его (тоже бывшая) — в четвертом, вместе с дочуркой, кровинушкой Вячеслава Арнольдовича, проживает. Потому-то Вячеслав Арнольдович теперь сам по себе, свободен, и, как он правильно про себя заметил, — в полном расцвете сил. Тридцать восемь лет. Кровь с молоком и земляникой! Раньше в таком возрасте только-только женились, только-только жить собирались. Так что от него о-го-го чего еще можно ждать.
Вы тут спросите: «А какого же черта вы, дурацкий инкогнито, встряли в повествование или во что там еще? И вообще, что все это значит?»
Законные претензии. Я всегда уважал в людях осторожность. Я и себя ценю за это доброе качество.
А дело в том, что я нахожусь здесь, веду беседу или, если вам угодно, разбалтываюсь по воле автора. Автор-то самым чудесным образом разузнал, что я бывал у Нихиловых. Я и невинным свидетелем драки оказался. Честно говоря, драки-то и не было. Нанес Вячеслав Арнольдович один единственный удар. Кровь пошла, а потом и раскаяние хлынуло. И этот чудесный дневник я прочел однажды одним из первых.
«Совершенно случайно?» — спросите вы.
В том-то и дело, что не случайно. Болезнь у меня такая. Как клептомания. Только я не ворую. Мне чужих вещей не нужно.
Я, видите ли, был слесарем высокой квалификации. Но это не главное. Главное, что меня на сокровеннее тянет, на душевное, на, извините, интимное… Я теперь на пенсии, так что весь день дома, и сами понимаете…
Нет? Не понимаете!
Батюшки, да по квартирам я хожу. Ключей и отмычек у меня целая стиральная машина. Я ею не пользуюсь, так зачем зря место занимать? — я в нее свои инструменты складываю. И еще у меня есть — коллекция, единственная в мире. Но о ней чуть погодя.
В жизни своей я многими вещами увлекался, пока не пришел к истинному действу, и вот тогда-то мне воздалось сторицей, тайна блеснула мне прямо в очи. Лучезарностью одарила меня стезя…
Так вот, меня последнее время все за пределы подъезда тянуло. Заприметил я одного любопытнейшего экспоната. Походка летящая, прохожих будто не замечает, не пьет, холост и почти весь день дома. А уходит неизвестно куда и зачем, и что меня взволновало: абсолютно никто у него не бывает. В доме напротив живет.
Ох, как у меня руки зачесались! Вариант всем вариантам! Нюх у меня на скрытое. Зайти бы, думаю, бельишко перебрать, одним глазком на фотокарточки взглянуть, письмишки полистать, если таковые имеются, во все дырочки да тайнички заглянуть, понюхать, чем веет и куда несет. Наши-то в подъезде все как облупленные, никакого движения, изо дня в день на одном уровне, и надоели мне хуже пареной репы.
Сами понимаете, ни одной сколь-нибудь захватывающей, будоражащей личности, кроме Нихилова, не было. Встречались, конечно, и интрижки, и измены, и каверзы, и грешки, и подоплеки — то правовые, то нравственные. Я по простоте душевной на первых патриотических порах и давал знать куда следует. Да только бесполезное это дело, методы мои с общепринятыми не совпадают, и тогда плюнул я, стал собирать материалы, кропотливо их скапливать. А вот как на Нихилова наткнулся, тут уж меня Сам заинтересовал. Сам Человек, общественная природа его, влияние на гармонию мира.
Давно я о подобном явлении подозревал, хотя сомнения мучили, но не сдавался и мечтал встретиться. Собственно, и цель такую имел с самого начала своей необычной деятельности. А семейные и разнополые дела тогда у меня в горле стояли. И вот дождался! И завертело меня, закружило. Нахрапом Нихилова изучал, потому, видимо, и промашку сделал. Изумление и восхищение меня тогда ослепили. Пропахал я факты и подумал, что всё уже о нём знаю. А ведь смак внутри оказался! Подпольная суть. Или, как еще автор сказал, «потенция в состоянии анабиоза», замороженные, одним словом, возможности.
Нихилов-то — он ой какой активный был… ну прямо как сгусток энергии! Туда-сюда, отсюда-туда, этому-тому, здесь-там, с ходу-не спеша. И всё с умом, с блеском, всё на уровне, с юморком и улыбочкой. А если и без улыбочки, то с достоинством и дипломатией на мудром лице.
Уж как он меня восхищал, как вдохновлял! Жил я на гребне восторга. Вспоминаю, и кровь в жилах горячеет, клокочет, и бьется вон наружу. При одном-то воспоминании! И как мне было понять, что помимо этой бешеной внешней энергии есть еще колоссальная «замороженная энергия»? Вот и выпустил синицу из рук…
Все его рукописи, письма, записочки и разные там автографы я первый прочел! Так что, если где в полном собрании появятся его труды и варианты, знайте — я первый в подлинниках лицезрел, и многое еще до того, как его жена.
А она, преказусная женщина. Никогда не знаешь, что с ней будет через час, когда уйдет, когда придет. И ему мешала, и мне. Нервная. Порой одевается, приводит себя в порядок, разные там мази и духи, и лосьоны и прочее. Ну, думаешь, до поздней ночи не будет, на банкет или в театр собралась. Уйдет она, только ты это соберешься долг исполнять, а она, глядь, уж домой возвращается.
Сохла она, сохла, были причины, чего уж скрывать. Но Вячеслав Арнольдович вел себя достойно, мужественно, не угнетал ее откровениями, как это себе некоторые мужья позволяют. Старался не накалять атмосферу, если что начиналось — по делам уходил, давал свободу полную. А она всё что-то думает, думает. Благо бы писала, мысли в дневник заносила, всё бы ей легче было, а мне яснее. Уж чего мне стоило проникать, ждать да высовываться одному Богу известно и то, наверное, не во всех подробностях.
Был случай, застала меня она. Три часа за шторкой полутораметровой ширины, затаив дыхание да в неестественной позе, отстоял. Скатанной дорожкой прикидывался…
О! есть чем поделиться. И, признаюсь, бит был. Два памятных раза. За вора принимали. Откупался. Благо, что пьющие попадались.
Вот такие и прочие муки за болезнь свою несу.
Но лишь сегодня понял, что не зря. Воздалось мне сполна! Теперь вот получил возможность в неизвестном источнике сущность свою запечатлеть. Всё тайное становится явным.
Свидетель-то я свидетель, и прототип, конечно, и вместо механизма какого-то, но посчастливилось все же при жизни чудо испытать — сам знаю, и в курсе многих начинаний, а теперь вот будто сам пишу и мыслю, словно автор…
Автор меня благодарил, чаем потчевал, восхищался, две недели слушал. Отвел я душу, весь выпростался, всё, что имел, выложил.
Прошлым он почему-то не задавался.
А Вячеславу Арнольдовичу мы десять дней уделили.
Морщился автор, стыд его, видимо, ел, а интерес все-таки перебарывал. Вячеслав Арнольдович личность, тут уж никто не устоит. Хлопал меня автор по плечу, вскакивал в восторге, восклицал, целуя в темя:
«Энциклопедон! Не было еще у меня таких уникумов-помощников! Марафонец вы беспримерный! Энтузиаст великомученный! С вашими-то средствами и такие архивы скопить! Да вам сегодня же Нобелевку положено!»
Ну разве не награда мукам моим слова такие!
Коньяк покупал, чтобы во мне силы поддерживать. Десять грамм плеснет и подбадривает: «Шуруем, шуруем, милый-раздорогой!»
Какое время было! Мне этот коньяк здорово от желудка помогал, боли дурацкие снимал, черт бы их побрал, эти колики. А может, и не коньяк то был вовсе, больно терпкий и притягательный. Так или иначе — целебный напиток, и если бы не он, не рассказать бы мне столько, сколько было рассказано.
Мы до того в судьбу и сущность Вячеслава Арнольдовича проникали, что просто Вечей его называли. А жену его Ленкой. И чем больше мы в него проникали, тем болезненнее я понимал трагичность своей ошибки-промаха, тем острее и чувственнее жил вячеславоарнольдовичьей жизнью, тем больше сожалел, что не вскрыл его самостоятельно.
Автор меня сразу понял и простил великодушно. Он ведь тоже наподобие меня: души изучает. Только класс у него, честно скажу, гораздо и гораздо повыше моего будет. И аппаратуру новейшую он где-то приобрел. Она ему на расстоянии помогает. Признался он мне, что мечтал в детстве, чтобы шапка невидимка у него была и чтобы в каждый дом, в каждое сердце проникать можно было, слушать, запоминать, выводы и обобщения делать. Готовиться к поприщу своему, так сказать. Типы разные выводить, жизнь с мясом и кровью отражать. Я думаю, он потому меня в своей квартире и изловил, что дар подобный мне имел. Болезненный, но дар — это уж точно.
А как дело-то было?
Я в первую вылазку поспешил, суету проявил по причине болезни желудка и интереса к его абсолютно замкнутому изрядовонному образу, и потому папочку с его странными рукописями неправильно завязал. Он и заметил.
Толком-то я не успел разобраться в рукописях, заглянул — всё номера да даты, бланки да рожи какие-то, и тут-то у меня желудок свело. Кинулся я вон, чтобы укольчик себе дома сделать.
А во второй мой приход мы и столкнулись нос к носу. Я открыл дверь, чтобы уйти, а он — чтобы войти. Вот вам немая сцена.
Стоит, значит, он, а в руках у него…
Что бы вы думали? Пистолет? Нож? Ключ? Нет, и не удостоверение.
В руках у него — инструменты из моей стиральной машины!..
Мы как в глаза друг другу глянули, так и поняли один другого навечно. Тут он меня и очаровал, как красная девица.
Виртуоз, а не автор!
Так вот мы и познакомились.
«Ф» -акт съёмный, второго класса
(Комната. Ванная обычная — вместе с унитазом. Есть два тазика с ободранной эмалью. Стены в ржавых подтёках. Штукатурка облупливается. Трубы коричневые от ржавчины. Наблюдается вздутие краски. Голые веревки, ветошь в углу. В раковине две бутылки из-под низкосортного вина и окурки. Есть резиновый коврик.)
А Вячеслав Арнольдович Нихилов уже поднялся с чуть обжитого дивана и теперь пребывал в обшарпанном кресле, оставшемся после прежних хозяев квартиры, посасывал сигарету. Не спеша, упорно взирая прямо перед собой на голую белую стену. Курить он начал недавно, после развода с женой, из-за всех этих треволнений и делёжек, потому и сигарету держал неумело, слишком деловито прогонял дым через обе ноздри и забавлялся пусканием пухлых колечек.
Ему было хорошо и покойно. Он ценил одиночество. А в такие минуты, когда в следующем этапе предстояло вкусить более крупное удовольствие, он особенно искренне ценил самою жизнь, ее маленькие и большие радости, сюрпризы и надежды.
В данном благодатном самоуглубленном состоянии он пребывал ровно столько, сколько требуется болгарской сигарете типа «Стюардесса» истлеть до кромки нежно-коричневого фильтра. Затем, переходя к любимому процессу, Нихилов активизировался, аккуратно ткнул бычок в пустую, но пахучую консервную банку типа «Окунь-терпуг в томатном соусе», пружинисто покинул кресло, снял пиджак, брюки, галстук, рубашку, майку, и в белых хлопчатобумажных трусах решительным шагом двинулся в ванную комнату, куда двадцать минут назад снёс всевозможные банные принадлежности и откуда теперь привычно доносился пленительный шум низвергающейся воды.
Мыться Нихилов любил страстно, как может любить пылкий юноша голубую Незнакомку Блока, как любят все новенькое, аккуратное и молодое.
В купании у него свои ритуалы, свои традиции.
В воду он входит осторожно, предвкушая и чуть дыша: сначала опустит большой палец левой ноги, потом постепенно и медленно-медленно всю ногу. Постоит в аистичном положении, поребячествует, всматриваясь в увеличенный объем пузырчатой ноги под водой, и за вторую ногу примется, а затем уж, когда тепло пробьет твердую кожу на пятках, и истома обдаст теплом обмякший живот, Вячеслав Арнольдович, дрожа и, словно погибая, стремительно рушится всем весом в прозрачную пучину, испуская при этом замечательном падении чудесный победно-сладостный вопль:
— У-у-х-а-х-а-а!!
И начинается! И длится! И бурлит!
Брызги серебристой пены, мириады пузырьков всех цветов радуги-дуги, розовое, гладкое и телесное, мочалки и запахи активнейшей парфюмерии, и чернота слипшихся волос сливаются воедино в подвижный брызжущий комок, и среди всего этого очистительного великолепия мелькает восторженная, испуганно-ликующая физиономия Вячеслава Арнольдовича, излучающего в эти минуты детский несказанный трепет.
Проходят шумные минуты, и наступает сравнительное затишье. Страсти улеглись, поры раскрылись. В голове чистота.
Пора за дело.
Трется Вячеслав Арнольдович основательно. Ухает и покряхтывает. Намыливает голову, натирает верхнюю часть туловища, откладывает мочалку.
Пора! Пришла долгожданная минута! С Богом!
Растопыренными пальцами затыкает Вячеслав Арнольдович нос и уши, жмурится, делает глубокий вдох и, сморщась до неузнаваемости, погружается с головой в мыльную радость, оставляет на поверхности не вошедшие розовые выпуклости. Выбыл Вячеслав Арнольдович из этого мира. Всё!
На дне ванны он затихает, замирает, наслаждается несказанными ощущениями и начинает думать, постепенно выпуская воздух. Выпускает и каким-то третьим ухом слушает глухую, щекотливую воркотню отработанных воздушных пузырьков, серьезно и пристально вглядывается в кромешную черноту, улыбается.
Здесь, на дне, ему очень и очень хорошо, здесь он всегда ощущает себя вернувшимся в первобытный океан, к началу всех начал, к основе всех основ, и потому понятна ему и эволюция, и цивилизация, и прошлое, и настоящее, и будущее. Да, да, вероятно, в воде жизнь материалистичнее и ощутимее, чем на суше — это, прислушавшись к мыслям Вячеслава Арнольдовича, всякий поймет и признает.
«А если кто-то звонит в дверь? Интересно, услышу я здесь или пег? Нет, не услышу. Хотя…»
…Долго мылил розовое тело Вячеслав Арнольдович. Душу и сердце вкладывал. Всячески изгибался, принимал самые невероятные позы, бездумно мурлыкал привязавшийся мотивчик, типа «я больше не ревную, но я тебя хочу». И думал, думал, думал…
Думал он как побыстрее и без лишних затрат хоть как-то обставить квартиру, как взять на первое время в прокате телевизор и холодильник, с какой стороны приступить к исполнению своих обязанностей в новой должности заместителя директора здешнего Дворца культуры и отдыха. Прикидывал с кем завести знакомства в первую очередь, с кем в последнюю. Вспоминал, анализировал, обобщал, исследовал, суммировал, взвешивал, оценивал, соотносил и многое другое, так что постепенно выстраивались в его мокрой голове стройные планы и схемы, варианты и способы, графики и сроки.
Что ж, забот у Нихилова действительно хватало. Город небольшой, восточный, несколько на отшибе. Сюда едут с неохотой и с охотой, в погоне за заработком, в поисках романтики и острых ощущений или же с бухты-барахты после разводов, скандалов и ЧП, но есть и такие, кто едет сюда не по собственной воле. Как Нихилов, например.
На старом месте он числился в издательстве, имел массу свободного времени, которое использовал с чувством, с тактом, с расстановкой, а именно: писал рассказы (любовь, тема большого человека, в защиту природы и окружающей среды, очень много о жизни первобытных племен), ездил за город, организовывал встречи тружеников с писателями, занимался собирательством, рыбачил, писал стихи, посещал различные совещания, подрабатывал на полставки литсотрудником в театре, нес общественные нагрузки, читал доклады — типа «Фольклор и диалектика диалектов современного языка», посещал знакомых мужчин и женщин, пел в интеллигентном хоре художественной самодеятельности, при удобном случае и в подходящей обстановке беседовал на животрепещущие темы, значился экспрессивным рассказчиком некоторой категории странных анекдотов (в хороших и перспективных кругах) … Всего и не перескажешь.
Но вот устоявшаяся жизнь, намеченные планы и перспективы были коварно перечеркнуты нелепыми взмахами дотошного и гнусного пера. Партия была проиграна. Но всегда можно начать другую, вращалась бы голова на плечах.
Документы, характеристики, чемоданы, самолет, небольшие, но утомительные хлопоты, и вот он здесь, полон перемен, решает новые, важные проблемы, и ничего — здоров, жизнелюбив, упитан — что, по мнению многих, является неплохим задатком для видной судьбы, для формирования успехов, счастья в семейной жизни, и вообще…
Пошарил Вячеслав Арнольдович в мутной, грязной воде, обнаружил пробку, открыл, пошла вода помаленьку, забулькала, а в коридоре звонок заверещал.
Раз — дзинь! Два — дзинь!
А потом снова — дзинь! дзинь! дзинь!
«Ф» -акт съёмно-видовой, 1 класса
(Улицы города. Лето, жара. Часто встречаются бочки с пивом, реже — с квасом. Людей не густо. Население по случаю погоды — за городом, нежится, потеет, питается, купается. Что-то невиданное для этих мест. Ветерок гоняет разную мелочь — как-то — спички, фантики, клочки порванных записок и писем, листья, газеты, резиновые предметы, парашютики одуванчиков и проч. Скамеек нет, и потому люди в движении, редко стоят по двое. Запахи пыли, вспотевшего асфальта, мусорных ящиков и всего прочего, что сопутствует знойной погоде в маленьком городе. Время послеобеденное.)
В кои веки она может располагать воскресным днем по собственному усмотрению и самое приятное — фантазировать как его использовать — сама, единолично, без маминых подсказок, без шаблонных папиных уроков, без назойливых инициатив приятельниц и подруг.
Вот она — эта желанная подруга-свобода! Когда она так ощутима и так близка, то словно легкие прозрачные крылья вырастают за спиной, и тогда само пространство доверху заполнено восторгом и нежностью необъяснимого чувства — этого сладостного волшебства, этого незримого чуда, этого дара жизни. И тогда всё можно объять, всё можно принять, и всё впереди — будет, обязательно будет! — радостным, полным, желанным…
Быть молодой и вечно чувствовать, как из крепкого тела медленно струится энергия познания и любви и сила, первозданная неудержимая сила, и все это грандиозное изобилие молодости — кому-то, кому-то!..
Ах, как много несуразных слов, но и они беспомощны выразить смысл клокочущего предчувствием сердца!
«Надежда только на глаза,
на алость губ,
блеск туалета,
и ваша песенка, сэр, спета!
Вот это да!
А что?
Ха-ха!..»
А было именно так.
В прошлое воскресенье у нее (подающей не такие уж маленькие надежды) — актрисы театра, распределенной в родной город год назад после окончания театрального училища, умчались турбореактивным самолётом жить-поживать в кооперативную квартиру пристоличного города престарелые, но еще крепкие родители папа и мама. Оксане перешли в вечное пользование приличная мебель, кое-какие книги и посуда. Но главное Оксане осталась-досталась сама квартира — значительное событие, серьёзное!
Провожая родителей, Оксана плакала, но, что греха таить, была и рада их отъезду. Давно, ах как давно хотелось ей пожить одной, быть свободной в своих прихотях и порывах хотя бы дома на кухне за столом или на диванах в любой из двух комнат. Двух — это вам не тяп-ляп!
Конечно, не только в диванах и кухонных столах дело. Как долго мечталось о собственном уюте, тишине в доме, так хотелось чувствовать себя полноправной и единовластной хозяйкой, иметь человеческое место, где можно, закрыв двери, отключиться от всего и дать волю любым чувствам, принять естественное выражение лица, «быть самим собой!» и прочее, прочее. Нет, она и раньше могла запереться в «своей комнате», но эти постоянные полукомпромиссные стуки в дверь: «Оксаночка, помоги мне», «иди ешь», «не забудь то или это», «Оксана, сходи туда, иди сюда», «Оксана, ты не забыла?..» Наболело! Всё-таки мировой квартирный вопрос! Да, жила Оксана с родителями дружно, маму очень и очень любила, папу уважала и чтила, но всё-таки…
В театре у нее пока ладилось. Сразу задействовали в трех спектаклях. Не первые роли, но и не последние. По красоте и молодости она вне конкуренции, и если это кого-то задевало, так одну единственную женщину, взбалмошную и нагловатую актрису Беллу Леопольдовну Эдигей, ту самую, что до сего дня жестоко и мучительно мечтает перебраться в столицу, а здесь ведёт себя временщицей, презирает всех и вся вокруг.
Белла Леопольдовна бесспорно талантлива, величина в краевом масштабе, но всё же зря она заводит быстрые знакомства с приезжими лидерами искусства, так как всегда после отъезда нового многообещающего кумира подолгу ждет чего-то, страдает, злится на всех и плачет украдкой, но и действительно, их (лидеров) молчание и поведение можно легко объяснить хотя бы тем, что загадочная и элегантная Эдигей при всех своих достоинствах вряд ли бы потянула передовые нагрузки, так полагала не только Оксана, все сведущие театралы так же считали.
И все как нельзя лучше относились к Оксане. Разумеется — ухаживания, намеки и уже три полноценных признания. И еще один показатель: довольно скоро за ней укрепилось лестное прозвище «Осанна», произносимое скорее не насмешливо, а высокопарно, искренне и восхищенно, и теперь Оксана без былого волнения просто и мило отзывалась на него. Приятно. А однажды на репетиции седовласый подтянутый строгий режиссер на полном серьёзе назвал ее этим высоким именем, чего сам даже не заметил, чем и вызвал взрыв всеобщего веселья и хмурое настроение у Беллы Леопольдовны.
Друзей в этом городе у Оксаны предостаточно. Пять лет она проучилась в одной из здешних школ, и приятно теперь хотя бы изредка посещать те памятные места, любимые дома и дорогие сердцу скамейки. Порой идет она по городу, а память — стук! — и целый мир из ушедшего детства вновь оживает и волнует, нахлынет чувственным океаном при виде какой-нибудь облезшей оградки или уютного дворика. Иногда мечтает Оксана обойти своих бывших учителей, да опять же недосуг как-то — всё вечеринки, репетиции, домашние хлопоты.
А ее звали. Марья Ивановна, эта вечная старушка с классическим школьным именем, была на ее спектакле, дождалась Оксану у входа, но душевного разговора тогда не вышло. Голова болела, не терпелось смыть пот и усталость, да и поздно было, оттого и осадок нехороший, умышленно нагнетенная радость, ничего не значащие вопросы, попытка детского восторга и понимающие глаза Марьи Ивановны, усталые, без укора, с думой о чем-то.
«Заходи, если будет время», — звала учительница.
«Приду», — твёрдо обещала Оксана, имея в виду первое же воскресенье.
Но прошли недели, месяцы, и не находилось свободного часа, и даже не часа, а соответствующего настроения, чтобы было радостно и желанно -встретиться, посидеть, поговорить, «посекретничать», как бывало…
Марья Ивановна десять лет как на пенсии, здоровье совсем пустяковое, в лице что-то новым, отчужденным показалось, а ведь в прошлом, хоть и тогда уже до пенсии год-два, но тихая энтузиастка была — борцом, лучшим человеком Оксана ее называла.
«Теперь уж зайду, — не отвечая на ожидающие взгляды прохожих, упрекала себя Оксана, — теперь уж непременно зайду. Сегодня ничто меня не остановит! Нужно бы в цветочный заглянуть и конфет купить — подушечек, она их любила… любит! Попьем чайку, расскажу об училище. Есть что рассказать. Она умеет слушать. Вот действительно, сколько людей не встречала, а добрее и порядочнее ее не попадалось. И не в этом дело. Безоблачная она какая-то, ясная и простая. Честная. Я ей и стихи почитаю. Никому еще не читала, а ей прочту. Первой. Вот, скажу, черт дернул за перо взяться…»
Она ускорила шаг. В сумочке металлически позвякивало. Ключи. От квартиры — от своей квартиры! Сама себе хозяйка, и не стоит торопиться замуж. Посмотришь на бывших знакомых и подруг, как они маются, да что в глазах у них, бедных, так сама себе завидовать начнешь.
В цветочном ей повезло. Розы. Купила пять. Взяла и заторопилась — вдруг не застанет дома… Всё-таки воскресенье…
А в гастрономе в конфетном очередь. Выбила чек. Взяла торт. Подушечек давным-давно почему-то нет. Жаль…
«Нужно торопиться!» — неотвязно думала она, глядя, как ловко и быстро обвязывают бечевой коробку.
— А я вас узнала, — почему-то шепотом сказала молоденькая хозяйка этих ловких рук, — вы так хорошо играете, я спе…
— Тороплюсь я, простите, — и скорее к выходу-входу.
«До чего беспардонно! Такая милая девушка, а я как с ней! Ну ничего, в следующий раз сама с ней заговорю, да, да, сама».
У гастронома ее окликнули. Не так-то просто ходить по улицам!
Трагик и Комик — Толя и Коля.
— Ты куда это, Осаночка, в такой шикарной экипировке? — подступил Трагик.
— Ты постой, постой!.. — начал было, но смутился Комик.
— Ой, ребятки, я тороплюсь!
Она сделала шаг в сторону, но актеры уже взяли ее под руки.
— В сумочке, небось, «Ркацители»? — Комик один из первых сделал ей в подогретом состоянии глупое признание и теперь пытался вести себя в унисон заполошному Трагику — это чтобы показать себя в полном и независимом порядке.
— Ну что ты, Колечка? Разве эта четвертьметровая бомба влезет в такую сумочку, — и Трагик галантным движением завладел коробкой с тортом. — Двинулись, ребятки! Коля, запевай!
— Куда двинулись? — запротестовала Оксана, — всё, пошутили и будет!
Комик тотчас освободил руку, но с Трагиком пришлось повозиться.
— Оксаночка, мы же идём к тебе в гости. Обмывать твою великую свободу. Что ж, мы согласны и чаем, правда, Коля? Ты же приглашала. Или тебя ждут другие зрители?
Он сделал сначала обиженное, а потом свирепое лицо, и забормотал какой-то монолог, по-видимому, из «Отелло». Оксана рассмеялась и обнадежила:
— Вечером, мальчики, как договорились. Я понимаю, что вам деть себя некуда. Так вот, шел бы ты, Толя, жене по хозяйству помогать, как тебе не стыдно! Она у тебя одна-одинешенька. А ты, Коля, к Ирине сходи, скажи, чтобы она сегодня у меня обязательно была. Ладненько? — и перешла на серьезный категоричный тон, — дело у меня, ребятки, срочное. Вы милые и проказники. А мне пора. Ну, пока!
Трагик освободил ее руку. Протянул коробку. Вздохнул так, что голуби шарахнулись в голубую высь. Комик тускло улыбался.
Они смотрели ей вслед. Они не могли не смотреть: фигура, волосы, руки, как баланс — цветы и торт. Лёгкость, какая-то дьявольская лёгкость!
— Это нам в наказание. Божий промысел! Жатва юности, — мрачно буркнул Трагик.
— О чём ты? — скис Комик.
— О том, что грешны мы по самые уши, о том, что я рано женился, а ты, осёл, весь запал речей на банальных легкокрылых бабёнок истратил. Оглобли мы с тобой. Ты правая, а я левая, в нас бы еще Антошу Чехонте запрячь — вот бы тоска по гробовой доске вышла! Ну что, двинулись, что ли?
Оксана скрылась за поворотом, и потому Комик не возражал и не протестовал, и они, безо всяких там чувств, думая каждый о своем (а в сущности об одном и том же), вошли в раскрытые двери гастронома…
Теперь она почти бежала. Город мелькал и растекался. Он казался бесконечным и невыносимо пустым. Прохожие останавливались, удивленно смотрели вслед, и если это были женщины, то не могли не восхищаться вслух ее платьем, фигурой, волосами, руками, как для баланса — цветами и тортом, восхищались — критикуя, завидуя, но зато искренне. Мужчины молчали и прорабатывали разное в голове, но всё равно ясно и надолго понимали, что видят редкую девушку, ту, которая («ну почему не я?») делает кого-нибудь («подлеца и франтика») счастливым («или несчастным»).
«Это спектакль, — кричала её спина взглядам, — это спектакль под открытым небом!»
Воскресеньице, ох, какое жаркое! Что-то природа напутала. Такую погоду в Сочи бы, в Гагры, в Ташкент. Теплеет на планете, ощутимо очень даже теплеет. У Марьи Ивановны хорошо бы помыться, быстренько, на одном дыхании. А потом чай и спокойствие, никакой спешки.
Она бегом поднялась на третий этаж. Не любит Оксана подниматься по ступенькам или в гору медленно.
Сердце грохочет. В ушах звон, и горячее, взорванное дыхание.
«Сейчас дух переведу и позвоню. Так… зеркальце, расческа…»
Она осторожно положила цветы на коробку, заглянула в зеркальце. Тушь в порядке. Челку поправить и вперед.
«Гора с горой, а человек с человеком…» — вспомнилось или кто-то подсказал ей кстати.
Потянулась к звонку. Как сердце еще бьется!
Тихо за дверью. Нет, кто-то есть, что-то звякнуло.
Дзинь! Дзинь! — вдавила она кнопку.
Хотела раз, получилось два.
Тихо. Нет дома? Спит? Можно попытаться еще раз, а потом уже всё.
Неприятно звонить в чужие квартиры. С чего бы это? Кажется, звонки для того и вмонтированы. А всё равно как-то не по себе. Она еще раз робко потянулась рукой…
Но тут послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась.
— Здравствуйте! Марья Ивановна… дома?
«Кто он такой? Гость? Сын? У нее не было сыновей. Коллега? Ученик бывший? Родственник? Наверное, родственник!»
Наваждение №4.567.006
Он уснул на одно лишь мгновение, и сразу же ворвался огромный старичище с глазами Инакова и ртом бывшего соседа.
Старичище имел компанейский вид, уселся в кресло, положив ногу на ногу, вальяжно закурил огромную гаванскую сигару, не спешил, начал издалека.
— Живешь ты, братец мой, скудно с приставкой «по». Тебе бы как-нибудь жизнь переменить, направить свои стопы по иным тропам. Ты же знаешь о звездах, о вечности, так что ты пыжишься, людей смешишь, тебе бы бросить всё к чертовой…
— О нет! — неожиданно оживился Нихилов, — я делаю по мере сил и буду делать больше. Вот увидите! Я же мечтаю. Я пишу. Я рисую, и пел я в хоре. Это чтобы людей к культуре приобщать!..
— Упусти, хлопчик, — почему-то на украинский манер хмыкнул старичище, — гарне разошелся ты. Швидко! Ну да юмор в сторону, погуторим на иной ляд.
— Позвольте, позвольте, — изумился было Нихилов.
— Не позволю, особь лживая!
Страх объял Нихилова. Изменилось лицо старичищино, что-то начальственное появилось в нем, прокурорское что-то, так показалось напуганному Нихилову.
— Що це таки! В детстве мечтал начальником быть? Глаголь!
— Ме… мечтал. Но это от па… с… ма… мамой. И среда, знаете ли…
— А далее, далее? Писал, чтобы прославиться? Щобы девочки смотрели с вожделе?..
— Писал, писал. С кем в детстве не бывает. Потуги, издержки, извольте принять во внимание, воспитания… Другой я теперь…
— Рвался к общественной деятельности, дабы возглавлять и карьеру делать? В энциклопедии местечко отвоёвывал, мучило, у коего живот вспучило?
— Был грех, было корыстие! Но теперь… Что же за прошлое казнить?.. Тому глаз вон. Вон глаз!!
И Нихилов вцепился в этот ненавистный распроклятый прожигающий глаз… Все смешалось, земля и небо, потолок и удушье крутились с бешеной быстротой.
Тошно Нихилову. Душат его прокуренные ручища старичищенские. Но цепко зажал Нихилов в кулак что-то хлипкое, плачет — не просыпается, и вдруг ощущает себя сидящим на прежнем месте, а старичище улыбается, змеится на губах его отравленная улыбка, и дорого бы отдал Нихилов, чтобы проснуться.
— Какой глаз? Бачишь, этот, что ли, сынку?
Глянул бледный потный Нихилов, а на морщинистой ладони огромный глаз нихиловский лежит! Хвать Нихилов рукой за один глаз, хвать за второй оба целы. Хохочет старичище:
— Поговорка, сынку. Метафора от светафора. Юмор у меня такой черный. Анекдохонт. Ты же сам рассказывал. К настоящему перейти жаждешь? Гарно жаждешь, чую, сынку.
Не было у Нихилова с Украины родственников. Или, черт его знает, может быть, и были, уследишь ли? Из диалектов, что ли, старичище вылез, так лучше бы на старославянском. А то кощунство какое-то!
Не успел Нихилов так подумать, а старичище следующий вопросище выдвигает.
— Грехи замаливаешь, ни черта видеть вокруг себя не желаешь, сатана разэтакая! Из головы, що есть произведение искусства, поганый кочан сотворил, шельма вселенская!
— А что же оскорблять! — взревел Нихилов, — так и я могу!
— Моченьки моей нету! Член с самосознанием! Вжился, паразитирует и крякает! Убью, если уперёд батьки пикнешь! Оскорбление оскорблению рознь, чуешь? Есть ли в тебе истинный огонь, или только умишком берешь, а кожа непробиваемая? Другому-то помогать не хотел, из-под палки разве. А сам-то ты на что? На самовыражение? Словами жонглировать? Чтобы в анналы занесли? Был такой, страдал и мучился, след оставлял, самовыражался с пользой и примером для других, и только ты один одинёшенек знать будешь, что ложь, что гадом ползучим был, гадом и…
Обезумел Нихилов. Вскочил, полон чувств истинных и недобрых, схватил нечто попавшееся под руку, замахнулся с диким воплем на устах:
— Отдай глаза Глебушкины! Не твои те глаза, знамо, добыл ты их недобрым путем! Вымай зенки! Вымай, говорю!
Смеется старичище, как старый волчище, дым сквозь желтые усы пускает, над всем святым надругивается.
— Вот где истинное чувство — когда оскорбишь, да вдаришь! Почаще, значит, нужно оскорбляты тебя. Какушки думаешь? Дабы кожу пробивати да карьере не давати ножки-ручки развивати, га-га, ги-ги!..
Замахнулся Нихилов, забыл себя и мир, но тут старичище ловко метнул гаванскую сигару в переносицу, искры посыпались, боль адова, и звон пошел, да какой выразительный, что понял Нихилов, что умер, что звонят по нему, и жалко ему стало, что у старика этого мерзостного глаза такие высокие, Глебовские…
«Ф» -акт II категории
(Квартира Нихилова. Все то же, к запахам прибавились банные ароматы, а в комнате на стене очень ярко освещена солнцем «Девочка с персиками». Предужинное время.)
«Наверное родственник» только что побывал «на том свете». И осознав себя «на этом», приложил все усилия, чтобы выбелить из памяти поганый, кошмарный сон. Удалось. Ценой невероятной. На веки вечные.
Но не всё пока в организме встало на свои места, не всё пришло в равновесие после изнурительной процедуры выбеливания ненужной информации.
Потому «наверное родственник» ошеломленно таращил глаза на сказочное явление. Не продолжается ли наваждение?
Губы, зубы, рот, нос, глаза, брови, лоб, волосы, уши — на высшем уровне, по первой категории. И фигура тоже. Удивительно верные пропорции! Но самое главное ее нельзя было назвать смазливой — это Нихилов понял тотчас. В ней было нечто только свое, особенное, неповторимое, изюминка, как говорится. Или маковинка.
Совершенно некстати Вячеслав Арнольдович подумал, что стоит перед ней мятый, блестящий, но в носках с порядочными дырами, в грязных белых трусах и с запашком от тех же самых проклятых носков. Бывает же! Годами ходишь ароматизированным, в блеске и аккуратности, и лишь однажды на три дня подзапустишься, и на тебе — свинья свиньей! Странно подумал.
Ни белых трусов, ни дырявых носков она, конечно, не видела.
Вячеслав Арнольдович предстал перед ней в шерстяном костюме, в тапочках, если так можно сказать — со вкусом расчесанным, тщательно выбритым, но ощущение, будто он стоит перед Нею (!) в неподобающем виде, завладело им до того явственно и властно, что пробормотав какую-то белиберду, типа «простите, сею минуточку», он стремглав понесся в глубь квартиры, разом потеряв над рассудком какой бы то ни было контроль, забыв, где он и что он. Такое поведение явилось совершеннейшим новшеством для личностной природы Нихилова.
Спустя минуту, уже в комнате, он пришел в себя, смутно припомнил, что бежал от кого-то куда-то, и принялся осмыслять свое положение:
«Так, так… Что же это за явление? Почему же при виде этой незнакомки со мной произошло вопиющее, ранее небывалое? Подозрение — что она звонила, когда я сидел в ванной? Но она же не видела меня там — тьфу ты! — обнаженным. Отпадает. Со мной что-то серьезное. Температура? Нормальная. Что-нибудь съел? Возможно, возможно… С этими консервами всё возможно. Интересно, ушла она или нет?»
Он, сцепив зубы, на цыпочках прокрался к двери, поискал дырочку, согнулся пополам… нет, ничего не видно! Придётся открывать дверь. Тихо. Всё равно придется. Не сегодня, так завтра.
И тут его во второй раз оглоушило-ахнуло, неописуемость по членам прошлась, ума-зрения лишила.
«Чёрт побери! Что же это со мной в самом деле?! воскликнул он мысленно, ощупывая себя в дальнем от двери углу комнаты. — Прямо-таки наваждение! Нужно поискать новые носки. Я их специально отложил для работы».
Он сунулся в чемодан, обнаружил чудесные, ни разу не надёванные носки, припасенные для первого выхода на должность, поспешно уселся на диван, и только было изогнулся для приятной процедуры, как дверь распахнулась, и… он увидел её!
И вновь с Вячеславом Арнольдовичем произошла ужасная трёхминутназатная нелепица. На этот раз он превзошел самого себя — он даже взвизгнул, дико прыгнул и забито нырнул за спинку дивана, словно его застали без спасительного фигового листочка.
Целую вечность длилось молчание. Вячеслав Арнольдович включил замороженное состояние, закостенел и мог бы пробыть в скрюченной позе еще одну вечность, если бы его чудесным образом не привели в себя совершенно безобидные земные вопросы.
— Товарищ… вы еще раз извините меня… (молчание). Я, собственно… (молчание). Здесь идёт ремонт? Или я не туда попала? Я хотела, собственно… (молчание) узнать Марья Ивановна, что — переехала? Она здесь больше не живет?
Не сразу Нихилов оттаял. Заёрзал, приподнял голову. Кто бы мог знать чего это ему стоило! Нет, он не посмотрел ей в глаза, он лишь робко осмелился взглянуть на ее руки с цветами и коробкой. О, какие тонкие чуткие кисти, неужели они возможны здесь? Красотища!
«Возмездие! — стукнуло в голове, — это то, о чем он мне говорил. Мысли — чепуха, коробка — чепуха, но она — возмездие!»
«Я сам! Я сам!!» — чуть было не завопил он, но тут способность здраво вести себя волной хлынула внутрь — туда, где всегда на страже то, что отвечает за нормальность и хладнокровие. Нихилов был спасён и свободен. Обрел драгоценный дар речи. Как всякий земной интеллигент, он стеснялся предстать перед красивой женщиной босиком.
— Простите, пожалуйста, — криво просиял он, поправляя ладонью прическу, — я тут недавно… Второй день. Меня поселили.
— А Марья Ивановна? Прежняя хозяйка этой квартиры?
Внезапно он осознал, что теперь она смотрит испуганно. Она безжалостно ела его глазами, да так, что он отчего-то вспомнил Достоевского, Свидригайлова и Петра Константиновича Верховенского, с которыми шапочно познакомился давным-давно в студенческие годы. Потно и жарко сделалось ему.
«Что за красавица! Как она может ходить по этой земле нетронутой, одна, с цветами и… Что у нее в коробке?»
А бедная девушка вдруг побледнела, пошатнулась, глаза ее разом наполнились тем самым извечно-тоскливым пониманием, от которого в одно мгновение немеет тело и холод белого ужаса парализует мозг. Нихилов догадался, что с девушкой что-то стряслось.
«Трагедия? — пронеслось в голове. — Неужели свидание? Обманута?!»
И побледнел. Оставаться безучастным было бы преступлением. Ахать и охать так же. Вячеслав Арнольдович смело покинул настоенное место, прошлёпал босыми ногами по грязному полу, учтиво и официально предложил: — Садитесь, пожалуйста.
И тут же, видя ее безучастность, не посмев прикоснуться к ней, скоренько забежал за кресло, жестами и мимикой стал предлагать присесть. Она повиновалась, деревянно села, машинально поправила платье, поставила на колени коробку, положила сверху цветы. Позабыв о босых ногах и прочих бренных бытовизмах, он опустился напротив на диван, наконец-то ощутил себя хозяином, терпеливо ждал, наполнившись гостеприимным достоинством, барабаня по коленкам волнующимися пальцами.
А ей было совсем не до него. Она всё поняла. Она опоздала. Ей бы чуть раньше, хотя бы на месяц, чтобы попрощаться, когда уже Марья Ивановна…
— Вам, может быть, водички? — он наконец-то сумел улыбнуться. — Это от жары. Посидите, и все пройдет.
Она не ответила. Он решительно встал, вышел, закрыл входные двери, обулся, принес воды. Она выпила.
— Еще? — принимая стакан, участливо поинтересовался он. — Легче?
— Спасибо, не нужно. Я пойду.
— Нет-нет! Вы посидите, вам обязательно нужно посидеть. Вы очень бледны. («На вас лица нет», — хотел было добавить, но вовремя одумался.)
Она кивнула:
— Если вы позволите…
— Ну что вы! Это для меня…
Осмелел Вячеслав Арнольдович. Взял цветы, жестом попросил коробку. Водрузил аккуратно и бережно на стол. Вернулся на диван, спросил:
— Вы, видимо, ошиблись квартирой?
Ей не хотелось объяснять.
— Нет, я к прежним хозяевам.
— Понятно.
На стене висела картина. Захудалая репродукция. В голубой рамке.
Она вспомнила эту «Девочку с персиками» и теперь смотрела в глаза солнечной девочке, пытаясь разглядеть в них упрёк и, может быть, прощение. Старческие глаза… Почему-то ей так показалось. Вспомнила она и кресло, в котором сейчас сидела, и комод в углу. Вот только диван и стол не узнала, наверное, они прибыли сюда уже после того, как… Когда это случилось? Почему ей никто не сказал? Не хотела она плакать, не могла. Суетой сует прожитый год в памяти воскресал. Ничего толкового.
Вспомнила, как с утра в каком-то тревожном предчувствии торопилась, теперь поняла почему, призналась, что давно была готова к этому — еще в тот вечер, когда Марья Ивановна слабым голосом звала в гости. Ведь тот слабый голос сказал ей тогда всё, а она не смогла, не захотела, не успела понять… Или это кажется уже теперь, когда опоздала? Когда навсегда, всё, а жить надо?..
— Вы не выбрасывайте это кресло, ладно? — попросила она вдруг.
Вячеслав Арнольдович встрепенулся, вскочил.
— Ради Бога! Что вы! Вы можете забрать его. Если хотите, я его могу вам прямо сейчас отнести! Одно удовольствие!..
«Что это со мной? Опять? Какое- то неудержание! Какого черта я попрусь по городу с этим креслом? И не дотащить мне его. Килограммов пятьдесят, наверное, если не восемьдесят. А я давно таких тяжестей …Какая-то старушка, сказали, жила. А кстати, я в самом деле не знаю куда эта старушка делась?»
«Ф» -акт, съемно-автоматический, шальной. III класса
(Кабинет во Дворце. Отличной отделки. Духи. И очень странные взгляды. Затем улицы города и тесное помещение. И еще раз это же помещение. Далее краткий обзор.)
— Вам, Вячеслав Арнольдович, надо бы анализы сдать.
— С чего это, Зоя Николаевна? У нас же не столовая. Да я и сроду ничем таким…
— Надо, дорогой Вячеслав Арнольдович. Порядок у нас такой. Коллектив, понимаете ли, единый, здоровье превыше всего, масса зрителей, у нас это как бы в традиции, так что положено.
— А, может быть, мне можно было бы…
— Без исключений. Без! А вам, дорогой Вячеслав Арнольдович, в первую очередь!
«Почему это мне в первую очередь! Чтоб тебя!..» — и Вячеслав Арнольдович согласился:
— Много ли это времени займет?
— Пару неделек.
— Ого!
— Но я вам дам имена, Вячеслав Арнольдович. И записки. Пройдете в экстренном порядке. За три-четыре дня управитесь. Вячеслав Арнольдович разблагодарил за адреса и звонки, и тотчас отправился в эпидемстанцию.
Он шел по улице и с негодованием изумлялся, как это еще могут существовать такие патриархальные, унизительные правила оформления на должность, его бросало в холодный пот, когда он представлял, как нелепо и гадко он будет выглядеть, когда его со всех сторон будут рассматривать какие-то, скорее всего, старухи — щупать, искать на теле прыщи или что там еще. Он старательно припомнил себя раздетого, пытаясь предугадать возможные вопросы тех, кто останется недоволен, ну например, хотя бы его кожей. И он страдальчески вспомнил, что в том-то месте есть два розовеньких прыщика, а в этом царапинка, неизвестно откуда взявшаяся, и засохший фурункул с той стороны, чуть пониже этого самого — на ноге.
«Как же все это, Господи Боже мой, пошло! Дико!»
И Нихилов чуть было не побежал домой, но опомнился. Зоя Николаевна уже позвонила какой-то Катеньке и предупредила, что через пятнадцать минут будет «свой человек», так чтобы Катенька имела в виду и приняла без очереди. И фамилию в трубку Зоя Николаевна яснее ясного два раза прокричала. Да и что куражиться, когда других путей нет?
Пока Вячеслав Арнольдович до эпидем-станции дошел, у него то там, то сям почесываться стало, и живот заболел и еще одно место.
«Вот так идешь добровольно, а найдут что-нибудь скрытое, так позора не оберешься. Должности лишат!»
И не должности, конечно, стало жаль Нихилову. Как человек писательских высот, он презирал должности и градации. Самой ситуации ужаснулся он, той безмозглой нелепости, что с ним через какие-то пять минут может произойти. И смешно и гадко ему сделалось.
Потоптался Вячеслав Арнольдович у обшарпанных, каких-то подозрительно засаленных дверей, покурил сигарету — от чего еще пуще в животе застонало, заскребло (не заболело, у Вячеслава Арнольдовича никогда живот не болел), и зуд по всему телу пошел, Но подбодрил себя Нихилов шуточкой и иронией в адрес мнительных людей, меркантильных душонок и более менее решительно вошел в комнатушку, где толпился утренний народец.
Он для начала поздоровался, но никто не ответил, тогда Вячеслав Арнольдович немного растерялся, и вместо того, чтобы, как им было намечено, пройти к окошечку и спросить Катю, прошептал скромно и сдавленно:
— Хто храйний?
— Я, дорогой, — пробормотала какая-то старушенция объемных величин.
И Вячеслав Арнольдович покладисто пристроился подле нее.
«Вот жизнь, — думал он, избегая смотреть соседям в глаза, — нет, чтобы спросил, порядочного человека: „Скажите честно, вы здоровы, не заражены?“ его подвергают недоверчивым осмотрам. Коновальство и только».
И долго он еще размышлял, негодовал и успокаивался, пока не принял ко вниманию резкий тревожащий зов:
— Нахайлов! Нахайлов!
Звала девушка в белом халате, очень, нужно сказать, безобразно смотрящаяся девушка, а может, и не девушка вовсе, бесформенная, блеклая и роста двухметрового.
— Есть Нахайлов? — обводила она публику равнодушными глазами, потом заглянула в бумажку, которую держала в руках, или Нахийлов?
Нихилов вздрогнул.
— Может, Нихилов? — как можно деликатнее спросил он и покраснел.
— Может быть, и Нихилов, а вам-то что?
— Так я и есть Нихилов.
— От Зои Николаевны?
— Да, да, — мелко закивал Вячеслав Арнольдович. «Как, однако, все быстро кончилось!» — обрадовался он.
— Ну вы даёте! Что же вы? Не сказали, стоите! — Девушка возмущалась лениво, чего-то ждала.
— Ну, давайте же! Где там у вас?
— А чего это его без очереди? Чё он, особый? Надо же — обнаглели! На шею, ироды, сели! Дожились, уж и экскременты сдаем по блату. Тьфу ты, срам! Хад! — возмущалась публика.
— Да уймитесь вы! Чё орать-то! Больной человек, инвалид! Ну где там у вас? Давайте!
Нихилов потоптался в нерешительности. Что он должен был давать? У него ничего не было. Может быть, деньги? Или документ какой?
— Паспорт? — заглянул он в глаза девице с надеждой.
— И паспорт, и какой участок, и куда устраиваетесь, и где проживаете, но это потом. А где ваш…
— Иши ты — инвалид! Парашит, а не инвалид! Ша што боролись?
— За связи, бабуся, за блат! — обрадовался скандалу неопрятно одетый мужчина.
— Где ваш коробок, что вы в самом деле! — выкатила стеклянные глаза девушка.
— Коробо… Нету меня. Я знаете…
— Ну чёж вы, Нэхайлов? Идите и несите! Вы думаете, мы все вас тут ждать будем? Мы за вас вашу работу не сделаем, — и девица захлопнула дверь.
— Во! — возмущалась очередь, — не согласовали! Он, наверное, думал, что тут за него кто-нибудь выложит-наложит!
И под лютый гогот Нихилов, багровый и трясущийся, выскочил восвояси.
Свет померк, остался черный, колючий ком в груди. Как он проклинал и ненавидел очередь и порядки! А Зою Николаевну!.. Зою Николаевну!! ух ты эту Зою Николаевну! Не сказала, не предупредила, отправила на посмешище, так что и в шутку ничего не обратишь. И не переключишься. Быдлятина! А Катенька-то!.. Лошадь, а не Катенька!
Знакомства, звонки! Грош цена таким связям! Лучше бы в очереди постоял, никто бы не смеялся, еще бы посочувствовали, подсказали, где туалет… А потом пропустили бы без очереди. Нет, в обществе без друзей нельзя! А что теперь?
Ничего. На следующий день Нихилов благополучно сдал часть анализов. Кал в коробочке спичечной. Мочу в банке. Правда банку принес литровую. Чтобы еще раз не опростоволоситься.
Поставил банку и коробок на стол, сел, как было приказано, данные свои сообщил.
— Бумагу с коробка дядя за вас снимать будет, ишь как умотал, как бандероль!
— Простите, извините… я сейчас… — Нихилов живо размотал бумагу. — Куда его?
— Чего?
— Коробочек.
— В карман себе, — пошутила вторая женщина в халате, что возилась с пробирками, и громоподобно фыркнула. Нихилов солидарно осклабился.
— Чё, в первый раз, что ли? Не молодой уже, в армии не был, значит, — говорила та, что данные в карточку вносила. — Катя, иди, бери пациента. Шедеврик, а не мущина! Положите вон на стол свой коробочек.
Вышла та самая Катя, оценила стеклянным взглядом, не узнала.
— Входи, тоже мне… шедеврик.
Зашел Нихилов в комнатёнку, Катя коварно (так показалось Нихилову) улыбнулась, приказала снять. Снял. Все что нужно сделал. Автоматически. Не переспрашивая. Забыв себя и вселенную.
— Готово, свободны, одевайтесь! — приказала сзади Катя.
Никогда еще так быстро Нихилов не одевался. Красный, чумной. Вышел, попрощался и пошел, стараясь показать, что с ним всё нормально и никаких неудобств он не испытывает.
«А что, и такая работа почётна, — благородно размышлял Нихилов на свободе, — еще как почетна. Гигиена!»
Идти было несколько щекотливо, неудобно, но зато гора с плеч. Теперь он знает, что там и как там. Раскусил он, что особо никому не нужен, что рассматривать и разглядывать его никто не намерен. Так что лучше пользоваться свободными деньками — ходить, смотреть, осваиваться.
А потом и у кожника побывал и еще сдавал анализы, и еще рентген проходил, и познакомился со многими жителями города — зрительно, в очередях; записи о характерах и типах в блокнот делал, сцены живые вносил — для работы сгодится.
Так что к концу путешествий по анализам многое Нихилов знал о городе и о людях, с которыми ему предстоит жить да жить. И вывод сделал: главное не унывать, места заброшенные; межа еще не распахана, всё в руках человеческих и в руках, если не Господних, то местных мира сего — точно.
Умерла, Вячеслав Арнольдович, старушка. Взяла и умерла.
И предстоит теперь вам жить в этой квартире, где лежала покойница, где провела она долгие учительские годы сидения, чтения и сна. А в ванне вы уже помылись. В той самой, где старушку обмывали-торопились, было, славу Богу, кому проводить женщину, но вы так и не узнаете об этом. И к лучшему. О смерти вам рановато помышлять. Опасно. А то совсем ум за разум зайдет.
Автор, или читатель, или кто там еще (запутаешься тут с вами), вот сидит-думает, с чего это Вячеслав Арнольдович вел себя так странно. Что это он, дескать, запинается, заикается и прыгает?
А всё потому, что смерть из квартиры еще не выветрилась, оставила косая там свое дыхание. Поспешили поселить, и винить тут некого — не хватает жилья, а работать нужно и жить нужно. Об этом и директорша Зоя Николаевна всегда говорит. Потому как сама она очень работящая женщина.
И зажил Вячеслав Арнольдович исправно, деятельно зажил. В пять дней в квартире порядок навел. Блеск и лоск. И холодильник у него появился, и телевизор в прокате взял. Из Дворца ему три стула новеньких привезли, письменный стол и разные мелочи безвозмездно выделили. Большое внимание ему уделили.
Бумагой Вячеслав Арнольдович запасся. И туалетной, и так для письма. А директорша, Зоя Николаевна, так та вообще расщедрилась. Краски и кисточки дала и обои из своих собственных запасов выделила. По-товарищески удружила.
«Хлопочите, хлопочите пока, Вячеслав Арнольдович, — баюкала она (это она здорово и плавно умеет — по себе знаю), быт — прежде всего. Вот устроитесь, и тогда я вас до конца во все дела введу».
Понравился он ей как администратор-мужчина. В глазах читается, что понравился. Серьезный, тактичный, аккуратный, с папочкой, и образованный по последнему уровню. И это сразу чувствуется, на расстоянии. Ко всему прочему рост, нос, стрижка и руки немаловажное значение, для женщины даже определенное имеют. По природе, это и я могу судить, хороший Вячеслав Арнольдович экземпляр. Такой, знаете, маков цвет. Это вам не мои физические данные.
Осваивается Вячеслав Арнольдович. Дворец осмотрел и снутри и снаружи.
Дворец у нас и вправду мощный. Стены огромные. Бетонные. И окна огромные. Квадратное здание, простецкое, как это у нас умеют, крыша плоская и входов-выходов тьма тьмущая. Внутри три зала «Малый», «Большой» и «Зеркальный» — потому что там зеркала в одну стену вделаны, раньше фойе называлось. А на втором этаже холл — «зеленая галерея», вся в цветах и птичьем щебете.
Комнат различных во Дворце видимо-невидимо, три вместительных туалета, гардероб на пятьдесят квадратных метров. Но особенно Вячеславу Арнольдовичу кабинет зама понравился, пришелся по вкусу. На двери табличка металлическая, нержавеющая, золотыми буквами «зам. директора» выведено, а дверь откроешь да войдешь — душа прыгает, сердце тает и поёт. Ковер на полу, стены в дереве, книжные шкафы с мудрыми книгами, стол внушительный, лакированный. Два журнальных столика и три новеньких кресла. А на подоконниках цветы в горшочках (политика Зои Николаевны). Ну и само собой, портреты разные цветные. Благодарен Вячеслав Арнольдович бывшему заму, стараниям его искусным, па повышение ушедшему.
Как в кабинет этот Вячеслав Арнольдович заходит, так себя уважает, не может улыбку погасить, ценит и имя своё, и звание. Деловой и гордый делается.
У директорши кабинет побольше, и стол для заседаний имеется длинный, рядами стульев окаймленный, с вазой хрустальной посередине. Сверкают подарки разные — в шкафах маски устрашающие, шаманские, клыки да кости резные, вымпелы и грамоты. И сама Зоя Николаевна Бернштейн вид достойный имеет, хотя и рост у нее небольшой, и ходит она тяжеловато. Что поделаешь — возраст почтенный, вес солидный, бремя должностное.
Платья на Зое Николаевне всегда из плотной дорогой ткани с всякими затейливыми приложениями, пуговками и погончиками. Любит Зоя Николаевна украшения, слабость у нее такая, серьги и кольца разные в большом количестве у неё имеются. И всё укрупненных величин, соответственно фигуре и занимаемому положению.
В городе госпожу Бернштейн и стар и млад знает, редко кто мимо пройдет, чтобы не поздоровавшись. Никто уж не помнит, когда она Дворец возглавила, когда и откуда появилась в здешних местах. Никто и вопросом таким не задается. Дворец и Зоя Николаевна словно одно целое, одно без другого не мыслимое. Все так и думают, что как Дворец построили, так и Зоя Николаевна вместе с мебелью, рядами стульев, инвентарем, цветами и птичьим щебетом выписана откуда-то была.
Но такое мнение глубочайшее заблуждение. И инвентарь, и разные плакаты, и пальмы в кадках, а в особенности птицы экзотические — конечные результаты грандиознейших страданий и стараний Зои Николаевны. Если взяться описывать, чего и что она претерпела в своих благородных хлопотах, если упомянуть хоть часть ее героических хождений и выколачиваний, перечислить фамилии тех, кто ей способствовал или, наоборот, палки в колеса тыкал, когда она, слабая и беззащитная, приобретала для Дворца разные хорошие вещи, то поэма душещамящая получится, да еще какая поэма! эпос!
Это я вам говорю, не какой-нибудь дилетант заполошный, а самый законный муж Зои Николаевны Пётр Васильевич Глобов. Вы не смотрите, что у меня фамилия другая. Фамилия Зое Николаевне досталась от второго мужа, того самого, что в столице недавно на известной актрисе женился. Хороший человек, оборотистый, мы с ним три раза культурно досуг провели. А моя ей фамилия не по вкусу пришлась, уж больно неопределенная, говорит, фамилия. «Гробоватая». Ну ей видней, она человек образованный, гуманитарный, лекции читает, судьбами вершит. Бернштейн к Эйнштейну ближе, говорит.
А я кто? Сантехник, пьющий к тому же. Что вы! не алкоголик. У меня просто бывают периоды, когда не могу не употреблять. Что-то, знаете, под сердце подкатит, встанет там комом и зовет куда-то, тоскливо и жалостно тогда. Запои, попросту говоря. А так, в обычные дни, недели и даже месяцы, я как все: серьёзен, внимателен и подтянут. На уровне. Не хуже других.
Мы с Зоей Николаевной и книжки разные читали Вслух. Она читает, а я слушаю. Любил она, когда слушают.
Нет, жили мы с ней хорошо, в отпуск она меня три раза вывозила, цветы я ей покупал. Но, сами понимаете, компрометировал женщину. Она величина, а я, чего уж скрывать, и валялся где придется и в мед. вытрезвитель доставлялся. Лопнуло у женщины терпение! Она мне по-хорошему и говорит:
«Живи отдельно, Петя, не сделаться тебе альбатросом».
Она вообще-то любит эти разные сравнения, метафорами их называет. А я и не прекословил, куда уж с ней тягаться — директорша, начальник к тому же.
Устроился я в общежитии, всплакнул, признаться, и с тех пор мы с ней врозь. Одна она решила жить, и дочку свою от первого брака попросила уехать, не получилось у них там чего-то… А мне до сих пор сочувствует, бывает, и почую я по старой памяти, если позовет, и так же сантехником во Дворце подрабатываю на полставки. Потому и знаю Вячеслава Арнольдовича Нихилова. Наблюдаю.
Помогал я ему с ремонтом. Зоя Николаевна попросила помочь. Мы с ним дружненько за дело принялись, благо, период у меня спокойный. Вячеслав Арнольдович наливал, так я даже отказался. Начну, говорю, не остановишь. А он мужчина понятливый, не настаивал, народом меня называет. «Ну как, говорит, народ, дела?», «Ну что, народ, пойдем обедать?».
Долго я там ковырялся, по первому классу Зоя Николаевна велела оформить. Мне соседи про старушку и рассказали. Не стал я Вячеслава Арнольдовича уведомлять, ни к чему ему расстраиваться. Кому нужно, тот ему и передаст. А я, как могу, так и помогу, раз уж попал в паутину эту.
Так… Вот слова пускаю, пускаю, а ради чего весь этот разговор начал только сейчас вспомнил.
Оставил меня, понимаете ли, Вячеслав Арнольдович панели в ванной покрасить, а сам во Дворец ушел. Дверь открытая, чтобы быстрей сохла краска. Я себе потихонечку работаю, спешить некуда. И вот, значить, заходит какой-то мужчина, бесшумно так, что я вздрогнул. И с ходу мне: «Автор я!». И чем-то нехорошим мне в лицо брызнул. Может быть, и не нехорошим, но дурманящим чем-то. А может, и совсем не брызгал, наговаривать на человека не буду.
Но с того дня я только о Нихилове и думаю. Участие в чём-то посильное принимаю. Иногда меня этот автор выловит, заведет к себе и допрашивает (очень, нужно сказать, корректно), и даже планами делится. Туманно, конечно, я суть этих планов понимаю, но мне теперь от них ни вправо, ни влево. Интуиция, как бы Зоя Николаевна сказала. И из-за них-то, планов в частности, не желаю рассказывать Вячеславу Арнольдовичу о Марье Ивановне, опасаюсь, что будет он себя вести страннее прежнего, станет пугаться любого шороха и звука. И хотел бы рассказать по-человечески, да планы…
«Ф» -акт съёмно-сферический, II разряда
(Сначала квартира Нихилова. Потом лестничная площадка. Улица. Прихожая в квартире 36 в доме 61 по улице Безразличия.)
Она вошла первой. Этих двух Вячеслав Арнольдович воспринял настороженно. Не то чтобы ярая агрессивность от них исходила — они при мечтаниях не брались в расчет, явились, как снег на голову; но что-то в них такое… социально неопределенное, что ли.
«Лучше бы одна. Как-нибудь бы до машины дотащил, а там и поговорить бы удалось».
На что он мог рассчитывать? Куда там, он и не рассчитывал, он всего лишь мечтал и воображал. Сегодня она не пугала его, как в день знакомства, и в глаза можно было заглядывать изредка, как бы ненароком… Он вдруг сделался неудержимо разговорчивым, нёс всякую чепуху, улыбался, юморил, был радушен, интеллигентен, и удалось ему задержать их на несколько праздных минут в комнате, может быть, благодаря острому желанию Оксаны побыть здесь еще раз, посидеть там, куда опоздала, оправдаться перед тем, кого уже нет.
Вячеслав Арнольдович говорил и волновался. Неужели счастливые мечтания останутся при нем после ее ухода и будут терзать униженный дух и изнурённую плоть? Неужели всё напрасно? Он неотвязно ждал ее всю неделю, основательно готовился к этой встрече; что только ему не снилось каждую ночь; и мог ли он теперь не показать себя в полном срезе, со всеми достоинствами и талантами?
День шёл на убыль; Нихилов хотел было зажечь свет, но Оксана попросила:
— Посидим так…
Трагик и Комик пристроились на диване, они не собирались скрывать недовольство болтовней Нихилова, уж им-то было совершенно понятно, с чего он так разошелся.
— Я обожаю сумерки. Чудесное поэтическое настроение вызывает умирающий день. Сумерки — это печаль, грусть, время раздумий и итогов. Солнце в эти минуты, словно съеденное яблоко вселенной… Грусть и тоска проникают в самое сердце человека, и человек лишь тогда по-настоящему мечтает о грядущем…
— А еще о чем человек мечтает? — взглянул исподлобья Трагик.
— Что? — вежливо спросил Нихилов. — Извините, я не расслышал.
— О чем еще мечтает человек? — скромно подсказал Комик.
— А к чему, собственно, вы об этом спрашиваете?
Комик отвернулся, Трагик смотрел и молчал. Вячеслав Арнольдович ничего не понимал.
Вячеслав Арнольдович яростно и державно сверкнул глазами. Работяги какие-то! Одеты-то как. Зашли в дом интеллигентного человека, так и молчали бы в тряпочку, такт элементарный проявляли, нет, юродствуют на примитивной волне. Но приходилось терпеть и не такое. Что поделаешь — уровень, социальная неоднородность…
И он снова завёл речь об умирающем дне, о мечте вселенной, о поэзии русского языка и о женщине в нежно-алом. Давно он так не говорил и успевал удивляться лишь поворотам и переливам своей собственной речи.
Оксана не слушала; в этом кресле на нее снизошло сладкое успокоение; после сегодняшних истеричных поучений режиссера, после переговоров с водителем грузовика, после стольких дней каких-то неопределенных волнений и терзаний она почувствовала себя здесь словно дома, пришедшей туда, где ее всегда ждали и ждут, где она нужна и свободна. Полумрак усыплял, накладывал на ее лицо мягкие, беззащитно-детские тона.
«Милая моя девонька, — жалостливое подсознание Нихилову, пока он выпускал заряд красноречия, — знала бы ты, как я тебя понимаю! Приди ко мне на грудь, я исцелю твою душу бальзамом нежности своего трепетного сердца, твое тело воспарит над бренным, величие войдет в твою душу, ты познаешь вечность… Маленький Славик, ты должен признаться, что влюблён в это создание!.. Что за чепуха, ты бредишь… Но она скоро уйдет, а ты останешься один в этой дыре, будешь сосать хлебные корки, пялить глаза в телевизор и сгорать в тоске по ее присутствию. Ты же видишь, ты не можешь ошибаться — она будет твоей, тебе предназначен ее влажный поцелуй, они твои — ее волосы, и ты, наконец, поймешь, выпьешь, выгрызешь тайну ее глаз. Она будет голой! И тогда ты вырвешься из объятий Глеба Инакова. Это он ее напророчил! Он ее подослал!»
«Странный поворот! — шепнуло контролирующее сознание, — убрать Глеба, немедленно убрать! Причем здесь Глеб? Подослал! Что за чушь!»
И ковырнувшись в подсознании, Нихилов очистил его от шальных мыслей, ненужных фраз.
Вперед! Только вперед! Ясности и трезвости чувств! Ради высшего, ради святого, ради ближнего и гуманизма!
В это мгновение Оксана посмотрела на него. До нее дошли обрывки его речей.
— …Человек приходит и уходит, а сумерки вечны. Мы рождены для поэзии, мы Сыны и Дочери вдохновения Вселенной, и как трагично, что мы тратим жизнь на добывание пищи, истребляем себе подобных из-за ничтожного куска хлеба! Сумерки рыдают, входят в наши души, они умоляют нас любить, любить…
Разошелся Вячеслав Арнольдович, обычно предпочитал кивать, междометничать, чтобы ненароком не зарапортоваться. А тут — накопилось.
Он остановился, чтобы набрать в легкие спертого комнатного воздуха, но, увидев ее глаза, сник, потух, потерялся. Она спокойно улыбнулась:
— Интересно.
Он открыл рот, воздух вышел, а слов не было. Он понял, что выдохся. Какая-то сила выкачала из мозга оставшиеся мысли.
— А машина нас ждет. Взяли? — поднялся Трагик.
И двое понесли кресло. В дверях Оксана обернулась. Вячеслав Арнольдович усиленно растирал вспотевшую шею, его мучило удушье. Он проигрывал, он понимал, что проигрывает, но ничего не мог поделать с этой треклятой, неизвестно откуда свалившейся болезнью, которой и название-то не придумано.
— Я вам так признательна. В тот день вы поддержали меня. Спасибо вам.
— Э…к-ха…
— Вы не могли бы… Словом поедемте с нами, если, конечно, вам удобно. Я приглашаю вас в гости.
Вячеслав Арнольдович, хоть и желал этого, но всё равно был захвачен врасплох, а тут еще отчего-то самопроизвольно замороженное состояние включилось. Защитный инстинкт зачем-то сработал — пробки выбило.
Он погибал, терял шанс так бездарно. Мутным, слезливым взглядом смотрел на нее, бессильный произнести слово, наконец вышел из положения, напрягся, закивал мелко и часто, бросился за пиджаком.
— Мы подождем вас внизу, — сказала она и вышла.
К нему тотчас же вернулись атрибуты здравого смысла: анализ и расчет. Схлынула тяжесть. Легкость обрёл. Удивляться времени уже не оставалось. В две минуты оделся, оглядел себя в зеркале, ринулся вниз по лестнице.
Комик и Трагик негодовали. В душе, конечно. Их настроение его позабавило.
«Завидно работягам. Еще бы — им такое и не снилось!»
Доехали на удивление быстро. Когда кресло сгружали и несли в квартиру, Вячеслав Арнольдович осмелился давать различные указания, проявлял заботу об обшивке, о крашеных стенах в подъезде. А один раз даже возмутился: «Ну что вы в самом деле! Аккуратнее попрошу!» От его голоса у Трагика сводило челюсти и появлялась дрожь в ногах. Комик не выказывал особых признаков раздражения, нёс себе кресло и всё.
«Вот она — звезда пленительного счастья! Чистое, чистое — вспоможение! Воспряну! Вдвоём, вдвоём! Наговоримся! Милая старушка, ты соединила две судьбы, дай Бог тебе здоровья на новом месте! Не будь этого затёртого кресла, не видать мне ее, как своих… Стоп! Я даже не знаю, как ее зовут. Вот это номер! И кто она, и с кем живет…»
Сонм обидных подозрений оглушил его, подавленный и скромный вошел он вслед за всеми в квартиру, остался топтаться на пороге, подслушивал, как она распоряжалась:
— Мальчики, аккуратнее его. Сюда, к стеночке. Так пойдет. А тот столик придётся выбросить. Давай, Толя, выстави его пока на площадку. Раздевайся, Коля, сейчас я чай поставлю.
Толя, проходя по коридору, больно таранул Нихилова в бок, грохнул стол о бетон, вернулся в квартиру, плотно закрыл за собой комнатные двери.
«Вот тебе и работяги!»
Нихилов не сумел даже пошутить по поводу этой нелепой ситуации. Он поторчал минут десять, слыша только своё учащенное дыхание, закрыл дверь, подождал чего-то и медленно побрёл по ступенькам вниз, втайне надеясь, что его еще окликнут.
Спускался, чистосердечно удивлялся самому себе, подозревая, что с ним была разыграна жестокая и обидная шутка.
«Хотя, — почти верно предполагал он, — не могла же она добровольно и зло забыть, что сама лично позвала меня к себе?»
Теперь ему мечталось побыстрее освободиться от этой истории, уйти во что угодно и, может быть, с кем угодно. Он боялся самого себя в этом состоянии, потому что всегда брезговал влипнуть с размаху в какой-нибудь медицинский анекдот.
«Работа и еще раз работа — вот что меня спасёт!» — ускорил он шаг, приводя в должный порядок все закоулки несколько ошарашенного и сбитого с толку сознания.
Точечный съём — I
(Аналитич. порт. сист. «Ж-Д-6» — 1. Правое полуш., уч.31, точ.86, сила съёма 45 крит. ед.)
Ой как бежит! Никогда так не бегал. Легкие засыхают. Сердце по телу пламенем растеклось. Боль и глаз в затылке. И видит этот глаз — погоня!
Кто — кого! Кто — кого!
Не успеют!
Успеют, и тогда!..
Не успеют. Дворами, дворами уходить!
Наперерез! Пока они объезжать будут!
Пока они объезжать будут. Пробежать знакомыми дворами, родными, заскочить в дом. Ключ в дверь — хоп! и запереться. В комнату. В комнате в третьем ящике справа! Сверху третий ящик. Снизу — второй.
Сжечь! Сжечь!
Запереться в туалете. Сжечь. Пусть дверь ломают. Ворвутся, а тлеет, пепел один.
Успею! Бог не допустит! Успею!
Хоп! — и ключ в двери поверну.
Дворами, дворами.
И бежит дворами, вдоль заборов странно высоких-красных. Не было их здесь раньше. Не помнит их. И бежит.
Бежит. Успеть бы. Улицу перескочить, и дом там.
Улицу перескочить. Хоп! ключ повернуть. И пусть видят. Дверь — щёлк и звоните, сколь влезет. Ха-ха-ха! Ой, хо-хо-хо!! Не достанут! Дёрг-подёрг, а огонёк листики долизывает. Накосите-ка!
Накосите, съели дырку от бублика! Хо-хо! Хо-хо!
Ученый теперь, знаю, что делать!
Не пройдут штучки коварные.
Оторвусь! Оторвусь, успею! Обязательно!
Туки-туки-там, улица пустынная. Успеть бы — мысль одна единственная. Нет больше мыслей, и не будет, пусто в голове — смысл жизни в мысли этой. Цель и единственное призвание. Назначение. Рай! Ради нее родился, рос, учился и жил — успеть бы! Огонёк запалить. Чирк и всё! Радости-то, радости! Пусть у них пена на губах. Злоба в глазах. Опарафинились. Пусть!
Успеть бы! Мать, помоги! Отец, помоги! Самое-самое, что родило и подняло меня, помоги!
Не было ничего! Снилось. Не со мной. Не было! В первый раз бегу, в первый раз несчастье горькое, беда невиданная за спиною. Выручать нужно! Обязан!
Выручу! Шёл к этому, рос для этого! Примеров знаю много-много. В них смысл и поддержка, в них спасение от несчастья, от порока, от души…
Ох-ох, где они, хитрые, алчные, расчётливые? Улица! Шаг, еще шаг. Не шаги это, прыжки это! Силы благородные.
Не было порока! Не будет несчастья. Будет огонек и очищение. Запах бумаги. Дымок. Лёгкость будет. Тяжесть уйдет. И смех придет.
В лицо засмеюсь! В глаза их бесцветные — нервно, свободно.
Наравне буду. Спокоен, твёрд и уверен. В себе. В правоте. Оглянусь — и не стыдно! Чисто всё.
Успеть бы!
Дочери в глаза взгляну — вот твой папка! Ясный. Нет, сын у меня, сын! Наследник!
Успею! Двери распахну, люди, — чистый я! Ясный! Полный! Нужный! Гордый!
Успеть бы!
Руки мои вам! Сердце!
Широка улица! Дома высокие. Крик долгий: «Пе-рес-ту-у-пи-и-и-…»
Потно от крика. Кто бы это? Сам ли?
Глаз в затылке не видит погони. Отстали. Плутают.
Вот они!
Уходить. Рывок! Людей, толпу расталкивая, прочь!
Рывок! Рывок! Сигналят! Тормоза скрипят! Ну!..
Двери. Жар в груди. Высохло всё. Легкие плавятся. Сердце хрипит. Глотка опухла. Успеть бы!
Глаз зрит, улавливает — вот они выскакивают! Не дамся!
Господи, ноги! Предатели ноги! Слабость. Лестницу не одолеть!
Ползи! Успеть бы, вот в чём смысл. Так, так…
Ползи!
Кто косо посмотрит? Не было ничего! Жил. Как надо. Не преследовал. Жил! Успел! И сына и дочь вырастил. Вон они какие! Будет это, будет…
Успеть бы!
Встать! Руки трясутся. Ключ, ключ. Повернуть. Шаги внизу. Повернуть и огонёк! Дымок пахучий! Спасительный. Успеть бы! В третьем ящике сверху…
Так, шаг. Вот! Бегут! Хрипят «Стой!» Не-ет! Навалиться, закрыть! Замок — щёлк! Всё!
В комнату! К столу! Через себя, через всё! Во имя! Ноги-ноги! Сердца нет! Калека. Легких нет. Глаза лопнули. Ощупью, ощупью. Вслепую! Довести, исполнить!
Успеть бы!
Туалет, спички, ну!..
Шаг, еще шаг. Свинец в ногах. Лицо пылает.
Успеть бы!
Простит. Поймет! Выхода другого не было — выручал! Еще посмеемся вместе. И выручил! Навсегда простит. Равный буду! Не было, не было!
Успеть бы!
Сжечь — и радоваться. Вместе будем!
Успеть бы, сжечь, сжечь!
И снова вдоль странных высоких-красных заборов бежит, задыхаясь, и снова мысль всё та же преследует, бьётся и раскалывает мозг на части: успеть, успеть бы, сжечь, чистый, шаг, еще шаг, дверь, замок, стол, ящик, туалет, спички, огонёк, забор, бег, спички, дымок — и вновь по кругу беспрестанно.
(Глубина сокрытия — 28 чисел многообразия.)
«Ф» -акт съёмно-проникновенный-глазной, II класса
(Комната в квартире по улице Площадной. Шторы задёрнуты, полумрак. Большое количество сувениров на полках, на столиках и по стенам. Отличные разнообразные книги. Ковры и палас. Хрусталь, цветы и шикарная люстра. Цветной телевизор не работает. На столе пустая бутылка из-под редкого, желанного многими вина, фрукты и конфеты. Две хрустальных рюмки, горка цветастых журналов. На кресла брошены великолепные халаты и прочее импортное белье. У шикарной кровати две пары тапочек. Пахнет перепревшим жасмином и взглядами изголодавшейся нежности. Послеобеденное время.)
Как-то все само собой вышло. Безотчетно.
Три дня его съедали страсти, три дня мозговые клетки оперативно формировали и представляли для внутреннего обозрения картины. Одну хлеще другой. Четвертую притягательнее третьей. Разум отказывался что-либо предпринимать по вопросу гашения инстинкта.
Поначалу Вячеслав Арнольдович сопротивлялся, подогревал или усыплял подсознание раздумьями о социальном. А затем сдался. Используя последние усилия анализа и расчета, он, как в тумане, всё же успел осознать, что город этот и эта местность как бы под чьим-то контролем, и чудилось ему, что чья-то темная сверхвласть вселилась в его плоть, парализовала волю, и вот поэтому он вынужден лежать рядом с ней, слушать ее надсадный храп, вдыхать гадкий спёртый воздух (боязнь сквозняков) и запах жасмина, что ли… черт возьми эту мистику! Когда он проделывал с ней то, что она хотела, его преследовал этот приторный запах, возбуждал и, вероятно, благодаря ему он чётко сумел произвести всё… что требовалось. Суровые перипетии!
Мёртвый город. Он думал, что хорошо бы выбраться отсюда, навсегда, куда угодно, хоть бы в дебри Амазонки. Подумал лениво, заранее зная, что выбраться ему не под силу.
«Фатум? Или Глебов комплекс? размышлял он, отвернувшись от нее. — Так или иначе, а жить нужно. Каждый раз таким, каков ты есть, у каждого свои прегрешения вот он — трагизм рождения и попыток переделать человека. У каждого свои склонности, все разные. В принципе, нужно уметь всё трезво испытать. И это? Да, а что, и это тоже. Все мы люди, и нужно любить ближнего своего. И тех двоих, что несли ей кресло. И я люблю. Эту?.. Разве я виноват? Меня заставили! Природа, этот город, люди, Глеб… Что я ему сделал плохого? Почему это я должен был ради чьих-то подвигов собственной судьбы лишаться, вовлеченным числиться, когда я тогда еще сам не раскрылся и не воплотился? Меня спросили, и я честно и открыто рассказал всё. А что скрывать? От кого скрывать? И не посвящен я был. Рассказал бы кто-нибудь другой. Тем более, что сам он уехал и не собирался возвращаться. А я тогда молокосос был и не понимал всего, меня не посвящали. Сами виноваты. Что видел, слышал, то и изложил. Нет, это не предательство. Я никого не предавал!»
Механизм всплывшей совести заработал в полную силу. Он бы разошелся в своих мыслях не на шутку.
Она приподняла голову, толкнула его в бок:
— Что ты сказал?
Он мигом загасил бесконтрольное мышление, притворился спящим. Это у него всегда здорово выходило. Индийская закалка. Раз — и ни один мускул не дрогнет.
Поворочавшись, почесав где-то под одеялом, она глубоко вздохнула, упала на спину и мерно с присвистом задышала.
«И это переживём. Аскетизм длился полгода. Полгода ни пальцем, ничем не трогал. Не каждый может так. Но должен же я в конце концов!.. Тем более я так устроен: чем дальше во время, тем энергичнее, способнее. Это достоинство! Другие порядком выдыхаются к моему возрасту. А мной довольны. Вот, пожалуйста, — спит. А я еще способен мыслить. Бодрствую, как Оноре де Бальзак. Тем паче, всё это для содружества. Оно очень кстати. Монолитное правление, и если с умом быть, то можно стать первым. Не для тщеславия! На кой ляд оно мне? Элементарное лидерство. Для свободы. Чтобы куда хочу, туда и иду, то и делаю. Я итак должен быть первым, куда уж ей! Но жить умеет, умеет! И не без интересов. Лермонтов, Пушкин, современные лидеры. Хватка есть. Подкину ей свои вещи!»
Он с удовольствием вспомнил упакованные пачки журналов, четыре альманаха, одну брошюру, одну книгу. Во всех этих изданиях его труды. Самый ценный груз жизни. Смысл. Жалко, жалко, что каждое издание в десяти экземплярах. А теперь и того меньше. Но больше он привезти не мог, не контейнер же заказывать. А было в двадцати, тридцати и даже сорока. Экземпляры он берёг для друзей. Настоящих и будущих. Экземпляры — его опора, сила, могущество. Без них он давно себя уже не мыслил, труды все-таки… С ними по жизни идти веселее, сподручнее. Экземпляры — поступь. Они и здесь сослужили хорошую службу, пять из них уже осели в личных библиотеках и служебных столах новых друзей. Ах, как обидно, что он не успел закончить последний труд! Самый-самый! Враги и завистники. У людей творчества их хватает. А ведь уже брали с руками и ногами, торопили… Ничего, это, может, и хорошо — темы севера, востока. Ничего, со временем откроется вакансия в здешнем издательстве, намёк уже был дан. Потом — кооператив, отставка, есть кое-какие материальные резервы, творческий труд… А больше Вячеславу Арнольдовичу и не нужно. Для смысла жизни хватит. О большем настоящему труженику пера и слова мечтать зазорно, ни к чему мечтать. Имя какое-никакое, друзья в граде-Китиже (не все же отвернулись) остались, а опала временная, тем паче незаслуженная опала, клевета и зависть посредственных и сереньких людишек. За пострадавшими за правое дело всегда в итоге шли. Прошлое-то причем? Недостатки и ошибки уходят, приходят достоинства. А настрадался Вячеслав Арнольдович порядочно.
«Подзакусить бы, — продолжал мыслить Нихилов, — у нее хоть поесть можно. Эти консервы мне язву бы обеспечили. А столовки!.. Нет, ну нет, теперь я спасён!»
Осторожно, закусив губу, он выпростал ноги из-под одеяла, и только было прикоснулся к ворсу пушистого коврика, как сильные пухлые руки обвили его шею, похолодевшей от неожиданности спиной он почувствовал влекущий жар ее груди, едкий пододеяльный запах разом врезался в ноздри, прогнал по коже молниеносную дрожь, и не в силах сдержать восставшую страсть, взогретый Нихилов ослеплено ринулся всем весом в тёплое и живое, жаждущее и трепещущее. И всё-таки он успевал думать, что она требовательна и сильна оттого, что он ее последняя добыча, отрада, везение и награда за дни одиночества и мечтаний… Вечный двигатель, а не мозг!
Измученным, мокрым и бледным выбрался он из постели, добрался до холодильника, присосался к бутылке минеральной.
— Вячеслав, шепнула она слабым голосом, — Вячеслав, я умираю, так хочется есть.
Он накидал в тарелку всякой всячины, налил по фужерам вина, они устроились в ворохе подушек и в десять минут уничтожили высококалорийную еду, не проронили, кроме жевательных, ни звука.
Закусывая и запивая, Вячеслав Арнольдович ненароком заметил, что ему не очень-то приятны ее белые пальцы, нижняя челюсть и рот, но эту физиологическую неприязнь он ликвидировал в считанные секунды, проманипулировав включением и гашением разных областей, участков и закоулков своего недремлющего мозга.
Она управилась быстрее его и теперь с блаженством наблюдала, как он деловито обгладывает кость.
— И почему все мужчины так любят высасывать мозг? — утвердительно спросила она.
Он мгновенно замер, пожал плечами, а про себя подумал:
«Причем здесь все мужчины? Я сам по себе мужчина».
— Милый мой, — говорила она через полчаса, раскинувшись в кресле, — ты подарил мне гармонию. Ты мужчина демонического типа. Ты неутомим, такого я еще не знала. Ты, словно мальчик! Подобные тебе — истинное счастье для женщины. Ты поэт в любви.
Он скромно хохотнул, потуже затянул пояс халата, посчитал своим долгом ответить взаимностью.
— Не приукрашивай меня. Я прост, как валенок. Уж если восхищаться, то только тобой. Ты сохранила истинную молодость. Ты не уступаешь выпускнице десятого класса. Какой заряд эмоций! Гетера!
Такой комплимент она и ожидала услышать. Теперь можно было поговорить об ином.
— Ты обещал мне принести свои произведения. После твоих рассказов об этих диких прекрасных племенах у меня родилась великолепная идея. А не почитать бы тебе лекции на подобную тему! У тебя повествовательный дар, отличная дикция. Дорогой, это преступление — растрачивать талант попусту! Я уже всё обдумала, слово за тобой.
Ему даже не пришлось начинать самому! Он побагровел от ее находчивости.
— О, ты богиня! — воскликнул он и упал на колени, — мне остаётся повиноваться тебе!
Она нежно гладила его волосы, щекотала мочку уха, игриво щёлкала по носу. Он положил окрыленную голову на ее теплые ноги, принимал ласки, обдумывал лекции.
Потом они говорили о великом поэте Лермонтове, жизнь и творчество которого она изучила вдоль и поперёк. Она пела поэту страстные гимны признательности и единомышления, с серьезным вдохновенным лицом читала его стихи, со знанием дела пускалась в философские размышления, коллизии и интриги, потрошила и проклинала убийцу Мартынова (застрелившего поэта на дуэли), создавала образ титана-мыслителя, поэта-мученика…
День угасал, когда она выговорилась, но начал он, о Древней Руси, и чем дальше говорил, тем чаще ловил ее огненные притягательные взгляды, так что сам не заметил, как очутился в ее требовательных объятиях, как, вдохнув уже привычный запах жадного тела, вновь обрел полноту власти и сладости.
Вы думаете, будучи посвященным во всё это дикообразие, я начну обвинять или злорадствовать? В позу оскорбленного достоинства встану? Нет, любимые мои, — кто бы вы ни были там или здесь, не моя это забота. Я не погорелец, мне незачем ковыряться в холодном пепле, выискивая оплавленные крупицы добра. Миссия моя иная, участь почти дерзкая, роль моя — Трагик. Толей меня зовут, а суть моя — трагичная. Вот будь я трагикомичной личностью, тогда бы состоялся иного качества разговор, тогда бы я вам показал, черт возьми, физиономию и седалище человечества!
С присущими мне свойствами и определенной автором ролью я могу обрисовать лишь контуры того, откуда низвергается чад и пепел — будущая почва для возможного великого Царства Вселенной. Дана мне такая поблажка.
Не знаю, кто он такой, откуда взялся и чего добивается. Собственно, меня это и не интересует. Я им доволен. Слышите?! Пока он умело избавляет меня от скуки и даже даёт возможность — проявлять кое-какие сокрытые во мне таланты, те, о которых я и сам ранее не подозревал.
Называет он себя автором, но сдается мне, что никакой он не автор, а низкосортный инопланетянин, исследующий мозговые, физические и моральные свойства современного землянина. Ценности, если хотите. Ну если не инопланетянин, то что-то в этом роде, либо еще хуже. Князь заоблачной информации. Хотя эти версии почерпнуты мною из современных фантастических произведений, так что сам я не очень-то в них верю, и по-прежнему остаюсь в неведении.
К тому же, внешность у него… ну как бы сказать… умственно отсталую напоминает. Роста он маленького, метр сорок девять, лысый, волосатый, кожа — то ли зеленоватая, то ли коричневатая, иногда одного глаза нет, а говорит исключительно точно, чётко, властно, уверенно. Вот за эти последние качества я его и уважаю, а так, когда молчит, — Квазимодо с примесью Черномора и повадками Ричарда Третьего.
Только все это никому ненужная болтовня! Я не из-за этого сюда вклинился.
Рассказал мне автор-аферист одну историю. И не то чтобы правда, и не ложь… одним словом — легенда. И так он искусно ее рассказывал, так она на меня подействовала, и я теперь проникся ею настолько, что хожу и только о ней думаю и живу ощущением ее, героями ее, стал, так сказать, Трагиком поневоле. Чушь!
У меня руки в нетерпении чешутся, хоть и писать необязательно. Выпишу! А то ему всё Нихилова, да Нихилова подавай, а на… мне этот Нихилов?
Прямо и не знаю с чего начать.
«Жил один человек.
И рождение, и детство, и юность, и судьба его были трагичны. Сердце и разум этого человека всегда были полны мрачных мыслей и тревожных чувств. Страдал человек. Бедствовал. Несовершенство мира несло ему горечь и тоску. Болел человек за страдания людей, за муки истязуемых, за слезы матерей и детей, за голодных и гонимых, за несчастья всех и каждого.
Готов был без промедления прийти на помощь, обогреть сироту, ухаживать за больными и уродливыми, работать дни и ночи без сна, если это требовалось для ближнего.
Много добрых дел совершил человек. Спасал, излечивал, кормил, утешал и был примером и ангелом-хранителем для тех, кто его знал, кто о нём слышал.
А мир уже полнился слухами нём. И создавали о том человеке легенды, одна прекраснее другой, и называли того человека Мессией.
Хорошо знал человек людей. Потому что сам был не раз бит и унижен. Потому что сам был не лишен человеческих пороков и телесной слабости.
И потому бежал человек от поклонений, сливался с толпой, и все реже помогал людям, все неохотнее делился с ними мыслями и знаниями.
Понял он, что невозможно единичными благородными деяниями оградить людей от бездны несчастий, вывести их из нищеты, отучить от пагубных привычек, раскрыть им глаза на любовь и мудрость. Понял он, что все его прежние усилия были лишь тщетной возней муравья-спасителя, стаскивающего себе подобных в охваченный пламенем муравейник.
Безумен сделался человек. Насмехался над своими учениками, над их стремлением к добру. Отрицал любые идеи обновления мира, в котором, как уверовал он, продолжала и будет продолжать проливаться кровь невинных и негодяев.
С каждым новым закатом солнца всё яростнее погружался он в трясину пьянства и разгула. Леность и равнодушие съедали его. Ни веселые песни, ни всеобщие празднества не ласкали и не радовали душу его. И душа его отныне была полна холода, злобы и тоски.
И никто уже не сомневался, что умрёт он, как бешеное, смертельно раненое животное, захлебнувшись собственной слюной, желчью последних проклятий, изрыгаемых ненавистному, пропитанному похотью и страданиями миру. Умрёт, не оставив следа и памяти.
И было бы всё именно так, если бы не суждено было тому человеку случайно услышать о великой находке Огненного Слова…»
Пропади он пропадом, этот автор-интриган!
Зовет меня с собой, прерывает, и ничего поделать не могу. Только разошелся, а тут… Волюнтаризм какой-то! Самое ужасное, если он вздумает прервать легенду на этом самом месте. Это было бы с его стороны великим свинством. А вы полистайте, посмотрите, соизволит он мне или еще кому досказать прерванное или нет, вот ему и будет неприятность — какой же автор любит, чтобы его читатели забегали вперёд! Сделайте ему, ради Бога и меня, такой анонсик-прикольчик, пусть его честолюбие повибрирует.
А это — как вам угодно —

«Ф» -акт съемно-звуковой, последовательный. Штучного разряда
(Предобеденное время. Многие улицы города. Площадь перед большим зданием. Лица, лица и машины. Обычный трудовой день.)
По улице мчатся автомобили. Три. Впереди маши………….
того цвета. Позади такая же. Из динамика первой………….
ная речь. Услышав ее, прохожие и машины оста……………..
к обочине. В середине, черного цвета, прива……………………
тым затылком, сидит Мурлин-Нурло, тот………………………..
ловым, которые расположились на за……………………………….
— Пишите лаконичнее, друг……………………………………….
рло, — в нашем деле важны фа…………………………………………..
— Чтобы нам доказат………………………………………………….
не поддаваться эмоция………………………………………………………
— А грехов у…………………………………………………………………
да и засиделся……………………………………………………………………
озел.
— Хо……………………………………………………………………
и нам и………………………………………………………………………
с вам…………………………………………………………………………
чёр……………………………………………………………………………
— Вс………………………………………………………………………………
когда жить хо………………………………………………………………………
— А вас никто………………………………………………………………… ……..
и не такое случает…………………………………………………………………
конечно через Станис…………………………………………………………
вы и сами должны сообрази………………………………………………
Бумажный директор задума………………………………………
ла совсем ни к черту, а тут еще этот про………………………………
— Ладно, — сказал он, — а если я вас поста…………………
в этом году, то…
— О, милый мой! — игривым, а вместе с тем и победным тоном пояснил Нихилов, — причём здесь план! Срочно, понимаете!
— И если я, то…
— То вы будете как всегда чисты, и Пиастр Сивуч и Станислав Измайлович просто напрасно будут думать о вас как и прежде, будут считать вас порядочным и никогда не узнают, как вы…
— Я прошу вас! Не продолжайте! Вы мучаете, вы терзаете меня!
— Так как же?..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
«Ф» -акт гигантичный, многоранговый, романный
(Дом лучшей планировки. Квартира трёхкомнатная. Комнаты изолированные. Туалет и ванная отдельно. Мебель импортная. В зале — «стенка», экибана, всемирная литература, альбомы с репродукциями, цветной телевизор, фотообои. Бара нет. Спальная красной драпировки. Стены розовые, шторы малиновые, ковры красные, покрывало багровое, тюль нежно-розовая, дорожки алые. Кровать отличная, трехспальная. По стенам репродукции Пикассо, Рубенса, Рериха. В третьей комнате кровать односпальная, куклы, коллекция машин, пианино, импортная стереосистема, стол, заваленный книгами, запахи мечты и дурмана. Кухня люкс, такое редко увидишь. В туалете и ванной блеск и лоск, японский кафель, цветные унитаз и раковина. В комнатах и прихожей пахнет духами и ожиданием. Время ужина.)
В этом доме двери сегодня не закрываются с шести до семи часов вечера.
Раз в месяц по субботам в этот часовой промежуток земного времени региона Восток-Север 31 квартира Анжелики Пинсховны Намзагеевой постепенно наполняется разнополыми гостями. Ими займутся чуть позже. Их пока нет. Короткая стрелка часов застыла в районе цифры «четыре». Хозяйка дома и ее лучшая подруга — секретарь-машинистка одного очень известного начальника — ведут на кухне за мытьем праздничных импортных сервизов любопытный (для подслушивающего через вентиляционное устройство, верхнего соседа Намзагеевой, бывшего соседа Нихилова, пенсионера Высокой Квалификации, прибывшего в вышеобозначенный город два месяца назад по будто бы таинственно-дикой, несуразной прихоти) и неторопливый разговор.
— Ты точно рассчитала, хватит на всех пирожных?
— Хватит, исходя из расчета три на двоих. Кто-то съест два, кто-то три, кто-то одно, тогда кто-то может позволить себе и пять. Будут еще и два торта и три килограмма шоколадных конфет. Катька должна вот-вот принести.
— А он будет? — набралась смелости Жанна.
— Будет, твёрдо успокоила Анжелика Пинсховна, — его Бернштейн приведёт. Обещала. А если она обещает, то, сама знаешь, слово держит.
— Анжелочка, милая, мне не хотелось у тебя спрашивать…
— Ну?
— Но ходят слухи…
— Ну-ну?
— Будто она с ним…
— Сейчас же выбрось это из головы! Ну сама подумай, дурочка, он человек молодой, энергичный, интеллигентный, а она… Да что там говорить! Завидуют их творческому союзу, блестящим лекциям, дружбе в конце концов. Ты тоже — поверила! Ей все-таки пятьдесят, да и внешние данные не для него. Стал бы он мараться! Нас вон — пруд пруди.
— А будто ее Глобов говорит…
— Чепуха! Глобов! Он говорить-то умеет?
— Ну, а вот говорят еще — от него жена ушла?
— Не слышала и слышать не хочу! Сплетни. Вспомни, что обо мне несли, когда у нас с Митей началось.
— А кстати, — оживилась Жанна, — Митя будет?
— Ну ты же знаешь, он приходит одним из первых. Сегодня уже заходил.
— Вынюхивал? У вас все по-прежнему? Нет, Анжелка, я не собираюсь тебе давать советы, но три дня назад я видела его с какой-то дамой, очень ничего себе… Тебе бы неприятно было, если бы ты знала, что он живет с другой и рассказывает о тебе интимное? А сам всегда здесь. Странно это. Что, у него самолюбия нет?
— Жанна, ты сегодня задаёшь ненужные вопросы. Ты же знаешь, в субботу двери открыты для всех наших друзей. Дмитрий их всех отлично знает, они ценят и уважают его так же, как и меня, и наши личные отношения не имеют в этот день никакой силы. Если он поступил со мной, как… — ее губы задрожали, — свинья, то это не значит, что я ему буду мстить, как последняя мещанка. Он же поплатился сам своей собственной совестью, осознаёт и даже спрашивал у меня, может ли у нас начаться всё…
— Да ты что?!
— А я разве тебе не говорила?
— Ну-ка, расскажи, расскажи!
— Да что тут рассказывать. Я ему отказала.
— Ну это само собой, а он?
— Он, — Анжелика Пинсховна выпрямилась, ее лицо приняло черты каменной решимости, — этот человек упрекать начал, говорил, что я его предаю. А как же ты, голубчик, хотел!
— Как же ты, развратник, хотел! Тебе можно, а жене нельзя! Юбочник!
Чувство глубокой солидарности взволновало пылкую Жаннину натуру. Не сходя с места, она дала гневную отповедь бывшему мужу Дмитрию, требовала добиваться развода и брать от жизни все, что полагается умной, поэтичной, современной женщине.
— Ты сколько для него сделала, потратила на него годы, воспитала дочь, отказывала себе в любви, а он что тебе дал? Только в постели и был хорош (терпеливый Певыква чуть не брыкнулся со стула от изумления и восторга). Ты и теперь столько терпишь, я тебе удивляюсь, в медицинском отношении так нельзя… Я, конечно, тебе не советчица, но гнала бы ты его в три шеи отсюда!
— Ты забываешь, что он здесь прописан, и квартира на его имя.
— Вот поэтому надо действовать немедленно и активно! Видела бы ты глаза его новой подруги. Такая и тебя и дочку отсюда выживет. В два счёта.
Анжелика Пинсховна погрустнела. Неужели все-таки придется делить жилплощадь? Нет, она сумеет что-нибудь придумать. Друзья помогут, а в крайнем случае можно будет принять предложение мужа. На принципиальных условиях. Не забыл же он, что между ними было, что есть дочка, кто такая сама Анжелика и что она может, имеет…
Они дружно управились с сервизом и (к глубочайшему неудовольствию Певыквы — он не успел именно туда пробуравить маленькую дырочку) перешли в залу.
— Ты знаешь, призналась Жанна, он несомненно тот, кто мне нужен. Он идеал. Со школьной скамьи мое воображение навевало образ именно такого мужчины. Я так долго его ждала! Мне не везло, ты же знаешь, как я доверчива.
— Я думаю, ты ему понравишься, — чему-то улыбнувшись, подбодрила Анжелика Пинсховна.
— Робею я перед ним. Никогда со мной такого не было. А он будто не замечает.
— Тебе нужно поговорить с ним о фольклоре.
— Да что я в нём понимаю! — ломала пальцы отчаявшаяся влюбленная.
— Я тебе помогу. Кое-что сама расскажу, дам книгу, войдешь в суть дела. Да и сегодня слушай его внимательно, он же будет читать лекцию. Настройся и слушай. Не думай, ты ему обязательно понравишься. Меня другое беспокоит придёт ли Ударный? Если его не будет, то весь вечер полетит насмарку… Нихилов и Зоя Николаевна это хорошо, но Ударный! Многие из-за него только и придут. Представляешь — истоки русского языка, рассказы о поэтах, живой молодой поэт, обсуждение — вот будет масштаб и насыщенность! Как бы это было великолепно! Только бы он пришёл! Я всё-всё ставлю на этот вечер — свои мечты, надежды, будущее. Отныне к нам в Гостиную потянулась бы вся творческая интеллигенция города! Эта квартира стала бы интеллектуальным центром, духовной сокровищницей… После неудачных, говоря откровенно, серых вечеров многие перестали ходить сюда, но теперь лучшие люда города пойдут к нам! Ты увидишь, Жанночка, не зря было потрачено на это благородное дело столько сил, отдана, можно прямо сказать, вся жизнь. Не зря не было у меня семейного счастья ради такого дела можно отдать какое-угодно счастье, пойти на любые жертвы! Мы будем говорить и спорить о литературе, поэзии, музыке, театре, кино, живописи. Будем пить чай, кофе, есть пирожные, играть в шахматы, привлекать молодежь, ездить в творческие поездки, обмениваться опытом. Ты просто не представляешь себе, какое будет единение душ, сплочение сердец, умов! Единомышление! О нас заговорит весь город, и стар и млад не будет расставаться с книгой, вечным и мудрым спутником человечества. Будут любовь и спасение! Настоящая культура проникнет в каждый дом. Все будут понимать, ценить искусство и помнить нас, своих учителей. Своим трудом мы дадим пример другим городам, наши надежды и чаяния мы оставим всему миру…
О будущей деятельности и благородном влиянии Литературной Гостиной Анжелика Пинсховна могла говорить час, два, три, сутки и дольше. Дочь слабоизвестного, но плодовитого (о покойниках только хорошее или ничего) поэта, Анжелика Пинсховна с давних времен мечтала о культурном совершенствовании общества, о массовом искусстве и прочее; и так как сама получила в наследство тягу к стихосложению и умение бескорыстно восхищаться гармонией созвучий и звуков, то пять лет назад твердо решила посвятить себя всю без остатка пропаганде литературы и искусств. Благодаря ее пылкости и связям была создана Литературная Гостиная. Нашлись желающие.
Всяческими способами хозяйка и ее единомышленники заманивали к себе на чашечку чая местных и приезжих светил. Светилы приходили и уходили, чаще всего не очень довольные, и всё потому, что не нравилась им сервировка журнальных столиков, где были выставлены эти самые чашечки с чаем, торты, пирожные, конфеты, и больше ничего. Они привыкли к другим угощениям, а привычки — дело важное и ой какое щекотливое.
Шли годы, хозяйке все труднее стало заполучать великих и не очень великих мира сего. Но вот теперь, когда повсеместно заговорили о чашечке чая, представился случай завоевать пристальное внимание общественности к деятельности Гостиной.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
