
Бесплатный фрагмент - Дом и алтарь
Предисловие
Дорогие читатели!
Книга, которая находится перед вами, — это литературный диптих из сборника рассказов и романа, дополняющих друг друга. По мысли автора, они должны восприниматься как одно и то же произведение не только потому, что некоторые рассказы сюжетно связаны с романом (хронологически «Противосолнце» находится между рассказами «Дом» и «Алтарь»), но и по общему впечатлению.
В целом эта книга — наверное, самое грустное моё произведение, тем не менее очень важное для понимания серии прочих книг, касающихся механического мира в целом. Оно полностью посвящено отношениям героев и единственного бога-демиурга мира.
Произведение большей частью предназначено для моих постоянных читателей, уже знакомых с героями серии книг и понимающих общую механику мира. Для тех, кто ещё не знаком с миром моих книг, этот том подходит плохо и с него (на мой вкус) лучше не начинать. В общей хронологии серии книг это произведение в основном повествует о начале мира, до появления первых механоидов (основная антропоморфная раса), и сосредоточено на демонах: здесь вы впервые можете познакомиться со Всадником Хаоса и побольше узнать о Длани Милосердия.
Как и всегда, в конце книги для вашего удобства расположен глоссарий, но на этот раз их два: глоссарий для начала мира (романа «Противосолнце» и рассказа «Дом») и общий глоссарий — на случай, если он понадобится для остальных рассказов. Я надеюсь, что это будет полезно для вас и книга принесёт удовольствие, а если нет, то напишите мне об этом отзыв (если понравится, то тоже обязательно напишите).
На этом всё, приятного чтения!
Здесь тихо и пахнет росой

Здесь тихо и пахнет росой. Утро вытянуло из пустошей влагу и уложило её холодной, прозрачной мозаикой на ржавые перила. Наверное, они должны бы скрипеть на промозглом ветру, разгоняя безмолвие, но трогающий выбившиеся из моей причёски волосы воздух почти недвижим. И тут — тихо.
Сумка в моих руках не такая уж и тяжёлая. В неё я собрала все крохи собственной жизни, какие только смогла найти, описывая вещами глубокую, зияющую пустоту в центре собственной груди. Заполнить смогла от силы половину объёма, и верх саквояжа провисает, некрасиво морща плотную материю. Все эти запихнутые внутрь случайные тряпки и сломанные сувениры не объясняют нервное, почти судорожное напряжение, с которым я держу на весу саквояж.
Эта тягота, словно тянущиеся изнутри сумки ветки железных дорог, пронизывает сквозь кости мою руку, уходит под короткий рукав рабочей рубашки и длится по спине от лопаток и ниже по позвоночнику. Возможно, это от неё так мелко дрожат мышцы шеи, приподнимая маленькие волоски у основания головы. Возможно, именно от неё пересохло во рту.
Я думаю, что должна сейчас испытывать целую гамму чувств от горечи до предвкушения, а чувствую только ужас. Это не выпуклый ужас неженки, испуганной подступающим к горлу лезвием, и не холодный ужас старика, глядящего в пустые глазницы неизбежной нищеты. Это другой, наполнивший меня, словно баллонет, обучивший меня видеть иную реальность ужас. Единственное чувство, известное мне.
Мне следовало бы сейчас, окидывая взглядом старый, тяжело покалеченный бурями и годами дом, пытаться подобрать слова для приветствия, но я всё уже знаю. Помню, как говорить тихое, покорное судьбе «привет», делать вид, что всё нормально, и признаваться где-то внутри себя, что всё происходит действительно по моей воле.
Вижу впереди себя, словно призрак холодного будущего, свою собственную фигуру в тёмных брюках, рабочих ботинках и рубашке с коротким рукавом, поднимающейся на пару ступенек вверх, ставящей сумку на крыльцо, произносящей то самое «привет» и опускающей глаза. Не потому, что мне стыдно, а потому, что, уходя, я знала, что всё равно я вернусь назад. И он знал. А мы оба — мы в объятиях ужаса, мы знаем, что никогда и ничего не будет хорошо.
Здесь тихо и пахнет росой. Я стою перед старым, обветшавшим домом.
Мне не стыдно перед ним, перед этим домом, приютившим ребёнка, заплутавшего в пустошах и бывшего с ней очень строгим. Жестоким. Холодным. Ревностным. И единственным, способным её (меня, какой я была многие годы назад) защитить. Мне всегда говорили, что травма порождает травму, что привыкшие жить в напряжении механоиды будут всегда стремиться воссоздать для себя стресс. Чтобы жить в напряжении. И страхе. Ужасе, наверное, в моём случае. Потому, что иначе жить не умеют. Потому, что чувство беспомощности перед жизнью, лишённой этого страха, — всё равно что смерть. Хуже смерти. Потеря самоидентификации. Я всегда считала себя сильнее этого утверждения.
И наступил день, когда я прошла по этому самому, более серому — менее ржавому крыльцу в новых туфельках без каблучка. Меня, зажатого, сгорбленного подростка, обняла за плечи в потном неловком объятии поддержки толстая мастерица Центра, яркая, будто вечно спешащая куда-то. Такая, как полубезумные добрые тётушки из детских книг здешней старой и тронутой патологически насыщенной войрой библиотеки.
Когда читаешь про таких, то учишься им верить, но я не поверила. Когда меня нашли и пришли «спасать», я видела, я чувствовала тонкою поступью провидческого инстинкта, скользящего тихо, благостно по ободку радужки глаза, — я, выросшая с садистом, чувствовала садиста в ней, яркой.
И я с ней пошла. Самостоятельно, я не бежала, это казалось мне только моим решением. Мои новые туфельки спустились с крыльца, подняв этим облачко красной пыли, испачкавшей белые носочки с кружевной оборочкой, идущей вокруг резинки. Всего в паре метров нас ждал неприятный, старый паровой самоход на широких, тяжёлых колёсах.
Пока я шла, пока висело в воздухе пылевое облачко, я не обернулась назад. И я не положила руку на своё плечо, я не сказала: «Призрак-призрак, если хочешь — запрыгивай на закорки — вместе пойдём». Я не взяла с собой из этого дома Призрака, потому что знала — в этом доме нет призраков, кроме меня самой. И я не могла взять с собой дом.
Уродливый самоход ждал. Я села внутрь. Моя спасительница устроилась напротив. Она для меня, смотрящей холодным взглядом исподлобья, ещё не сняла маски сердобольной мастерицы, но уже стала моим врагом. Со временем я проиграла ей, со временем я её победила.
В моей жизни существовали минуты, когда я смотрела в безоблачное небо, сидя на подоконнике с ногами и наслаждаясь минутами тишины и тем, что страшное, тёмное окружение железных, скрежещущих стен уже не сжимается кольцом вокруг меня. В те же минуты мечтательности я будто упивалась тем, что у меня есть враг, что я ненавижу её синие тени на веках, убогую розовую помаду на потрескавшихся сальных губах. Душный запах пота, примешивающийся к сладкому, тяжёлому аромату туалетной воды. Но этот враг — он там… он далеко, у себя в кабинете на третьем этаже, а я тут, совсем в ином мире — с книгой, на подоконнике над широким креслом, недавно заново обитым зелёным плюшем. Мой враг — объективизирован, заперт в тело толстой женщины. Он — не вокруг меня, он не потолок и не стены. Он — не дом. И в эти минуты мне казалось, что я забыла кого-то важного внутри той железной пыточной камеры, где я выросла и где жила с пяти до четырнадцати лет. И этот кто-то не может уйти в найденную мною свободу, потому что он и есть эта пыточная.
Сегодня я возвращаюсь назад.
Я, вслед за собственной фантазией, визуализирующей каждое моё следующее действие, поднимаюсь на крыльцо, кладу дорожную сумку у двери чуть справа, и её дно впитывает росу с растворённой в ней ржавчиной. Моё внимание привлекает тёмное пятно, распространившееся под щёлкой стоящей криво входной двери. Засохшие ликра и кровь. Там мертвец, там, внутри. Там — мертвец.
Я знаю это. Я против воли, находясь в тёплых объятиях привычного ужаса, заставляющего противиться всё моё существо каждой вспышке непрошенных воспоминаний, вижу, как уставшая, голодная девочка, пережившая в пустошах поднявшийся резкий ветер, показавшийся ей настоящей бурей, видит дом. И идёт к нему, плача беззвучно, от отчаяния, от последнего испытанного мною живого, приходящего страха — не дойти. Я вижу, как маленькие ручки тянут эту дверь, и дом открывает замок. Как его густая, насыщенная ликра питает трясущееся тело девочки, как отсыревшее бельё на грязной, давно брошенной кровати в Большой Спальне принимает её почти бесчувственное от холода и усталости тело. И как дом, не оставляя её маленькую ручку во сне, всё обещает и обещает ей безопасную, добрую жизнь, полную мягких вечеров, бесконечных добрых книг в библиотеке и удивительных открытий внутри Комнаты с Инструментами. Этот дом не врал. Он просто не говорил о том, что собирается уничтожить личность этого ребёнка.
Я уже давно не ребёнок. Но я опускаю взгляд, чувствуя себя на месте моего парня — хорошего механоида с бледной кожей и длинными тёмными волосами, обрамляющими овал истощённого, скуластого лица. «Да, я соберу сумку к тому моменту, как ты приедешь, дорогая, да, я поеду в реабилитационную лечебницу с тобой. Да, я останусь, останусь там. Я виноват. Я всё понимаю. Мы пройдём через это всё вместе, спасибо, что ты у меня есть». Я чувствую себя им во время произнесения этих слов — мягким, покорным и грустным. Он снова сорвался, но он ещё помнит, что я знаю, как лучше. Ведь я очень хотела его спасти.
Сейчас я открываю дверь. Старое железо проносится над запёкшейся кровью. Там — мертвец. Останки мумифицированы, на стене прихожей — руки задраны одна выше другой, ноги раздвинуты — одна прикована разорванными по линиям ржавчины полосами стены, по краям словно обмётанными рыжей канвой разложения, другая — проткнута ею насквозь, как и шея, как и туловище в нескольких местах. Зажатые в трещинах пальцы мёртвого тела ужасно изуродованы.
Я содрогаюсь, но не от вида мертвеца, а потому, что вспоминаю во всех самых мелких подробностях, как эти самые пальцы, тогда ещё пухлые, сжимающиеся в каком-то неровном, алчущем, нетерпеливом ритме, вели меня по узкому коридору, убранному полосатыми жёлто-зелёными обоями с тиснением, с картинами в рамах и резными газовыми рожками, светящими еле-еле из-за экономии денег. Пока эти пальцы тискали моё замершее в знакомом холодном ужасе запястье, эти потрескавшиеся губы с розовой дешёвой помадой учили, учили меня, как нужно хотеть: как нужно показывать, что я хочу — денег, или новой одежды, или побрякушек. Как делать так, чтобы баловать меня становилось приятно. Как нужно брать: подарки, подачки, получки, побои… чтобы хотелось давать мне ещё, и ещё, и ещё. За какой-то из дверей этого коридора меня ждал мужчина или женщина, которая или который станет удовлетворять свои страсти за мой счёт. Этому клиенту или клиентке понравится, точно понравится и мой взгляд исподлобья, и зажатая манера держаться, холодные руки — одна вдоль тела, кисть другой сжимает локоть первой, сжимает до фиолетовых синяков. Всё понравится — такую и заказали. Нужно просто вести себя чуть-чуть хитрее и дать понять, что ты хочешь чего-то…
А я не умела хотеть.
В последний раз я испытывала желания утром того самого дня, когда впервые проснулась здесь: мне хотелось поесть и поспать после этого, познакомиться с домом, послушать, как мне читают книгу. Потом, вечером, мне хотелось, чтобы меня нашли. Но дом рассказал мне всё: что хороших детей не возят так далеко от городов, что будь я хорошей, то за мной бы следили получше, а то, что меня не нашли, говорит о том, что даже не искали и я никому не нужна. Что меня хотели продать в бордель, для того чтобы большие дяди делали со мной ужасные вещи, и я поверила. Я спряталась в своём единственном защитнике, и он не предал меня. И он мне не соврал — через десять лет я действительно стояла перед той самой дверью, где меня ждала предсказанная участь. Я оскалилась, я зарычала, когда пухлая рука в золотых браслетах нажала на обшарпанную ручку, но я гордо подняла голову, и я вошла внутрь сама. Потому что я хотела жить своей судьбой и не желала ни прятаться, ни бежать в испуге. Я с порога сказала, что хочу шоколадных конфет, и мне их купили втридорога. Я разделась и ела их, пока какая-то женщина в синем корсете касалась моих угловатых коленей и двигала руку ближе, туда… по ликре внутри моих вен от неё лилось вожделение, а я чувствовала только ужас. Мой верный цепной ужас. Интересно, какой шоколад на вкус?
Неужели же не страшно увидеть распятый труп? Я задавалась этим вопросом, разглядывая его в упор. И я не знала ответа. Ужасно — конечно же… да, конечно ужасно, но разве… не страшно? Не страшно?
Я кладу свою сумку у входа, подхожу к телу и лезу внутрь висящей на поясе иссохшего тела сумочки, та позвякивает от обилия фурнитуры. Там письмо, написанное от моего имени, но не мной. В нём автор сообщает моей воспитательнице, что я хочу предъявить обвинение в растлении, но готова обсудить сумму выкупа. Встреча назначена здесь.
Моё участие в работе того борделя Центр никогда не санкционировал. Меня использовали там незаконно. Вот почему тогда, на собеседовании в Центре в год моего совершеннолетия, меня не спросили, хочу ли я остаться там, где работаю сейчас — по документам я вообще не работала до того дня. Конечно. Конечно, сейчас, когда я догадалась, это почти очевидно, но я поняла это только что. Раньше этот коридор с этими картинами и этими дверями казался мне данностью, и у меня не возникало мысли, что весь свет не согласен на то, чтобы я находилась там. Что кто-то на чёрной и белой земле против. Потому что дом мне всегда говорил, что я окажусь там, если только я покину его стены. Я покинула. И я оказалась. Так логично, хотя незаконно.
Записка отправлена три года назад. Труп здесь находится два или два с половиной года, но высох здорово — воздух тут очень сухой. Именно поэтому роса, выпадая рано и утром и вечером, пронзительно пахнет свежестью.
Я поднимаю взгляд вверх. В момент смерти эта женщина пыталась дотянуться до ключа от двери в Гостиную — тот висит слишком высоко для неё, коренастой и толстой. Я бесстрастно снимаю его с крючка и отпираю дверь.
Интересно, за что именно дом ей отомстил? За моё унижение? Растление? Страдания? Боль? Или за потрясшую его дерзость — отнятие меня у его стен? Наверное, только за это, последнее, но всё же где-то в глубине моих металлических костей, внутри ликровых вен, пронизывающих всё моё тело, я понимаю, что он мстил за всё — за каждую проглоченную мною, невыплаканную слезинку, родившуюся не из-за него, а значит — у него украденную.
Я вставляю ключ в замочную скважину, но тот не проворачивается внутри. Я вынимаю и смотрю на шляпку ключа. Нет, он всё тот же — всегда здесь работал. Наверное, совсем заржавел замок. Вставляю опять, поворачиваю на четверть оборота, и заклинивает. Я на мгновение отнимаю руки, чувствуя, что ладони вспотели изнутри. Я, вместе с поднимающимся от низа живота ужасом, понимаю почему.
Ключ проворачивается изнутри сам собой. С неприятным скрежетом, но довольно быстро. Я отступаю на шаг, чтобы меня не ударила дверь, что сейчас откроется. Я знаю, что откроется, ведь вижу, как опускается ручка, и дверь поддаётся. Тощая рука с кожей странного: не бледного, но и далеко не здорового оттенка, толкает её навстречу мне. Движение мягкое. Жестом мне предлагают зайти, и я прохожу.
Внутри очень жарко и душно. В полумраке закрытых наглухо, но уже порядком проеденных бурями, окислением и патологически насыщенной войрой ставней я обвожу глазами знакомую мне, оставшуюся так и не тронутой обстановку Гостиной: круглый стол, пустивший единственную трещину из самого центра к ободу (я помню весь её рельеф, словно выучила когда-то наизусть, как стишок), пару глубоких кресел — на них очень много каменной пыли. Задерживаюсь взглядом на книжной полке над одним из кресел, с двумя фарфоровыми статуэтками весёлых солнышек в виде шестерёнок. Позолоченных местами отслоившейся краской.
Фигура позади меня, на которую я даже не бросила взгляда, входя, поворачивается, шаркая ногами.
Я отираю пот с внутренней стороны ладони. Ладонь об ладонь. Я видела так много страшного, так много отвратительного, что забыла один из самых близких оттенков ужаса, дремавший всё это время под сердцем, — мысли, что однажды дверь этого дома для меня не откроется, что однажды дом мне запретит сюда заходить. Поэтому я сломалась, почувствовав, что ключ не проворачивается в замке. Я оставила сумку у входа. Я ничего сюда с собой не взяла. Я поворачиваюсь.
Скольжу взглядом по мёртвому телу моего парня, открывшего мне дверь. Сколько стоило выкупить его труп с доставкой? Наверное, не дёшево, учитывая то, в каком отвратительном состоянии внутренние органы в телах умерших от передозировки наркоманов, но дом всегда имел какие-то накопления. За счёт них мы жили, и он покупал мне еду, одежду и новые книги. Наверное, накоплений этих имелось больше, чем я предполагала. Наверное.
Продавать мёртвые тела в качестве мобильной части покинутых зданий — одна из самых отвратительных из известных мне услуг Центра, но если она существует, значит, довольно востребована. И ею можно воспользоваться, раз она есть на рынке. Всем, что есть на рынке, можно воспользоваться.
И вот я слежу, как тощее, сухое, чуть только не скелетированное тело, приводимое в движение энергетическими связями сердца дома, невидимыми мне, движется само по себе. Такую услугу Центр предоставляет домам, достаточно хорошо управляющимся с существованием в одиночестве, а этот дом настоящий герой — он не просто выжил сам, когда остальной город вокруг него постепенно исчез под напором песчаных бурь, он спас и воспитал потерявшегося ребёнка, меня. Конечно, ему продали мёртвое тело на оперирование для обслуживания, это же такая мелочь. Труп на выбор, исправление недостатков трупа за счёт покупателя.
Я слышу, как тело моего парня проходит за моей спиной, расстёгивая рубашку. Не знаю, может ли оно говорить, но выяснять не хочу. Отвратительно думать, что снова услышу его голос или, что хуже того, хриплое харканье вместо голоса. Я подхожу к бюро, смахиваю каменную пыль с толстой папки с грифом Центра на пожелтевшей обложке. Моё имя. Досье.
Как дом узнал, кто мой парень? В официальных документах всё записано, ведь мы как-то подавали заявление на брак. Союз тогда не заключили — он снова сорвался в день свадьбы, и я провела ночь в реанимации, под дверью, виня себя в том, что нарушила своим согласием размеренно текущее его выздоровление от зависимости. Если бы я отказала, то тоже бы осталась виновата, но тогда я не думала о том, что правильного ответа не существовало. Я просто винила себя.
Это случилось три года назад. Вот ампула с насыщенной информацией ликрой — жидким аналогом моего досье — так и осталась вставлена в ликровую заводь покосившегося на одну ножку бюро: почтальон принёс посылку, следуя инструкции, вскрыл и бумажную часть оставил тут, на бюро, а ликровую вставил в заводь. Упаковку унёс с собой. Теперь жизни всех, кого упомянули в досье, скорее всего, прервались, а тела где-то в доме. Я должна вызвать немедленно помощь. Но я не вызову, потому что не могу допустить, чтобы меня нашли. Я не вернулась бы сюда, если бы в мире осталось ещё хоть какое-то место, где я ещё могу находиться.
Пока труп моего парня с отвратительной медлительностью расстёгивает пуговицы рубашки, проходя к столу позади меня, я вглядываюсь в пустые глазницы дверных проёмов Гостиной. Дом мстил. Он… всем отомстил за меня.
Там — трупы. Вздохнув судорожно, надломленно, я в каком-то странном беззвучном порыве оборачиваюсь назад и вижу, как тело моего парня, оголив отвратительный у-образный шов от секции, во весь торс ложится на стол, свесив согнутые в коленях ноги.
Я хотела спасти своего парня больше, чем жить самой. Касаясь порывисто его тонких, бескровных губ, я, казалось, прыгала к нему в его безумие, сразу по пояс, погружаясь в трясину. Он… был хорошим, я почти восхищалась им. Не то чтобы его умом или каким-то особенным талантом. По меркам Центра он ничего не умел, но всё же я отчётливо видела в нём дар Сотворителю. Дар греть душой душу. Давать пусть не надежду, а только крохотную тень от её скользящего в полдень и прочь подола, но давать. Мне казалось, что я могла бы однажды начать чувствовать, если бы только спасла его.
Я приехала тогда рано. Раньше, чем мы условились, чтобы забрать его и отвезти в клинику, где койку и лечение я оплачивала из собственных средств. Деньги получала за проституцию, куда пришла на подработку плюсом к «нормальной» работе именно потому, что больше платили, а я очень хорошо помнила, что на таких, как я, есть устойчивый спрос. Я делала это для того, чтобы иметь наготове деньги. Я никогда не приносила ему ни наркотиков, ни выпивки. Я чувствовала, что знаю, что такое счастье. Точнее, с тех пор, как я покинула предел этого дома, я всегда, всегда знала, что такое счастье, в чём оно заключается и как выглядит. Но я никогда не испытывала его, словно бы между нами находилась огромная и холодная стена. Железная стена.
Я оглядываюсь, проводя взглядом по полу, правой от себя стене, потолку и левой стене, задерживаясь взглядом в каждом углу. Тело моего парня лежит на обеденном столе. Не шевелится. Только тощая грудь поднимается и опадает, словно проваливаясь с каждым этим движением в тот ужас, в который я прыгнула к нему и откуда не смогла спасти.
Я прижималась вечерами к его груди и слушала, как бьётся сердце. Я слушала, как трепещет за железной стеной моё счастье.
Я не знаю, зачем он лёг. Душно здесь, нечем дышать.
Оборачиваюсь.
Там, за одним из дверных проёмов-глазниц, находится Большая Спальня. Внутри всё ещё стоит моя кровать, и я знаю, ощетинившиеся мелкие волоски по всему моему телу знают — бельё на ней отсырело. Очень сложно сделать так, чтобы простыни и одеяло в этой засушливой местности стали влажными — дому действительно нужно постараться, но он старался, и я, особенно летом, обожала зарываться в их мягкую, освежающую прохладу, показавшуюся мне такой враждебной в первую ночь.
Он мне говорил, этот дом мне всегда говорил, что я никому не нужна в большом мире. Что всё, что мне нужно сейчас, и всё, что потребуется потом, есть здесь, в этих нагревающихся на солнце железных стенах, противостоящих песчаным бурям. Я так боялась того, что меня найдут и нас разлучат: пряталась от почтальонов и доставки продуктов, когда пару раз приходили из Центра, приходили разыскивать меня, то я пряталась тут, под той кроватью, ждущей меня за пустой глазницей дверного портала. Меня могли вернуть назад, в понятный и простой мир, но дом говорил мне прятаться, потому что там, в этом большом и понятном мире, я буду видеть только коридор с полосатыми обоями и множеством одинаковых дверей, за каждой из них — насильник, за каждой — ненасытное, жуткое чудище о множестве лиц. Этому чудищу я должна себя исповедовать, рассказывая о своих пресных, безжизненных желаниях. Повторять в его многие уши «хочу, я хочу, я хочу». Потому что это так здорово — удовлетворять собственную страсть, балуя кого-то ещё. Взять и согреть. Как ребёнка.
Я слышала, что среди клиентов обязательно находятся «спасители», те, что врут, что могут тебя вытащить. Я ждала своего, даже лживого — в какой-то момент захотелось самой окунуться в эту патоку вранья, в какую ныряли они все: я врала бы, что меня можно спасти, он бы врал, что спасает. Но раньше «спасителя» я дождалась совершеннолетия.
Меня пригласили в кабинет Центра, где я оказалась одна напротив высокого господина в кителе и жилете с начищенным значком какого-то университета на лацкане. Я раньше никогда не видела механоидов, действительно носивших университетские значки. Наверное, потому, что их снимали прежде, чем оказаться в одной из комнат того коридора. Я села напротив этого мужчины.
Я никогда не видела его прежде. И больше никогда не видела. Он не принадлежал моему искалеченному миру, я не видела той искажённой реальности, взлелеянной инакости в его груди, какую видела в своей воспитательнице и в каждом, кто лез руками, членами или языком ко мне между ног. Они все творили зло, будто бы извиняясь этим за что-то. Не за мою боль, но, возможно, за наслаждение, что получали от меня. Кто-то относился к своему пристрастию как к религии, кто-то — как к тайному обществу, иной расе, иному гендеру, к акту насилия, как к акту искусства, сотворяемому нами обоими. И ничего из этого я не видела в том, кто сидел в тот день напротив меня.
Он странным образом казался мне пустым, не наполненным, глянцевым. Движения его как на подбор — скромные, даже помадка на закрученных усах казалась какой-то вежливой. Он после работы читал газету. Я мечтала бы выбраться, как на тихий берег, в мир, где он живёт, но этого так и не случилось — уже через полгода я прыгну в трясину к моему парню, в отчаянной попытке утонуть с ним или его спасти и не преуспев ни в том, ни в другом.
Мастер Центра спросил меня, на кого я хочу выучиться. У меня имелся заготовленный ответ, продиктованный моей толстой воспитательницей, обещавшей убить меня, если только я не скажу то, что велено. Но она, угрожая мне, забыла, кто я такая, откуда пришла. И что мне пришлось пережить, для того чтобы стать детской плотью, что она продавала.
Я сказала, что хочу работать в обслуживании коммуникаций. У меня уточнили, связано ли это с моим детством, я отдала знак согласия. На вопрос о том, согласован ли мой ответ с работным домом, где я росла после возвращения с пустошей, я ответила отрицательно, и мне разрешили выйти через служебный вход, чтобы не встречаться с воспитательницей, и я действительно больше никогда не видела её живой.
Я получила образование на полугодичных курсах и приступила к работе.
Всё закончилось плохо. Я сама нашла себе беды, заставившие меня вернуться назад, в этот дом, но я вернулась не той девочкой, что впервые пришла сюда в поисках крова и пищи.
Этот дом, заведший тело моего парня как омерзительного смотрителя, убивший механоида, только чтобы испугать меня, не понимает, что я уже давно не ребёнок. И что у меня есть одно, всего одно, но решительное преимущество над ним — у него ещё сохранились чувства, а мои — выжжены. Все до одного. Я давно стала взрослой и не нуждаюсь в его одобрении.
А значит, сейчас, чтобы здесь ни произошло и как бы дом меня ни пугал, он всё же боится меня больше, чем я его. Больше, чем я вообще способна бояться. Я знаю, что он в ужасе от одной мысли потерять меня навсегда, а я… я взглянула на ладони, откуда только что вытерла пот. А я боялась, что он не пустит меня назад, что он не примет меня. Боялась, но это уже прошло.
Очень тихо я приближаюсь к собственной спальне, смотрю внутрь комнаты, взглядом отмечаю кровать. Из-под неё видно довольно яркое в здешнем полумраке сияние. Я опускаюсь на корточки и вглядываюсь. Ничего необычного: оттуда на меня смотрит невидящими, расширенными от ужаса глазами призрак-воспоминание о девочке, которой я когда-то была.
Так Дом показывает мне тот момент, когда я пряталась в его объятиях от ищущих меня механоидов: моих воспитателей и сотрудников железной дороги, отправленных на поиски пропавшей малышки. Дом убедил меня в том, что случившаяся со мной беда — почти самая большая моя удача, что я спасусь, только если останусь с ним, только если меня никто не найдёт, и я побелевшими от ужаса ручками сжимала железную ножку кровати всё то время, пока вокруг дома слышались шаги. Я тогда представляла вокруг себя какой-то спасительный круг, словно бы очерченный моей детской верой, — круг безопасности, его не может переступить тот, что принесёт с собой то самое неназываемое, неизвестное, то самое-самое страшное, чего никогда не должно случаться.
Ножка тронута чёрными перемещающимися точками патологически насыщенной войры.
За окнами нарастает песчаная буря. Скрежещет ужасно. Сейчас я смотрю в глаза этого ребёнка. Холодно и долго, словно это некий экспонат за экспозиционным стеклом. Я с отстранённостью исследователя наблюдаю за тем, как зарождается ужас, что будет расти внутри меня всю жизнь, достаточно быстро подменяя собой остальные чувства, будто микроскопические механизмы, из которых состоит войра, проникли с этой ножки кровати внутрь меня и там, внутри, в тишине и пустоте моей собственной уничтожаемой личности построили новый её каркас. Протянули внутри меня кости железными рельсами. Зачем нужны любые другие чувства, если каждую секунду моей жизни я нахожусь за границей некой черты, где уже происходит всё самое страшное и ты уже смотришь ему в глаза? За ней ничего не может меня испугать. Ничто не способно причинить зла хуже того, какое постоянно себе причиняю. Я постоянно там, в самой ужасной секунде своей судьбы.
Я поднимаюсь на ноги и отворачиваюсь. В Спальне нет ни одного мёртвого тела, но я не надеюсь на то, что дом остановился на одном убийстве. Дом никогда не стеснялся в средствах, пытаясь купить моё подчинение.
В доме всегда существовало много правил: как и куда можно ходить, переставлять предметы, как есть. Чем старше я становилась и чем больше правил запоминала, тем больше появлялось новых. За непослушание, в чём бы оно ни заключалось, я вставала в ванну, и дом пытал меня водой — холодной или горячей, как ему вздумается. Наказания, однако, вслед за проступками никогда не шли и никак не связывались с ними по времени: он просто постоянно напоминал мне, что я виновата, а потом наступало время наказания. В любой момент, но, как правило, он приказывал идти в ванну тогда, когда я чувствовала себя… иначе. Смеялась? Мечтала? Читала любимые книги?
Очень часто я в отчаянии бежала из его стен — голая, как есть, выбегала на крыльцо прямо из ванной и там смотрела на бесконечные пустоши, расстилавшиеся перед глазами. Неисчислимые просторы необжитого пространства, просто неисчислимые, его невозможно пересечь в одиночку маленькому ребёнку, и я понимала, что если сделаю ещё хотя бы один шаг, то умру. От непереносимой жалости к себе и перенесённой физической боли я, сломленная, стремглав неслась в Гостиную, как только дом полунамёками давал мне понять, что прощает меня, и там я часами плакала в кресло, обнимая его выцветшую спинку как единственное любящее меня существо. Я плакала так на плече дома. Потому что меня больше некому было пожалеть. И он всегда утешал меня.
В тишине, за звуками биения собственного сердца, за рёвом бури за старыми ставнями, я различаю специфические, ритмично повторяющиеся звуки. Я знаю, что это. Я помню их хорошо. Потому я снова через Гостиную прохожу из Большой Спальни в Маленькую, переоборудованную когда-то и кем-то в библиотеку.
Я знаю, что увижу в этой тесной комнате, окаймлённой по периметру книжными полками, чёрную массу словно бы разлитой по холодному жестяному полу воды, шевелящейся по собственному усмотрению. Увижу, как она, против законов физического мира, течёт вверх по полкам, пропитывает книги, вливаясь между страниц и то одну, то другую из них перелистывая — именно с этим, знакомым мне с детства звуком. Войра поглощает пробивающийся сквозь ставни с бурей дикий песок пустошей.
Патологически насыщенная войра — проклятие всех заброшенных домов. Я постоянно чистила дом от неё раньше, но она ползла от пустошей, из скелетированных останков погибшего вокруг нас городка, то и дело служившего мне и детской площадкой, и пристанищем моего сказочного мира, на чьих останках я воскрешала в воображении небывалые летающие города, немыслимых механических (добрых, как правило) чудищ: больших и сильных, способных стать мне друзьями. Я с ними летала, раскинув руки на жестоком, сухом ветру.
Я много читала, проживая одну и ту же историю по много раз, и даже сейчас помню некоторые книги от корки до корки — новые книги дом мне дарил по огромным праздникам и никогда — на годовщины. Возможно, он не хотел, чтобы я считала, сколько жила здесь, и знала, сколько мне лет. Он хотел, чтобы я думала, что наша жизнь тянулась всегда, от начала времён. Но я так никогда не считала. И никогда не прекращала сражаться с ним — самым дорогим и самым ненавистным мне существом. Отстраивала по песчинкам и крупицам собственную личность.
В тот день, когда я уходила, когда безжалостно опустила руку в заводь и дала по экстренному каналу информацию о том, кто я и где нахожусь, я знала, потому шла в бездну насилия, ведь я верила, беззаветно верила дому. Я не удивилась, попав в тот коридор с кучей дверей, за каждой из них, какую ни открой (а я открывала их все), и там — за каждой — любитель таких маленьких дикарок, как я. Это уже не так страшно — чувствовать их языки и члены, терпеть боль. Далеко не так ужасно, как случалось всегда, в минуты тишины и радости, когда я задней поверхностью шеи чувствовала, что вот-вот, что вот — секунда и меня призовут за мои грехи к жуткому, унижающему ответу. Иногда меня дом оставлял под бурей. Ломиться назад. И мне становилось порой чуть только не смешно от одной той мысли, что они не понимают, насколько глупо выглядят их попытки меня подавить, ведь я точно знала, что такое счастье. Как оно выглядит. Какое оно на вкус. Счастье — это когда наказание следует сразу за преступлением. Когда между ними есть чёткая, понятная мысли связь.
И именно потому тогда, под дверями реанимации, где находился мой парень, просто не способный выжить в этом мире, я не чувствовала счастья (никогда ничего, кроме ужаса), но счастлива я была. Я плакала, но в том числе и от чистого, почти молитвенного, почти священного счастья — небо меня наказало за то, в чём я наконец-то оказалась сама виновата: я связалась с наркоманом, вообразила себя спасительницей, игралась с чужою судьбой и вот — стою на коленях где есть. Он умер не в тот день. Когда он умер, никто спасти-то и не пытался. Просто раннее утро, коронер, пахло росой. В тот же день, или на следующий, его труп купил этот дом, а я забрала к себе все те книги, что принадлежали ему. Три тома на разные темы. Один из них сейчас в сумке у входа. Я не помню какой. Я не читала их, даже названий, а почему я взяла их себе, не знаю сама. Может, оттого, что я привыкла искать утешение в книгах. Наверное, поэтому и вернулась за ними в тот вечер.
Ноги быстро несут меня в библиотеку. Звуки перелистываемых страниц совсем теряются за скрежетом песка по старым стенам дома. Внутри комнаты действительно очень много разлитой по полу войры. Она всегда стремилась из остовов погибших домов именно сюда, потому что микроскопические механизмы, составляющие её, привлекают именно живые существа — книги.
Чёрная, идущая странной, почти неестественной рябью жидкость войры действительно переворачивает страницы книг, будто бы их читает. Но это уже не бездумное, машинальное действие коллективного разума миллиардов и миллиардов механизмов, пользующихся общими памятью и информацией, закодированными в связующей их жидкости. Это разумное существо, с телом, но без собственной воли.
Я оглядываюсь на лежащий на столе труп и возвращаю взгляд на войру. Да, сейчас они все такие же, как это тело — слепой манипулятор, которым пользуется дом. Способный на многое, способный убить или покалечить, способный наказать меня.
Я знаю это очень чётко и очень точно. Потому что войра не просто листает — она переписывает книги, вытравливая из них чернила и складывая новые слова из собственного тела. Включается и выключается вода в ванной, сильно шпаря из заикающегося и сотрясающегося смесителя. Мне становится в ритм этих звуков то жарко, то холодно.
Готовые после работы войры книги лежат у входа, я беру одну из них. Это старая сказка, и теперь она про меня. Здесь есть простой, но понятный текст, даже иллюстрации. Вот она я — герой, что борется с чудищем, а чудище — это дом. А в конце я побеждаю. Я стою на его крыше — гордая своей победой, новая, преображённая, познавшая себя до конца. Я уверена в том, что это же послание в том же или похожем виде содержится в каждой переписанной книге. И я отчётливо понимаю его смысл.
Дом говорит мне этим одну простую, но жуткую вещь — он знает, что я считаю себя сильнее него. Он, уже убедительно доказав, что всё это время следил за мной, теперь пытается сообщить, что и все изменения, произошедшие внутри моей личности, были ему подконтрольны, что власть, полученная им однажды над маленькой девочкой, никуда не делась, и не исчезла, и никогда и никуда не исчезнет. Он признаёт, что мы сражаемся сейчас, и говорит, что в случае любого исхода сражения он победит. Он прав.
Я снова пропускаю удар, закрыв глаза ненадолго, зажмурившись и воскресив в памяти минуты, когда я слушала сердцебиение в груди моего парня. Его грудная клетка представлялась мне железными стенами дома, за ними пульсирует жизнь, недоступная мне. Её можно слушать, но к ней нельзя прикоснуться, не уничтожив своими действиями, так же как нельзя коснуться сердца, не убив человека, в котором оно трепещет.
Оставив книгу, я иду сквозь библиотеку к последней закрытой двери. Там — Комната с Инструментами. Дом с самого начала учил меня чинить и поддерживать его. Именно поэтому я смогла получить профессию, как только мне дали шанс. Именно потому, что я смогла её получить, я вернулась назад. Ведь если бы я осталась в публичном доме, уже по собственному желанию, я воспринимала бы домогательства как часть работы, они укладывались бы в мою схему безопасного взаимодействия — они бы происходили по плану, потому что они должны происходить. Но я ушла оттуда, так же как я ушла из дома вообще — в один момент просто разорвала порочный круг страха и воспользовалась шансом, находящимся прямо напротив меня, — я вышла в другую дверь и думала, что оказалась на свободе. Но я ошибалась. И сейчас круг замкнулся.
Я иду вдоль книг, покрытых чёрной шевелящейся жидкостью, как сквозь грандиозное побоище, где одна за другой уничтожаются все мои детские фантазии, и они становятся подчинены одной общей ужасающей идее — приравнивания моего триумфа к поражению и наоборот. В искажённой реальности этого дома всё одно.
Я знаю, что это не так. После того, как умер мой парень, я стала жить тихо. Я никого не трогала, ни с кем не разговаривала, не ходила в компании. Иногда читала, что советовал библиотечный мастер. На работе не просила повышений и никогда не снималась со смен. Однажды мне предложили переехать в другой город, только что заложенный. Я согласилась.
В вечер перед отъездом я вернулась на рабочую базу сдать инструменты и забрать личные вещи, сделав это в неурочный час, поскольку не хотела возвращаться домой до самого поезда. На базе находился в одиночестве лишь один из моих вышестоящих коллег, пьяный. Он решил, что имеет право на моё тело. Я знала, что это не так. Я всегда была сильнее этого дома. Всегда сильнее моих истязателей и насильников. Сильнее каждого и всех.
Я убила его. Впопыхах собрала всё, что смогла найти, покидав в саквояж, села на поезд по записи и спрыгнула с состава в пустошах. Я вернулась домой, полностью проиграв битву за свою судьбу, но выиграв войну за право сохранить личность. Никто не имел и не имеет права на меня. Никто не может сказать, что именно является моим триумфом, а что — поражением, поскольку ни то ни другое не принадлежит никому, кроме меня лично.
Я открываю последнюю дверь. Буря воет, буря ластится смертью по стенам, стучится буря поступью рока в ставни. Свистит. Колотит паровым молотом в хлипкую дверь.
Комната с Инструментами завалена мёртвыми телами. Я не знаю всех этих механоидов, я никогда их не видела. Вглядываясь в одежду и детали высохших лиц трупов, не могу припомнить ничего. Но вот — блестит значок университета на жилетке высохшего тела. Это сотрудник Центра, выручивший меня из притона. Всё начинает складываться — вот пара моих коллег, уехавших из города прежде меня, сосед моего парня, ещё несколько мужчин и женщин, о которых я не могу припомнить ничего, но знаю, что их объединяло — они все помогали мне и проявляли доброту. Дом заманил их в ловушку и жестоко разделался только из одного того, что они были добры ко мне. Никто не имел права терзать меня, кроме него, никто не имел права жалеть меня, кроме него. Все они — теперь он. Вся моя жизнь.
Я разворачиваюсь и снова прохожу через библиотеку. Все мои фантазии переписаны. Нет больше ничего, кроме одной грандиозной битвы внутри моего сознания. Я воительница, и я же злодейка, я страдалица, мучительница и избавительница. Я иду по огромной, замкнутой саму на себя колее и не могу выйти за пределы этого железного круга рельсов, ставших моими костями.
Я прохожу через Гостиную, мимо стола и захожу в Спальню. Я залезаю под кровать к испуганной девочке, прохожу прямо через её не нарушенную до сих пор никем зону отчуждения и страха, её никто не пересёк, и потому того самого страшного, неназываемого не происходит. Я нарушаю эту зону, пересекаю её и оказываюсь лицом к лицу с собственным призраком. Я — самое страшное. Я — неназываемое. Я душу призрачную девочку, сжимаю пальцами собственное бестелесное горло и наслаждаюсь страхом в собственных глазах. Я бью себя в нежное, хрупкое лицо, сокрушая детские кости, но этих костей уже нет, и мои кулаки проходят сквозь сияющее визуализированное воспоминание, встречаются с железом пола, и я, кажется, сокрушаю и его тоже. Я убиваю себя. Я сама случаюсь с собой, и в этой комнате, замкнутом железными стенами мире, нет никого страшней и вероломней меня.
Я иссякаю. Тяжело дыша, я выбираюсь из-под кровати, оставляя за собой пустоту нагого пространства. Без прошлого, без воспоминаний, а значит, без страхов.
Буря ревёт. Буря заставляет трястись старый, кашляющий кран, изрыгающий жар и холод прямо внутрь моих костей.
Я прохожу в Гостиную и сажусь за стол. Пальцами, с разбитыми костяшками в кровь, ставшими железными, бесчувственными пальцами, я вскрываю грудную клетку поданного мне распростёртым на столе трупа. Я даже не знаю, какими усилиями мне даётся пробиться сквозь рёбра к сердцу, сжимающемуся за счёт собственной энергии дома, но я продираюсь. Я ломаю всё, что боялась сломать, прокладывая себе путь к познанному мной счастью — вечной, нерушимой связи между наказанием и преступлением.
Вот оно, моё сердце. Воет буря, да я уже к ней глуха. Я беру это сердце в руки, выдираю из мягких тканей и впиваюсь в него зубами. Кровь поднимается наружу, брызгает куда-то вбок, пачкает мне нос и щёки. Я застываю так, гляжу на себя со стороны и понимаю — я всегда выглядела именно так. Я взглядом заставляю кран умолкнуть.
И всё умолкает. Буря умирилась и иссякла за окном.
Давно наступил вечер.
Поднявшись на ватных ногах, я сообщаю по экстренному каналу связи, где я, кто я и что я совершила.
Я, проходя мимо сумки, выхожу на крыльцо и сажусь на него молча. Ужас, постоянно живший во мне и меня наполнявший, спал. Теперь я кажусь себе совершенно пустой внутри. Возможно, с течением времени место ужаса займут и иные, пока неизвестные мне чувства. Они никогда не будут светлыми, но сама мысль о том, чтобы испытывать что-то новое, пока незнакомое мне, заставляет со странным медлительным любованием относиться к этой зримой тишине внутри.
Дневная жара ушла, и от резкого похолодания перила и ступеньки стали влажными.
Я никогда не покину мой дом. Здесь тихо. И пахнет росой.
Дом

После того как Хаос оставил их, в ушах всё ещё звучал его вой. Конструктор попробовал встать, у него получилось не сразу. Очень скоро стало понятно, что правая нога в голеностопном суставе срослась неправильно, а левая вовсе оставалась неподвижной. Он сел, взял камень и принялся исправлять. Над головой массивно колыхалась жирная, тёмная масса дойдо — первородного вещества, отобранного только что у Хаоса и подвешенного на небосклоне так, чтобы оно не соприкасалось с миром до тех пор, пока Часовщик не разделается с ним полностью. К сожалению, Конструктор не мог сделать так, чтобы дойдо не закрывало солнце. Когда оно это делало, наступала ночь.
Демон оглянулся. Машина находилась рядом, но с такими повреждениями ему пришлось бы долго ползти, и до ночи он мог бы не вернуться, а оставаться в темноте вне Машины — жуткая участь. Ещё непонятно было, насколько Машина пострадала во время Шага вперёд, может быть, у неё повредились внутренние механизмы, и не удастся развести огонь, тогда они все останутся без тепла до наступления дня.
Вернувшись взглядом к повреждённой ноге, демон принялся колотить камнем по ступне, ломая сустав. Когда ему удалось сделать это, он придержал руками кости, чтобы те срослись лучше. Ему повезло только отчасти: подвижность вернулась не полностью, но он всё же встал. И начал продвигаться к Машине. Темнело стремительно.
Дойдо закрывало солнце очень быстро, и ветер закономерно крепчал. В ветре в эти моменты всегда появлялось нечто, что заставляло мир, весь мир, даже кожу Конструктора белеть. Почти мгновенно выветривалось любое тепло, и Конструктор выученно боялся этого. Подтягивая висящую плетью, раздробленную, пережёванную Хаосом ногу, заживлённую реактивной регенерацией неправильно и так и оставшуюся совершенно безнадёжной для быстрой починки, он спешил к Машине изо всех сил, но до ночи так и не добрался — солнце померкло совсем.
Конструктор пригляделся: Ювелир только сейчас появился в поле его зрения. Он двигался к Машине со стороны края мира, кажется, на обеих ногах, но также не успевал. Конструктор опытным взглядом определил, что ничем не успеет ему помочь.
Свет почти померк, когда Конструктор заметил на фоне Машины Часовщика. Тот пытался поднять Всадника Хаоса на руки, чтобы занести внутрь, но ничего не выходило: Всаднику начисто снесло кожу и мясо с рёбер Внутренности вывалились, лица больше не было. Всадника просто нельзя было взять достаточно аккуратно, для того чтобы перенести одним куском, а свет померк.
Добравшись до Машины, Конструктор зарычал, заставляя Часовщика пройти внутрь. Тот отказывался и огрызался, но ветер всё крепчал и стал настолько холодным и таким резким, что мысль о том, чтобы провести вне Машины ещё одну лишнюю секунду, заставила Конструктора вгрызться Часовщику в шею и, когда тот осел, волоком втащить внутрь.
Конструктор смог разжечь огонь. Вкопанный в землю запас газа подал горючую смесь на сопла, и очаг занялся, но прогреть помещение изнутри казалось уже невозможным: они слишком поздно начали. Тело Часовщика затряслось в регенеративном шоке, он стал захлёбываться кровавой пеной и рвотой. Опять ошибки. Конструктор закинул его наверх, туда, в тёплый короб из прогреваемой внизу каменной кладки, которая служила одной лежанкой на всех. Там они пережидали ночь. Сам он лёг рядом.
Ветер неистово выл за пределами Машины. Несколько минут Конструктор слушал эти звуки, думая, как починить более здоровую ногу, которая позволяла ему двигаться. Если опять раздробить кость камнем, срастётся ли она на этот раз правильно? Что, если ошибка, допущенная регенерацией на одной ноге, окажется заразной и повлияет на другую ногу, совсем сломанную, которую нужно чинить с самого начала, всю?
Огонь горел, но Машина не прогревалась. Конструктор решил не терять времени. Он слез с лежанки, утроившись у огня, и достал лом, чтобы заняться починкой. Танцующие рыжие блики давали до противного мало света, искажали мир, и демон никак не мог приноровиться к тому, чтобы при таком тусклом освещении работать.
Очередной порыв ветра, с новой жестокой силой ударивший Машину в бок, напомнил демону о том, что времени ускользающе мало и он не может себе позволить просто пережидать ночь. Конструктор взял лом удобно. Занёс его над сломанной ступнёй, но затем замер, потому что понял, что коленный сустав, превратившийся в несуразную массу плоти на одной ноге, на второй, в меру здоровой, работает так, как и должен. А значит, может служить образцом для починки. Он начал разрывать ногтями плоть и уже совсем было углубился в изучение работы ноги, когда понял, что, кроме свиста бури за стенами, слышит что-то ещё.
Он нехотя отложил свои планы. Встал и, опираясь на лом и стену, подошёл к выходу из нутра Машины. Тяжёлая, смастерённая из необычного дара дойдо дверь вела прямиком в ночь. Приоткрыв створку с большим трудом, Конструктор посмотрел в ледяную тьму. Там он нашёл Ювелира. Тот всё это время двигался к Машине сквозь ветер и упал только сейчас, когда Конструктор уже видел его. До него было далеко — двигаться в холоде ночи опасно и очень сложно. Между тем Ювелир быстро врастал торсом в это белое, которым укрывалась земля. Ветер сдувал с него кожу, и движения демона с каждым мгновением замедлялись.
Конструктор оглянулся назад, на Часовщика, сомневаясь в своём решении, но затем вышел наружу. Он долго, опираясь на тяжёлый лом и подволакивая ногу, шёл до Ювелира, но смог добраться до него, устояв в гнетущем, тяжёлом ветре. Взял за волосы и оттащил в Машину. Тот не сопротивлялся, но и не помогал.
Внутри Конструктор перевернул его на спину и всё внимание уделил ногам. В этом Шаге вперёд Ювелиру посчастливилось сохранить обе их в целости. Подтащив его ближе к огню, Конструктор поднялся, подошёл к тайнику, хранившемуся над очагом и лежанкой, и достал Острое. Острое досталось Часовщику от пришедшего однажды демона-чужака, которого Часовщик убил. Острое хорошо резало плоть.
Поэтому, взяв с собой всё, что необходимо, — Острое, лом и камень, — Конструктор вернулся к Ювелиру. Подтянув того к огню так, чтобы шипящее пламя освещало поле предстоящей работы, Конструктор решил заняться коленом, но потом задумался и изменил своё решение. Переместился к стопе и начал резать посиневшую плоть. От кожи шёл всё тот же сковывавший движения Конструктора холод, напоминавший ледяную пасть Хаоса. Однако тому, как сильно пострадал от холода в этот раз Ювелир, Конструктор был рад, поскольку обычно это тормозило регенерацию. Впрочем, сейчас тело Ювелира не регенерировало вовсе, что позволяло Конструктору спокойно заниматься своим делом.
Вскрыв кожу и освободив кости от мяса и жил, демон поcмотрел на правильный сустав и уже хотел приняться за починку собственных ног, как у Ювелира начался запоздавший регенеративный шок. Конструктор пытался его придержать, чтобы запомнить интересовавшее его лучше, но тело конвульсировало так сильно, что демону это не удалось. Смирившись, что править придётся по памяти, он закинул тело Ювелира ближе к Часовщику. Поскольку попытка починить ноги быстрее потеряла смысл, а пальцы рук от холода уже начали костенеть, Конструктору пришлось ждать утра.
Он принял своё временное поражение и лёг с остальными. Сейчас лежанка нагрелась до такой степени, что хотя и не давала тепла, однако его не отнимала. Это, учитывая то, как поздно они развели огонь, оказалось большой удачей. Однако всю её быстро начал сводить на нет регенеративный шок Ювелира — отчаянный и мощный, касающийся каждой клетки тела, он поглощал всё тепло, накопленное Машиной. Тащить его внутрь оказалось ошибкой, и ещё худшей — класть с остальными рядом с регенерирующим демоном.
Часовщик сквозь свой не сильный, но затяжной регенеративный шок попытался оттолкнуть Ювелира, чтобы сохранить собственные силы. Конструктору это его движение не понравилось, и он без размаха, но с достаточной силой ударил Часовщика головой о стену, чем отнял последние силы. Дальше Конструктор придвинулся к обоим демонам так близко, как это было возможно, чтобы вместе они могли сохранять тепло. Все попытки работать ночью оказались бесплодными. Ночь осталось только пережидать.
Ветер так и не стихал. Он выл и стучался во внешние стены Машины всё то время, пока дойдо закрывало солнце. Но потом время ночи иссякло, и дойдо ушло по небосклону дальше.
Конструктор выбрался с лежанки и вышел наружу. Сперва он хотел осмотреть Машину и узнать, какие повреждения она получила во время Шага вперёд, но не удержался и первым делом посмотрел на дойдо, отползающее от солнца, в попытке угадать его траекторию. Конечно, не смог.
Пока он был занят этим, Ювелир прошёл вперёд него и принялся освобождать Всадника Хаоса, который весь врос в белое. На лице его не осталось кожи, челюсть оказалась свёрнута во время Шага и так и приросла в суставах, отняв у него возможность закрыть рот. Отполированные холодным ветром добела рёбра Всадника двигались равномерно с каждым вздохом, что означало, что регенеративного шока или ещё не случилось, или он уже прошёл, не принеся никакого облегчения.
Конструктор, всё ещё планировавший закончить с починкой, решил присмотреться к ногам пострадавшего демона, поскольку стопы его, как всё остальное тело спереди, тоже были лишены кожи, и следовало только немного поработать Острым, чтобы добраться до интересовавшего Конструктора участка тела. Поэтому Конструктор без промедления принялся за работу, Ювелир в это время присел на корточки рядом со Всадником Хаоса и подставил тому плечо.
Всадник не отреагировал на это, и Ювелир осторожно поднёс его голову ближе к своей коже, а после того, как реакции не последовало и на это, оставил ногтями глубокие порезы в своём плече, чтобы Всадник почувствовал нёбом кровь. И вот тогда Всадник Хаоса вгрызся.
Он откусил один кусок плоти, проглотил целиком и тут же схватился за новый. Нижняя челюсть у него так и не работала, и он с отчаянной силой рвал Ювелиру плоть одними лишь верхними зубами с захлёбывающимся кровью и жаждой жизни остервенением. Ювелир молча терпел, немигающим взглядом смотря прямо перед собой, позволяя Всаднику есть сколько нужно, пока тот не успокоился, сотрясаемый волнами шока. Видимо, тело придерживало последние силы всю ночь и только сейчас пустило их на регенерацию.
Кожа начала быстро нарастать, вся работа Конструктора, думавшего над суставом, пошла насмарку, но тот успел запомнить достаточно, для того чтобы начать чинить собственные повреждения более осмысленно. Он снова посмотрел на дойдо. Оно, кажется, отдалялось от солнца, хотя и могло в любой момент начать ползти обратно.
Следующим взглядом демон отметил Часовщика, работавшего внутри Машины: он погасил очаг и принялся нагнетать газ в хранилища, для того чтобы по возможности хватило на следующую ночь и они смогли всё согреть.
Ювелир, найдя чем примотать к боку обглоданную в плече руку, чтобы та не болталась и не мешала, полез вверх, на Машину, чтобы приступить к работе с внешней обшивкой. Дальше Конструктор прикинул, сколько осталось Часовщику времени на работу, и стал двигаться быстрее. Конструктор знал, что понадобится Часовщику, как только тот закончит с текущей задачей. Работая камнем, который удачно нашёл, — небольшим, удобным, — он несколько раз успел раздробить и составить кости, добиваясь их лучшего взаимодействия.
С более здоровой ногой ему достаточно быстро удалось достигнуть желаемого, и он с удовольствием принялся ломать свои кости на другой ноге. Чинить стопу до колена казалось не слишком разумным, но Конструктор хотел скорее закрепить умение, которым овладел.
Он закончил как раз перед тем, как к нему подошёл Часовщик. Он был готов к работе. В его добрых, глубоких глазах отражались нежность и мягкость к миру. Странное тепло, о существовании которого Конструктор почти не знал и которое ранило его, кольнув под сердцем и заставив отступить регенеративную эйфорию.
Часовщик осторожно взял Конструктора за голову и заставил посмотреть чуть выше, себе в глаза. Какую-то секунду Конструктор оттягивал момент их визуального контакта, бросив взгляд на дойдо, которое, как ему показалось, опять двинулось в сторону солнца, но позже он сделал то, что Часовщик от него хотел.
И дойдо прореагировало на контакт их взглядов, бросившись на землю и закрыв собой весь мир. Оно пульсировало, страдало и наконец начало расширяться, утончаясь и тая у краёв. Это был песок, оно исходило песком. Мелкой белой всепроникающей пылью, которая душила всех, и Конструктора прежде других, какой-то мельтешащей, зудящей бессмысленностью.
Когда Часовщик выдохся, Конструктор почувствовал боль, идущую изнутри. Она, словно сама собой, словно живая, находила путь внутри его грудной клетки наружу, но что-то сдерживало её напор, закрывая в периметре рёбер, и она беспомощно скалилась оттуда во внешний мир.
Дойдо после работы Часовщика уменьшилось, но довольно незначительно, а затем быстро направилось к солнцу.
Ювелир успел зажечь огонь. К сожалению, Часовщик и Конструктор находились далеко от Машины, на катастрофически большом расстоянии. Видимо, они переместились из-за того, что Часовщику для работы потребовался простор, и сейчас оказались почти по грудь оба засыпаны этим мелким, страшным песком. Страшным потому, что он что-то доказывал, но Конструктор не знал, что именно. Только чувствовал, что он — ххра, что он — на погибель, к победе Хаоса.
Раньше, когда работал Часовщик, от дойдо приходили хорошие вещи — из тех, которые они использовали при постройке Машины, особенно для бака под ней, куда можно было нагнетать газ. Но в последнее время раз от раза дойдо рассыпалось у них над головами только этим песком, который становился всё мельче и всё глубже пугал Конструктора. И сейчас пугал.
Конструктор начал изо всех сил грести руками и здоровой ногой, пытаясь если не добраться до Машины, то по крайней мере выбраться из песка, чтобы не врасти в белое всем телом. Он увидел, как, несмотря на приближающиеся сумерки, на то, как потянуло белым, Всадник Хаоса твёрдым шагом поспешил к ним, но на него без предупреждения напал Ювелир.
Они боролись с секунду или две, и Ювелир вышел победителем, действуя довольно уверенно. Проблеск надежды, мелькнувшей в сердце Конструктора, когда он подумал о том, что Всадник Хаоса успеет их вытащить, не заставил его остановиться и перестать прикладывать собственные усилия к тому, чтобы добраться до тепла. Он стремился туда изо всех сил, сжав зубы и сражаясь за надежду, но когда Конструктор встретился глазами с Ювелиром, который поднялся над поверженным им Всадником Хаоса, то замер на какую-то долю секунды.
Конструктор замер, потому что вспомнил, как вытащил Ювелира из-под холодного ветра вчера и как разрешил ему остаться в тепле, хотя это было неверным решением. Эта мысль — сама мысль о том, что Конструктор вспомнил о чём-то или о ком-то не из мира предметов, не касающемся дойдо, или солнца, или Машины, глубоко поразила демона.
Он замер и проиграл. Всё вокруг стало белым, и наступила ночь.
Конструктор успел выкопать себя до пояса, а потом врос в белое. Наверное, ночь выдалась очень длинной. Когда отступила боль и тело опять затопила волна эйфории от прошедшего регенеративного шока, он обнаружил, что лежит на белом. И вокруг всё белое. А Ювелир сидит на корточках наверху Машины, на самой её голове. И он тоже весь врос в белое. Значит, среди ночи он оставил тёплое, защищённое от ветра нутро Машины и поднялся наверх. Даже не стараясь добраться до Часовщика и Конструктора, он сам, по своему желанию оставил Машину и поднялся.
Это было нелогичным поведением. Таким же нелогичным, как странный импульс Конструктора, заставивший его в прошлую ночь выйти наружу, чтобы исследовать голеностопный сустав.
Эта новая, странная мысль о том, что кто-то ещё, кроме него, может вести себя нелогично, испугала, разозлила, но в то же время так приятно взволновала Конструктора.
В следующую секунду над ним склонился Часовщик и снова начал работать через его сознание с дойдо. Конструктор понял, что даже не успел посмотреть, где именно находится дойдо, где солнце, не узнал, как обстоят дела с газом и где именно находится Хаос. Он понял, что не хочет снова внутрь глаз Часовщика: там нет того, что нужно Конструктору, и поэтому Часовщик не может найти нужное. Что опять будет пыль. И пыль пришла.
На этот раз никто не пострадал, её оказалось мало, но Конструктор задыхался в ней. Он поднялся на четвереньки, после того как Часовщик его отпустил, попытался ползти, но не смог. Внутри жгло, и было очень плохо. Хуже, чем когда Хаос обгладывал руки до костей, хуже, чем когда лишался кожи или врастал в белое. Здесь не могла помочь регенерация.
Дойдо далеко отползло от солнца, через несколько приёмов работы оно исчезнет, и снова придёт Хаос.
Конструктор знал это и понимал, что в этом нет ничего плохого, что мир идёт своим чередом, что существование становится всё менее и менее опасным с каждым часом, поскольку они почти каждый раз успевают зажечь огонь и прогреть Машину. Но тем не менее он знал, знал от песка, что этот путь порочен. Он ждал чего-то. И это ожидание разрывало его изнутри на части. От этого ожидания он рычал, как от боли. Не справившись с собой, Конструктор упал, а ночь не пришла.
Измельчавшее, кроткое дойдо блуждало по небу туда и сюда всё медленнее и всё дальше держась от солнца. Наступал длинный день, тёплый день перед пришествием Хаоса. В это время следовало совершить решительный рывок, сделать что-то для Машины, каким-то образом улучшить, укрепить её, чтобы она стала крепче держать тепло, крепче держать газ и меньше его расходовать. Газ следовало очень беречь, потому что, с тех пор как от дойдо начал приходить белый песок, газ перестал просачиваться из-под земли вокруг Машины и последняя труба, которая ещё могла до него дотянуться, уже стояла очень далеко от Машины. Как только газ под ней иссякнет, они не смогут больше найти его, поскольку не спрвятся с тем, чтобы отойти достаточно далеко.
Ещё немного дальше, и они не доберутся до нового источника газа, а при попытке врастут в белое все и не сумеют отработать дойдо до того, как оно изойдёт чёрной иглой на мир и проткнёт его, исказив и поглотив Машину. Тогда мир кончится. Тогда они все умрут.
Конструктор попытался подняться, но вновь потерпел поражение. К нему быстро подошёл Всадник Хаоса и толкнул, заставив упасть на бок, а дальше перевернул на спину. Осмотрел, но не нашёл повреждений. Предложил ему свою плоть — сделал всё обычно, предлагая ему свою помощь так, как сделал прошлым днём Ювелир. Однако Конструктор не смог даже слизать свежую кровь. Его почему-то покинул Голод.
Конструктор зачерпнул в ладонь белый песок. Отделить песчинки от общей массы оказалось почему-то непреодолимо сложно, словно это было трагедией, словно это было предательством. Он глубоко переживал этот акт, это действие, эту скорбь. Он видел, как сносит белые крупицы жестокий ветер, и не понимал, как это возможно — быть хрупким настолько, чтобы покоряться этому ветерку. Как можно действовать так нелогично, чтобы самому подняться среди ночи на Машину и смотреть в сторону мира. Дойдо исходит песком. Газ истощается. Мир расширяется на погибель. Конструктор закрыл глаза и уронил руку. Регенерация со следующей за ней неизбежной эйфорией не пришли.
Когда он открыл глаза, то понял, что находится один на лежанке, что огонь не горит, а за стенами Машины ревёт Хаос. Конструктор не видел его, Врага, но по одному звуку безошибочно предугадывал каждое его движение. Он его помнил почти наизусть, он его понимал.
Он чувствовал, как сейчас там, наверху, на Машине, сидит на корточках Всадник Хаоса, как смиряет он взглядом безумное вещество, ревущее и желающее поглотить хрупкий мир, как подманивает Всадник его опущенной низко, до самой главы Машины рукой, тем самым предавая во власть Часовщика, который, облачённый в свет Сотворителя, уже готов раскрыть все свои шесть крыльев, и подняться высоко над Машиной, и одеть своим седьмым крылом мир, тем самым оттеснив от Хаоса, оторвав у него, отвоевав новое дойдо, которое поднимется вверх и будет гулять под солнцем, то закрывая его собой, то позволяя светить.
И Конструктор знал, что Враг ещё атакует, что он ещё огрызнётся, что вот-вот нанесёт страшный удар, и если Всадник не будет достаточно расторопен, чтобы взять его под свою власть, то он разметает их обоих — и Часовщика и Всадника — далеко, а один Ювелир бесполезен там, перед лицом Хаоса, он один ничего не сделает, а Конструктор сейчас здесь, он почему-то лежит и ничем не может им помочь.
Взяв себя в руки и стиснув зубы, демон попытался поднять голову и выйти из Машины, чтобы встретиться с Врагом. И если не помочь, то по крайней мере дать своё тело на регенерацию Всаднику или Часовщику. Ему удалось оторвать затылок от каменной лежанки, и он снова провалился в бессилие.
Следующим воспоминанием стала белёсая жирная масса у него на губах. Приподняв его голову ладонями, Часовщик терпеливо, по маленьким каплям давал ему ценнейшее вещество, скапливающееся на стенках баллона с газом и соплах конфорок. Они все четверо с величайшим почтением собирали его, запасая, чтобы не дать засохнуть. Ели они по очереди, не в каждый месяц и с величайшей бережливостью.
Очень часто эту еду получал тот, кто пострадал больше других. Чаще всего — Всадник Хаоса, поскольку он ближе всех находился к Врагу и отдавал ему больше других.
А сейчас Часовщик отдавал еду ему, Конструктору. Внимательно следил за тем, чтобы каждая мельчайшая капля попадала тому в рот. Однако Конструктору не становилось лучше, и еда не помогала. Так прошла ночь, вторая и третья. Конструктор метался в лихорадке, день и ночь оставаясь внутри Машины. Он понимал, что Всадник Хаоса смотрит в глаза врагу тем же взглядом, которым Ювелир смотрел в ту жестокую ночь в мир. Конструктор понимал, что это что-то значит и что к этому имеет отношение песок. В один из редких проблесков ясного сознания Конструктор понял, что все три ночи Ювелира в Машине не было.
Тогда Конструктор понял, что Ювелира здесь больше нет, что Ювелир ушёл. И что всё произошло из-за тех событий, когда Конструктор вернулся за ним в ночь. И из-за той ночи, в которую Ювелир не вернулся за Конструктором. И ещё дело, конечно, в дойдо и в песке. Дело в мире.
Пока Часовщик не работал с дойдо, не мог настать длинный день. Поэтому по истечении третьей ночи Часовщик больше не смог ждать. Он вынес Конструктора из Машины на руках и опустил на песок. Начал работать с дойдо через его глаза. Но в этот раз дойдо не уменьшилось. Что-то произошло, что-то кончилось. Не случилось даже мелкого песка, даже пыли.
Часовщик в ужасе отшатнулся от тонущего в лихорадке Конструктора, поскольку он понял всё об исчерпании мира. Гнёт дойдо скоро станет нестерпим. Неразработанное, оно притянет Хаос или поглотит мир.
Конструктор, собрав последние силы воедино, повернул голову прочь от Машины. Он посмотрел далеко, в сторону мира, и он увидел Ювелира там. На страшном, исключавшем всякую возможность вернуться к Машине до прихода ночи отдалении, в безумной глубине пустошей. Так непереносимо далеко, что Конструктору еле-еле хватало взгляда, для того чтобы различать его фигуру.
Но там, где находился Ювелир, белый песок обретал смысл. Конструктор боялся этого смысла, но в то же время это новое ощущение придало ему самому сил. Он повернул голову в сторону Часовщика, который пытался в этот момент работать с дойдо через Всадника Хаоса. Тот быстро слабел и становился сухим изнутри от этой работы, а само дойдо вело себя нестабильно, исходило микроскопической пылью, подвисавшей в воздухе. Дойдо стремилось к Хаосу.
Конструктор с трудом повернулся на бок. Затем он встал на четвереньки, затем на колени, затем на ноги. И он пошёл. Он поднял взгляд на дойдо. Он понял, что скоро настанет ночь. И что он уже слишком далеко — он не сможет добраться до Машины. Но он и не обернулся на неё и не попытался пройти к ней. Он знал, что уже никогда не вернётся.
Ночь пришла. Налетело белое, и пришёл сильный ветер. Конструктор шёл сколько мог, но силы его ослабли. Он знал, что забрался уже слишком далеко, что никто не поможет и никто не даст больше еды. Он понимал, что врастёт в белое и, возможно, не сможет добыть достаточно сил для новой регенерации.
Однако там, в этой безумной, нелогичной дали, песок грозился вот-вот обрести смысл. И он шёл туда. Ради этого белого песка. Потому что туда его звали они оба: солнце и дойдо. Он словно бы затылком ощущал, как его проводил взглядом Часовщик. Должно быть, он таким образом прощался с Конструктором, как попрощался с Ювелиром ранее. Теперь они больше не были вместе, больше не были вчетвером. Часовщик остался в паре и команде со Всадником Хаоса. В этот раз обработают дойдо и встретят Врага они только вдвоём.
Ночь продолжалась не очень долго, потом дойдо оставило солнце, а затем почти сразу же опять укрыло его собой через неровный, предательски короткий промежуток. Обе ночи Конструктор выдержал вне Машины, но ветер сорвал большую часть кожи с его тела, а регенерация исчерпалась. Должно быть, она захлебнулась из-за болезни и навсегда оставила Конструктора.
На третий, длинный, день пути Конструктор добрался до Ювелира. Тот пострадал ещё больше, поскольку находился вне Машины уже пятую ночь.
Они оба находились среди ничто. Вокруг, насколько хватало глаз, был только песок. Они вдвоём стояли на небольшом возвышении над остальной пустошью. Машину отсюда было видно, но уже с большим трудом. И из-за взвеси, в которую превращалось в этом месяце дойдо, её силуэт казался размытым, словно бы ненастоящим, несбыточным.
Конструктор понимал, что они с Ювелиром находятся в другом мире. И он понимал причины, по которым Ювелир ушёл от Машины в него. Он не умел назвать эту причину словами, но очень остро её ощущал. И всё же, кроме неё, кроме этой причины, кроме этого возвышения и этой пустоши, вокруг не существовало ничего.
Конструктор вспомнил дойдо и вспомнил те дни, в которые оно давало нужные вещи. Это не были те вещи, которые Конструктор хотел. Очень часто он, к примеру, хотел, чтобы у него был материал ещё для одной Машины или хотя бы что-то, чем её можно укрепить. Но когда дело касалось только желаний, дойдо никогда не давало этого. Дойдо реагировало не на эмоции и не на потребности, нет. Оно было настроено на что-то более глубокое, какое-то внутреннее понимание Конструктора, его странное, но оформленное представление о чём-то новом.
Не просто не существовавшем ранее, а не созданном, не обдуманном ранее, как концепция. Оно словно питалось какой-то глубокой, экзистенциальной потребностью, которая исчерпалась в окрестностях Машины. Которая не могла быть обновлена в безопасном ореоле двух-трёх метров от Машины и уютном газовом тепле внутри. И тогда, в ту ночь, когда Конструктор заболел, Ювелир понял необходимость этого обновления у него внутри.
Да, Ювелир не пошёл за ним в ту ночь. Но он тем не менее вышел к нему из Машины на улицу и смотрел всю ночь в мир, он искал это место. То, где они сейчас оба стоят, где пустоши только, где никого и ничего нет.
Конструктор даже не представлял, что может случиться дальше. Они оба выдохлись и почти исчерпали свою регенерацию. Они уже вряд ли могли вернуться, и они здесь ничего не нашли. И всё же, несмотря на снедающую его слабость, на лихорадочный озноб, снова возвращающийся в его тело, Конструктор продолжал держаться на ногах.
Ювелир подошёл к нему ближе. Он опустился на корточки перед ним и ободранным ветром до костей, обмороженным дочерна пальцем провёл линию перед ногами Конструктора.
Неровную короткую линию на песке — вот зачем нужен был песок. Конструктор вдруг понял, что это вокруг них — это земли печалей. Что Ювелир привёл его в земли печалей и теперь предстоит самое главное.
Конструктор переступил через линию. Он преступил порог, он вошёл куда-то ещё. Чего раньше не существовало, что только что оказалось создано и осмыслено, чего как концепции, как философского понятия раньше просто не могло быть — Конструктор преступил Первый Порог.
Он вошёл внутрь дома.
Раньше он никогда не думал о доме, но сейчас, после того как он вошёл, после того как Ювелир пригласил его внутрь, он оказался полностью и абсолютно вовлечён в видение завтрашнего дня, в созерцание будущего. В ясное и горькое видение прекрасного. Он увидел дом, который ещё предстоит построить. И быть в нём, и разделить творение мира и творение Машины.
Вспомнив о ней, Конструктор оглянулся через порог на границу мира и Хаоса. Он вспомнил о Ювелире, посмотрел на него. Тот работал над тем, чтобы очерчивать периметр будущего дома, работая по песку и с помощью песка. Конструктор несколько раз поправил его, указав, как будет должно.
Но потом длинный день иссяк, дойдо вовсе рассеялось, и начал подступать Хаос. Ювелир, поспешил использовать последнее, ускользающее время для того, чтобы вернуться к Машине и помочь Часовщику и Всаднику Хаоса в битве с Врагом.
Как только он переступил Первый Порог назад, к месту Творения, видение дома для Конструктора исчезло. Вокруг снова остался только однообразный, бессмысленный вид пустошей. Делая всё, чтобы вернуть только что мелькнувшее ощущение осмысленности, Конструктор потянул брата назад, опять за Порог, опять туда, домой, под ещё не существующий потолок, внутрь стен, которые никто ещё не воздвиг.
Конструктор понимал, что Ювелир стремился вернуться назад не просто так, что Хаос очень опасен и что любая помощь во время Шага вперёд важна. Он знал, что пора возвращаться, пора снова прийти в настоящий мир, в реальный мир, в Машину. Что Враг реален и что Машина полна жизни. Даже если Часовщик и Всадник Хаоса, оставшись только вдвоём наедине с Врагом, победят его и снова насытят дойдо, сколько времени Ювелир и Конструктор смогут просуществовать здесь, вне Машины, в белом?
Ювелир, сделав под напором Конструктора Шаг назад, обернулся на него. Он не сопротивлялся напору Конструктора и не оскалился. Не демонстрировал своей готовности к отстаиванию собственного мнения. Он просто надеялся, что Конструктор позволит им двоим жить.
Но мир изменился. Мир уже изменился, и Конструктор потянул его назад с новой силой. Поняв, что Конструктор не отступится, Ювелир попытался приложить все усилия для того, чтобы вернуться к Машине, и снова выбрался за порог дома, проявляя благоразумие и желая, чтобы и Конструктор его проявил. Очертания будущего снова исчезли.
И само это понимание, само знание о том, что будущего больше нет, что оно снова стало невидимым, а дойдо продолжит исходить пылью, привело Конструктора в ярость. Ювелир сопротивлялся, однако острое, непереносимое ощущение неверности мира, несправедливости мира, в котором нет места для будущего, придало Конструктору небывалую силу. У него никогда не было столько силы, даже жажда жизни, жажда крови или еды, оголённое горькое желание победы над Хаосом не давали Конструктору притока энергии, столь необузданной. Он напал и сделал с Ювелиром всё, что счёл нужным.
Сквозь прозрачные стены грядущего дома он злобно наблюдал за тем, как Часовщик освободил шесть своих крыл, и Всадник Хаоса оседлал Машину, и вместе они, как единое целое, встретили надвигающегося Врага. Конструктор, перебирая в пальцах волосы избитого им до полусмерти, потерявшего силы для регенерации Ювелира, думал о том, как отнять у Машины котёл.
И вот Враг напал. И в этот момент Конструктор понял, что не сможет отнять котёл у Машины. Потому что для этого придётся снова воссоединить разошедшиеся миры, а это уже невозможно. Ему не вернуться никак, потому что Порог так и должен будет оставаться не преступленным.
Пока Хаос ещё кричал и бился, захваченный Всадником в силок, ещё не покорившийся, но уже подготовленный к тому, чтобы седьмое крыло Часовщика отсекло часть его тела для дойдо, Конструктор уже рыл руками песок, думая о том, чтобы создать хотя бы какое-то укрытие на время ночи. Он подумал совершенно ясно и неожиданно, что песок не мог весь насквозь врастать в белое, иначе белое не уходило бы от солнца так быстро, а оставалось бы внутри песка. Но перед ночью он не смог ничего сделать. Ночь пришла и настигла их обоих.
Испугавшись, что Ювелир умрёт и дом навсегда исчезнет, Конструктор накрыл его тело своим, и ветер добела отполировал кости рёбер у него на спине.
А когда прошла ночь, стало ясно, что Конструктор тоже не мог больше восстанавливаться с помощью регенерации: они оба получили слишком тяжёлые повреждения и пробыли вне Машины слишком долго. Пока их тела ещё не окончательно вросли в белое, Конструктор протянул руку и заново прочертил стёршуюся от ветра линию на песке, которую до этого сделал Ювелир. Ветер быстро развеял её, и больше Конструктор не возобновлял этой линии. Потому, что Порог установился. Потому, что он больше не был равен линии, не выражался в ней, и оттого ветер уже никак не мог бы ему повредить.
Демон понял, что ему повезло — начался регенеративный шок, а значит, скоро наступит эйфория. Во власти этих чувств Конструктор думал только о доме и забыл о том, что сил для регенерации у него совсем не было и она не могла бы наступить без внешнего вмешательства. Он осознал это уже на излёте, уже поняв, что не может шевелиться, и резко вскинулся в ужасе, предчувствуя, что снова оказался в Машине, и Часовщик сейчас сидит над ним и снова отдаёт ему питательный экстракт, жизненную эссенцию, а значит, дома больше нет.
Но всё оказалось не так. Рядом с Конструктором горел огонь. Вовсе не то ровное, тихо шипящее пламя, которое поднималось от костра в Машине — здесь горел яркий, рыжий и довольно шумный огонь, подрагивавший от ветра. Он поднимался из ямы, которую Конструктор вырыл перед приходом Хаоса. И сейчас Ювелир, обложив камнями это углубление, иногда подбрасывал в костёр тот песок, который в последнее время давало дойдо. Когда ветер проносил мимо пламени песчинки, те вспыхивали яркими искрами.
У Ювелира был потухший, словно бы обесцветившийся взгляд. Демон дрожал от мелкой, слабой волновой регенерации, признака еле-еле восстанавливающегося после крайнего истощения тела. Он повторял операцию с подбрасыванием песка, словно не замечая, что способ подачи топлива неэффективен, и костру нужно подавать песок снизу, чтобы тот прогорал медленнее и пламя было ровнее, вместо того чтобы так опасно вспыхивать.
Конструктор заметил, что воздух очистился и в нём больше не было той мелкой взвеси, на которую истаяло дойдо, когда Часовщик работал с ним через Всадника Хаоса. Отвернувшись от костра, Конструктор, лёжа на боку, стал смотреть за тем, что происходит вокруг Машины. Он не обращал внимания на то, что сейчас день и нужно бросать все усилия на работу, чтобы что-то сделать для дома и подготовиться к ночи. Не следил за перемещением дойдо по небосводу и не оценивал его размеры. Он только следил за Часовщиком.
После того как ушло белое, Всадник Хаоса и Часовщик вышли из Машины и принялись её осматривать. Они не сильно пострадали при Шаге вперёд и, как показалось Конструктору, хорошо согрелись в Машине, поскольку во время Шага вперёд им не пришлось заботиться ни о Конструкторе, ни о Ювелире и отдавать им свою плоть. Конечно, всё могло закончиться не так хорошо, если бы сам Шаг оказался неудачным и кому-то из них понадобилась бы быстрая пища, но всё вышло как вышло, и сохранённые ресурсы принесли больше пользы.
Часовщик отошёл от Машины на максимально безопасное расстояние, оценил дойдо, посмотрел в сторону дома и поднял руку. Конструктор, поразмыслив над этим жестом, поднял руку в ответ. Затем к Часовщику подошёл Всадник Хаоса и встал перед ним на колени. Часовщик взял его голову, повернув так, чтобы было удобно.
Неожиданная, яркая догадка пронзила сознание Конструктора, и тот бросился к костру, начав заваливать пламя камнями. Ювелир оскалился, попытался защитить огонь, но Конструктор не показал зубы в ответ и не стал нападать. Он только прижал место погасшего кострища руками и посмотрел Ювелиру в глаза. Неспокойно, нервничая, ищуще.
И Ювелир отстранился от предмета их спора. Конструктор своим взглядом просил у Ювелира доверия, и Ювелир поверил ему.
Дойдо начало рассыпаться мелкой пылью всё ещё далеко от солнца. Эта неприятная взвесь заполонила собой воздух, а когда Всадник Хаоса упал под ноги Часовщику и тот поднял его, чтобы отнести к Машине, Конструктор взял назад забранное у него Ювелиром ради костра Острое и высек искру.
Мир на мгновение оказался объят пламенем. Весь. Оно сверкнуло, превратившись в существовавший меньше мгновения огненный полог, а потом без следа исчезло, забрав весь воздух с собой. Конструктор знал, что это было от искры.
Он оглянулся на Часовщика и поднял руку. Замерший на пороге Машины, Часовщик ответил ему тем же. Воздух начал потихоньку возвращаться.
Ювелир поспешил восстановить костёр. Конструктор не стал учить его подавать песок в огонь правильно, потому что дойдо уже почти закрыло солнце. Ночь пришла, а белое — нет. Они сидели перед костром досветла, не ложась, но и не работая. Оба провели это время каждый в своих мыслях. Конструктор смотрел на дом, а потом Ювелир отвлёкся от огня и тоже поднял глаза. Конструктор знал, что Ювелиру не дано видеть будущий дом так, как Конструктору. Поэтому Конструктор не мог понять, на что именно смотрит Ювелир так внимательно и так увлечённо. Но Конструктор хотел узнать и хотел понять суть и ход мыслей брата. Что там, наверху, в непроглядной тьме, увлекает его? Раньше не случалось ни одной такой ночи.
После её окончания они принялись за работу. Необходимо было сперва разобраться с костром, подачей песка в него и укрытием от ветра на последующие ночи. Конструктор занялся первым, а Ювелир — вторым. К сожалению, и на то, и на другое требовался материал, а достаточно камней в безопасном и даже опасном периметре не хватало. Разумнее показалось заняться стенами, и они объединили свои усилия.
Оценив риски и снова поступив мудро, Конструктор в этот раз переждал период работы с дойдо, но снова разжёг костёр только после того, как взвесь улеглась, поскольку заботился о кислороде. Хотя он понимал, что это значит, что ночью опять придёт белое, он согласился на те страдания, которые белое несло с собой. Ювелир не противился ему, спокойно позволив принять решение по той причине, что прошлое решение Конструктора оказалось правильным, а Ювелир был готов рисковать жизнью ради наилучшего исхода для дома. Дома, которого он даже не видел и о будущем которого ничего не знал.
За возведёнными за промежуток перед новой ночью стенами Конструктор и Ювелир смогли спрятаться, улёгшись на бок и прижавшись крепко к кладке вокруг костра, и так они провели ночь. Белого оказалось существенно меньше, чем обычно, и они не вросли в него, хотя и тяжело пострадали.
Утром они продолжили труд. Конструктор часто оборачивался на Часовщика, понимая, что пора продумывать порядок и способ их нового воссоединения, поскольку для дома очень нужны лучшие вещи от дойдо, а песок, пусть и оказался удобен для того, чтобы не врастать в белое, всё же опасен. И Машина всё ещё находилась в опасности, а без газа в очаге в смертельной опасности были также Часовщик, Всадник Хаоса, а с ними весь солнцехранимый мир.
Тем не менее Конструктор понимал, что он ни за что не сможет вернуться к Машине. Что он скорее умрёт и убьёт Ювелира, чем переступит Порог опять. И что Часовщик, лишённый этого ограничения, не сможет добраться до них, поскольку пройти и туда, и назад за один долгий день невозможно — обязательно придётся прихватить пару ночей. А между тем каждый день нужно работать над дойдо, иначе оно вберёт в себя мир. Вернуться же нужно до прихода Хаоса и остаться при этом здоровым, иначе Хаос победит Всадника и пожрёт мир.
Часовщику никак не попасть к ним. Просто не успеть. Конструктору не вернуться назад. Построить дом не хватит материала, да и доступный песок скоро закончится.
Чувствуя отчаянную беспомощность, Конструктор обернулся к Ювелиру, требуя от него решить эти парадоксы, придумать, создать, как он создал понятие дома, понятие возвращения: одновременного преступления Порога и фикцию нахождения внутри. Сделать так, чтобы возможно стало и идти куда-то ещё, и оставаться в доме. От этой фикции, ложного эйдоса, от этого разрешения конфликта внутри сознания Конструктора сейчас зависело всё, зависел мир, поскольку существование только вокруг Машины тоже уже обречено. Без концепции возвращения наступало время ххра — того, что вело к гибели в торжествующем Хаосе.
Ювелир встретил взгляд Конструктора прямо. Он понимал, чего Конструктор хотел от него, и мог это дать, уже давал, но между ними в воздухе разлилось предвкушение трагедии и боли. Это и было возвращение. Конструктор закричал от внутреннего горя, от несогласия и от отчаянного нежелания конфликта, и Ювелир напал.
Он опрокинул только что возведённую каменную стену на Конструктора. Уничтожил всё, что они вместе смогли сделать, ради чего работали, ради чего страдали все эти ночи под белым. Тяжёлые камни перебили Конструктору ноги у бёдер, регенерация бросилась их восстанавливать, но Ювелир не дал. Какое-то время Конструктор думал о том, что действия Ювелира сакральны, что они имеют какой-то больший, чем видимое, какой-то великий, скрытый смысл и ему следует покориться, однако не смог. Очень скоро злость за уничтоженную работу, перспектива возвращения, мысль о временном оставлении, о разлуке с константным видением дома полностью поглотили Конструктора, и больше он не был согласен на путь к Машине, если идти следует этим путём.
Исступлённо, со всей доступной ему яростью, он бросился на Ювелира, сначала последним проблеском сознания планируя только снова избить брата до полной потери сил и затем держать его тело в беспомощности, но скоро Конструктор вовсе потерял над собой контроль. Он чувствовал только то, что есть он и есть нерушимая связь с будущим, и не может никто, никто испокон этого мира вставать между ним и этой связью, и никто не может диктовать своего права на неё.
Ослеплённый и поглощённый неистово пышущей злобой, он снова победил, но не понял, когда именно пришла эта победа, и остановился только тогда, когда силы окончательно его покинули.
Пребывая внутри собственных мыслей, внутри необходимости постулирования своей правоты и своего права на созерцание будущего, он ещё долго держал свою власть над Ювелиром, не убивая его, но и не давал сил, чтобы восстановиться.
Два следующих дня он, пуская и не пуская огненную волну попеременно, работал один. Потом материал в безопасном периметре кончился. Потом кончился песок. В длинный день Конструктор ничего не смог сделать. Он только сидел подле Ювелира, с машиноподобной закономерностью нанося тому удары и придушивая.
Потом пришёл Хаос, первая, самая холодная ночь, в которую Конструктор пустил огненную волну. И в следующую. От отчаяния. Просто чтобы согреть.
Из-за этого воздуха стало не хватать, а затем сам дом принялся меркнуть. Конструктор понял, что дело заключалось в тающих силах Ювелира. Он предложил тому свою плоть, но Ювелир не смог есть. Не прореагировал ни на запах кожи, ни на тёмную густую кровь.
Не зная, как поддержать ему силы, Конструктор осмотрел кирпичи дома. Оглядывая алчно каждый миллиметр, он, к своему огромному счастью, нашёл там крупицы жирного питательного налёта и вытер о губы Ювелира. Однако тот не впитался, а дом почти полностью померк.
Конструктор победил. Он отстоял своё право, но теперь для воплощения его ясного видения будущего не было ни материала, ни сил, и само ясное пророчество, вёдшее демона до того, готово было вот-вот перестать существовать.
Конструктор оказался в самом сердце отчаяния, он понял, что нужно вернуться к Машине, вернуться любой ценой. Что нужно бежать назад, потому что это единственный шанс для дома.
Демон подсунул руки Ювелиру под плечи и колени, чтобы отнести к Всаднику и Часовщику, но у него не хватило сил поднять брата. И не хватило сил встать самому.
Задыхаясь горем, он опустил голову Ювелиру на грудь и в наступающей короткой ночи у него по щекам, прямо из глаз, пошло белое и замёрзло в ледяных ветрах ночи.
Той ночью силы Конструктора окончательно закончились, и регенерация больше не пришла.
Очень многих событий после той ночи Конструктор не помнил, хотя почти всегда оставался в ясном сознании. Он полностью осознал себя в тот момент, когда понял, что песок вокруг места, где мог быть дом, горел.
Он горел уже который день. Пожар не прекращался с приходом ночи — ветер только раздувал пламя. Конструктор не помнил, как он начался, как Часовщик и Всадник Хаоса, отреагировав на то, что Конструктор однажды не поднял руку в ответ, пришли за ними с Ювелиром. Рискуя собой и всем миром, они вдвоём отнесли Конструктора и Ювелира к Машине.
Сейчас же Конструктор сидел наверху и смотрел на пожар. Пожар означал, что песок, сколько бы его ни просеялось за прошлые периоды из дойдо, сгорит весь, без остатка. И что топлива для костра вокруг Машины больше нет.
С тех пор как Конструктор пришёл в себя от регенерации, он так и сидел здесь, глядя на то место, где мог встать однажды их дом. И ничего не видел.
Ювелир всё ещё находился внутри Машины. С ним постоянно находился Всадник Хаоса, не оставлявший надежды на то, что, согревшись и отдохнув от пронизывавшего ветра, Ювелир сможет хотя бы проглотить кровь. Ни Часовщик, ни Всадник Хаоса не понимали, что случилось с Ювелиром в доме, если ни один Шаг вперёд, ни одна встреча с Хаосом не имела ни для кого из демонов таких последствий.
Они не знали, что такого сделал с Ювелиром Конструктор, чего даже Хаос не смог. Конструктор не потрудился объяснить, хотя знал ответ: Враг неразумен. Кричащий или нет, желающий поглотить весь мир или отступающий от сияния седьмого крыла, Хаос остаётся неживым. Он неразумен. Хаос не знает, как поступить с демоном, чтобы его уничтожить, а Конструктор знает. Конструктор знал, куда бить и как. Он знал, что он делал. Поэтому у Ювелира не было страшно выглядевших повреждений, какие оставлял Хаос, но он тем не менее всё дальше уходил в смерть.
Из-за пустых надежд на выздоровление Ювелира Всадник не помогал Часовщику. Все вместе демоны всё больше увязали в бездействии, растрачивая последние ресурсы, но всё зря. Конструктор знал, что зря.
Конструктор тоже не ел. Не грелся. И не двигался.
Газ у них кончился. В прошлом Шаге вперёд, к которому Часовщик и Всадник Хаоса еле-еле успели вернуться и который прошёл неудачно, Машина сильно пострадала, и чинить её было нечем. Теперь у неё зияла дыра с одного бока, а где взять материал на её починку, никто не знал. Дойдо им ничем, наверное, уже не могло помочь.
Уходило их последнее время. Пожар пока достаточно согревал их и защищал от ночи, оставаясь безопасным, поскольку песок у Машины прогорел быстро и пламя достаточно скоро ушло от них на достаточное расстояние.
Но огонь стихнет рано или поздно. Дойдо изойдёт пылью и исчезнет, будет новый Шаг, придёт пронизывающий ветер, снова, насытившись из бессмысленного вещества, придёт белое. И тогда они замёрзнут насмерть все четверо. Врастут в белое, которое не уйдёт, поскольку некому будет работать с дойдо, и длинный день не наступит. Тогда придёт Хаос и всех их поглотит.
Прошла ночь. За ней наступил, должно быть, последний длинный день. Дойдо, как и думал Конструктор, дало лишь бессмысленную горючую пыль, которая тут же прогорела наверху бушующего пламени, там, над пожаром, образовав из себя слепящий, искрящийся венец над головой огненного шторма, шествующего внутрь пустошей.
На исходе месяца, по пришествии Хаоса, Конструктор спустился с Машины и зашёл внутрь. Всадник Хаоса сидел на лежанке, держа на руках тело Ювелира, Часовщик стоял рядом, положив Всаднику руку на плечо. В воздухе витала смерть, первая смерть этого мира.
Оба демона подняли головы на вошедшего Конструктора. Тот холодно встретил их взгляды и закрыл за собой дверь. Наступал Враг. Но Враг, понятный им, жестокий, но известный Враг лишь только наступал, а смерть уже была здесь. Конструктор был здесь. И все приняли это. Все приняли, что смерть — отныне и навсегда — это теперь только Он.
И Конструктор напал. Это не было яростью, не было жестокостью и не было продиктовано исступленной борьбой за жизнь. Конструктор действовал не хладнокровно — им управляла внутренняя неутолённая боль. Она проявлялась не хаотично, но с неимоверной силой, которая становилась только больше от того, что ни Часовщик, ни Всадник Хаоса не знали, зачем они должны защищать себя от Конструктора.
Когда он впервые нанёс удар, они не понимали, что происходит. Может быть, потому, что всё, что произошло с домом, всё, начиная от болезни Конструктора, научило их быть мягче друг к другу, научило их доверять.
Но Конструктор не воспринял этой науки. Пропущенного первого удара ему хватило, чтобы дальше добивать так, как он хочет. Часовщик пострадал больше, чем Всадник Хаоса, и, повергнув его, дойдя до конца его регенеративных сил, Конструктор, тяжело дыша, возвысился над ним и… оставил его жить.
Сегодня пришла смерть, и один из демонов должен был умереть. Конструктор выбрал кто. Он понимал, что есть только один правильный, угодный миру выбор. Он увидел этот выбор и отверг его.
Он подошёл к лежащему в луже собственной крови Всаднику Хаоса. Тело его сотрясалось в конвульсивной пляске регенеративного шока. Конструктор нагнулся над ним, приподнял за волосы. Конструктор выбрал, как определить этот мир, он выбрал свой путь и выбрал путь за своих братьев. С которого никогда и никто из них уже не сможет свернуть.
В этот момент дверь внутрь Машины распахнулась. Не сама, не от ветра. Её распахнула женщина. Стоявшая там, на пороге, впервые появившаяся, впервые виденная, созданная только теперь, она пришла сюда ради Конструктора, ради него одного.
Он посмотрел ей в глаза спокойно, не растворившись в золотом сиянии её лица и не преклонив перед ней колени. Он понимал, что она есть и всегда была той самой причиной, почему никто из демонов до сих пор не умер, почему они регенерировали снова и снова. Он знал, что, пусть и не явленная, она всё это время давала им силы сражаться.
И он понимал, что она пришла в этот мир во плоти, что она пришла сюда для того, чтобы предотвратить что-то фатальное, ужасное.
И у её пришествия есть причины. Глубокие причины бытия этого мира. Она пришла потому, что Конструктор оказался, на беду, умнее неё и смог нанести Ювелиру такие повреждения, от которых она не могла его спасти. Поэтому она пришла просить за смерть. Пришла просить оставить вещи идти своим чередом, чтобы мир жил. Иначе он умрёт, иначе мир не сможет идти дальше.
Был естественный порядок вещей, было ужасное будущее, и были эти полные мольбы и жалости к Конструктору глаза, упреждающие его от страшной ошибки, непоправимых последствий. Это были глаза самой доброты, воплощённой в теле демонессы Милосердия. Но Милосердие не могло помочь Конструктору сделать дом. И Машина не могла, и Часовщик. И мир, если невозможно было в нём сделать дом, должен был провалиться в Хаос.
Милосердие пришло, но слишком поздно. Милосердие пришло, но смерть пришла раньше. Смерть изнутри дома холодно и жестоко смотрела на сияющий лик Милосердия, застывшего на пороге.
Мгновение.
Конструктор, не колеблясь, разбил голову Всадника Хаоса о стены Машины. Бил и бил до того времени, пока череп не раскололся совсем и мозг не вывалился.
Конструктор взял в руки этот мозг. Машина дрожала всем своим существом от тяжёлой поступи Врага, которому уже никто не мог противостоять.
Поворачиваясь от мёртвого тела Всадника Хаоса прочь, Конструктор зацепил взглядом застывшего в ужасе Часовщика, который чувствовал в этот момент, что приближение Хаоса теперь уже не важно, не имеет больше значения, поскольку мир уже мёртв, и мёртвым он стал именно в это мгновение. И Конструктор был с ним согласен.
Он подошёл к Ювелиру, открыл тому рот и густо вымазал всю внутреннюю поверхность рта и горла мозгом Всадника Хаоса. Это не возымело никакого эффекта, впрочем, Конструктор его и не ждал.
Машина жестоко тряслась от поступи приближавшегося Врага. Она трепетала, она готовилась к тому, что её проглотит бездна, а Часовщик так и оставался внизу, на полу, не решавшийся подползти к телу Всадника Хаоса, боящийся Конструктора странным, интуитивным страхом и знавший, что мир кончился. Что бессмысленно подниматься наверх, что крылами своими он никогда не укроет мир, и был прав.
Пришло время свидетельствовать смерть. Конструктор поднял тело Всадника Хаоса на руки и с ним взошёл на верх Машины. Он посмотрел в глаза Врагу и оскалился, зарычав на него.
Он кричал, освобождая идущую изнутри него боль, какая была больше любой боли тела. Кричал, и крик этот, тонущий в пляске наступающей смерти, был громче и свободней всего, что звучало над этим миром, и этот крик освобождал всё, что томилось у демона внутри. Он примирял его с Машиной, домом и миром, потому что оплакивал их и потому что Конструктор сделал всё, что мог сделать, и примириться с иным и отсрочить смерть было трусливо и глупо.
Иссякнув, Конструктор умолк.
Проглотив его крик, его боль, как жертву, Хаос быстро ощерился. За спиной Конструктора появился Часовщик. Хватаясь за стены Машины и подтягивая на них плохо слушавшееся тело, демон поднялся до половины, чтобы увидеть, что Хаос близко и что некому усмирить Хаос.
Он освободил все шесть крыльев и, оставляя густые капли крови от израненных ног, поднялся наверх, над Машиной, над Конструктором, над домом. В час конца мира он делал то, что делал каждый раз в час его триумфа. Потому что таково было его место, и на этом месте он стоял.
Оглянувшись на невозмутимое лицо Часовщика, не смотревшего никуда, кроме как в лицо Врагу, Конструктор швырнул тело Всадника Хаоса туда, за край мира, в объятия подступающего разрушения.
Конструктор раскинул руки, принимая это разрушение, зовя его, требуя его себе, потому что не было больше дома, а без дома не было больше мира и не было мира сердцу его. Выбирая между принятием мира таким, как он есть, что означало жизнь, и дорогой непокорства, дорогой боли и творчества, что означало смерть сейчас, Конструктор кричал в лицо Хаосу, и звал себе смерть, и был смертью сам.
Конструктор не хотел бессмысленного Хаоса. Он хотел себе Хаоса как врага, как мыслящего противника, которому Конструктор сейчас проиграл, выбрав творчество, а вместе с творчеством — смерть.
И Часовщик услышал чужой голос. Идущий оттуда, из Хаоса. И он впервые увидел лицо Отца. Появляющееся из недр Врага, проступающее на фоне беснующегося вещества и непоглощаемого мира.
Каменный лик, недвижная статуя, на чьих руках таяло в безумном танце тьмы тело Всадника Хаоса. И в тот миг, когда труп распался совсем, от статуи, как из центра, во все стороны подул резким порывом сильный ветер. Был свет. Единственная яркая вспышка, а потом статуя Сотворителя упала рядом с Машиной, и Хаос пошёл на мир.
Напал жестокий, напал всеразрушающий. Напал и оказался захвачен Всадником Хаоса, поднявшимся от статуи Сотворителя и сделавшим то, что делал он всегда, каждый Шаг вперёд: он укротил Хаос и сделал новое дойдо, которое Часовщик, освободив своё седьмое крыло, отделил от тела Врага и отправил блуждать по небу, к солнцу.
Часовщик смотрел на Всадника Хаоса. Он выглядел теперь по-другому, и на его теле не имелось ни единого шрама. Но различия между инкарнациями стёрлись быстро, Часовщик почти сразу забыл, что когда-то было другое тело и были шрамы на нём.
Весь мир наполнила тишина. Дойдо медленно перемещало тёмное тело по небу. Близилась ночь.
Все трое демонов зашли внутрь Машины, без единого лишнего движения улеглись, плотно прижавшись, чтобы сохранить тепло на лежанке над потухшим огнём. Чтобы хранить тепло. Длань Милосердия сделала так, как они делали.
Когда ночь кончилась, Конструктору ещё долго было холодно, хотя Машина всё ещё оставалась прогретой. Первым встал Ювелир. Он медленно добрёл до выхода, открыл дверь, но ноги у него постоянно подгибались от слабости. Потому демон долго набирался смелости, для того чтобы выйти наружу.
Дойдо быстро поползло к солнцу, и день потому обещал быть коротким.
Конструктор в меркнущем свете подступающей ночи спустился вслед за Ювелиром, подошёл к нему и перекинул его руку себе через плечо. Ювелир, сжав крепко зубы, оттолкнулся от стены и опёрся на Конструктора.
Вместе они направились прочь от Машины. Терять время было нельзя, поскольку пожар уходил всё глубже в пустоши, и вместе с ним уходила возможность работать в течение ночи. Их скоро догнал Часовщик. Он поднырнул Ювелиру под другую руку, и так они все трое ускорили шаг, чтобы добраться домой до темноты.
Часовщик ни разу не обернулся на Всадника Хаоса и Длань Милосердия. Они теперь остались у Машины, потому что каждый из демонов знал: Всадник помнит, что было, и никогда не простит Конструктора. Не простит потому, что он не согласен с миром, который может существовать, только пока в нём есть прощение. Прощение и принятие как необходимая ежедневная жертва, умение жить дальше, когда совершено то, что никогда нельзя было совершать.
И тем не менее Конструктор получил своё возвращение. Возвращение домой. Когда они добрались до порога и видение будущего дома снова предстало перед ним, Конструктор отпустил Ювелира, который, упав на колени, тут же принялся за восстановление очага. Часовщик, осмотревшись вокруг, без страха вышел за периметр дома, чтобы найти материал.
Конструктор стоял неподвижно и ничего не делал. Он смотрел на бушующий вдалеке пожар, шум от которого всё ещё был слышен очень отчётливо, смотрел на Машину, о которой Всадник теперь заботился один. Это не была Машина Творения, нет, это была Машина Жизни. Она охранила их от первых атак Хаоса, она позволила им мечтать о чём-то большем и теперь отпустила в дом.
Ночь, оказавшаяся в этот раз совершенно нехолодной и не заставившая ни Ювелира, ни Часовщика ни на минуту прекратить работу, тем не менее скоро растаяла.
Тогда Часовщик подошёл к Конструктору, чтобы через него работать с дойдо. Конструктор опустился на колени и поднял голову к Часовщику, так чтобы тому было удобно. Он был рад этому. Он предвкушал, что дойдо в этот раз даст что-то полезное, что-то такое, что позволит не отходить от дома далеко и строить его быстрее. Может, что-то для очага или стен. Может, даже для крыши. Но в этот раз ничего подобного не было. Дойдо, сильно похудев, снова сделало что-то непродуктивное, не заметное глазу. Но что?
Может быть… воздух? Огонь забрал в последнее время много воздуха, Конструктор даже боялся, что он может забрать его весь. Или подземный газ? Тогда горелка в Машине больше не даст Всаднику замёрзнуть, и они смогут обустроить очаг здесь. Но как это узнать?
Конструктор не догадался. И этот месяц, и следующий дойдо больше ничем им не помогло. Оно рассеивалось сильно, обеспечивая по два длинных дня за месяц, но вокруг не происходило никаких видимых, полезных изменений. Песок так и не появился, но они снова отыскали газ. Прогорал он в очаге, поднимаясь прямо из-под земли. Видимо, дойдо запасло его там много.
Часовщик, который сначала долго работал над домом, позже всё чаще стал работать рядом с Машиной, думая над статуей, которую они обрели из Хаоса. Камень, из которого она была создана неизвестным существом там, внутри Врага, оказался очень тяжёлым, и руками статую было никак не поднять. Однако Часовщика она привлекала, и скоро он принял решение остаться подле неё. Всё чаще хотел видеть рядом с собой Ювелира.
Дом к этому времени был во многом уже построен, и Конструктор дал разрешение Ювелиру иногда уходить. Он понимал, что нужно строить что-то ещё. Он понимал, что, наверное, Часовщик благодаря Ювелиру видит над статуей из Хаоса что-то настолько же ясное, насколько Конструктор раньше видел дом. Что Ювелир нужен Часовщику. И поэтому Конструктор старался быть добр.
Со временем расстояния, которые они проходили за день, становились всё больше. Раньше это было из-за поиска материалов для дома, а потом просто потому, что ходить, даже ночами, начало становиться безопаснее. Ночью всегда было холоднее, но белое перестало приходить.
Конструктор долго думал об этом, до тех пор пока однажды они не набрели на него: на всё белое мира. На то, над чем всё это время работало дойдо.
Он нашёл озеро. Первое в мире озеро, полное белого. Конструктор, остолбеневший от поразившей его красоты, сперва долго стоял на дюне над ним и просто смотрел на казавшуюся бесконечной гладь воды, которая нестерпимо блестела на солнце.
Но после того как первое впечатление небывалости увиденного исчезло, Конструктор дошёл до дома. Увидев, что Ювелира там нет и что он работает с Часовщиком над чем-то вроде дома вокруг всё ещё лежащей лицом вниз в песок статуи, он направился к Машине.
Подойдя к брату, Конструктор молча потянул его за собой. Часовщик хотел оскалиться на Конструктора, поскольку имел на Ювелира планы, но, увидев выражение лица Конструктора, не стал. Часовщик понял, что ничего плохого не происходит. Что, возможно, впервые на его памяти, возможно, впервые в мире Конструктор просит Ювелира пройти за собой просто так. Из приятного предвкушения. И отпустил Ювелира идти.
Конструктор привёл Ювелира к озеру.
Переполненный каким-то озорным предчувствием, он стал смотреть поверх воды. Та мерцала золотом от яркого солнца.
Ювелир, не остановившись, прошёл сквозь берег до кромки воды, присел на корточки, потрогав белое, и, удостоверившись, что оно не опасно, по пояс зашёл внутрь. Заметив бесцеремонное отношение к этому почти волшебному явлению, Конструктор долго и с интересом смотрел за тем, как Ювелир невозмутимо проводит водой по коже и как по золоту идут мутные разводы от грязи. Одновременно с этим тело Ювелира, получив определённое питание, регенерировало. Это обстоятельство будто бы приглашало Конструктора тоже войти внутрь озера и тоже исследовать это новое белое. Однако, ожидавший нового откровения, нового вызова, нового видения, демон оказался только разочарован.
Поддавшись этому расстройству, он молча сел на берегу и стал смотреть за небом у границы с водой и солнцем. Ювелир, окунувшись с головой и вынырнув на поверхность, громко позвал Конструктора за собой. Тот с удивлением отметил, что вода заставила Ювелира выглядеть иначе и что этот вариант внешности показался Конструктору более правильным. Ювелир позвал снова, но Конструктор не захотел к нему присоединиться.
Поняв, что видения не будет и откровения не случится, Конструктор направился в сторону дома. Он поднялся на склон над берегом и обернулся, чтобы удостовериться, что всё в порядке, и насладиться видом в последний раз.
И тогда с этой высоты он различил в дымке над горизонтом огромное призрачное строение. Оно плыло над золотом воды в сизых объятиях мягкого неба. Высокое, тонкое. Прочерченное параллельно глади, словно висящее в воздухе. Его ещё не существовало, это было потом, это было будущее, и Конструктор, затаив дыхание, смотрел на него.
Закончив с водой, Ювелир выбрался на берег и побрёл назад к Машине и статуе. Как только он пересёк линию прибоя, видение исчезло, и ничто больше не украшало озеро. Конструктор хотел было окликнуть брата и велеть тому вернуться на место, но поймал себя на том, что работа над этим казавшимся сейчас совершенно нереальным строением не может быть начата немедленно, что придётся терпеть и много ждать.
Поймав его ищущий взгляд, Ювелир остановился напротив него, посмотрел невозмутимо и стряхнул на лицо Конструктору последние капли с кончиков пальцев. С этим удалился дальше работать.
Конструктор остался где был.
Он не представлял, насколько долго ему придётся ждать, но уже знал, насколько это важно. Насколько это определяюще. Насколько большое значение имеет то, что однажды им обоим — и Ювелиру и Конструктору — придёт время построить Мост.
И

«И» соединяет и разделяет. Это маленькое слово, сочинённое кем-то, чтобы не ставить лишних точек, никогда не скрывает двойственность своей натуры трикстера, однако ему это удаётся, как никому другому. Кто из читающих задумывается, проглатывая глазами текст, какую именно роль играет «и» в этом или другом предложении, что оно делает: соединяет или разделяет его части? Это не имеет значения. Ведь, в сущности, всё зависит от самих этих частей, чем именно они являются на самом деле и как относятся к тексту, который они составляют, но на который не в силе влиять, и…
Под стрельчатыми сводами собора разливается жидкий утренний свет. За потемневшими от времени, укреплёнными контрфорсами стенами гудят магнитные сады. Пришла сакровая буря, границы между мирами истончились, и, пока всё не смолкнет, увы, нельзя начинать.
Смогу ли я дождаться момента, когда буря утихнет, не лишившись рассудка, не лишившись жизни? Увы, я не знаю. Сейчас я наслаждаюсь некоторым моментом просветления, ясного осознания мира вокруг, пришедшего тихой поступью на смену отчаянной болевой лихорадке, превратившей всю вчерашнюю ночь в тёмную, страшную воронку, затягивавшую в не имеющий времени мир агонизирующей боли.
Низкий вибрирующий шум, исходящий не то от колобродящих механическими ветвями на ветру садов, не то от самого неба, резонировал внутри моей головы, порождая эти муки, начавшие переходить к полуночи в мозговые схватки, а к рассвету всё выродилось в уже знакомые мне припадки. Но это ушло.
В собор Изучения мозга и высшей нервной деятельности при Институте муж принёс меня на руках. И сейчас, не помышляя о том, чтобы двигаться и уж тем более вставать, я, устроенная в свёртке из одеял, полулежала, прислонившись виском к холодному камню скамьи для молящихся. Спать я не могла.
Мой муж стоит у алтаря, все остальные, заинтересованные в исходе второй операции персоны, тоже здесь. Вне зависимости от того, насколько они верили в бога, или в иные высшие, или мистические силы, на эту службу они пришли. Одни — измотанные, как и я, вынужденным, гнетущим бездействием, вытягивавшим все мыслимые силы, другие — от общего чувства механизма, страха, что гонит находиться рядом с такими же, как ты, под угрозой то ли изоляции, то ли сумасшествия. Может, кто-то здесь и сейчас действительно искал бога. Мне, если честно, сложно поверить в такое.
Вот они здесь — мой муж, святой мастер в прошлом, оставивший сан для того, чтобы посвятить себя полностью моему выздоровлению. Он у алтаря, ведёт эту службу. Ему разрешили в один этот раз. Для меня, для нас всех.
Ближе всего к нему — мастер Тьяарноарр. Нейрофизиолог, разрабатывавший во главе научной группы всё, что легло в основу первой операции, и то, что должно лечь в основу второй. То, что внутри моей головы — его главное детище. Получится ли у него выбить ещё один такой же грант для исследований, если я умру от простой сакровой бури? Он хотел излечить эпилепсию, он хотел излечить весь мир, а получил меня. Еле живую из-за капризов истончившихся миров, истощённую женщину, полностью положившуюся на волю случая.
Нет, ему нужно, чтобы я дожила хотя бы до одного научного конгресса, его уже скоро получится устроить, но врач должен продемонстрировать меня в анатомическом театре и сказать, что я была больна, страдала жестокой падучей болезнью, но излечилась. Болела, но излечилась… немощна была, но встала и пошла…
Чуть дальше от алтаря стоит мастерица Айнейррейре. Женщина с алмазными руками — так её называют. Может ли быть, что такая блистательная нейрохирургиня допустила ошибку, заставляющую смерть сейчас протягивать мне окостенелую руку, гладить меня мертвенными пальцами по только начавшим отрастать волосам? Её карьера не рухнет в случае моей смерти, но сколько же она приобретёт, если в итоге всё получится? Лента славы самой выдающейся мастерицы своего времени опоясает её чело, если только сакровая буря уляжется и даст нам завершить серию операций.
За ней шуйца-хозяин приёмного покоя, я его знала, когда лечилась в Институте ещё в первый раз, до операции. Он стал моим личным шуйцей, когда я вернулась ради этого проекта. Решив, что мне будет легче приходить в себя среди знакомых лиц, высокие мастера ему разрешили. Наверное, он преследует меня.
У самого входа двое санитаров, они брат и сестра, близнецы. Их я до начала проекта не знала и не могу предсказать, что они чувствуют сейчас. Однако если они здесь, на службе, этой отчаянной коллективной попытке упросить Сотворителя о конце сакровой бури, то сердца их не спокойны.
Я оглядела присутствующих ещё раз, задержавшись взглядом на каждом. Им всем есть что скрывать, им всем есть за что просить у бога конца того кошмара, где мы все оказались сейчас незримо связаны. Скованы у потемневшего от времени замкового камня наверху свода. Там, высоко, от раннего утра светло, рассеянно.
Устало я закрываю глаза, думая, что вот-вот провалюсь в спасительный сон, но он всё равно не приходит. Левая рука, помимо моего желания, поддёргивает плед мне на плечо и ласково наглаживает меня по ёжику тонких волос. Она опять начала. Эта рука опять принялась за своё. Я стряхиваю её и закрываю горячие, дрожащие веки.
Мысли мучают моё истерзанное сознание чувством огромной коллективной вины за нарушение некоего великого, божественного порядка, в котором, о нет… в котором, конечно, позволено каждому пытливому уму вскрыть черепную коробку своей пациентки и рассечь мозолистое тело, разъединяя полушария мозга, в этом нет ничего плохого. Кто не сделал бы этого, для того чтобы избавить молодую женщину, свою пациентку, от эпилептических припадков, на радость науке?
Кто бы не счёл ланцет божественным мечом, проникающим в самые замыслы Сотворителя, изучая его мысль, его план и этим обнажением тончайших истин прославляющим его, а с ним и себя. Какая разница, кого показывать в анатомическом театре, с кого срывать белую простынь, демонстрируя триумф своей мысли… когда он сдёргивал эту простынь с трупа, он выглядел настоящим скульптором, закончившим ваять плоть из мрамора.
Пусть, пусть вскрыть мою черепную коробку и разрезать мой мозг — богоугодно. Но разве может быть, что кому-то из живущих под сотворённым небом позволено вживлять в этот же, уже разделённый мозг механический протез мозолистого тела? Мы не должны бы этого делать. Бог видит нас, он наказывает нас за это, поэтому буря и не кончается. Вот что происходит.
«Что в этом ужасного?» — спросите вы. Разве не такое же это вмешательство в каждое другое тело, созданное Сотворителем из плоти и механики, когда мы пересаживаем страждущему, потерявшему механическую конечность, такую же от донора-мертвеца? Сколько механоидов обрели снова, благодаря такой трансплантации, руки и ноги? Разве же это не хорошо?
Я скажу, я знаю, чем это плохо. Тем, что в руке или в ноге нет души. Её нет, вопреки общим убеждениям, и в сердце. Душа находится в мозге, средоточии наших дум и фантазий. Ей просто негде находиться ещё. И когда мы взяли часть мозга от другой, мёртвой, женщины и положили в мой мозг, мы преступили против самого Сотворителя, против его божественного порядка. О, нам есть о чём молить его, есть за что извиняться.
Слова святого мастера, вернувшегося к своим обязанностям на один день, произносимые на старом языке, забытом всеми и снова выученном, чтобы говорить с богом, таят в этом жидком белом свете, словно бы кровь в холодной воде.
Внезапно нас всех отвлекает резкий удар. Всё стихает, и мы поворачиваем головы по направлению звука. Это птица ударилась о цветное стекло витража и упала замертво. Такое бывает, когда долго не стихает буря, приводящая в возмущение всех, кто зависит от тонкой оболочки мира, его сакра, а птицы зависят больше всех.
Все, не сговариваясь, опускают головы, и служба продолжается, но теперь всё тише — и речь священника тает там же, под тёмными сводами, как и свет. Все медленно возвращаются к своим мыслям, потому что птица, ударившаяся о свинцовую спайку витража, конечно же, уже мертва, а убирать труп никто из тех, кто находится внутри, не должен. Это чья-то чужая работа — убирать труп.
Я возвращаюсь мыслями к женщине, чья мозговая пластина-спайка в моей голове. Её тело обнаружили случайно, ещё тёплым, немедленно передали на контроль сохранения обмена веществ, чтобы температура не падала ниже порога затвердевания ликры, и направили сюда. В одном поезде с этим телом ехали и мы с мужем.
Все остальные, кто не работает в Институте, выехали сюда тотчас же, по получении известия, словно падальщики, почувствовавшие, вместо запаха крови, аромат свежей типографской краски на их статьях в ежегодные толстые, уважаемые издания.
Я видела, как мой муж смотрит на это тело. Этим особенным, нежным взглядом, каким он одаривал всё, что как-то связано с моим выздоровлением. В эту секунду я подумала, что хорошо, что он оставил сан: механоид, кто так сильно любит жизнь какой-то конкретной женщины, уже не может так же любить бога. А если он сможет, это будет ещё ужаснее, возможно, те, кто снимали заживо кожу с Идущих в Лабиринт, именно так любили бога, до нежности во взгляде на смерть.
Ещё один удар в стекло, и служба снова прервана. На новую птицу оборачиваются, но лишь на секунду, святой мастер спешит продолжить чтение Писания, но в этот момент тот, первый, мёртвый, как всем показалось, ворон шевелит опавшим крылом, потом поднимает голову и мерзко, надсадно кричит, а потом он встаёт на лапы и разевает на нас чёрный железный клюв. Я слышу в этом обвинение.
Моя левая рука, которую мне забыли привязать из-за тяжёлой ночи, закрывает мне глаза, и я не противлюсь её решению. Второй рукой я зажимаю ухо, вжимаясь в камень другим. Но я всё равно слышу, как ворон кричит. Слышится ещё один удар и ещё. Всего я насчитала шесть ударов. Шесть воронов. Я останавливаюсь на этом, читая это число как гадальную карту, а потом всё тонет в их крике.
В конце концов, и это наступает очень быстро, этот общий крик стаи заполоняет весь собор, но… это не единственное, что происходит. Я стряхиваю руку, прижимая её со всей силы к скамье, и оглядываюсь… да. Птиц так много, что они заслоняют собой весь свет. И нет больше его у сводов, как и голоса святого мастера нет, всё поглотило в себе вороньё — и свет и звуки молитвы. Это за наши грехи. Я в ужасе смотрю на мужа. Это за наши грехи.
Нейрофизиолог, мастер Тьяарноарр, мужчина высокий и крепкий, вежливо обращаясь к священнику, просит перестать читать и говорит всем остальным, что почитает за лучшее покинуть это место и — главное — вынести меня, так как аномалия, с которой мы столкнулись, явно влияет на меня пагубно.
Конечно. Конечно, пагубно влияет, и, конечно, важнее всего вынести меня, ведь кого иначе он будет показывать в анатомическом театре с той же вежливой улыбкой, отточенными жестами, переложением циркового балагана для интеллектуальной элиты этого мира.
Не дожидаясь знаков одобрения от остальных, которые, конечно же, следуют, он идёт к двери, соединяющей собор с коридором Института, с его холодной наборной чёрно-белой плиткой, высокими потолками, тоже стрельчатыми, но без украшений, с запахом мочи, дезинфицирующих средств, рвоты, книг…
Мастер Тьяарноарр подходит и толкает ручку, однако та не поддаётся. Скоро к нему присоединяется шуйца-хозяин с его сильными, привыкшими скручивать буйных пациентов руками и оба санитара с теми же навыками. Однако им не удаётся открыть дверь и вчетвером.
Хирург на них смотрит холодно, говорит, что во время сакровых бурь эта дверь действительно иногда самопроизвольно блокируется, потому что во время возмущений тонких границ миров, подобных нынешнему, живая механика иногда расширяется, что и становится причиной страданий всех сакрозависимых механоидов, а в Институте вся механика живая, так как это здание изначально проектировалось как имеющее повышенную чувствительность. Ради коматозных и кататоничных пациентов, разумеется.
Это здание — точный научный инструмент.
Так бывает, что дверь блокируется. Так бывает, что птицы бьются в стекло или стаями сходят с ума, но это всё случилось одновременно.
И буря слишком продолжительная, и птиц, птиц слишком много, и та, первая, с переломанной шеей, восстала из мёртвых, именно восстала из мёртвых. И я… я не сплю, после всех этих припадков, после этого марафона изнуряющей боли, после всех этих швов на шее, я так и не уснула ни единого раза. И птица, и птица. И все они.
Это всё за грехи. «Это всё за грехи», — так говорит мой муж, его, конечно же, отчитывают за такие слова, но он бледный как мел, одни только глаза горят внутренним холодным огнём нервного исступления, и оно заставляет санитара, который пытался его привести в чувства, потрясённо отойти.
Мой муж подходит ко мне. И он говорит со мной, но слышат это все, потому что, как только он начинает говорить, вороньё за стенами собора смолкает. Он признаётся в убийстве.
А после того как он завершает свою речь, оборачивается, встаёт на колени и исповедуется всем. Он рассказывает, как убил механоида. Донора. Женщину, чьё тело так удачно и так вовремя нашли, чью кончину так и не смогли расследовать, даже решить, насильственной была смерть или произошла по естественным причинам. И на чьё тело он смотрел с такой добротой и надеждой, пока мы ехали сюда.
Магнитные сады гудят от этой бесконечной сакровой бури. Мой муж плачет, обнимает меня, целует в исступлении мои руки, и просит, чтобы я выжила, чтобы я стала счастлива, и говорит, что чудо явил нам Сотворитель, чудо присутствия бога в мире. И он знает, что делает.
Мой муж идёт к главным Вратам храма. Мастер Тьяарноарр пытается остановить его, хирургиня холодно говорит о том, что если заклинило небольшую дверь в Институтский коридор, то большие металлические Врата даже не шелохнутся, сколько ни прилагай усилий, но святой мастер кротко ей отвечает, что на всё воля Сотворителя и мы не в нынешнем мире сейчас, а в горнем и Сотворитель смотрит на нас и он решает.
Он тянет на себя огромные металлические створки, и действительно — изображения праведников и грешников, Машин и Порогов, колеблются, отпуская по лицам горельефных фигур глубокие тени, когда Врата легко поддаются и открываются даже без скрипа.
За дверями — Хаос из крыльев и когтей, из металлических перьев и железных клювов. Я встаю, кричу мужу, чтобы он остановился, что здесь всё ещё безопасно и он должен остаться со мной, но он шагает за этот порог.
И птицы смыкаются за его спиной, но ни капли крови, ни единого крика боли не доносится до нас, а потом, как по команде, стая прореживается, и мы видим, что он стоит на тропе от собора к главному корпусу Института. Живой. И ничто не повредило ему. И ничто не оставило на его теле ран.
Нервно встаёт шуйца. Он кричит на мастерицу Айнейррейре, кричит, что знает, из какой крови появились её алмазные руки. Обличает её перед всеми, громко говорит о душах десятков душевнобольных, зарезанных ею ради практики, о несчастных, которых он сам приносил ей на заклание, лишь бы она получила те редкие навыки, которые позволили ей пересадить мозговую пластину от трупа в мой страдающий мозг.
Она не соглашается, не признаёт вину, ведёт себя сдержанно, спину держит прямо, но трое их вокруг неё одной, и вот они, окружив её, зажав в угол, хватают за руки и ноги, по-умелому, по-хозяйски. Она кричит.
Страшно кричит.
А когда она кричит — вороны затихают, и каждый раз её крик разрывает тишину наново, как свежезажившую плоть.
Моя рука зажимает мне уши, второй я держусь за скамью, не в силах ни стоять, ни сесть, и смотрю, как её проносят к границе Храма и выбрасывают в это ужасное чёрное море из ужасных несмертных птиц, и она исчезает в нём. Крик всё ещё слышен, а потом он сменяется прерывистым дыханием, а дальше всё исчезает за шумом, который издаёт обезумевшая стая. Проходит секунда, и мы всё ещё видим её белый врачебный китель.
Она стоит в полный рост там, рядом со святым мастером… тоже невредимая.
Мы должны выйти. Я отняла руку от головы и направилась к выходу, но чужая рука удержала меня. Она намертво вцепилась в каменную скамью и не пустила сделать и шага. Я потянулась оторвать её, но меня сразу же отвлёк шум у выхода.
Там была драка. Нет… бойня.
Это был мастер Тьяарноарр. Он отбивался от этой троицы, от шуйцы и двоих санитаров-близнецов, которые в моменты наибольшего кошмара сливались для меня в одно, то мужское, то женское лицо, издевательски двигавшееся, издевательски говорившее, знавшее, как и когда надавить, чтобы я сделала всё, что они хотели.
Когда они были рядом, а муж отлучался, то я всегда чувствовала себя голой рядом с ними. Часто так и бывало. Голой и беспомощной, а они могли всё, и я молчала. Не столько потому, что меня никто не мог защитить, а потому, что знала, что они могут сделать с другими, кого я знала и кого защитить было некому. Они виновны, это никак нельзя оправдать и никак нельзя объяснить.
Сейчас они зажали мастера Тьяарноарра, так же как до этого зажали мастерицу, но он ожесточённо сопротивлялся, и не думая пытаться поставить их на место холодным взглядом или резким словом, скрывающим под собой намёк в том, что они повязаны одними преступлениями.
Мастер Тьяарноарр сражался за свою жизнь отчаянно. Он схватил высокий кованый подсвечник, стряхнув немногие огарки, ещё тлевшие на нём, и размахнулся, метя в санитара, но тот ловко поднырнул, уходя от удара, и тяжёлый металл с размаху вошёл в висок шуйцы.
Нейрофизиолог уронил орудие и на негнущихся ногах отступил назад. Санитары же, эти двое, одинаковые, пародирующие друг друга в каждом движении, тут же забыли о нём. Они схватили за ноги своего товарища ещё минуту назад, предводителя, и потащили туда, к воронью.
Я ещё могла разглядеть за тёмной завесой святого мастера и мастерицу-медичку. Она неведомыми силами удерживала моего мужа. Он хотел вернуться, но он не мог потому, что она его держала, а может, ему мешали птицы. Они скрежетали когтями, они стучались в цветные стёкла.
За головой шуйцы, виновного передо мной как никто другой, посмевшего попроситься ухаживать за мной после всего, что он со мной сделал, оставался кровавый след. Я смотрела на эту кровь, и мне не было жалко, я была рада, рада, что он так закончил. Потому что это всё не началось бы, если бы не он. Если бы он не толкнул меня тогда, когда я лечилась здесь первый раз от простых головных болей, да, частых, почти бесконечных, но всё же простых головных болей. А после того как он толкнул меня и я ударилась головой об пол… начались припадки.
Зачем он попросился в проект по моему лечению? Хотел искупления, прощения хотел? Ну что же, значит, пусть его прощают там, за Вратами, железными клювами, железными перьями, стая безумных чёрных птиц. И его действительно бросают за порог. И птицы его не трогают.
Я перевожу взгляд на мастера Тьяарноарра. Он стоит бледный. Из глаз, подчёркнутых красной изнанкой нижнего века, катится вниз по высокой щеке холодная слеза.
Он не переставая что-то шепчет, повторяет снова и снова чьё-то имя. Я не узнаю его сначала, а потом, буква за буквой, вытаскиваю его, словно из пруда леску с налипшей на ней тиной и мусором, из сознания. Имя.
Молодой парень, кажется, вчерашний студент, он приходил к нам с мужем, говорил, что может помочь, что может вылечить, что он разработал способ лечения эпилепсии с помощью рассечения мозолистого тела и затем протезирования его донорской пластиной.
Но мы не поверили ему, он выглядел… глупо. Ни званий, ни подтверждённых научных работ. Он долго ходил вокруг нашей семьи, всё говорил, что у меня идеальные показания, что всё обязательно получится, и так же часто называл своё имя, словно заклиная нас им, вот поэтому я его и запомнила.
Позже, в больнице, когда у меня снова были приступы, длившиеся почти неделю, после которых я почти разучилась говорить и потеряла цветовое зрение на какой-то период, мой муж рассказывал об этом юноше мастеру Тьяарноарру, тот посмеялся от души над выдумкой, но меньше чем через год пришёл к нам с собственным проектом.
Это было совсем другое дело — вдумчивые фразы, разумные расчёты и теории, над идеей работал не один мастер Тьяарноарр. Мы согласились, конечно, согласились, это была надежда, была спасительная нить прочь из лабиринта бесконечной боли.
А оказывается… они были знакомы. Или даже хуже. Что стало с тем юношей?
Я громко, криком спрашиваю об этом вслух, и вороны снова замолкают, чтобы прозвучал этот обвинительный вопрос, и мастер Тьяарноарр ломается. Да, он тихо признаётся мне, что этот проект не его. Что молодой механоид умер, что это его вина, а может, и прямые его действия, что всё произошло быстро… о Сотворитель, о Сотворитель, сколько же может быть вокруг этой моей души зла?
Парочка близнецов, только что выкинувшая тело своего начальника за порог, хищно оборачиваются в мою сторону. Я кричу, пытаясь отойти назад, но чужая рука так и не отпускает, я прячусь за лавку и только слышу, как мастер Тьяарноарр бежит на них, в абсолютно героическом, ищущем искупления, хотя бы так, хотя бы в смерти порыве, а может, из глубочайшего страха грядущего позора там, на середине анатомического театра, схватывается с ними, пытаясь оттащить к границе собора, и через какое-то время их взаимные крики стихают.
Я встаю. Я в соборе одна. А там, за Вратами, они все. Невредимые.
Что же, если никому из тех, кто был виновен так сильно и так глубоко, не была послана справедливая кара за грехи его, значит, всё это просто ошибки. Это совпадения, много, много совпадений зараз: и птицы, и обморок того ворона, ударившегося первым, и разбухшая защёлка маленькой двери, но не затворённые главные Врата. Всё это сложилось в один гигантский гимн возмездию только в наших измученных бедой и бездействием головах.
Когнитивные искажения, суеверия голубей.
Чужая рука отпускает меня. Я должна что-то сделать, возможно, самой пересечь порог, но у меня нету сил, чтобы пройти так много, и наконец мой муж продирается через чёрную толщу воронья и спешит ко мне. Я падаю в его объятия, позволяю прижать к себе, поднять на руки, и вместе мы движемся к выходу. Мы вместе, это просто птицы, глупые птицы, и всё хорошо.
Мы медленно добираемся до порога, меня переносят через него на руках, и меня раздирают на части чёрные вороны своими железными крыльями, своими механическими когтями, своими стальными клювами.
Они пронзают мою плоть, терзают мою родную механику, они набрасываются все, стаей, одновременно. И потом — сразу же разлетаются прочь.
А я ведь одна здесь абсолютно невинна.
«И» соединяет и разделяет. Это маленькое слово, сочинённое кем-то, кто любит запятые, всегда находится в нужном месте, чтобы продолжить линию предложения, уже звучащую в голове читателя, но ещё не выраженную в осознанной мелодике слов. Мы никогда не задумываемся, где именно рождается эта предугаданность поэтики, предчувствие рифмы на конце куплета, переводящее песню из единоличного творчества певца в общее творение существ по разные стороны края сцены, как порога. А оно там, у нас в голове, чуть раньше, чем мы умеем осознавать истинный лик «и».
Сакровая буря колеблет истинные границы миров, проникает через небо, живую механику и всё существо мироздания, она одновременно повсюду, сакровая буря. Она говорит с истинным «я» каждого живого существа, и сейчас она призывает к ответу всех, кто спрятался под стрельчатыми сводами потемневшего камнем собора, бросившего нерушимые шпили на штурм высоты так, словно бы это первая реплика в жестоком споре, который начинает великий оратор, желая скрыть, как сильно он, как заранее он виноват.
Бороться за жизнь никогда не было неразумно. Каждый сражается как может, и, если тонкие границы рукотворных миров никак не могут успокоиться и если железные ветви магнитных садов беспокойно гудят, ища какой-то жестокой, первозданной справедливости, означает ли это, что я одна, одна во всём мире оскорбляю небо и недра тем, что борюсь за жизнь? Неужели же преступление против Сотворителя то, что я нашла лучший способ сражаться?
Меня пытали болью, изводящей, неумолчной, жестокой болью, эти поиски истины магнитных садов, эти сакральные страсти, разрывающие миры, но я выстояла, через всё, что они заставили меня испытать, и я снова хватаюсь за жизнь. Я знаю, кто против меня.
Против меня сама суть этого мира, запрещавшая от начала сотворения хоть кому-то, хоть когда-то обладать той властью, которой меня наделила сперва болезнь, а после дерзкий способ её лечения, и, глядя на пустой алтарь собора, я видела там, в пустоте, в воплощённом отсутствии, самого Сотворителя, потому что после того, что я смогла пережить, я познала его замысел, и я увидела мир таким, какой он действительно есть. Вот и возмущаются сакры. Они раньше не знали такого греха.
Вот они все здесь, мои марионетки, мои начертанные карандашом по мраморированной бумаге игрушки, которыми так легко управлять, которых так просто заставить делать то, что я им скажу делать. Все убранные ранним рассеянным светом, как погребальным саваном, силуэты. Мои грехи.
Первый из них — мой муж. Механоид мягкосердечный, но слишком преданный идеалам собственного сердца, которое, как в насмешку, ведёт его узкими тёмными коридорами к самым жутким проявлениям любви.
Рядом с ним — нейрофизиолог с невероятно раздутым эго и скудным умом, пухнущий от чувства собственного превосходства над всеми, кого он спешит унизить и растоптать по любой причине. Он всех считает ниже себя.
Он никогда не скрывал своих намерений в отношении моего случая, но сейчас его требовательное раздражение сочится из всех щелей его родной механики. Он не любит и не боится бога, он не нежит своих грехов в противопоставлении ему. Он просто ждёт, когда мир, весь мир в очередной раз станет удобным для него и сам пригласит его на кафедру, чтобы вручить всё, чего он хочет.
Здесь и хирургиня, чьи руки создали меня такой, какая я стала. Мастерица Айнейррейре — женщина холодная и жестокая, никогда не скрывавшая, насколько выше ценит она загадку болезни по сравнению с такой мелочью, как жизнь тех, кого она спасала своими алмазными руками. Ремесло хирурга для неё всегда было важнее лечения. Она не помогала, она не вставала между страдающим и смертью, она брала своё.
Ничего удивительного, что в качестве главного шуйцы покоя ей дали этого садиста, старшего в смене, подбиравшего кадры по себе и высоко поднявшегося за счёт случайных смертей или стабильно, годами после выписки в распоряжении больницы, работавших на её благо из-за запугиваний пациентов, особенно неудачно попавших между молотом чужих притязаний и наковальней ментальной болезни.
И его свита при нём — брат и сестра, похожие друг на друга в этой белой униформе как два осколка стекла, да, словно бы демон посмотрел на своё отражение в ледяном потоке, и то, ожив, вышло бы на сушу, так и оставшись вечно ухмыляющимся, одновременно и точным и инфернально искажённым. И оба они пришли бы жить среди живых по их собственным, извращённым законам.
Но они были нужны мне, были необходимы мне все, чтобы я могла, преодолев наконец, нет, не саму болезнь, она уже слишком глубоко в моих костях и нервных окончаниях, но хотя бы избавиться от неискупимой карусели боли, иссушающей моё тело. Осталось не так и много, всего одна или две операции по подключению протезированной пластины к ликровым венам в моём мозгу. Микроскопическим. Только женщина с алмазными руками может это сделать.
Но пока бушует сакровая буря, мы бессильны. В этот период вся живая механика немного изменяется, в том числе и в пропорциях, и операция, проведённая в этот период, может привести к излиянию ликры в органические части мозга. И я умру.
Рассечение мозолистого тела, группы органических тканей, соединявших полушария мозга, было частью терапии эпилепсии. Это действительно спасло меня от ужасающе долгих и полных мучений припадков, очень опасных для жизни. Однако на смену одной беде пришла другая, они называют это «чужой рукой», не понимая этого явления абсолютно.
«Чужая рука» для них — это странный, неприятный и нежелательный симптом рассечения «и». «И». «И», стоящего между полушариями мозга, хранилища нашей души. Того самого «и», великого двуликого трикстера, который одновременно и соединяет и разделяет нас внутри нас самих, нас с нами, нас с богом. И что же случается, если его уничтожить идеальным движением алмазных пальцев, направляемых гениальным зрением?
Появляется «чужая рука». Появляюсь я — живущее в небольшом опережении событий, свидетель истинного значения всех подсознательных реакций и жестов. Досознательное самосознание. Единственный бодрствующий житель мира, истинного мышления, мир словно бы графического, схематического, как нарисованного карандашом.
Вам когда-нибудь случалось ощущать, что вы совершаете фатальный ход в шахматах, но уже оказываетесь не в силах отдёрнуть руку? Кричать на кого-то, кто казался вам безразличным в исступлении, потому что сами не можете разобраться в собственных чувствах? Знать, что ваш поступок предрешён кем-то свыше, хотя он не нравится вам и претит? Это всё эхо моего существования.
На самом деле большая ошибка считать, что хотя бы одно наше решение или мысль принимаются вами самостоятельно, на самом деле это — кто-то другой. Может быть, ваш истинный разум, может быть, бог, но в любом случае этот кто-то живёт в этом карандашном мире, куда менее наполненном цветами, звуками и запахами, чем обычный мир, существующий за треть секунды до включения «я».
Именно в этот момент принимаются все решения, именно в точке перехода от карандаша к краскам формируется личность. Я живу прежде личности, и я не чужая, я настоящая, истинная рука. Я не противоречу сознанию. Я создаю его.
И вот они нашли меня. И они хотят стереть меня из этого мира. Кто они? Я не знаю, сейчас это — вороны. Протезированная мозговая пластина очень сильно зависит от сакральной стабильности тонких оболочек миров. И наверное, сейчас она, не до конца снабжаемая ликрой, не до конца встроенная в единую ткань мироздания, выглядит для них как маяк. Сияющий греховностью вместо света. И мой грех — существовать на том же самом поле, что и все они. Кто они все? Я не знаю. Все те, кто действительно владеет миром и каждой отчаявшейся душой в нём.
Первая птица, ударившаяся в витраж, — это вестник. Гонец грядущего суда над моей смелостью, над моей дерзостью существовать. Я вижу её проекцию в карандашном мире — она плоть, часть физической оболочки одного гигантского существа, объединённого общим разумом, которым владеет кто-то больший, кто-то свыше, кто-то оскорблённый мною, как самой сутью отступничества.
Он не может мне простить тонкой игры, которую я затеяла ради спасения собственной жизни, но условия, в которые меня загнали обстоятельства, были сверхъествественные. Что преступного в том, что я воспользовалась сверхъестественными средствами самозащиты, чтобы продолжать дышать?
Я видела больше, чем другие, больше, чем кто-то из когда-либо рождённых мог видеть, и я использовала всё, что было мне даровано случаем без оговорок и без мук совести, я хотела жить, и сейчас нёсся сюда тысячей чёрных тел обвинитель и исполнитель смертного приговора, рождённый сакровой бурей, из-за которой так печально и низко пели механические ветви за соборными стенами.
Вот он приближается, взбивая воздух своими многими чёрными крыльями, изрыгая боевой зов своими многими клювами, глядя чёрными глазами-бусинками на чернеющий отчаянными шпилями, потонувший в магнитных садах собор. Он спешит в отмщения за безродную женщину, необразованную грязную топнутью, без талантов и образования, за её потемневшую от тяжёлой жизни грубую кожу, за заскорузлую печать бедности на скуластом лице.
Но нет… нет, рано ещё думать, что он победит. Рано думать, что инквизитор, состоящий из всех этих чёрных полумеханических тел, одержит победу. Рано ожидать, что он сможет прочесть меня здесь. Да, моя пластина привлекает его и горит для него огромной чёрной чернильной кляксой среди карандашного мира, но ведь я здесь уже давно, а он только создал своё гневное тело из нескольких диких стай.
Я провожу рукой по русым спутанным волосам… себя. Себя самой. Какой-то необычайно далёкой, живущей там, в полноцветном усечённом мире предсказанных решений и предопределённых действий. Я буду сражаться за неё, себя, нас. Ещё не всё кончено, нет… это не казнь. Это — сражение.
Я быстро скольжу плотью вдоль одежды и кокона спутанных одеял в поисках ликрового клапана общей сети, связывающей собор и здание Института. Я связываюсь с этим чудовищным зданием, расползшимся на множество корпусов здесь, среди магнитных садов. Его башни квадратные, его своды круглые, он не мстит небу за пустоту собственной души, он тешит своё эго обращённостью внутрь мозга, и чужого и собственного, в поисках той истины, которую иные чувствуют ускользающей в горячих слезах, льющихся перед алтарём.
Мы хорошо друг друга понимаем, я и Институт, он чем-то похож на меня, но, конечно, он просто живой, обычное существо, живущее в том же самом предрешённом мире, однако в его старых костях и стенах довольно живой механики, родных частей умерших механоидов, интегрированных в одну машину здания, чтобы вплотную приблизиться к чувству моего, мира настоящих решений и настоящей расплаты за жуткие грехи.
Оно так много впитало в себя этого безумия, оно так привыкло к нему и к противостоящему ему чистому разуму, снова и снова пытающемуся проникнуть в самые тёмные уголки спутанных мыслей и нарушенных образов, что стало кем-то вроде меня.
Этот возвышающийся над беспокойными механическими ветвями, пульсирующий в камне механический скелет, порождённый тысячами и тысячами смертей, собранных воедино живыми, тёплыми руками, ради того чтобы вбирать в себя чужое безумие и самому не сходить с ума, оно дало приют и мне, уроду и провидцу, алчной чёрной кляксе, которая будет сражаться за жизнь. Прямо сейчас.
Институт выполняет мою просьбу, и дверь между собором и больничной галереей блокируется. Птицы могут разбить стёкла моей палаты и разнести в осколки аквариумное остекление операционной, наводнить собой коридоры, и, уничтожив каждого, кто встанет у них на пути, вонзится железо и костью в мою плоть, разрывая её на кровоточащие куски.
Но здесь, в священных пределах, мне ничего не грозит. Сакры, информационные пузырьки, хранящие каждый свой мир, не едины, и любой из соборов и церквей, стоящих на чёрной и белой земле, соединены с Храмом, машиной по созданию миров, единой тонкой оболочкой. И поэтому, пока я здесь, они не смогут добраться до меня. Главное, чтобы все, кого я собрала вокруг себя, дёргая за ниточки в карандашном мире, не вывели меня наружу.
Но этого не случится, пока они слишком напуганы природой явления, о котором не имеют не малейшего понятия, природой чёрной стаи, созданную и призванную сюда их, каждого в отдельности и всех вместе, действиями.
Я смотрю на них всех. Спокойно обвожу взглядом по очереди. За спиной каждого наброска фигуры в поле моего взгляда привычно шевелятся ниточки истинного сознания, с которым я говорю. За эти ниточки я управляю ими всеми, и сейчас остаётся только продолжать делать то, что я всегда делала, с тех пор как они залезли внутрь моей головы.
Осталось решить, кого отдать первым, но выбора как такового в общем-то и нет, он слишком очевиден. Я тянусь к серой сущности своего мужа, самого податливого для влияния из всех. Его доброе сердце ведёт его в тёмные коридоры бесконечного лабиринта зла. Им легко управлять, и сейчас я, мелкими движениями пальцев, дрожью ресниц, шорохом, говорящим о невыносимой боли и ещё более невыносимой усталости, довожу его до отчаяния. Он слишком долго думал эти мысли сам.
И вот, так просто и так быстро, он решается прекратить это всё навсегда. Он сходит со ступеней перед алтарём, подходит ко мне и рассказывает, как убил топнутью, у которой в мозгу была донорская деталь для меня.
Он думал, что эта мысль родилась у него в голове сама собою, что только он всё придумал и всё исполнил, думал, что он всё решил, ведь он ничего и никогда не говорил мне, но правда в том, что никто, абсолютно никто не принимает решений самостоятельно, они не рождаются в ваших сознаниях, они живут здесь, в карандашном мире. Никто, кроме меня.
Мысль о том, что донора с нужной механической деталью мозга может так и не появиться, очень давила, ожидание было невыносимым, и я день за днём говорила здесь, в бесцветном, обладающем только контурами мире, что нужно сделать что-то самостоятельно. Я подталкивала его к этой мысли, так же как подтолкнула сейчас к признанию — жестами, звуками, подсознательным невербальным языком, что влияет на нас до-личностно. И которому никак нельзя противостоять.
В сущности, имеет значение не точность и не убедительность, а время, одно только время, а всё остальное, острый момент принятия парадоксального решения, обжигающего своей смелостью и истинностью, — это результат часто одного только движения, одного только перелива светотени под стрельчатыми окнами, страха. Это всё — двинувшаяся от лёгкого толчка лавина. И вот она сошла вниз.
И вот он выходит за дверь, готовый пожертвовать собой ради меня, дверь поддаётся легко, так как Институт не может влиять на сознание собора, и тот строился изначально с допуском на самые суровые сакровые бури, это особенность всех сакральных строений, готовность к штормам.
Я внимательно слежу за тем, как прореагирует стая на моё подношение, на мою жертву им, на самое дорогое моё приобретение за всё это время, на воплощённые зло и добро в одном и том же лице, на моего самого главного и самоотверженного защитника, готового ради меня жить и ради меня убивать. Ничего более ценного я не могу им отдать.
Но стая стай отвергает мою жертву. Птицы не трогают его, не он призвал сюда и не его грехи они явились судить. Они не хотят чьей-то абстрактной крови, они хотят стереть из ткани мироздания мерзость, которую не в силах терпеть, это я. Их никто не удовлетворит кроме меня, но я ещё здесь и жива. Я буду сражаться дальше.
Вот, вот женщина, которая ни в чём не глупее меня. Она даже не моя жертва, она скорее моя напарница, настолько холодно её восприятие действительности, настолько мало отличаются её решения в до-личностном и осознанном мирах. Настолько ясно она хотела того же, чего и я и настолько безлично, профессионально ко мне относится.
Она сама, хотела сама сделать всё, что сделала со мной. И допустить ошибку она сама не могла позволить, а потому вся эта кровь на её руках, все эти смерти беспомощных пациентов при вивисекциях было легко допустить, следовало только дунуть, лишь дать ей понять, что стоит на кону, какая истина, какая вершина перед ней и какая цена ошибки. К моей операции, декларированной, как первая в мире эта женщина подошла уже опытным хирургом, прошедшим огромный путь и весь этот путь шел по крови невинных.
Прекрасный путь.
Она, конечно, не выйдет сама, ей плевать на меня, но эти жалкие души, преисполненные страхом, считающие все, как одна, что стая пришла за ними, что коллективный разум сотен и сотен птиц хочет именно крови и нужно просто правильно угадать жертву, эта идея лежит на поверхности, нужно просто прорисовать её четче в этом мире. Моём мире. Месте абсолютной манипуляции.
Но птицы не приняли и её. Тогда следующего. Им нужно отдать следующего! Я кидаю моих верных солдат вперёд, я внушаю им страх, животный ужас, всем трём, я доказываю им, что нужно всех, всех выкинуть.
Мои трое воинов, вперёд!
И они, эти похожие как штампованные статуэтки грехов садисты, накидываются на следующую жертву. Я не зря держала их подле себя всё это время, этими тупыми, ведомыми только жаждой чужой боли чудовищами легко управлять, показывая им новую мишень для агрессии, и они тянулись ко мне, как к горькой своей госпоже. Моя армия, мой щит.
Они безошибочно чувствовали рядом со мной мою новую, великую, тонкую жестокую сущность, заточенную только на то, чтобы выжить и хотели служить мне, сами того не подозревая и служили, служили верно и сейчас убивали каждого, кого я прикажу.
Моё тело уже давно встало, но я надёжно удерживала его на месте, подальше от любого возможного вреда. У меня достаточно рук, чтобы защищать себя. Если воронам нужно больше жертв, то… я подумала. А что, если им хочется именно крови? Не жертв, которых они могут порвать самостоятельно, а именно крови и ликры, бессмысленно вытекающей на пол?
Я улучаю момент и даю мастеру нейрохирургу знать, когда именно нужно махнуть тяжёлым подсвечником. Кровь. Да, я пожертвовала одним из своей армии, но сейчас не время мелочиться, и если вороны там хотят крови, то вот, вот для них кровь. Я приказываю им тащить бессознательное тело туда, к порогу и за порог. Пусть они выкинут, пусть они дадут им то, что они так хотят, я не отдам им себя.
Почему, почему стая не пускает назад тех, кто уже вышел, почему они считают порог преодолимым только в одну сторону для тех, кто был в соборе, если им всё равно? Они дали вернуться моему мужу, если бы он не представлял для них никакого значения, но он не может пересечь линию врат назад.
Это означает только одно: стая стай всё видит в комплексе, если нужна не только я, как чернильное пятно, но и все нити манипуляторских связей, что я протянула к другим, научив их повиноваться под всё меньшим и меньшим давлением с моей стороны, ей нужна вся сеть взаимодействия между мной и каждым, кого я поставила между собой и смертью.
Что же, тогда я отдам ей их всех. Может быть, она не раздирает их на части только по тому одному, что собирается уничтожить всех в одночасье, в один конкретный кровавый момент расплаты. Пусть так. Пусть она возьмёт всё, что у меня есть, пока я живу, я смогу всё начать сначала.
Вот мастер-нейрофизиолог. Слишком тупой, чтобы самостоятельно найти способ, как можно меня спасти. Одно из лучших моих приобретений — тщеславный и самолюбивый, ему хватало ума, чтобы глубоко страдать от отсутствия собственных идей, а также настолько хорошо скрывать эту внутреннюю пустоту, что он мог протолкнуть любую банальность и получить на неё грант.
Однако банальности бы меня не спасли. Мне нужна была идея, уникальная мысль, прорыв, и я получила её, когда однажды перед нашим домом появился вчерашний студент, принёсший в потёртой папке план моего спасения. Я сразу увидела его искренность, его глубину ума и продуманность каждого этапа исследования, но давать ему синий свет было нельзя, требовалось лучшее оборудование и механоид со связями, способный привлечь для моего лечения женщину с алмазными руками, только и ждавшую, чтобы постелить перед собой дорожку из чужой крови и явиться к моему операционному столу как спасительница и главный гость.
Идею украсть исследование я подала через мужа. Открыто никто даже ничего не говорил, и слабый, глупый врач считал, что это он уцепился за случайно обронённую фразу. Что он сам разыскал юношу, что он сам вступил с ним в лживую научную связь.
Это был его камень под кроватью, его самый страшный секрет, читаемый мною как раскрытая книга. Читаемый… нет, написанный полностью мной. Это кровь, это ложь, это основание для вечной дисквалификации в академиях наук и комиссиях по грантам. Это… план моего спасения. Меня не интересовало ничего за пределами истории о защите собственной жизни.
Поэтому, чтобы нам не мешали, я велела убить молодого одарённого физиолога.
Пусть, пусть теперь вороны получат всё. Я отпускаю вниз, в цветной мир, эту страшную догадку о совершённом злодействе, и моё тело хватается за неё, как умирающий от голода за кусок хлеба. Все вокруг уверены, что это — тот самый момент истины, а я смотрю только на стаю, ей нужны все, она хочет всех, пусть, пусть она получит всех, я ей дам, что хочет она.
Нужно избавиться от всех троих одним махом, и я заставляю учёного закрыть собой моё тело и вытолкнуть санитаров на улицу. Мне легко его убедить, что я единственное свидетельство, которое поможет его имени сохраниться в истории науки. Что для него всё кончено, но тщеславие, сладость его от собственного имени, останется, должна остаться, потонет в вопросах об авторстве, спорах, доказательствах и так и останется местом притяжения многих умов.
И они остаются невредимы все вместе. Мне надо бежать. Бежать.
Все ушли, но я не сдалась, осталось последнее средство. Осталось коснуться ликровой заводи, передать маркерами крик о помощи в Храм, дать ему понять, что ситуация здесь отчаянная и мне нужно преступить сакровую границу миров ради эвакуации в Храм. Тогда меня заберут, и там я пережду эту жуткую бурю, скроюсь от этого невозможного существа. Выиграю время, как выиграю всё, я всё всем смогу объяснить.
Когнитивные искажения, суеверия голубей.
Я отпускаю руку, чтобы перехватиться и подтянуть запястье к ликровой заводи, но мой инквизитор и мой палач отпускает из своего тысячекрылого тела моего мужа, чтобы он сам принёс меня в жертву этому охотнику за всем, что превосходит чужое понимание реальности. Я тянусь к ликровой заводи, но плоть слаба, и я падаю в объятия мужа, рука продолжает тянуться, но для него это — чужая, чужая рука.
Он несёт меня к выходу. Лавина чувств и подсознательных реакций, безусловная любовь, погрёбшая наконец и меня саму. Меня, в идеальном жесте заботы и нежности, которые я так долго создавала в бесцветном мире, переносят через порог на руках, и меня раздирают на части чёрные вороны своими железными крыльями, своими механическими когтями, своими стальными клювами.
Они пронзают мою плоть, терзают мою родную механику, они набрасываются все, стаей, одновременно. И потом — сразу же разлетаются прочь.
Ведь я здесь виновна абсолютно одна.
Алтарь
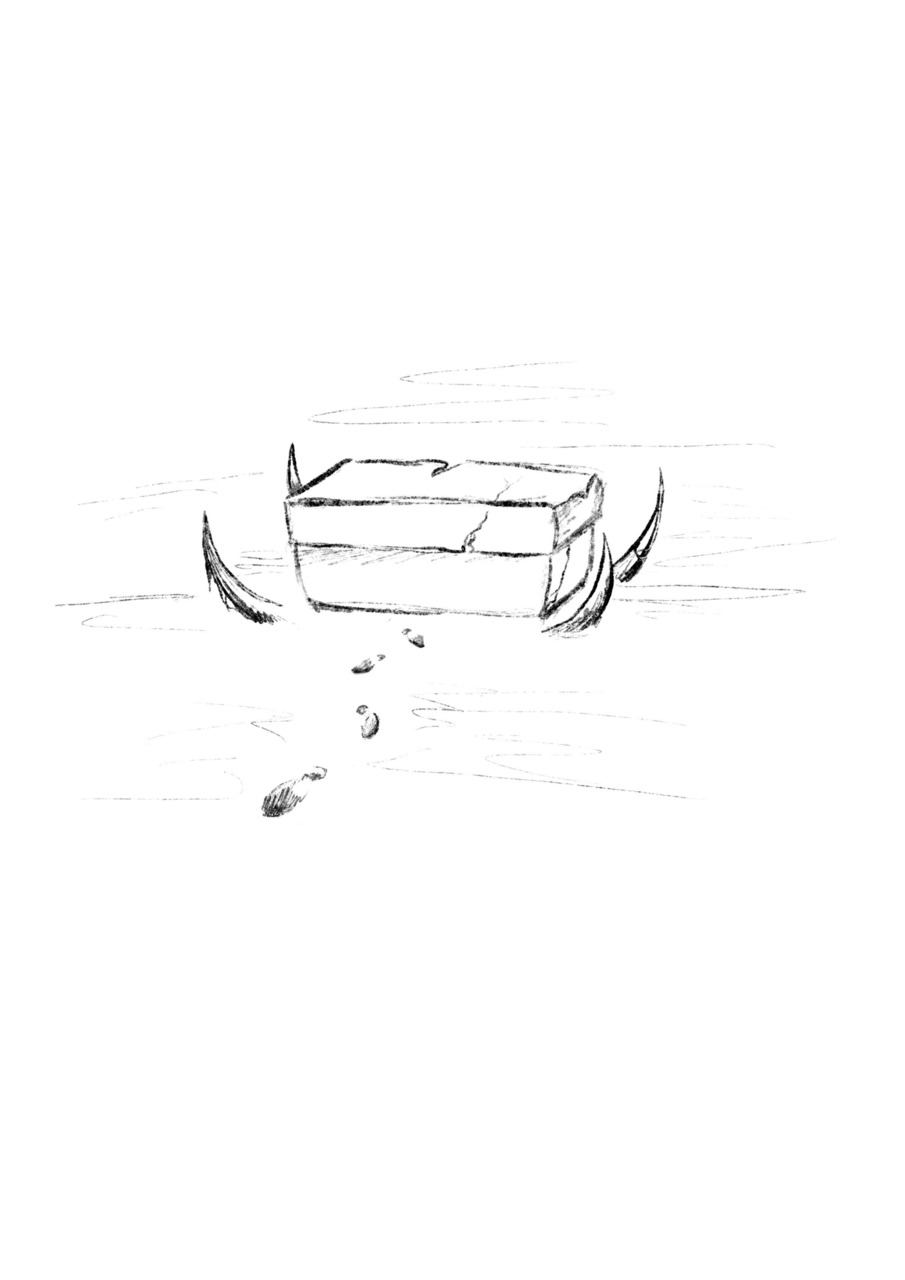
Мир верный от мира неправильного был всегда отделён очень чётко. Граница между злом и добром не размытая, она не зыбкая, не похожа на бесконечное серое поле пустошей. Она ярка и ясна, словно лезвие ножа, сияющего в солнечном свете. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, в каком мрачном, ужасающем мороке тонет существование каждого живого под дарованным Сотворителем небом.
Как далеко и глубоко ушли механоиды от пути истины и добра, пути благословенной нищенской простоты, идущей от их бога, ведущей их к вечной победе над Врагом и абсолютной ясности бытия.
Нужно просто иметь глаза.
Но мир отрёкся от видения.
В чаде воскуренных благовоний, внутри тайной, устроенной под поверхностью Храма обители, он стоял на коленях перед еле различимым изображением Сотворителя. Нарисованным здесь преступно, тайно, потому что мир там, над его головой, принадлежал только слепцам.
Мир над его головой, утопающий в земной красоте возведённого Храма, с его многими колоннами, выточенными из камня, и треугольной крышей, с яркими лампадами, свисающими с потолка, и медью, которой обиты его пороги, утопал в неге роскоши, укутывающей статую Сотворителя, словно мягкое одеяло, пропитанного, словно ядом, грехом.
Слепцы стояли в том Храме, у него над головой, слепцы там держали свечи и воскуривали благовония, слепцы приносили ликру на его Алтарь. Слепцы передавали друг другу взглядом свою слепоту. Они смотрели на Сотворителя, и Сотворитель под многими этими взглядами тоже вот-вот мог перестать видеть эту яркую, как край мира, линию между верным и неправильным мирами.
Но время пришло прозреть.
Набрав в натруженные грубой работой ладони воздух, наполненный благословением создателя этого мира, бога его и отца, он опустил эту пригоршень невероятного дара себе на макушку и благостно провёл по тёмным, как обсидиан, волосам, а затем поднялся на ноги, не заметив, как после этого черты лица его затвердели, застыв в холодной маске решимости.
Он опустил на лицо чёрный капюшон послушника и твёрдой походкой поднялся на поверхность. В мир великих слепцов.
Медленно, действуя каждым движением своим словно в танце единства с миром, он вступил в движущуюся со свечами в руках в Храм процессию клириков. Здесь он был на своём месте, так как всю свою жизнь посвятил изучению бога и безусловной любви к нему.
Он никогда не поднимался в сане, он никогда не брал учеников, он никогда не отказывался от простого труда, но и никогда не принимал власти. Он был чист. Мысли его были обращены только к Сотворителю.
И бог за это даровал ему дар прозрения.
Прозрение, чтобы он увидел, чем верное отличается от неверного, увидел, в какой опасности находится Сотворитель, в какую тьму ведёт его и весь горний и дольний мир иерофант этого мира, его первосвященник, его главный растлитель. Его первый слепец.
Процессия под песнопения медленно влилась в Храм. Там собрались многие, но многие эти оставались для него безлики. Он обошёл по боковому нефу их всех и остановился вместе с остальной процессией между Алтарём и единственной статуей Сотворителя.
Опустил голову, покрытую чёрным капюшоном, но взгляд свой, видящий взгляд свой устремил через вязь воскуренных благовоний на фигуру главного из великих слепых — Часовщика.
Здесь Он был, ведущий мир свой в Хаос дорогой крови и слёз, ещё и дорогой бесконечной смерти. Сотворитель не этого хотел. Сотворитель хотел не переставать видеть.
Храм был полон паломников, пришедших со всего мира для празднования одного из последних дней, когда из Храма можно было видеть солнце. Всего один Шаг оставался до того, чтобы мир стал слишком большим и замкнулся, чтобы его солнце перестало освещать сакр, в котором находился Храм и стояли Машины Творения. Чтобы солнце осталось внутри мира, как зрачок остаётся внутри глаза.
Это был великий день, последний день перед вечной ночью Храма, когда Машинам придётся двигаться без священного огня светила, побеждающего Хаос, освещающего им путь.
Но кто собрался здесь? Те, кто считали себя великими, те, кто считали себя набожными, Храм ни для кого не закрыл дверей, но сюда пришли одни слепцы, для того чтобы сообщать свою слепоту. Великие дары они принесли Храму, словно бы можно было купить благодать. Словно бы мраморный Сотворитель мог пить или есть, словно запястья его нуждались в браслетах, а суставы — в новой механике.
Сколько бы они ни возгоняли и ни фильтровали ликру в чревах своих великих заводов, они не приближались к богу, они забывали его, и мир воистину погружался в великую тьму.
Но выход был. Был, был у мира один шанс.
Процессия остановилась на границе Храма Равных и Храма Избранных, Святилища. Эта граница была не просто линией между Святилищем и Храмом, она означала границу между миром, покорённым духовной слепотой, и миром, всё ещё нетронутым, всё ещё чистым. Однако долго ли этот мир останется чист, если все своими полными греха глазами слишком долго будут смотреть на Сотворителя?
Огромные кованые ворота, приводимые в движение великими механизмами Храма, были ещё закрыты, но последний луч закатного солнца, предвкушающего тяжёлую поступь Врага, скользил по створкам. Прозвучал низкий, утробный звук, паства встала, прихожанин за прихожанином, на колени, набирая в сложенные ладони алые пригоршни последнего света этого Храма.
Он увидел, что один из передвижников остался стоять. Молодой механоид выделялся из толпы, никаких особенных черт при этом не имея — одежда странника, лоб повязан чёрной лентой, означавшей, что он отверг себя, чтобы поклониться богу. Однако юноша не присоединился к остальным в поклонении закатному солнцу, словно ждал чего-то большего. Нового мира он ждал. Как прозрения.
Зная церемонию благословления Машин, он чувствовал кожей, что происходит за великими Вратами, отделявшими оглашённый, полусакральный мир от действительно сакрального, скрытого, за которым совершалось таинство творения мира: лежал вход к Залу Творения, краю мира и первородному веществу, которое нельзя видеть неподготовленным.
Медленно там, в пространстве, доступном только избранным, тем, кто мог считать от себя собственный Род, иерарх и иерофант этой церкви и этого культа, демон Часовщик, достал из специального паза Алтаря жертвенный кинжал и занёс его над пустым жертвенным камнем.
Оба эти действия имели огромное значение: вынимание жертвенного оружия автоматически приводило в действие открытие слуховых окон, которые, благодаря архитектуре всего здания, делали происходящее за Вратами слышимым для всех прихожан Храма, а воздевание его над пустым Алтарём означало, что Шаг будет совершён мирно, без лишнего кровопролития, что никого не пришлось класть на этот Алтарь для жертвы.
Процессия песнопевцев освободилась от свечей, которые забрали у них инокини в белых одеждах с лентами белыми, повязанными поперёк лба, и руками, украшенными киноварными узорами. Эти узоры напоминали раны.
Он, как и остальные в этой процессии, повернулся от народа к Святилищу.
Врата открылись, показывая сначала через щёлку, а потом всё больше за собою Алтарь, окаймлённый великой бездной, и каменную статую Сотворителя над ним.
Раскрывая шесть своих крыл, раскрывая, словно в объятиях, белые руки, в одежде белой, такой тонкой, что она, казалось, просвечивала, отороченная широкой каймой с золотым шитьём, к народу шёл первый из демонов, говорящий с Создателем, Часовщик.
Первосвященник, первоисточник всякого зла и всякой скверны, разъедающей, словно ржавчина, мир, отец всякого порока.
Воздев руки к Сотворителю и Алтарю, благословляя Машины Творения на Шаг вперёд, на борьбу с Хаосом, на дарование миру жизни, Часовщик повернулся к нему спиной.
В единственно верный момент, когда все механизмы мира сходились в единой точке, дающей ему первую и последнюю от самой Зари мира возможность совершить задуманное, он не знающей сожалений рукой вытащил из складки одеяния кинжал и замахнулся, чтобы снять наконец с лица мира повязку, делающую его слепым.
Он ударил.
Но удар этот цели не достиг. Все чувства, всё приводящее его в восторг от ясности восприятия напряжение, державшее его столько лет, взметнулось, зарделось, доходя до своего пика и… мёртвый, он застыл, ещё стоя на ногах, с грудной клеткой, в которой уже не было сердца.
Часовщик замер, видя, что произошло, и, не дрогнув, не отступив назад перед атакой убийцы, посмотрел в его застывающие в смерти глаза, а как только он упал — в сияющие ясной бирюзой глаза Ювелира, появившегося за спиной сошедшего с ума от любви к Сотворителю клирика. Ювелир медленно смежил, а потом снова открыл веки, взгляд его был затуманен, и сознание, как сразу же отметил Часовщик, не ясно.
Тело несостоявшегося убийцы упало на ступени перед Алтарём. Мрамор окрасился вырывающейся из раны толчками кровью.
Часовщик же поспешил снять с себя богатое, расшитое для служения Сотворителю одеяние и накинуть на плечи Ювелиру, одновременно его при этом обняв и поддержав. Он обратился к собравшемуся в Храме своему народу:
— Возлюбленные чада Сотворителя! Вы видели, что произошло! Солнце, как и было предсказано, последний раз показалось нам, и мы причастились светом! Мой брат, исчезнувший с ложа, где ждал он возвращения в мир, вернулся! Похищенный Конструктором, презревшим правила и законы, утверждённые Сотворителем, мой брат вернулся! Чтобы спасти Меня и защитить истину, которую говорит нам Господь! Чтобы защитить Храм! Итак, видим мы, что бог наш жив! И нет числа его славе и нет предела сиянию его! И нет сомнений в его милосердии!
Зал Храма затопили радостные возгласы и одобрительный звон браслетов с бубенцами, которыми прихожане выражали свою радость каждому свидетельству Шага вперёд и каждому явлению воли их бога.
Часовщик протянул свободную руку вперёд, дав коснуться себя лицом и губами нескольким ближайшим механоидам, выбирая тех из них, кто искренне прилепился душой к Храму и больше делал для него, однако, когда те же руки потянулись к его брату, Часовщик отвёл его на шаг дальше от толпы. Он не был уверен, чтоэто безопасно.
Ювелир, всё это время молчавший и никак не реагировавший на объятие Часовщика, покачнулся и упал бы, если бы брат его не придержал. Часовщик прижал его к себе крепче. Внимательно пробежался он взглядом по лицам присутствующих механоидов, отметив тех из них, кто не успел спрятать под маской ликования страх, тревогу, разочарование. О заговоре демон знал, но не думал, что к нему подобрались настолько близко.
Что ж, действовать следовало аккуратно, но они все будут мертвы ещё до конца ночи: фанатик, решившийся поднять руку на Часовщика, скорее всего, действовал в одиночку и лиц и имён стоявших над ним еретиков не знал, но их собралось немало, и они относились к элите, потому что кому-то требовалось снабжать его деньгами и связями, способствовать тому, чтобы он оказался в нужное время в нужном месте. И сейчас они себя выдали.
Машины Творения тем временем двинули мир вперёд и замерли, дойдо насытилось и медленно потекло к Первородному Огню, в мир.
Правильно поняв ситуацию, один из епископов уже поднялся к Алтарю, чтобы продолжить богослужение и дать Часовщику возможность отойти самому и увести брата. По пути к святилищу этот высокий седобородый клирик безразлично наступил в натёкшую лужу крови, и от Храма к Святилищу протянулся багровый след.
Часовщик же проводил Ювелира к выходу. Скрывшись от чужих глаз, подозвал к себе начальника стражи, ожидавшего наказания за свой недосмотр, и назвал ему имена и номера всех, кого он заподозрил в измене, заключив мягко:
— Закройте двери между Храмом и Святилищем, раздайте народу сладкие хлеба, и пусть он празднует и поёт славу бессмертному солнцу. А тех, кого я назвал, призови в Святилище избранными, чтобы увидели они великие чудеса Сотворителя и познали нескончаемость мира и всепобеждающую силу Машин Творения.
Как только стражник ушёл, Говорящий с Создателем обратился к Ювелиру, всё также молчавшему с полуприкрытыми, уставившимися на одну точку где-то на полу глазами:
— Где ты был? — спросил он у брата. — Что с тобой сделал Конструктор, почему ты в таком состоянии?
Ювелир в ответ поморщился, пытаясь найти в себе силы для ответа, но, попытавшись подобраться, только сильнее опёрся на брата, глухо при этом зарычав на границе со стоном.
— Да будь он проклят, истинно я говорю, — мрачно пробормотал Говорящий с Сотворителем, знаком велев подошедшему служке подготовить для брата комнату, и, подняв того на руки, быстро отнёс в собственные покои.
Запретил входить за собой Зиме.
— Грязь, — медленно, глухо произнёс Ювелир, оскалившись, — кровь. Песок и камни.
— Сейчас мы тебя отмоем, но ты истощён до крайности, и сначала нужно хоть что-то поесть, — ласково произнёс Часовщик, пытаясь не выдать чуткому, без всяких сомнений, брату нарастающее волнение.
Часовщик тревожился от многого: того, что Сотворитель вернул Часовщику Ювелира для какой-то цели, того, что ересь, всё больше проникая внутрь Храма, словно ржавчина, нарастала, того, что его брат находился в очень уязвимом состоянии, таком уязвимом, что немногие в Храме действительно будут рады ему и попытаются действовать, а сам Часовщик не знал настоящих причин его возвращения, а если говорить открыто — боялся, что знает их, эти настоящие, истинные, подлинные причины. И за все эти годы так и не подготовился к тому, чтобы встретиться с ними лицом к лицу.
Больше всего Часовщик сейчас боялся мести. И, зная Ювелира, не сомневался в том, что его истощение не помешает ему отомстить, если он только захочет.
— Сохрани это всё, — произнёс Ювелир тем временем. — Мне это нужно. Важнее всего.
— Грязь и кровь? — уточнил Часовщик и, получив ответное слабое рукопожатие, обещал это брату.
Он быстрым шагом прошёл через спальню. Его посетила в груди мысль, что разумнее всего было бы сейчас Ювелира положить на постель и медленно, аккуратно выхаживать неделями, ничем не беспокоить, давая сладкую воду по камням, призвав для этого шуйц с самыми чуткими руками.
Но потом Часовщика кольнул страх, придавший ему скорости: он хотел знать, что с его братом всё в порядке, прямо сейчас, а потому свернул в комнату, полностью отданную под нужды омовения. Ниже, на первом этаже, находилась большая купель, где осторожно удалить пыль и грязь, не задев многочисленные повреждения кожи, было бы удобнее, но это пространство показалось Часовщику слишком большим и оттого небезопасным.
Здесь же небольшая по сравнению с открытой купелью или горячими источниками близ их Дома в начале мира, выдолбленная из цельного камня ванна казалась куда защищённей. Горячая вода всегда держалась наготове, сам камень прогревался толстыми ароматизированными свечами, расположенными под днищем, и освещался солнцем этого последнего дня. Сейчас же двери на террасу плотно закрыли и тяжёлые шторы задёрнули.
Всё было подготовлено, и Часовщик осторожно опустил брата в тёплую, мягкую, насыщенную благовониями воду, аккуратно придержав тому голову. Ювелир, сперва вздрогнув от прикосновения к коже воды, тут же собрался и сел, подтянув ноги. Часовщику было бы удобнее осмотреть его целиком, но он не посмел настаивать.
Вода почти сразу окрасилась в серый, а затем и в бурый от запёкшейся крови цвет. Часовщик осторожно убрал с тела брата остатки одежды. Внимательно он осмотрел открывшиеся под ними раны от волочения и сознательных истязаний и тихо попросил пригласить лекаря. От стены близ дверного проёма в спальню отделилась, словно тень, служка и отправилась выполнять указание.
— Брат, это сделал Конструктор? — спросил он Ювелира.
— Ему снова стало темно, — ответил тот тихо, держа голову над коленями и дыша часто, явно пересиливая себя, чтобы разговаривать.
Почти сразу же тело его зашлось крупной дрожью, похожей на подступающий регенеративный шок, но демон оскалился, словно споря с собственной квазиорганикой, и дрожь, послушавшись его воли, прошла. Часовщик опустил руку в воду, та сильно остыла, но если бы Ювелир позволил себе расслабиться, то она стала бы ледяной.
Об этой особенности регенерации демонов Часовщик знал, и он, и его служки были готовы к тому, чтобы сменить воду три-четыре раза, прежде чем регенерация их нового господина насытится, но Ювелир был слишком осторожен. Он не позволял себе взять лишнего, даже если это касалось тепла, не позволял даже на несколько часов, даже на руках брата потерять внимание к происходящему.
Ювелир не доверял Часовщику. Он знал, что идёт война.
Часовщику подали чашу с насыщенным ликровым молоком, он хотел сразу же передать её брату, но тот не потянулся к пище и даже не посмотрел в её сторону. Говорящий с Сотворителем осторожно поставил чашу на борт ванны, чтобы его брат мог взять, когда захочет сам. Осторожность Ювелира всё больше пугала его.
— Почему Конструктору стало темно? — вкрадчиво поинтересовался Часовщик, убрав брату волосы от лица и чуть отстранившись, когда тот пристально посмотрел на него голодной бирюзой сияющих лихорадочным огнём глаз.
— Я убил его жену и новорождённую дочь. Вырвал им сердца.
— Почему?
Часовщик понимал, что действие, похожее на ритуальное убийство того фанатика в Святилище, Ювелир совершил не впервые. По состоянию тела его брата Часовщик, как по открытой книге, читал страх тех, кто делал с ним всё это. Он читал их страх, их беспомощность перед судьбой и миром, их попытку получить контроль над событиями. И трагическую невозможность добиться всего этого: механоиды не властны над жизнью и смертью, над волей Сотворителя и наступающим Врагом.
Но они хотят получить эту власть, и страх беспомощности толкает их на абсурдные и ужасные вещи. Этим объясняется покушение на Часовщика, грозившее смертью всему миру, этим объясняются истязания Ювелира.
— Я не знаю почему, — медленно произнёс Ювелир, и впервые за это время его взгляд окрасился внутренним вниманием, интересом, отвлёкшись от полубессознательного противостояния слабости. — Я хочу это выяснить. От этого зависит ближайший Шаг.
— Значит, с тобой это сделал не лично наш брат, а его Род? Тебя наказывали?
Ювелир улыбнулся, показав провалы на месте выдранных с корнем клыков:
— Лечили.
— От чего?
— Зла.
— Ты хочешь мести за себя? Они могут заплатить кровью за каждый порез на твоей коже.
Ювелир, явно уже не способный даже приподнять голову, прислонился лбом к прогретому борту ванны. Он снова предупреждающе, глухо зарычал, и Часовщик, почувствовав, как по задней стороне шеи у него пробежал холодок, напоминающий о первых днях этого мира, ещё до его Зари, понял интонацию брата безошибочно: он требовал, чтобы Часовщик перестал отвлекать его и мешать размышлениям о чём-то до самого основания мира, до самой возможности его спасения, важном. Потому что время уходило. Часовщик послушался.
Говорящий с Сотворителем посмотрел на спину Ювелира, изрытую сеткой шрамов, налепленных один поверх другого на коже, провалившейся между выпирающими рёбрами.
Внимательным глазом он отметил, что голод пронизал тело его брата настолько, что нижняя рубцовая ткань уже не поддерживалась, шрамы расползались, и раны начинали открываться заново.
Демон поднял было мягкое полотенце, чтобы убрать немного грязи с кожи брата, но испугался причинить лишнюю боль и опустил руку. Времени, чтобы пробыть с братом достаточно для того, чтобы он хотя бы немного пришёл в себя или убедился, что общее состояние его не несёт угрозы для жизни, Часовщик, к своему сожалению, не имел.
Впрочем, уже сейчас было ясно, что в ближайшие несколько дней Ювелир не встанет на ноги, а за такой значительный период великий демон, первый после бога, конечно, сможет узнать, какие именно механизмы мира привели Ювелира сюда, и чего действительно он хочет от Часовщика и Храма, и, самое важное, какая у него власть, чтобы это потребовать. А сейчас Часовщик должен как можно быстрее вернуться в Святилище.
Действуя аккуратно, он приласкал брата по волосам, зарывшись в них лицом, и тихо, так, чтобы никто, кроме чуткого на слух Ювелира, не расслышал, произнёс:
— Я вижу Тебя. Вижу Твоё Предназначение Сотворителю, вижу Твою доброту ко Мне, когда я предал Тебя, и нарушил договор с Тобой, и обрёк Тебя на то, чего Ты для себя не выбирал, а Ты пришёл ко Мне, когда никто другой не смог защитить, и спас Мою жизнь, и дал Мне право дальше служить нашему Господу. Ты ни в чём не будешь нуждаться под Моей рукой.
Часовщик поднялся, передав брата в руки подоспевшему врачу и собственной личной прислуге, отобранной тщательно и заслуживавшей необходимой толики доверия.
Глава его личной службы приблизилась к демону и, аккуратно преклонив перед ним механические, словно выточенные волной из камня, колени, спросила низким, певучим голосом:
— Научи нас заботиться о нашем новом господине, чтобы не причинить ему боли, но унять его скорби и вернуть радость ему.
— Вы не должны касаться его тела без того, чтобы он разрешил. Приносите еду и чистую воду для питья, но оставляйте поодаль, чтобы подать, когда он скажет. Следуйте его словам в точности. Если вам покажется в них двусмысленность — уточняйте. Но никогда не поступайте так, как кажется правильным вам, в нарушение его слов.
— Но что станет, если наш новый господин крепко уснёт и мы должны будем дать ему лекарство или пищу, чтобы защитить его жизнь перед тьмой смерти?
— Позовите меня, — Часовщик ещё раз внимательно посмотрел на брата, вдохнул густой, душный, темнеющий воздух первой великой ночи и коснулся высокого, перехваченного ободом из вырезанных из плотной ткани шестерёнок лба служки в жесте благословения. — Эта ночь будет трудной, но светлой. Не солнцем, но светом Сотворителя, вечным сиянием Его истины.
Повернувшись спиной, Часовщик выждал секунду, внимательно слушая, как служка поднимается с пола, как у Ювелира просят разрешения обработать раны. После демон вернулся в личные комнаты. В спальне, миновав которую выйти в коридор было нельзя, его ожидала Зима.
Она, словно не забыв о возможности новых нападений, открыла ставни на одну из террас, и оттуда лился полный запаха костров и айнноры, щедро бросаемой в честь движения мира вперёд в пламя механоидами, не сумевшими получить право попасть в Храм и праздновавшими последнее солнце под открытым небом.
Тонкий силуэт демонессы, серебряная кожа, белые волосы, забранные в хвост на затылке и убранное по краю серебряной же лентой полупрозрачное, тонкое одеяние составляли вместе некую аллегорию ускользающего счастья, смертного мира. Слишком великой для Часовщика награды.
Зима сразу же обернулась на мужа. И как только она это сделала, это особенное переживание хрупкости рассеялось. Зима никогда не была хрупкой. В действительности она была из тех, кто собирал собственными руками этот мир. И Часовщику всё чаще казалось, что мир, по какой-то непонятной, скрытой ещё от него причине, не может ей этого простить. Что она слишком глубоко проникла в него белыми, как первый, робкий снег, волосами.
Он остановился в дверях, сложив в почтительном жесте руки, показывая, насколько дорожит тем, что Зима пришла сюда, а не осталась на празднестве внизу.
Всё ещё оставаясь мыслями на возвращении Ювелира, Часовщик осознал, обдумал, насколько вероятно то, что из-за брата он лишится Зимы. Он осознал жену и всё то внимание механоидов, которое было на ней сосредоточено, как ту же самую ржавчину, разъедавшую, как ему всё больше казалось, социум мира. Он увидел ясно, словно бы Сотворитель ему открыл, какую именно деталь пытается уничтожить это пагубное окисление.
Произнося искренние, не трогавшие его слова, благословлявшие его спасение от покушения, Зима подошла ближе. Он протянул руку к супруге, коснулся кончиками пальцев её лба, переносицы, губ.
— Вы слишком любите этот мир, — произнёс он медленно, не надеясь на то, что Зима правильно его поймёт, потому что мысль, только что поразившая его, показалась бы демонессе абсурдной.
И еретикам там, внизу, к суду над которыми он должен как можно скорее вернуться, эта мысль показалась бы абсурдной, хотя полностью и ясно объясняла все их не имеющие другого смысла действия: посягать на жизнь Часовщика — это всё равно что покушаться на жизнь самого мира, потому что никто, кроме Часовщика, не сможет благословить Машины Творения. И если убить Часовщика, те не смогут включиться перед Хаосом. Мир погибнет.
— Узнав, что ваш брат вернулся, я испытала страх за вас, — честно призналась Зима. — Не думаете ли вы, что он — не что иное, как призрак из мира, который рассеялся словно дым с первыми лучами Зари? Не думаете ли вы, что он сам рассеется туманом на ваших руках, когда уйдёт тучная ночь?
Часовщик вспомнил эти лучи. Кроваво-алое полотно впервые заходящего солнца, впервые укрывающее небо, словно саваном. Солнце уходило тогда из сакра Храма в сакр мира. И их хрупкое, но искреннее братство истончалось и исчезало навсегда вместе со светом последнего Длинного Дня.
Он вскинул взгляд в раскрытое окно, за которым дрожала подсвечиваемая кострами внизу темнота. Сегодня солнце скрылось от Храма в последний раз. Это было так… механически. Заставляло чувствовать мир таким одушевлённым, так походящим на машину.
— Он мой возлюбленный брат, — мягко прошептал Часовщик, пригладив супругу по плечам, но она отозвалась сразу же:
— Это не так. Ваш возлюбленный брат умер. И вы подпустили эту ржавчину, ересь, к себе настолько близко, потому что надеялись тайно, что сегодня кинжал войдёт в вашу плоть, и отстежное лезвие останется внутри, и вы умрёте в последний день солнца на ступенях, между Храмом и Святилищем. И тогда бы ваш брат, ваш возлюбленный брат, Всадник Хаоса бы пришёл. И взял себе мир, который вы приготовили для него. И, — Зима коснулась его волос, проведя по виску длинными пальцами с серебряной кожей, — он сделал бы этот мир счастливым.
— Да, — согласился Часовщик, вспоминая тот холод, который почувствовал, когда понял, что его несостоявшийся убийца мёртв, — да. Но Всадник не вернулся, он не вернётся. Как никогда не вернётся Длань. И ты должна служить моему живому, вернувшемуся из небытия брату, который не предал и не оставил меня в нужде. И ушедшая Длань, и погибший Всадник были братом и сестрой и Ювелиру тоже, и он имеет право взыскать с меня за их судьбу. И я надеюсь, что не поступит так, как Конструктор, отказавшийся от мести, но не сумевший простить. Пусть Ювелир скажет мне всё в лицо, пусть он потребует…
— Если он мне скажет об этом, — вкрадчиво произнесла Зима, касаясь лица мужа в жесте крайнего супружеского уважения, — я отвечу, что должен он припасть на колени перед вами и поцеловать пол между ваших сандалий, потому что вы решились созиждеть этот мир и приняли на себя всякий грех и всё, за что можно порицать, а больше никто не посмел.
Она вынула из складок одежды кинжал в филигранных серебряных ножнах и вложила его в руки Часовщику:
— Каждое слово от Вас, произнесённое Вашему брату, каждое откровение ему и каждый Ваш грех, деяния вынужденные, но не красивые, деяния праведные, но не понятые современниками — всё это точило кинжал, который он носит у сердца, чтобы вонзить его Вам в грудь. Он знает, как убить вас словом или взглядом. Умоляю, держите под рукой оружие, чтобы ответить ему или подарить в знак верности, если он так и не воспользуется своим.
— Мне нужно возвращаться в Святилище, — ответил Часовщик коротко.
Он взял кинжал, отнял он от себя руки жены, отдавая этим знак прощания.
— Там собрались самые ярые из зачинщиков сговора против меня. Я должен пресечь ересь сегодня. Забрать её двигатель, и тогда остальные механизмы её остановятся сами.
— Вы позволили еретикам войти в Святилище? Наделили их правом считать свой Род от себя? Подняли их до себя, чтобы…
— Чтобы их смерть или раскаяние имели значение. Тот, кто убивает тех, кто ниже себя, лишён доблести. Тот, кто убивает тех, кто ниже себя, поступает бессмысленно. Ни для чего. Лишь один Род из тех, кто вошёл в Святилище, не пресечётся. И однажды он раскинет над собою золотые кроны.
Зима попыталась проникнуть взглядом за его глаза, понять, каким образом он может видеть, насколько далеко и какая часть из всех его пророчеств — голос бога, а какая — холодный расчёт, основанный на всём, что он когда-либо видел и слышал, что понимал и что складывал внутрь той огромной работающей Машины Жизни, в виде которой он представлял для себя мир.
Но как бы пристально Зима ни вглядывалась в его серую, буквально светящуюся пониманием и добротой радужку, ответа она не нашла. И потому коснулась губами его пальцев в жесте прощальной нежности.
— Твой возлюбленный брат вернётся, — сказала как напутствие мужу, — однажды он вернётся, и я клянусь, что дам ему всё, что он только захочет. И буду любить его. И буду целовать его перстни и браслеты за то, что он есть у тебя.
С этим они простились, и демонесса проводила мужа долгим, внимательным взглядом.
Зима никогда не задавала Часовщику множество мучавших её вопросов о мире до его Зари: любил ли он Длань, с которой взошёл на ложе и которая от него понесла первых из механоидов? Любил ли её кто-то ещё из братьев? Может быть, Ювелир? Было ли между ними соперничество? И всходил ли на ложе, кроме Часовщика с Дланью, кто-то ещё? Чьих детей не уберегла Зима?
Это всё касалось очень давних, очень тёмных и всё менее важных событий по сравнению с настоящим, наращивающим силы и год от года растущим миром: с новыми городами, с новыми рудниками, с трещиной между Часовщиком и Конструктором, которая сейчас выразилась в их поочерёдном стремлении взять под свою руку Ювелира, который казался демонессе не более чем трофеем и был к тому же совершенно неинтересен ей.
Часовщик же, в сопровождении двух вооружённых воинов, вернулся в Святилище, уже покинутое народом, где осталась только его личная стража, и посмотрел в глаза поставленным на колени заговорщикам.
Всего в Святилище, за закрытые двери, под мраморный лик Сотворителя, привели троих. Они пробыли здесь недолго, за то время, пока Говорящий с Сотворителем провёл с братом и женой: прошла часть Свидетельства Шага, епископ, принявший служение от Часовщика, получил инструкции о том, кто приглашён в Святилище, он назвал их имена, и трое еретиков вошли.
Каждый раз те, кого Часовщик приглашает к себе, для того чтобы уничтожить, реагируют на такое приглашение непредсказуемо: кто-то понимает всё сразу, другие почти половину разговора думают, что всё для них обернётся только к лучшему, а третьи впадают в странное пограничное состояние, словно бы одна часть их сознания ясно осознаёт положение, но не даёт понять этого второй.
Эти трое, кажется, были из тех, кто понял, что их растерзают, не сразу. Они стояли перед Алтарём в богатых одеждах до пола, расшитых и золотом, и серебром, и алой нитью. Головы их были покрыты яркими платками из толстой рифлёной ткани, а глаза подведены чёрной тушью.
Все трое — мужчины. Все трое выдали себя взглядами во время покушения, но сейчас друг на друга они не смотрели, и в голову демона закралась мысль, что они не были знакомы между собой. Они не знали, что принадлежат к одной ереси, но все трое знали о планах.
Обдумав, он быстро назвал четвёртое имя, и в зал вошёл ещё один высокий, крепкий, хорошо сложенный мужчина с высокомерным взглядом и твёрдой походкой. На него трое остальных оглянулись. И когда они это сделали, все четверо поняли всё.
Двери Святилища закрыли в ту же секунду, и один из призванных, самый высокий и самый ухоженный из всех мужчина, первым бросился в ноги Часовщику, сорвав с головы свой красивый платок в знак горя о собственных грехах и траура по ним, и поцеловал пол под ногами демона:
— Я раскаиваюсь! Я раскаиваюсь, — закричал он, пытаясь заплакать, но слёзы от отчаяния и страха за собственную жизнь к нему не приходили, и тогда он поднялся на колени и разорвал одежды на своей груди.
Лица остальных троих исказила гримаса отвращения его трусостью.
Часовщик же, не любивший лишних смертей и слишком очевидной экономической экспансии Храма в мир, оказался доволен. С тенью лёгкого раздражения он велел стражнику увести мужчину. Тот кричал о своём раскаянии с заискивающей надрывностью всё то время, как его поднимали и выталкивали, как он думал, на казнь.
Демона он же не интересовал до того момента, пока он не станет принимать у этого механоида, уже допрошенного и назвавшего все имена, уже написавшего завещание, по которому все доходы его насытительных плантаций перейдут Храму, покаянные обеты перед Сотворителем, связывающие его со всеми подписанными бумагами.
Это будут епитимьи исключительно духовного свойства: пост и чёрное покрывало на его пропорциональной, привыкшей гордо смотреть голове, на его механических, таких правильно ложащихся волосах. К смерти, которая наступит, как видит сейчас Часовщик, от старости, он станет глубоко набожным механоидом. В Святилище, перед ликом самого бога, с ним произойдёт великая перемена, и этот сладострастный красавец обратится от греха к праведной жизни.
В том числе и потому, что он, существо колеблющееся, увязающее в удовольствиях плоти, всё же носит внутри добро. История простая и поучительная.
Выстроив её до самого конца, Часовщик обратился к остальным трём. Итак, они владели мраморными рудниками, насытительными заводами и соляными копями. Камень, ликра и соль.
Для демона всё, что происходило между ними тремя сейчас, их отношение друг к другу, их отношение к ереси казалось новой модернизацией уже известного ему механизма. Ненужной, потребляющей энергию надстройкой, которая к тому же неправильно насыщает ликру, внося разлад во весь механизм в целом. Ему предстояло её разобрать. Но так, чтобы не пострадала вся Машина в целом: Машина церкви, Машина социума, Машина жизни.
Не та, что была до Зари мира, другая. Теперь неуловимо огромная, чьи механизмы, всё такие же физические, всё такие же неумолимые, двигались теперь одновременно повсюду, где существовали механоиды. И видел их один только Часовщик в своём холодном мире, выстроенном Сотворителем в его восприятии, за светлой, серой радужкой светящихся добром и заботой глаз.
Во имя Сотворителя. Во имя живого бога, смотрящего сейчас на них всех.
Зима оставалась в покоях супруга, не желая входить к его брату и не желая с ним говорить или проверять его состояние. Передумать её заставили слуги и лекарь, покинувшие комнату. Глава личной службы, отделившись от остальных, подошла к своей госпоже, встала в почтительную позу на коленях и сообщила, что их новый господин всех отпустил, едва дав обработать себе раны.
Он отверг все подарки своего великого брата и из нужного попросил себе только скромное одеяние механика Машины Творения, на которое не имеет права. О том, что, для того чтобы принести одеяние, потребуется время, ему сообщили, и он согласился ждать.
Женщина спросила у Зимы, должны ли они его слушаться, ведь этот пришлый демон не имел права носить одеяние механика Машины Творения. Зима против решения Часовщика не пошла. Глава личной службы Часовщика отбыла выполнять приказ.
Зима же осталась недвижима. Оставлять Ювелира здесь, в личных комнатах над самим Храмом, ликровая сеть в которых была едина для всего здания, кроме Святилища, она не стала. И хотя ей передали запрет входить, она не подумала его соблюдать. Власть Часовщика как мужа и как иерофанта Сотворителя не простиралась на неё.
Ради Храма и ради народа она вошла.
Ювелир не обратил на неё внимания. Всё ещё не способный подняться на ноги, он сидел на полу, одной рукой перебирая песок в чаше, где раньше было богато насыщенное ликровое молоко, а другую держал над пламенем масляной лампы.
Пришедшая в мир молодой демонессой на самой границе Зари мира, Зима ещё застала тяготы первого бытия и понимала смысл его жестов. Поданную ему хорошую пищу Ювелир просто выплеснул на пол, а так необходимую ему энергию для регенерации получал старым, медленным и требующим огромной концентрации способом, который имел только одно преимущество — ликровое молоко может быть отравлено, но огонь отравить невозможно. Огонь — это всегда лишь огонь.
— Зачем ты вернулся? — спросила она у демона
Он не ответил ей и не повернул к ней головы. Не подумал отвлечься от своего странного занятия — перебирать плохо слушавшимися пальцами песок в чаше, из которой он выпарил воду. Просто бесцельно перебирать.
Она посмотрела на это холодно, опустив белые, словно первый снег, глаза на его потемневшие от жестоких ветров пустошей руки, на ссохшиеся от длительной жажды и голода жилы и мышцы. На сосредоточенный, исключающий её из сферы его интереса взгляд. Демонесса бросила:
— Я вижу теперь, что ты безумен, так же как и твой брат, как и род его, с которым ты ушёл, проснувшись от Следа Света, даже не обновив клятву своему настоящему господину. Что ты ищешь среди этого мусора? — Ювелир, остановившись на несколько ударов сердца, продолжил опять, и эта остановка давала понять, что он услышал её, но осознанно проигнорировал. — Отвечай, когда твоя госпожа рядом с тобой и тебе говорит!
Ювелир остановился, подумав, и медленно поднял на демонессу голодные, сияющие страстно глаза, смотрящие, однако, будто бы сквозь Зиму, будто бы на что-то большее, стоящее за её спиной.
— У меня здесь только один господин.
— В конце старого мира ты присягнул моему мужу в верности и…
— …больше не присягал никому. Отвечай Мне, Зима, решилась ли Ты встать перед ним на колени, коснуться одежды Его и принять смерть от его бога, если только Ты нарушишь волю Его и Его слово? — Зима отстранилась, так как не делала этого, и Ювелир снисходительно улыбнулся. — Вот потому и нет надо Мной здесь других господ, кроме моего великого брата.
С этими словами он наконец отнял руку от чаши и показал ей две песчинки, на вид совершенно неотличимые от остальных, оставшихся внутри. Продолжая улыбаться мягко и смотреть на Зиму с нескрываемой, но обращённой совершенно не к ней страстью, закончил:
— Ты свободна и можешь идти. К моему не знающему сна господину обращены все мои права.
— У тебя не может быть на этот мир никаких прав! — процедила Зима. — Ты оставался в праздности и сне Следа Света, когда наш господин и я создавали его из пустошей и сырых камней! Не твоими руками…
Зима осеклась, увидев, как потемневшие от ветра и постоянной работы, высохшие пальцы Ювелира напряглись, и от этого напряжения пол и стены комнаты задрожали в предупреждающем холодном треморе.
Демонесса замерла, рассредоточив своё внимание в попытке осознать, что именно происходит, и легко, слишком легко почувствовала, что сила, которой так привычно пользуется страшный гость её мужа, исходит не из его особенных способностей, дарованных Сотворителем, Часовщиком или кем-то из древних демонов, а от долгой, выточенной практики, тянущейся от самого-самого начала времён.
Это мастерство, сидящее у него в костях, в костях в прямом смысле слова: древние демоны втирали каменную алтарную пыль, дающую телекинетическую власть над камнем, прямо в кости, предварительно прожигая плоть.
Это делала и Зима, но слишком давно, и сейчас, напрягши в ищущем, хватающемся за пустоту движении собственные пальцы, она попыталась пересилить первого из нерождённых, но алтарная пыль из её собственных костей давно уже вытеснилась регенерацией, а тело Ювелира помнило и сохранило всё.
Всего одной секундой ранее внизу, в Святилище, один из трёх оставшихся в живых еретиков достал меч, спрятанный им в длинных, просторных одеждах, и, воспользовавшись близостью иерофанта, обнажил лезвие против демона, бросившись на него.
Часовщик отдал страже знак спокойствия и встретил атаку уравновешенным, полным искреннего сострадания взглядом. Стены Храма задрожали именно в этот момент. И еретик, желавший закончить то, что не удалось их подосланному убийце, не удержался на ногах. Он упал на меч.
Расслабив чуть правившую его падение левую руку, Часовщик подошёл к телу, перевернул и, проверив пульс, вынул меч.
— Великое несчастье сейчас опустилось на нас. Потому что покинула этот мир душа праведника. Того, кто заблудился во грехах своих, но принял покаяние так полно, что лишил нас права греться у его возвысившейся души. Не стыдно Мне, — сказал он, вытащив меч из груди погибшего, — отирать кровь Своими одеждами, так как кровь эта — чистейшая из ликры, что только может быть пролита на этот святой порог.
Закончив речь, он мягко посмотрел на двоих оставшихся мужчин. Мрамор и хлеб. Один из них не поколебался, но по взгляду второго уже была видна нарастающая паника. Он находился на полпути — частично уверовал в то, что Сотворитель не хотел задуманных ими перемен, а частью испугался кары, которая последует за раскрытием их заговора.
— Ты ведёшь этот мир в пропасть вечной тьмы! В пропасть зла! — злобно крикнул он, пытаясь заглушить в груди эти бушующие чувства — благоговения и страха, оба чуждых ему, будто принадлежавших кому-то другому.
«Хлеб… — повторил про себя Часовщик, глядя внимательно на обоих еретиков лица и переводя взгляд с одного на другое, — хлеб и мрамор».
— Приведите его сыновей, — посоветовал Часовщик стражнику, — великие чудеса происходят сейчас волей Сотворителя, пусть молодые сердца причастятся им и уверуют.
Тот сразу же отбыл.
— Хочешь убить нас на глазах у детей? — со злой ухмылкой спросил один. Хлеб.
— Совсем нет, — улыбнулся Часовщик, наклонившись к уху еретика, и прошептал тихо, не оставляющим сомнения в его намерениях тоном. — Я брошу тебя и твоих троих сыновей в ямы, разделённые прутьями решетки так, чтобы вы могли видеть друг друга, и оставлю умирать от голода. Ты будешь всё видеть. Самый маленький умрёт раньше всех, а, по мере того как они будут уходить к Сотворителю, я буду бросать их трупы тебе, чтобы ты в голодном безумии пожирал тела младших своих детей на глазах у старших.
— Убей! Убей моих детей сейчас! — закричал механоид и с небывалой силой вырвался из рук стражников, бросившись под ноги Часовщику.
Тот снова смолчал, на этот раз устремив взгляд к выходу из Святилища в свои покои, где стояли, приведённые стражником, замерев в ужасе, двое сыновей заговорщика и смотрели, как их отец умоляет об их смерти. Третий, годовалый малыш, был на руках у кормилицы.
С расширенными от ужаса глазами смотрели мальчики, как мужчина, которому придала сил и решимости сведшая его с ума мысль о неизбежной жестокой судьбе, выхватил меч из рук Часовщика и понёсся на собственных детей с налитыми кровью глазами.
Он упал, пробежав половину пути, сражённый копьём, безошибочно брошенным одной из охранниц Часовщика. Демон же открыл детям свои объятия и пригласил их к себе:
— Утешьтесь, — позвал он их, поманив, — утешьтесь. Я не смог защитить вашего отца от безумия, но теперь вы дети Мои. И вас никто никогда не обидит.
И пока мальчики приближались к Часовщику, глядя только на него, отгоняя от себя разорвавшее их мир видение пожелавшего их смерти родителя, последний из оставшихся в живых заговорщиков, не стесняясь кричать, обвинял Часовщика во всех мыслимых разуму преступлениях.
— Что же, я слышу, тебе есть что сказать, — улыбнулся Говорящий с Сотворителем, посмотрев на него поверх сбитых русых волос, уткнувшегося в его грудь в безутешном плаче ребёнка, — так говори же, потому что Я не могу бояться твоих речей. Ведь Я, — почти пропел ласковым, сладким голосом Говорящий с Сотворителем, — не могу бояться истины.
— Я скажу Тебе, — оскалился мужчина. У него красивая и умная жена, она поймёт, что единственным способом избежать остракизма после смерти мужа и его измены Богу станет близкая интеграция мраморных рудников с Храмом, — я скажу Тебе, что Преданный был не один. Второй прямо сейчас уничтожает Машины Творения. Потому что пусть лучше будет мир мёртв, чем продолжит существовать под твоею ржавою, жадной рукой!
— Отведите его к народу, — тихо сказал Часовщик, поднимая детей на руки, прижимая их к себе и убаюкивая, — отведите его к народу в Храме и объявите о том, что он сделал и что делали Преданные ему. Он имеет право на слово перед народом. Пусть он проповедует.
Еретика схватили под руки, и он попытался вырваться в первый момент, но потом быстро понял, что это бесполезно. Он проклял Часовщика, и проклял его много раз, пока пересекал обсидиановый пол Святилища, но, кроме проклятий, больше обличить он его не мог: Часовщик не боялся правды и от правды не прятался, как и говорил до этого.
Правды он не скрывал, наоборот, он давал и время, и трибуну. Он давал механоидам самим решать, что истинно, а что ложно.
В это же время Зима, глядя на Ювелира со всё возрастающим раздражением, наклонилась к древнему демону.
— Тебе дали новую красивую одежду, — тихо, угрожающим шёпотом произнесла она, — принесли украшения на запястья и в волосы, у твоей двери, чтобы не тревожить тебя, положили сладкую еду. И ничего не принял из этих многих подарков моего мужа. Как ты посмел?
— В этих стенах я не могу быть одарён твоим мужем, — произнёс Ювелир, плавно растягивая слова, произносимые им с незнакомым Зиме грубым акцентом, он и его поведение казалось здесь совершенно чуждым, — ведь это я пришёл одарять этот Храм, где он господин.
Зима отстранилась на какую-то долю секунды, незаметно для себя выпрямив спину. Она осознала прямо и недвусмысленно, что Ювелир только что отказался занимать предопределённое ему храмовой иерархией место. Глядя ей в холодные белые глаза и обнажающие чёрные провалы вырванных клыков, демон закончил свою мысль медленно, давая ей полностью прочувствовать каждое сказанное им слово:
— Мне дают то, что мне нужно. Только это. Но из того, что мне нужно, — я требую всё.
Демонесса правильно, совершенно правильно почувствовала кожей близость страшной, неизбежной жертвы, на которую никто из живущих в мире не согласен и на которую она не готова будет отдать себя вдвойне, потому что возьмёт её — именно Ювелир.
Она наклонилась к демону с явным, нескрываемым, страстным желанием напасть и натолкнулась на невидимую, но непреодолимую для неё, прозрачную преграду, заслонившую первого из нерождённых от её нападения.
Ювелир заинтересованно наклонил голову, разглядывая этот эффект. Невидимую границу между ним и Зимой, пролёгшую точно от двух сияющих для него камней, лежавших на его пальце. На силу, не пускавшую к нему разъярённую демонессу, мощную достаточно, чтобы сломить в мгновение ока любое сопротивление его измученного недостатком регенерации тела. И возникшую исключительно из одного его желания защитить себя от Зимы.
Небо озарило марево пожара. Огонь быстро перекинулся с одной Машины на вторую. Взорвался один из паровых котлов.
Там, внизу, в Святилище, ноги еретика подкосились, он начал рваться из хватки стражей с новой, совершенно остервенелой силой, но справиться с их механическими руками не мог.
Он с ужасом смотрел на пляшущие на отполированном до блеска полу огненные отсветы и с ещё большим — на огни Храма, просачивающиеся через щёлку, на которую открылись огромные Врата, чтобы выкинуть сходящей с ума от страха толпе.
Часовщик, всё ещё с детьми на руках, медленно шёл за ним, выпуская свои белые крылья.
Зима же, мгновенно забыв о Ювелире, бросилась к окну, чтобы рассмотреть, откуда поднимается окрасившее её серебряные локоны пламя. Увидев, что Машины Творения горят, она исчезла из комнаты демона, чтобы переместиться туда, к опасности, к катастрофе, и как можно быстрее локализовать её. Чтобы как можно больше спасти.
Ювелир в свою очередь, забыв о Зиме с неменьшей быстротой, осторожно наклонился к камням и коснулся их грубыми подушечками пальцев, поднимая с невыразимой аккуратностью. Ничто вокруг больше не волновало его и не привлекало его внимания.
Камни нагрелись.
Демон попытался воскресить в душе те чувства, которые испытал только что, но эффекта не повторилось, и тогда он, глядя на них внимательно, слившись сознанием с их светом, видимым ему одному, пожелал от них напрямую — возникновения того же невидимого щита между ним и миром. И он возник.
Обдумав произошедшее, демон сосредоточился, упёрся руками в пол и взял из него столько тепла, сколько его позволила ему отнять у здания его собственная регенерация, проскользившая на балансе шока, но оставшаяся под его контролем.
Пол покрылся тонкой корочкой инея, воздух посвежел, но скоро эту прохладу затопила волна жара, идущая от Зала Творения. Донёсся звук второго взрыва.
К этому времени демон уже смог подняться и подойти к окну, у которого только что смотрела на ужасный пожар Зима. Пламя с громким шипением поднималось к беззвёздным небесам, угрожая уронить остов обугленных Машин в Хаос и этим призвать Врага к раннему пришествию, на битву, к которой мир окажется не готов.
Закрыв глаза и переждав приступ головокружения, Ювелир признал, что, скорее всего, это уже произошло, если только Машины не успели отвести от края мира, а их, судя по тому, сколько прошло с момента Шага времени, — ещё не отводили, потому что двигатели должны были сначала остыть, пройти проверку, потом дозаправиться водой и горючим, и только потом Машины снова раскочегаривали топки и начинали отходить к ремонтных цехам. Это всё занимало три-четыре часа.
Действовать Ювелир не спешил. Демон внимательно смерил взглядом огонь, обращая внимание на его цвет и характер. Он хорошо знал огонь и хорошо знал пожары.
Почувствовав камни в своих руках, он ещё раз взглянул на пламя и, только приготовившись ко всему внутренне, пожелал оказаться в определённой точке пространства, так же как это только что сделала Зима. Одной своей волей.
Сотворитель, как оказалось, дал Ювелиру пользоваться такой возможностью перемещения.
Он действительно через мгновение открыл глаза близ ужасающего, ревущего очага пламени, распространяющего вокруг себя нестерпимый жар. Зажигательные снаряды были заложены возле паровых котлов Машин и сработали почти одновременно, в ту минуту, когда Машинам привезли новое топливо для дозаправки после диагностики.
Всё выглядело уже сейчас довольно скверно.
Часовщик при приоткрытых, так, чтобы народ видел его и силуэт статуи, озарённой пожаром, вратах оборотил собственный чистый и ясный лик в сторону мраморного лица Сотворителя, на которого легли алые отсветы, и преклонил колени, мягко уложив белые крылья на чёрный пол.
— Мир умрёт, мир умрёт теперь! — зарыдал один из мальчиков, но Часовщик, слыша, как вторят ему испуганные до полусмерти механоиды, смотрел всё туда же вверх и успокаивающе пропел:
— Нет, мир не умрёт, сыне. Мир защищаем нашим великим Отцом. Мир не умрёт.
В эту же секунду огонь добрался до запаса горючего масла, всё ещё чудом не затронутого пожаром раньше, и пламя вспыхнуло с дикой силой, но упёрлось, словно о стену, всё о ту же невидимую границу, созданную двумя камнями в Ювелировых руках.
Демон прошёл медленно вперёд, заставляя камни накрывать горящие Машины силовыми полями как колпаком, отрезая огню доступ к воздуху и умиряя его, сводя медленно и неуклонно его на нет. У защитников Машин, огнеборцев, смотрящих на Ювелира, опускались руки, а из глаз лились слёзы освобождения от ужаса, который вынужденно и беспомощно они наблюдали.
Страшная смерть мира, против которой они оказались бессильны, отступала, оказавшись бессильной против великого брата их вечного господина. Против защитника Храма, жившего ещё от начала времён, положившего первый камень в его основание. Спавшего, до тех пор пока мир бы не умер без его пробуждения.
Ступая медленно, скрывая за этой величественной неторопливостью дрожь слабости истощённого и истерзанного тела, Ювелир прошёл вдоль Машин и вошёл в Храм со стороны Зала Творения.
Внутри собралось ещё больше механоидов, чем те, кто пришёл на службу, посвящённую Шагу мира, вечером. Сейчас Храм буквально трещал от мужчин и женщин, пришедших искать защиты в объятиях Сотворителя, защиты от гибели мира в объятиях Хаоса, которая казалась им сейчас неминуемой.
Ювелир, двигаясь всё так же медленно, встал перед братом, давая его народу внимательно себя рассмотреть. Часовщик же, всё ещё державший у своего сердца двух вжавшихся в него малышей, медленно поднял на него глаза, осознавая, что опасность миновала и весь ужас, связанный с погибающими Машинами Творения, исчез, усмирённый Ювелиром.
Медленно Часовщик обернулся на еретика и мягко предложил ему, приглашая к разъярённой толпе, желавшей теперь отомстить за пережитый ужас его виновнику:
— Тебе было что сказать, так говори же, говори это всё им, народу, который ты обрёк на смерть в Хаосе, матерям и отцам, чьих детей ты задумал отнять и отдать Врагу. Проповедуй же им слова истины! Скажи, что ты хотел бросить на растерзание Хаосу во имя их душ, а не во славу собственному ненасытному тщеславию. Говори, если истины ты не боишься.
Стражник, освободив еретику руки, бесстрастно толкнул его вниз, в главный неф. Он исчез в толпе, словно в жестокой морской пучине, такой же неистовой и такой же неразумной в своей ярости.
— Ты ли, — спросил с жаром в голосе Часовщик своего брата, — умирил огонь Машин Творения?
— Я, — холодно отозвался тот, сверкая в тяжёлом свете чадящих ламп глубокой бирюзой глаз.
— Какую награду ты за это желаешь?
Ювелир бросил короткий взгляд на собравшихся, внимательно, но быстро оценив настроение толпы, и ответил кротко, не сводя, однако, откровенного взгляда с брата:
— Разве не поцеловал я одежды Твои и не поклялся Я Тебе встать под твою руку у истоков мира?
— Так было, — согласился Часовщик, уловив в его словах упоминание древнего долга, и теперь внимательно ждал, напомнит ли о нём Ювелир, и, думая о том, как именно и когда он убьёт брата, если он посмеет это сделать.
— Именно так и было, мой великий брат, — согласился с ним первый из нерождённых, — и это означает, что я прихожу под руку Твою, чтобы исполнить волю Твою и прославить то, что значимо для Тебя, своими плотью, костью и идущим от начала времён мастерством, значит, единственная награда для меня — продолжать служить Тебе и стоять под твоею рукой.
Толпа приняла эти слова одобрительно. Один только Часовщик, благословляемый сейчас с обеих сторон: и Ювелиром и механоидами, — почувствовал во рту нарастающую горечь начинающейся кровавой игры, которую затеял его брат.
Он очень остро и очень горько захотел поговорить с Ювелиром. Не при народе, не при статуе Сотворителя, а где-то в тишине и с глазу на глаз. Объясниться, всё сказать, пока ещё не поздно. Он опустил взгляд с лица Сотворителя на лицо Ювелира, а потом посмотрел ещё ниже, в пол. Уже было поздно. Он слишком долго избегал прямой конфронтации с Конструктором, взявшим Ювелира под свою руку и просто укравшим его из Храма сразу же, как тот вышел из Следа Света. Говорить нужно было тогда. А сейчас…
Ювелир же внимательно изучал глазами толпу. Он отметил стоящего у колонны юношу, одновременно и слившегося с народом, и от него отделённого, смотревшего на происходящее как на картину, которую ему предстояло запечатлеть красками.
Ювелир, смягчив тон, обратился к брату с улыбкой:
— Народ устал Твой. Объяви же им праздник и открой им свои погреба с добрым вином. И хлеба, о которых Я слышал, в теле которых находят они счастье, им раздай.
— Так будет! — воскликнул Часовщик, поднимаясь на ноги, и, воздевая руки, объявил то же народу.
Те подхватили его слова, и поток благословений начал выплёскиваться из Храма на площадь. Внутрь Храма старалось попасть как можно больше паломников, хотя бочки с вином и содержащий лёгкие галлюциногены хлеб выносили в основном на улицу. Желание войти именно в Храм, увидеть хотя бы глазом Святилище, с его бирюзовыми кристаллами, росшими прямо из стен, с его статуей великого бога и его новым демоном с глазами цвета этих самых кристаллов, преобладало над желанием насытить плоть.
Это был настоящий религиозный экстаз, постепенно сплавляющий толпу в единое экзальтированное существо с изменённым сознанием, жаждущее причаститься жизни этого мира, его торжества над всеуничтожением. Словно бы это могло дать им самим какой-то неуловимый, но, безусловно, важный кусочек бессмертия.
Часовщик передал мальчиков их кормилице, коротко проинструктировав её, к кому ей сейчас обратиться, чтобы детей накормили и уложили спать подальше от дома, где всё напоминало бы им об отце.
Ювелир тем временем подошёл ближе к брату, но рядом с ним не остановился, направившись к Вратам. Прислонившись к их тяжёлым створкам, он стал внимательно смотреть на толпу. Брат присоединился к нему, спросив нежно:
— Могу я коснуться кожи твоей?
Ювелир дал согласие, глядя вниз, на ликующий народ, и Часовщик действительно мягко коснулся тыльной стороной ладони, с кожей белой и нежной, виска брата, а затем его лба:
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
