
Бесплатный фрагмент - Биенье сердца моего
Воспоминания минувшего
Автобиография писателя, пусть даже молодого, это, наверное, что-то принципиально отличное от простого перечисления каких-то жизненных вех. Автобиография писателя — это, по-моему, биография поиска, самосовершенствования, напряжённого строительства собственной личности, без которой нет писателя.
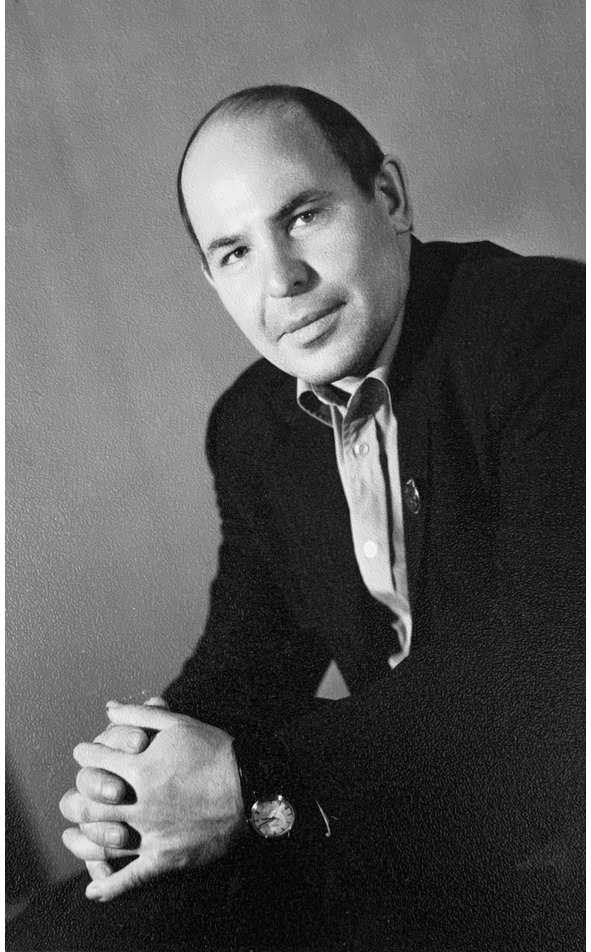
Родился я 20 сентября 1940 года в деревне Пайгаши Параньгинского района Марийской АССР — родине отца, но в полугодовалом возрасте был перевезён в деревню Верх-Илетск в шести километрах от Мари-Турека к бабушке по материнской линии. Здесь, в большой по тем временам русской деревне, в 40 дворов, прошли моё детство и юность.
Деда по материнской линии — Антона Игнатьевича я не мог помнить, он умер в 1940 году, ещё до моего рождения. Бабушка Аграфена Андреевна умерла в декабре 1947 года, так что наше с сестрой Лидой раннее детство было освещено её заботой и добротой. Осенью 1945 года вернулся с фронта отец — Василий Фёдорович — работал сначала несколько лет в колхозе, а потом четверть века трактористом. Мать Мария Антоновна всю жизнь работала рядовой колхозницей.

Деревня наша стояла в удивительно красивом месте — верховье большого лога, где в древности наверняка была река, а при нас — искусственный пруд — отрада деревенской ребятни, где и я делал первые шажки в умении плавать. Холмистые поля, а в полях весёлые рощицы, отдельные деревья, в две стороны — на восток и юго-запад — в двух километрах от деревни начинались глухие леса, уходящие в неоглядную даль на многие десятки километров.

«Большая» река Ноля протекала в двух с половиной километрах от деревни, что не являлось большим расстоянием для бойких ребячьих ног, а тем более, если ты верхом на лошади, которую нужно выкупать, или на велосипеде.
Рос я в крайне трудное послевоенное время. Отец мой — великий труженик — как ни бился, но нужда долго не покидала наш дом. Семья увеличивалась: 7 января 1942 года родилась сестра Лида, в январе 1947 года родился брат Александр, в мае 1950 — Иван, в январе 1953 — Леонид.
Семья, усадьба, скотина, требовали от матери неимоверных сил, она крутилась как белка в колесе, и ежегодно вырабатывала в колхозе установленный минимум — 250 трудодней. Отец вырабатывал за год 1200—1300 трудодней, но трудодень в то время был настолько невесом: на него давали 150—200 граммов зерна, что прожить на это было невозможно. Помню, как однажды мать на себе принесла домой чуть больше полмешка зерна, села на крыльцо и заплакала, сказав мне: «Вот, сынок, что я заработала за целый год».
Лепёшки из гнилого картофеля, хлеб из лебеды, а позднее из тёртой картошки со скудной примесью муки были нашей повседневной пищей. До возвращения отца с войны помню, как мать с бабушкой брали меня с собой на болото с торфом, торф этот потом сушился на постиле посреди двора и употреблялся для выпечки хлеба. Не помню хлеба из гнилушек, но хорошо помню, что мать приносила гнилушки, и толкла их в ступе на муку.
Собирать гнилую картошку на весенних полях, обдирать метёлки лебеды было наше с сестрой Лидой обязанностью. Мать сшила нам для сбора лебеды специальные торбочки с лямкой через плечо. Это сейчас кажется, что лебеды много и собирать её не составляет труда, но, когда лебеду обдирают многие — её не найдёшь. Помню, что за право ободрать найденную куртинку лебеды пацаны нещадно дрались между собой, в том числе и я. Хлеб мать пекла через день, и натирать огромную квашонку картошки на протяжении ряда лет было моей обязанностью как старшего из детей. Огромная тёрка была самодельной — отец сам набивал дырки гвоздём на листе железа — и ужасно резучей; скользкие отирыши картофелин вырывались из руки, из пальцев обильно текла кровь, так что хлеб моего детства был густо замешан на собственной крови. Не от того ли он был так вкусен?..
С ранней весны до поздней осени помню себя босиком, в единственных штанах, окрашенных дубовой корой в коричневый с разводами цвет, и в белой рубахе из грубой портянины, которую на бабушкином стане ткала сама мать.
Вся наша тогдашняя жизнь была связана с лошадьми. Отец впервые посадил меня на лошадь в 6 лет, лошадь меня сбросила, я крепко ушибся и некоторое время испытывал страх перед верховой ездой. Но страх со временем прошёл, и позднее моим излюбленным занятием стало объезжать молодяшек, то есть приучать к узде и верховой езде 2,5-3-летних отчаянно-диковатых лошадок.
На заготовку дров, деловой древесины отец начал привлекать меня с раннего детства. Первые деревья мы валили с ним в лесу ручной пилой и мне было всего 6 лет! Пилу нужно было держать горизонтально, силёнок и умения у меня на это не было, отец злился, матерился, но всё же мы потихоньку наширкали воз дров. С тех пор на многие годы заготовка дров и плотничанье в паре с отцом стало нелёгкой частью моего существования.
Начальная школа была в нашей деревне, и располагалась она в частном доме. На все четыре класса была одна учительница — Таисья Петровна Морозова. Муж её был профессиональным охотником — исчезнувшая теперь в наших краях профессия. Эти люди вольно или невольно сделали для меня очень многое. Охотник, к сожалению, никак не вспомню его имени-отчества, был молодым, высоким, весёлым мужчиной, человеком мужественной и романтической профессии. Он не раз брал нас, пацанов, разматывать с бобин бесконечные бечевы с красными флажками — обкладывать выслеженных волков. Не раз он при мне убивал зафлаженных волков. Все это было жутко и интересно. Жена же его, как я теперь понимаю, была отличной учительницей. Она открыла мне удивительный мир книг, привила неистовую жажду чтения, восторженную любовь к русскому слову и совершенно непримиримое отношение к безграмотности.
Первое своё стихотворение я написал в третьем классе. Оно было рождено каким-то внезапным и острым удивлением красотой искрящегося под солнцем снега, запуржевелых деревьев и всего светло-синего, радостного воскресного мартовского дня. Это было как наваждение, и я испытал лёгкий шок, потрясение от открытия в себе неведомых и сладких способностей «делать стихи». Стихов скоро стала целая тетрадка. Сейчас я бы сам с удовольствием почитал те наивные, совершенно беспомощные, как я теперь сознаю, стихи, но, увы, тетрадка не сохранилась. Тогда же стихи казались мне прекрасными, а учительница настойчиво поддерживала во мне это заблуждение, всемерно поощряла мои стихотворные опыты, и многие мои «произведения» переписывались в стенную газету. Словом, в начальной школе я был уже признанным «поэтом», ни одной мозговой извилиной не ведая, на какую коварную и трудную стезю вступаю…

(в верхнем ряду пятый справа, в белой рубахе, прямо за учительницей).
Ещё одна деталь из того времени: родители никогда не покупали нам с сестрой учебников. Если мы хотели их иметь, мы должны были сами заработать на них. Мы собирали в лесу землянику, малину, чернику и сами же несли всё это продавать в райцентр Мари-Турек. Я не одно лето на продажу заготовлял строительный мох, драл лыко, мочало и так далее. Учебники, тетради, карандаши и прочие необходимые для учения принадлежности покупали мы на вырученные деньги там же, в Мари-Туреке, и я сейчас не могу не улыбнуться одной забавной детали: сестра неизменно оказывалась удачливей и в сборе ягод и в их продаже, и на какую-нибудь ерундовую вещичку могла купить больше, чем я, и я завидовал этому и злился.
Во время летних каникул мы с 9-10-летнего возраста привлекались к колхозным работам. Вывозили на лошадях на поле навоз с конного двора и фермы, боронили на лошадях поля, окучивали картошку, возили с полей на гумно снопы, водили лошадей в конных жатках, погоняли по кругу на молотильном току, рубили и ошкуривали жерди, водили лошадей на кормёжку в ночное и купать, — и ещё множество всевозможных дел, которые в деревне исстари считались пацаньими.
За окучник я взялся лет в 11, чуть позднее — за плуг. В какие-то годы повелось сообщать в школу о выработанных нами за лето трудоднях, так я постоянно ходил в школе в числе передовиков, зарабатывая за лето до 150 трудодней. Кроме того, и по дому на мне лежало неимоверное количество обязанностей. Трёх последних братьев мы растили без всяких бабушек, и сестра Лида на всё детство была впряжена в безрадостную лямку няньки. Вся остальная, «мужская» работа лежала на мне как на старшем.
С 50-ых годов, когда отец сел на трактор, жить стало полегче, хотя нужда так и осталась нашей постоянной спутницей. Как ни трудно было детство, я вспоминаю его с благодарностью, как отличную трудовую школу, и с тревогой вглядываюсь в современную молодёжь, у них даже в 18 лет всё ещё нет необходимости заработать хотя бы рубль собственными руками. Всё детство деревенских пацанов моего поколения проходило в неустанном труде, мы были сыновьями своего времени и своей Родины, и если голодали, то вместе с нею, если ели сладко, то тоже вместе с нею. Нельзя сказать, что мы не играли, играли и в салки, и лапту, и в прятки, и в «чиж на поле», в разбойников и разведчиков, но в свободное, в свободное от забот время, которого было очень мало.
Как ни суров и груб был отец, но будучи мастером на все руки — больше по необходимости, чем по душе — он сумел вложить в меня множество умений. У нас в клети была оборудована отличная столярная мастерская с огромным, во всю стену, верстаком и множеством столярных инструментов.
…Нет, нельзя писателю писать автобиографию. Хочется писать подробно, а рамки официального документа не позволяют этого. И я стою у окна, и растревоженный памятью весь там… в столярной мастерской, которой уже десятка два лет как и в природе-то не существует, и меня волнует тот далёкий смолистый запах стружки, призабыто радует гладко отфугованная доска, я вспоминаю мимоходные похвалы отца и раздражённые подзатыльники; вспоминаю и то, что благодаря этой мастерской, у меня всегда были лучшие, чем у других пацанов, луки (самострелы и арбалеты), мечи, ружья. Впрочем, когда гонишь на потоке грабли на продажу — это уже не удовольствие, а рядовая нудная работа. Но я благодарен отцу за ту нелёгкую науку. Всё оттуда осталось со мною навсегда, и я до сих пор умею любую крестьянскую работу: могу срубить дом, выкопать колодец и посадить в него осиновый сруб, сделать рамы, стол, табуретку, улей, особенно люблю косить траву.
Как ни матерился и ни лупцевал меня отец, двух дел я так и не смог освоить. Отец был до безрассудства жесток и страшен в гневе, и теперь я понимаю, что у него просто не хватило терпения преодолеть мою бестолковость. А не научился я хорошо плести лапти и распахивать картошку. В лаптях я не освоил завершение, пятку, она всегда получалась у меня кособокой, и за это «прегрешенье» мой неудачный лапоть с вложенной в него деревянной колодкой не раз прохаживался по моей спине. Я хорошо пахал на лошадях, хорошо запахивал картошку при посадке, но вот при копке вывернуть пласт так, как это виртуозно делал отец, чтобы вся картошка была наверху и было легко копать — не научился.
Я слыл поэтом все три года и в семилетке, куда мы ходили в соседнюю деревню за пять километров, и в Алексеевской средней школе, куда мы ходили за восемь километров. Редкая стенная газета — классная или общешкольная — выходила без моих стихов. Вспоминается забавный случай из 8-го класса. В параллельном со мною классе учился ныне известный в республике и, на мой взгляд, очень талантливый художник Алевтин Ведерников. Мы с ним были редакторами своих классных газет (а я, кроме того, и редактором общешкольной), и вот на конкурсе классных газет жюри не смогло отдать предпочтение ни его газете, ни моей. Жюри отметило, что Аликова газета лучше по оформлению, а моя по содержанию, и обеим газетам было присуждено первое место. Я в подарок получил коробку акварельных красок, в то время остродефицитных, а Алик — томик рассказов И. А. Бунина. Как ни желанны мне были краски, я всё же обменялся ими с Аликом на книгу Бунина. И теперь, по прошествии почти четверти века, я бы проделал тоже самое с превеликим удовольствием второй раз. Каждому своё…
В школе я учился хорошо. Я был способный, и мог бы быть круглым отличником, если бы учиться мне не мешали книги. Отчаянное, неистребимое пристрастие к чтению и до сих пор здорово мешает мне целеустремлённо делать какое-либо длительное дело. Тогда же, в детстве и юности, книги были счастливой отдушиной в нелёгкой жизни, уводили в иные миры, будили воображение, мечтательность. Но чтение не было у нас в семье поощряемым делом, считалось пустым времяпрепровождением, и поскольку читать приходилось, как правило, в ущерб какой-либо работе, то за радость общения с книгой часто приходилось расплачиваться собственными боками.
Что было раньше — лучше не вспоминать, а вот случай почти уже из «взрослой» жизни, когда мне было 14 лет. Кто-то из одноклассников дал мне всего на один день книгу «Как закалялась сталь». Я как лёг на траву под черёмухой у бани, так больше и не вставал почти до вечера, проглотил книгу за один день. Естественно, что дневное задание по дому не было выполнено. Отец жесточайшим образом избил меня.
Читал при свете луны; закрывшись наглухо одеялом, при свете лампочки от карманного фонарика, соединенного проводником с батарейкой; читал на глазах у родителей, делая вид, что учу уроки; читал на уроках сквозь щель в крышке парты. Несмотря на многочисленные неприятности, частое битьё, отлучить меня от книги так и не смогли.
Многие книги приходили ко мне позднее, чем следовало бы, кое-что в детстве и совсем не дошло (какие уж там были школьные библиотеки, в глухих деревнях), и потом я всю жизнь старался, чтобы ни одна книга соответственно возрасту не миновала моего сына Андрея, и, составив для сына «Золотую библиотеку» из 600 книг, я уже вместе с ним восполнял то, что обошло меня в детстве.
И я счастливый до сих пор, что не обошли меня в детстве сказки Пушкина. У меня пресекается дыхание и сердце летит в какую-то жуткую даль, когда я вспоминаю метельные зимние вечера, мы на тёплой печи, мерцает слабенький летучий огонёк коптилки, и я читаю матери и сестре про Руслана и Людмилу, про спящую красавицу, про попа и работника его Балду, про царя Салтана и князя Гвидона…
Боже, что это были запрелестные, зачудные вечера! Мать вяжет или штопает (никогда за всю жизнь я не видывал её праздной) и удивлённо ойкает и чему-то не верит и просит повторить. У сестры — округлённые глаза, метель бьёт в оконные стёкла, ветер завывает в печной трубе, а сказка — вот она рядом, рукой можно дотронуться, и душонка твоя восторженно замирает от счастья, а то вдруг и сожмётся от страха, да так, что и с печи слезть боишься.
Эти вечера в отсутствии отца, находящегося по зимам на ремонте тракторов в МТС, — моё бесценное богатство, и они до сих пор греют меня тем далёким теплом. Или мать вдруг в полголоса запоёт протяжную старинную песню, и песня эта, сама собой рвущаяся из русской души, наполняет меня вселенской тоской, и я, обхватив руками материны колени, захлёбываюсь слезами, и мне хочется сделать для неё и для всего света что-то очень хорошее…
Черёмухи цвет

Какая-то неясная зябкая тревога накопилась в ней исподволь, во время сна, как будто кто-то, когтистый и холодный, вцепился ей в грудь и безжалостно сдавливает её, торжествующе ухмыляясь.
Всем телом вздрогнув от липко навалившегося на неё страха, она проснулась. Зелёный свет слегка подрагивающих на ветвях молодых ольховых листьев ударил в недоумённые глаза, первым желанием было вскочить и бежать сломя голову. Но она тут же всё вспомнила, скосила глаза на спящего рядом на куче веток Серёжку, потянулась разбудить его, но пожалела, теснее прижалась к его боку, смежив успокоено веки и придерживая дыхание.
Лениво и невнятно шелестела листва в вышине, сердце колотливо частило в плотно прижатый локоть, на душе было лихорадочно-взволнованно и потерянно, тоненьким звоном наплыл откуда-то одинокий комар и надоедно повис над ухом; полежав с прикрытыми глазами минуту-другую, вобрав в себя сонного Серёжкиного тепла, она тихонько отодвинулась от него и села.
На удивленье тёплой была прошедшая ночь, редко выпадают такие в мае, да ещё в пору цветения черёмухи. И утро было тёплым, не ознобистым; из светлеющей лесной чащи тянуло ароматными настоями молодых трав и смолистой хвои, и их, эти густые настои, хотелось пить, глотать всем ртом, захлёбываясь от сладости, до приятного головокружения; свежий воздух вкрадчиво пробирался под тёплую кофточку, но не зябко от него было, нет, — полнилось бодростью юное девичье тело…
Оживал, наполнялся птичьими трелями рассветный лес. В черёмушниках чудесным колокольчиковым язычком звенела желтогрудая зарянка. Где-то вдали всполошённо вскрикнула кукушка, позвала кого-то и, не услышав ответа, смолкла тоскливо. Поняла, наверное, что ещё рань несусветная, притушила щелистые глазки и досматривает свои медовые утренние сны, в которых отрывочно и туманно грезится ей короткое кукушечье счастье…
Лариса слушала птичье разноголосье, убаюкивалась им, и плыла, и плыла куда-то на мягких пружинистых крыльях вместе с просыпающимся зелёным лесом, синеющим небом, спящим Серёжкой, цветущими по взгорью черёмухами. И так тепло ей было, так радостно, что все тревоги отступили прочь, забылись накрепко, осталась только вот эта сиюминутная хмельная радость девчонки с восторженно блестевшими глазами, что встречает свою восемнадцатую весну в лесу, рядом с Серёжкой, рядом с любимым…
В ближних кустах лозняка вдруг встрепенулся соловей, свистнул раз и умолк в размышлении: пришло его время или стоит чуток подождать. Но утро уже вливало в него будоражащее нетерпение, и он так ликующе-пронзительно защёлкал, завыдавал такие лихие коленца, что Лариса восхищённо засмеялась, повернулась лицом к лозняковым кустам и слушала, слушала неутомимо славящего весенний рассвет певца, и сердце у неё билось учащённо, и дыхание перехватывало, и что-то щемило внутри, и не разберёшь: радостно тебе до слёз или тревожно до них же. Ах, соловей! Соловьиный рассвет… И представлялся ей соловей почему-то пляшущим, бойко отбивающим на ветке русскую чечётку…
Ночь истаивала в лёгком майском тумане, висевшем невесомыми клочьями в низинах у реки, в тальниковых кустах. Рассвет растекался неспешно, как синь-вода в раннее водополье, по-кошачьи мягко крался меж прибрежных кустов и, матово высветлив их от верхушек до сумрачного переплетенья корневищ, вдруг запах свежестью ключевой воды и горьковато-росным белоснежьем черёмухового цвета. В зелёной высветленной чаще заплескалась задорная песенка пеночки-веснички.
Ах, Серёжка! Ну разве можно спать в такое утро?! Лариса взяла с земли веточку, повернулась к Серёжке с намерением поводить веточкой по его шее, разбудить, но невольно загляделась на него: такое милое мальчишечье лицо, спит как сурок, пошевеливает во сне губами, резко очерченными и припухлыми, которыми он вчера много и ласково целовал её.
Тёплая волна нежности прихлынула к её сердцу, но тут же захлебнулась другой волной: удушливо подступила к горлу горечь разлуки. Сегодня в восемь её Серёжка должен быть в военкомате. Сегодня отправка. Вчера отпустили до утра. Полдня и ночь. Когда они были впереди — казалось, что ещё уймища времени и всё успеется сказать, а вот уплыло время, унеслось вскачь, утекло незаметно как сухой песок между пальцев из сжатого кулака. Маленькая горстка осталась. Какие-то четыре часа. Четыре часа — и два года. Как их прожить без него?..
Она так и застыла над ним с веточкой в руке. По щекам одна за другой катились светлые слезинки, сначала она судорожно подавилась ими, но потом они потекли уже без боли — отрешённо и успокаивающе…
* * *
Встретились они случайно, как это чаще всего и бывает в большом городе, и что в общем-то логично и закономерно для всех ищущих, ждущих такой встречи, встречи с той, единственной, когда сердце глухо упадёт куда-то в пятки и страхом сведёт мышцы шеи, и ты беспомощно глотаешь остроумные слова и выдавливаешь хрипло одни банальности.
Они учились в разных школах, но выпускной вечер попал на одно число, и это помогло им встретиться, хотя оба были убеждены, что встретились бы в любом случае, разницу они допускали только во времени — может быть, чуть позже, но они не могли разминуться, не могли пройти мимо.
…У них уже давно шли кругом головы: от многочисленных поздравлений, от оглушительной меди оркестра, от бокала шампанского, от новеньких аттестатов зрелости и, конечно же, прежде всего от такой желанной и теперь уже близкой перспективы взрослой жизни.
Когда всё это закончилось, они шумно высыпали на улицу, взялись за руки — нарядно-неузнаваемые девчонки и старающиеся казаться солидными парни — все в ослепительно-белых рубахах, и пошли бездумно и весело по улице во всю её ширину.
Девчонки затянули песню — негромко и нестройно. Песня пугливо взлетала и тут же опускалась до полушёпота, тревожа их юные головы предчувствием близкой любви и страша этой близостью.
Какие старые слова,
А как кружится голова,
А как кружи-ится го-ло-ва-а…
Парни пытались подпеть, но не знали слов. Нужна была всеобщая песня, и не сговариваясь, дружно грянули уже вышедшую из моды «Последнюю электричку».
Опять от меня сбежала
Последняя электричка,
И я по шпалам, опять по шпалам…
Песня задорно катилась по пустынным предрассветным улицам, натыкалась на каменные громадины домов и, протяжно ухнув, подскакивала вверх — к крышам, к бледнеющим звёздам…
Серёжка заметил Ларису сразу же, как пришли на мост. Она стояла, навалившись грудью на чугунный парапет, смотрела задумчиво в речной простор и казалась грустной и одинокой среди праздничной бурлящей разноголосой толпы. Тёмные волосы водопадно стекали с плеч, на чёрном фоне парапета точёным изваянием белела стройная фигурка, и белые туфельки, казалось, были уже в движении, отталкивали её от бетона моста через парапет, туда — в реку. И он испугался за неё. Да, именно испугался, а не потому подошёл, что она ему понравилась. Он облокотился рядом с ней на парапет. Она повернула к нему голову, он ожидал увидеть на её лице недовольство своим соседством, но его там не оказалось. В больших, чуточку раскосых глазах было только любопытство, ожидание чуда да готовые выпрыгнуть смешинки. Он сглотнул слюну, хотел спросить её имя, но неожиданно грубовато выдавил:
— Слушай, ты не свались в реку!
Она вздрогнула, немножечко отстранилась от парапета, смущённо улыбнулась и сказала:
— Не свалюсь, я плавать не умею…
— Как так? — изумился Серёжка. Ему, одному из лучших пловцов в школе, несколько лет посещавшему тренировки в бассейне, умение плавать казалось настолько простым и естественным, что он с трудом мог представить себе человека, не умеющего плавать. И он горячо заговорил о плавании, приводил преимущества плавающего человека, насколько полнее он живет, свободнее, интереснее, красивее. В своей возбуждённой тираде он не забыл вспомнить и то, что если в Древней Греции хотели дать человеку уничижительную характеристику, говорили: «Он даже не умеет плавать»…
Она слушала серьёзно, склонив к нему лицо, то и дело откидывая рукой спадающие на глаза пряди волос. Исчерпав все доводы, Серёжка умолк. Воцарилось неловкое молчание, стояли и глядели в темнеющую далеко внизу с холодным свинцовым отливом воду. Вдруг она сказала, как бы размышляя:
— Страшно, наверно, прыгнуть отсюда, с моста…
Серёжка встрепенулся, запальчиво ответил:
— Чего тут страшного?! Глубина подходящая.
— А ты бы смог? — она с интересом повернулась к нему. — Не испугался бы?
— Да я уж прыгал отсюда! — хвастливо возмутился Серёжка.
— Не врёшь? — глаза у неё недоверчиво расширились.
Это подогрело Серёжку, заставило подобраться, почувствовав, как туго сжались мышцы и бухнуло учащённо сердце.
— Не веришь? Да? Я и сейчас могу!
Поспешно вылез из рубахи, скинул ботинки, брюки, сунул одежду подвернувшемуся под руку однокашнику Димке, который растерянно спросил: «Ты что, очумел?» Но Серёжка уже не слышал и не видел никого. Что-то отчаянное и дерзкое переполнило его, наливая силой и гибкостью мышцы; он легко впрыгнул на парапет, встал на нём, придерживаясь рукой за бетонный фонарный столб.
Надвигающийся рассвет уже высветлил воду — белые барашки ряби перекатывались, резвясь, и завораживали взгляд. Пугающе далёкой казалась вода; страх шевельнулся в Серёжке, но он сжал его, не дал разрастись. До воды было метров десять, а может, и больше. Серёжка не врал, когда говорил, что уже прыгал отсюда. Прыгать-то прыгал, два раза, но прыгал солдатиком, зажмурив глаза; сейчас же ему хотелось ринуться вниз красивой ласточкой, как прыгал в бассейне. Но там три метра, а здесь…
Вокруг собралась любопытная толпа, смолкли песни. Лариса тронула его за голую ногу, сказала испуганно:
— Слушай, брось дурить!
Он небрежно отмахнулся от неё; каждой клеточкой тела он чувствовал взгляды окружающих и знал, что уж если он вскочил сюда — обратно пути нет, засмеют, заколют едкими шуточками-прибауточками насчёт трясущихся поджилок. Да и потребность удивлять, принимаемая им за жажду подвига, постоянно жила в мальчишечьей душе, и подвиг — лишь бы подвернулся случай — казался ему легко выполнимым под бурные овации восторженной толпы…
Кто-то крикнул ехидно:
— Слабо!
Этот выкрик заставил сжаться в пружину, и Серёжка, подавив последние остатки нерешительности, резко оттолкнулся от холодного парапета.
Он выдержал ласточкой этот бесконечно долгий полёт, лишь перед самой водой ноги его переметнулись вперёд, и он ударился о воду правым бедром. Боль обожгла его, он хлебнул воды, беспорядочно помолотил руками, гася скорость падения, вынырнул наверх, отплевался, отдышался и безвольно расслабил мышцы. Нервное напряжение вдруг прошло, и он почувствовал вязкую усталость. Лёжа на спине, он как из бездонного колодца слышал сверху, с моста, приглушенный разнобой восклицаний. Но это уже не возбуждало его, стало безразличным, даже чувства гордости не вызывало. Так, лишь маленькое самолюбивое удовлетворение…
Он кролем вымахал к берегу, где ждал его уже Димка с одеждой. Набежала толпа. Все восхищались его прыжком, спрашивали на что спорил, незнакомые парни дружески поталкивали в плечо.
Дрожа от холода, он быстро оделся. Лариса подошла к нему, ткнулась лицом в плечо и всхлипнула. «Ну что ты, что ты?» — пробормотал сконфуженно Серёжка, взял её за руку и повёл в сторону от людей…
Год пролетел с той встречи. Почти год. Она училась в пединституте, он слесарил на заводе. Ссоры бывали, незаслуженные обиды. Всё бывало. Но самое главное — тоненьким доверчивым стебельком росла Любовь, и мир даже в зимние стужи цвёл для них весенним разнотравьем, плескался птичьими трезвонами. А недоразумения были вызваны или стечением неблагоприятных обстоятельств, или глупым упрямством кого-либо из них.
Хотя Серёжка время от времени заговаривал об армии и как-то зимой совершенно неожиданно исчез на две недели и поехал в заводской военно-спортивный лагерь, Лариса не тревожилась думами о предстоящей разлуке. И лишь тогда, когда была получена повестка и разлука стала близким фактом, она вдруг взглянула на Серёжку по-новому и поняла, что любит его, что ей дорог этот парень, дороже всего на свете, и разлука с ним будет больна, невыносима, и как пережить всё это — она не знает. Она даже мечтала, чтобы Серёжку забраковали, не взяли, тогда бы он поступил в институт, и они всегда были бы вместе. Но Серёжка спортсмен, медкомиссией признан годным к службе в армии по всем статьям и записан в воздушно-десантные войска. И теперь уж совсем не знаешь — огорчаться этому или радоваться. Мать, заметив печаль в обычно смешливых глазах дочери, привлекла её к себе, спросила ласково: «Расскажи-ка мне, дочь, что тебя мучает?» И, выслушав, пожурила: «Дурёха ты у меня, Ларка! Ведь всего-то два года. Лето, зима, лето, зима — и встречай своего ненаглядного. Три курса всего-то и кончишь… Время мирное — чего же тревожиться. Мужчиной станет твой Сергей в армии…»
Успокаивали тёплые слова матери, утишали смятенные думы…
Вчера думала, что Серёжку уж больше не отпустят и дежурила у ворот военкомата с надеждой проводить на вокзал или на худой случай — увидеть издали, перекинуться прощальными фразами, как неожиданно он появился, прижал её руки к своим щекам, полыхнул улыбкой и объявил, что свободен до утра. Это было как подарок, дорогой, нежданный подарок. Какой счастливой была она!..
Серёжкина мама затеяла накормить их щами. Лариса смущалась, ела, не поднимая головы. Мать присела рядышком с сыном, положила ему руку на плечо и сидела так, и молчала. Серёжка тоже уткнулся в тарелку — невыносимо ему было взглядывать в материны глаза, страдающие нежной любовью.
Мать вдруг очнулась от своих дум, тихо, но отчётливо сказала, как приказала:
— Ты люби его, Лариса! Он у меня хороший!
Лариса ещё больше смутилась, согласно качнула склонённой головой…
Не сиделось им дома. Подмывало куда-то идти, что-то делать. Неприкаянность тягостно ныла внутри и избавление от неё было где-то не здесь, не дома.
Серёжка взял стёганую нейлоновую куртку, мать сунула в карман свёрток с чем-то съестным, и они ушли. Побродили молча по улицам, останавливались и любовались цветущими черёмушниками, розовато-синей кипенью яблонь, глубоко вдыхали лепестковые ароматы. В чьём-то палисаднике Серёжка нахально сломил ей большую сиреневую ветку с распускающимися бутончиками…
Тропинка привела их к реке. Серёжка забежал к приятелю, выпросил лодку.
Лариса сидела на корме, откинувшись спиною назад, прищурив глаза от слепящего солнца. Тёплый полуденный ветерок ласково перебирал пряди волос. Блескучей рябью играла река. Плотный травяной ковёр по берегам наливался яркой нарядной зеленью.
Боже мой, как хорошо! Двое они в мире — больше никого. Плыть бы и плыть бесконечно, и чтобы солнце било в глаза, чтобы Серёжка смотрел влюблённо, чтобы вода журчала за кормой и плескалась под вёслами, чтобы стрижи взмывали стремительно ввысь, облака скользили по небу всё так же пушисто и празднично…
Чувство расслабленной спокойности охватило Ларису, мысли были раскованные, тело лёгкое. Закрой глаза — и словно летишь над водой, замирая от восторга; вот взмах, ещё взмах руками-крыльями — и ты в ветровой поднебесной сини, рядом ласточьи стаи, жавороночьи трели, земля сверху кажется ещё красивее, ещё роднее, и хочется обнять её вместе со всем на ней живущим и растущим…
Впереди был остров. Маленький вытянутый островок пяти-шести метров в длину и двух-трёх в ширину. Серёжка ткнулся в него лодкой, выскочив, подтянул её выше на песок. В мелкой воде поблёскивали заиленные ракушки, зелёная травка узкой полоской кучерявилась на взлобке песчаной отмели.
Разделись, побросав на траву одежду, боязливо вошли в холодноватую ещё майскую воду, постояли по колено, привыкая, а затем, по Серёжкиной команде решительно окунулись с головой. Стало тепло и весело. Серёжка взбил ладонями фонтаны брызг, окутал ими Ларису. Дурачась, побегали с визгом и хохотом друг за другом по мелководью. Увёртываясь от Ларисы, Серёжка шумливо ушёл под воду, прорезал брассом метров десять и вынырнул на глубине. Поманил рукой к себе Ларису, но та обиженно насупилась, равнодушно отвернулась в сторону и несмело поплыла вдоль островка, высоко подняв голову и брызгливо колотя по воде ногами.
Плавать она начала ещё прошлым летом. Серёжка настойчиво пытался научить её классическому кролю, но она никак не могла побороть в себе жалкого щенячьего страха перед глубиной, боялась окунать в воду голову. Ей обязательно нужно было видеть окружающее, она смущённо признавалась: «Знаешь, как только я опускаю голову, кажется, камнем падаю на дно». Серёжке не хватало терпения, он горячился, убеждая, что вода — друг человека, в ней невозможно утонуть, она держит и выталкивает, не надо только быть дураком, не терять контроля над собой, тонут же люди от страха, от растерянности.
Он ложился спиной на воду, закладывал руки за голову и лежал неподвижно, демонстрируя ей дружелюбие воды. Лариса пробовала, но ничего не получалось, от злости на собственную неполноценность навёртывались слёзы, и каждый такой урок обычно кончался размолвкой. Вот и сейчас сбежал от неё недозволенным приёмом: знает ведь, что не полезет она на глубину…
Поплавав, Лариса вышла на островок, отжала ладонями купальник. Солнце облило ласковым теплом белое незагорелое тело, ветерок приятно щекотал кожу.
Серёжка глянул на остров и изумлённо замер. Как на пьедестале, стояла на острове Лариса в ярко-жёлтом купальнике, распустив по ветру подсыхающие волосы. Нездешнее, неземное очарование было в лёгкой девичьей фигурке, будто мгновение назад спустилась она с небес или возникла из золотистого солнечного свечения.
Осторожный шелест воды нарастал в прекрасную музыку, по голубой реке среди облаков и трав плыл навстречу ветру островок, бережно неся на себе светлое диво, и уже не верилось, что это диво — его Ларка. Робкое, взволнованное, похожее на испуг, ощущение счастья толкнулось в Серёжкино сердце, и он заспешил к островку, чтобы удостовериться: не мираж ли это, что там — его Лариса — живая, тёплая, родная. Всё остальное в мире не имело ни смысла, ни значения.
Он протянул к ней руки, хотел обнять. Но Лариса не далась, хмуровато увернулась от его рук, отступила на шаг в сторону. Недоумённо поползли вверх брови, лёгкая горечь стыло упала в глаза. О, как это страшно, когда любимые становятся нам непонятными!
Серёжка, глядя под ноги, устало побрел к воде. Походил тоскливо по мелководью, выковыривая ступнёй из песка ракушки. Белый катер спасательной станции с чёткими красными цифрами на борту стремительно промчался по реке. Парень в штормовке что-то крикнул в рупор, но Серёжка не разобрал слов. Волны сердито взбили песок на отмели и, откатываясь, потащили его за собой в глубину. Серёжка нашёл большую раковину, тщательно прополоскал её в воде. На лице заблуждала нестойкая улыбка. Он решительно вернулся к Ларисе, опрокинул ей раковину на голову, шутливо и громко заговорил:
— Беру в свидетели солнце, синее небо, облака и реку… Я, бесстрашный завоеватель, свершивший за свою долгую жизнь множество всяких подвигов, завоевал этот остров и дарю его Ларисе… объявляю её королевой острова!
Лариса улыбнулась, надменно вскинула голову, подняла руку и строго, как и надлежит настоящей королеве, сказала:
— Повелеваю тебе, бесстрашный завоеватель, через два года прибыть на этот остров, склонить колени перед его королевой, похвастаться своими новыми подвигами… и просить её руки…
Серёжкины глаза счастливо вспыхнули. Он подавил рвущуюся наружу улыбку, опустился на одно колено, прижал правую руку к груди и чуть дрогнувшим голосом произнес:
— Клянусь, моя королева! Клянусь, через два года прибыть в твои владения, поведать о новых подвигах и смиренно просить твоей руки…
* * *
Солнце выплывало из-под леса, жарко поджигало верхушки деревьев, высвечивало серые закоулки, заливало золотым светом дальние и ближние поляны, цветы и кусты. Всё тонуло в этом солнечном свете, всё купалось в нём — блаженно и томно, мир становился добрым и очарованным, радость росла, ширилась, и уже тесно ей было в груди, надо было что-то делать, и Лариса вскочила на ноги, протянула к солнцу руки и возбуждённо заговорила:
— Здравствуй, солнце! Здравствуй, небо! Здравствуй, лес! Здравствуйте, букашечки-таракашечки, соловьи, кукушки и все другие певуны-крикуны…
Лицо её занялось лёгким румянцем, ветер удачи незримо веял над ней и кружил счастливо голову, нестерпимо хотелось сделать для этого прекрасного мира что-то яркое, доброе. Шорох за спиной заставил её оглянуться. Серёжка, улыбаясь прищуренными глазами, ворочался на ложе из привядших веток.
— Ой, я тебя разбудила!
— Да нет, давно уже проснулся…
— Вот нахал! И голоса не подал.
— Тобой любовался… Ты как фея… из сказки… Вспоминал, как мы первый раз встретились…
— И ты на моих глазах совершил сногсшибательный подвиг, — шутливо кольнула Лариса.
— Ах, ты издеваешься! — Серёжка вскочил, подхватил девушку на руки и озорно стал целовать ей щёки, глаза, лоб, нос. Лариса звонко хохотала, отбивалась от юноши руками и ногами. Вырвалась, отбежала в сторону, сказала:
— Вот и умываться не надо — всю облизал…
Река дохнула навстречу знобким холодком, заворожила багровыми отсветами ряби. Поёживаясь, следуя больше привычке, чем необходимости, зачерпнули ладонями воды, плеснули в лица. Утёрлись Серёжкиным свитером, съели по кусочку хлеба с колбасой — всё, что осталось от вчерашнего свёртка, сунутого матерью в карман сыновней куртки, — и пошли по тропинке в лес.
Старые коряжистые черёмухи толпились по склонам овражка. Уже отцветают, уже белым-бело под ними на земле; ветер намёл в ложбинистую тропинку вороха лепестков, легонько пошевеливает их и, подсушив на солнце, гонит в лес, под сумеречный еловый покров. Молоденькие черёмушки еще в силе, не облетают, бойко выскочили на бугры и стоят горделиво, любуясь своей стройностью и белопенной свежестью…
Лариса искала на поляне щавель, подбирала стебель к стеблю — для Серёжки, некоторые совала в рот и сочно жевала, кривясь от кислятины. Поляна слепила жёлто-солнечным блеском одуванчиков, нераскрытых бубенчиков купальницы. Над золотыми венчиками цветов монотонно гудели шмели. Посреди поляны как великаний глаз — голубое озерко, оставленное вешним паводком.
Серёжка топтался у черёмух, выбирал кисти поцветистее. Для Ларисы. Последний букет. Прислушался, как та тихонько напевала недавно исполненную Зыкиной по радио новую песню.
От дорог устанешь ты
И впервые
Упадёшь лицом в цветы
Луговые…
Тревожил пьянящий аромат черёмух, тревожила песня, и почему-то было такое ощущение, что скоро всё это кончится, будто живёшь последние часы, будто идёшь по судьбе своей как по недлинной улице, а впереди — обрыв, восторг, невесомость, небытие…
Может, я к тебе приду
Незаметно,
Рядом в травы упаду
Тихим ветром…
Опять кольнуло его то тёмное ревнивое чувство, впервые возникшее позавчера на прощальной вечеринке, когда кто-то из приятелей намеренно и зло переврал песню: «Вы служите — мы замуж пойдём»… Острая горечь комом встала в горле, перехватила дыхание. Сердце тоскливо сжалось, потом распрямилось, как тугая пружина, часто заколотилось, отдавая тупым буханьем в виски…
Серёжка прижал сердце ладонью, пытаясь унять его резкий горячечный стук. Мысли увязливо метались на одном месте, и не было силы вырвать их из этого цепкого плена, внести успокоение в растревоженные, взвихрённые слепой ревностью думы.
Не выдержал, побежал к Ларисе. Жарким кипятком хлестнуло по глазам вывернувшееся из-за черёмух солнце, кузнечики испуганно сиганули в стороны. Порывисто обнял девушку, поцеловал в губы, и немигающе, вопросительно стал вглядываться в её удивлённые глаза, пытаясь найти в них хоть маленькое подтверждение своим мрачным мыслям, но любимые глаза правдиво, убедительно светились нежностью и преданностью. И он поверил им. Отхлынула душная тревога от сердца. Ах, какой же он дурак! Ну разве можно сомневаться в этом? Любит его Лариса, любит. А раз любит — значит, дождётся. Он облегчённо рассмеялся, чмокнул девушку в щёку, вручил ей черёмуховый букет.
— Серёжка, который час? — озабоченно спросила Лариса. Он глянул на часы.
— Да, пора домой. Надо ещё и с родителями проститься. Дома. Чтобы не провожали, не изводились тоскливым прощаньем на вокзале.
Взялись за руки, пошли к реке. Закаменевшая глинистая тропинка неторопливо вилась по взгоркам, петлисто разрезая цветастую травяную некось. Мельтешили над травами бабочки, на рыжей тропинке суетились чёрные земляные муравьи. Заслышав шаги, с осины шумно вспорхнула стайка голубых лазоревок. В резной листве жилистого вяза тоненько пробовала свой голосок славка-черноголовка. Серёжка положил руку на Ларисино плечо, та доверчиво прижалась к его боку. Склонённое девичье лицо цвело тихой молчаливой улыбкой.
Они шли по редеющему утреннему лесу, радостно вдыхали запахи влажных трав и птичьих гнёзд и всем существом своим, каждой клеточкой тела были переполнены тем светлым пьянящим счастьем, какое даёт человеку только любовь…
Высокая железобетонная плотина, поднимающая уровень воды в реке у города, являлась единственным переходом в этом месте на ту сторону. Они взошли по крутым ступенькам на плотину и остановились у перил, заглядевшись на грозно ревущий водопад. Мощный поток переливался через бетонные загородки, бурлил в бучиле водоворотами и пеной, а метров через десять, успокоившись, тёк дальше спокойной неглубокой речкой.
На противоположной стороне река была совершенно другой: широким, вольным разливом она мягко и задумчиво покачивалась в низких берегах, плавным изгибом прижималась к городу, неся ему радость, а порой и горе.
Деревья то испуганно отступали далеко от реки, то бесстрашно забредали в воду, потеснив густые тальники. Яркими мухоморами пестрели вдали грибки городского пляжа.
Ветер здесь, наверху, был неласков, тоненько свистел в переплетеньях перил, срывал лепестки с черёмухового букета, лохматил волосы. Обласканный солнцем лес был сказочно красив, и было грустно и обидно расставаться с ним…
Откуда появилась эта резиновая лодка — они не заметили. Увидели лишь тогда, когда поток уже подхватил её и мальчишки в ней закричали от страха. Мальчишек было двое: один отчаянно работал коротенькими вёслами, другой, привстав, держал в руках удочки и истошно орал. Лодку несло всё убыстряющимся течением как пушинку. Тут уж бессильны были вёсла. Когда лодку втягивало под мост плотины, Серёжка увидел искаженные страхом лица подростков и крикнул:
— Удочки брось! У-удочки!
Перебежал к перилам другой стороны. Лодку трепало в водовороте. Мальчишек не было видно. Серёжка сбежал с плотины, скинул на ходу куртку, ботинки и бросился в воду. Его сразу же закрутило, завертело. Он понял, что по верху плыть — далеко не уплывёшь и нырнул, стараясь уйти поглубже. Когда вынырнул, вблизи мелькнуло бледное перекошенное лицо паренька. Серёжка изловчился, схватил его за ногу и потянул к берегу. Парень брыкал ногами, в глаза швыряло грязной пеной, забивало нос. Серёжка рассчитывал быстро выскочить со своей ношей к берегу, но грёб, грёб и чувствовал, что берег к нему не приближается, тогда он отдался течению, и это было правильно: бурливый поток ходко вынес его к спокойной воде, несколько сильных гребков — и он преодолел отбрасывающую назад круговерть, выволок парня на мелководье. Тот бессмысленно таращил глаза, с клокотаньем втягивал воздух. Лариса подняла мальчишку на ноги и повела на берег.
Серёжка, тяжело дыша, огляделся: лодку уже прибило к отмели, и она лениво покачивалась на тихой воде, другого паренька нигде не видно. Он стянул мокрый свитер вместе с майкой, сбросил брюки и шагнул в реку. Прошёл вдоль берега и, когда вода стала по грудь, набрал в лёгкие воздуха до отказа и нырнул в клокочущее бучило. Но сколько он ни таращил глаза — в бурливой мутной воде ничего не было видно. Он толкался в каждую неясную тень — руки загребали лишь пустоту.
Наверху его зашвыряло, закрутило в водовороте, он поплыл ближе к берегу, где было поспокойней, поглотал жадно воздуха и снова ушёл под воду. На этот раз он решил пошарить под самим водопадом, у плит. Касался руками осклизлого бетона, в одном месте больно ударился бедром о какую-то железяку. Сверху сквозь воду тупо колотил по нему тяжёлый поток. От недостатка воздуха в висках гулко бухала кровь. Шаг за шагом он упрямо шарил у загородок руками. Ничего. Отчаявшись, задыхаясь, он хотел было выскочить наверх, как рука уткнулась во что-то мягкое. Потрогал: человек. Рванул его, сам пулей вылетая из воды. Судорожно дохнул, закашлялся. Голова кружилась, поташнивало от наглотанной воды. Тело онемело и стало непослушным, мышцы рук каменели болью. Оглушительно ревел водопад, махала руками Лариса и что-то кричала, а что — не разобрать.
Не всплыл утопленник, видно, зацепился за что-то. Серёжка, устало опираясь на плиты, подобрался под водой к пареньку, пошарил руками. Так и есть: держит того за штаны толстая проволока. Выдрал зацепку, толкнул безжизненное тело кверху.
Когда вынырнул сам — уже не было больше сил плыть, бороться с клокочущим бучилом. Хотелось раскинуть руки, бездумно лежать на воде и смотреть в синее небо. Но этот утопленник… Где он? Воспалённое сознание кричало, что не всё ещё сделано, не до конца. Мальчишку прибивало уже к спокойной воде, и плыл он почему-то стоя, уронив в воду лицо. Серёжка заставил себя действовать. Несколько кролевых взмахов, и вот он уже около утопленника. Дотолкал того до мелководья, подхватил под мышки и выволок на берег. Пошатываясь, сделал два-три шага и обессиленно повалился на землю, зацепив краем глаза испуганно-виноватый взгляд Ларисы. Девушка склонилась над ним, погладила вздрагивающей рукой посиневшее лицо. Он попытался улыбнуться ей и сказал обеспокоенно:
— Ларка, займись этим…
Когда немного отошёл, когда прошла тошнота и перестала бить нервная дрожь, он приподнялся на локте и увидел, как Лариса и тот первым вытащенный паренёк, переломив утопленника через колено и сжимая рёбра, выдавливают из него воду.
«Молодец, Лариса, делает всё как надо», — отметил Серёжка, поднялся и подошёл к ним.
— Давайте я!
Уложил утопленника на правый бок, подсунул под него куртку, мотнувшись назад, согнул безжизненную левую ногу вперед и, ухватив цепко левую руку, стал энергично двигать ею…
Пот заливал глаза, руки устало деревенели. Серёжка уже было отчаялся привести в чувство мальчишку, как тот неожиданно всхлипнул, профонтанив изо рта мутной струйкой. Серёжка с ещё большей силой заработал рукой, сдавливая грудь утопленника.
Задышал парнишка, судорожно, неровно. Положили его на спину. Серёжку сменила Лариса. Встав на колени, она методично кланялась и кланялась оживающему утопленнику, сводя и разводя ему руки…
Старший паренёк, весь зарёванный, присел на корточки рядом с Серёжкой.
— Как зовут-то? — спросил Серёжка.
— Ю-юр-ка! А его Колька… братан мой…
— Не бойся, будет жить твой братан… Только от отца вам перепадёт…
— Пускай набьёт… лишь бы Колька оживал… — и паренёк затрясся в плаче.
— Ну-ну, нечего нюни распускать! Иди, подбери лодку!
Голос спасителя был строг и беспрекословен. Паренёк утих и послушно встал…
Как дотащили Кольку до первых домов городской окраины, как приехала и забрала его «скорая помощь», — Серёжка плохо помнил. Всё было, как во сне, в голове шумело и ломило.
Расстались с Ларисой, договорившись встретиться на вокзале.
Преодолевая слабость, дотащился домой, выпил две кружки квасу, на расспросы встревоженной мамы беспечным голосом отвечал: «Всё хорошо, ма! Всё хорошо!» Так же буднично-скучно попросил родителей не провожать на вокзал.
Отец крепко обнял его, троекратно поцеловал, подтолкнул в плечо и сказал: «Иди, солдат!»
Мать сидела у окна на стуле и тихо плакала. Сын приподнял ей голову, осушил поцелуями мокрые глаза, ласково прижал голову к себе, погладил мамины волосы и решительно отстранился; забросил на плечо плотно набитый рюкзак и ушёл из дому.
Проходя через бурлящую, отчаянно-бесшабашную толпу призывников во дворе военкомата, машинально жал руки приятелям; в дальнем углу двора, под тополями, присел на кирпичную кладку забора и отрешённо стал ждать команды строиться.
Ожидание было долгим и утомительным, но не раздражало его, как будто всё происходило не с ним — с кем-то другим, а он смотрел на эту кутерьму из окошка, сквозь мутное стекло.
И лишь тогда, когда повели их строем на вокзал, он вдруг очнулся и с интересом огляделся вокруг.
Было солнечно и пронзительно празднично. Ветерок шаловливо играл резными листочками молоденьких рябинок, пригоршнями бросал на улицу ароматы цветущих садов. Галдели и шутили призывники, сержант с голубыми погонами нёс в руке красный флажок. Троллейбусы, хрустко шурша по асфальту тугими колесами, провозили улыбчивых людей. Пешеходы почтительно уступали колонне дорогу, что-то приветливо кричали и махали руками вслед. «Вы служите, мы вас подождём!» И к Серёжке пришла тёплая мысль, что он полноправный член этой большой людской семьи и пусть они, эти милые, добрые люди, всегда улыбаются, будут счастливы, а уж он постарается стать хорошим солдатом.
Голова больше не болела, оцепенение отступило, вялые мышцы наливались бодростью и силой. И он уже совершенно забыл про свой сегодняшний подвиг, который, собственно, ему таковым и не казался, а ведь это был его первый настоящий подвиг в жизни, а не хвастливое мальчишеское позёрство. Но он ещё не осознал, что подвигом может быть только то, что сделано тобою во имя человека, а не для удовлетворения собственного маленького тщеславия, и что совершаются они, как правило, буднично, без фейерверков и рукоплесканий и часто даже без элементарного признания, надо только очень любить людей, свою страну, жить в постоянной готовности к подвигам, а уж они не замедлят, сами найдут тебя. Всё это ему ещё предстояло осознать и, может быть, уже скоро, где-то там, в нелёгких солдатских буднях…
Лариса с трудом протолкнулась к Серёжке сквозь плотную говорливую толпу. Он обнял её, глянул в расстроенно застывшие глаза и припал к губам. Обычно пугливая на поцелуи, Лариса покорно прижалась к нему: плевать ей было сейчас на то, что они на виду у всего белого света…
На прощанье было дано пять минут, и эти минуты были нужны Ларисе, чтобы сказать Серёжке, что он самый лучший парень на Земле, что она любит его и будет любить вечно, пусть только он бережёт себя, что только одного сегодня пережитого страха за него ей хватит на всю жизнь…
Серёжка сжимал ладонями тёплые Ларисины плечи, с прощальной запоминательной жадинкой смотрел на любимое лицо, в лихорадочно горевшие глаза, радостно слушал торопливые жаркие слова и, сдержанно улыбаясь, думал, что он самый счастливый человек на свете. И разлука с любимой уже не угнетала его: дороги были у мужчин и будут всегда, подруги провожали их и будут провожать, и ждать, и встречать…
1974 год
Регина
В годы моего детства и юности частыми гостями наших краёв были цыгане. Летом ставили они свои шатры в логу или ближней роще, зимой навязчиво просились на постой в дома.
Помню, как однажды стылым вьюжистым вечером ввалился к нам в дом огромный цыган с закуржевелыми усами и в белом дублёном полушубке. Они с отцом быстро сговорились о ночлеге, и после шумного ужина в нашей большой избе негде было ступить: на полу вповалку спали цыгане.
Одну цыганку мать положила на полатцы, где раньше спала покойная бабушка. Утром, когда цыгане запрягли лошадей и уже выезжали со двора, мать полезла за чем-то на полатцы и обнаружила там нехватку одной связки лука. Мать вышла во двор и сказала об этом отцу. Отец — старшему цыгану. Тот возмущённо вскинул лицо:
— Запомни, хароший человек: где цыган ночует — там не ворует!
Но мать подтвердила, что связка лука действительно исчезла. Лицо цыгана посуровело, он взвизгнул: «Стой!» и пошёл вдоль саней, колотя себя по серым чёсанкам кнутовищем и пристально вглядываясь в лица сородичей.
Вдруг он подскочил к молодой женщине, дёрнул её за шубу, потряс, и на снег посыпались жёлтые луковицы. Цыган сдёрнул с женщины шаль, схватил за волосы, что-то зло крикнул и бросил её на снег. Цыганка, бледная от испуга, торопливо сбросила шубу, завернула юбку. Цыган со свистом опустил на женщину бич. Ещё раз. Ещё… Цыганка истошно голосила, безмолвно грудились у саней её сородичи. Мать бросилась к цыгану, схватила его за руку:
— Постой, ирод ты такой! Из-за лука убивать бабу?! Да знала бы — не сказала…
— Не из-за лука, мать, не из-за лука, — ответил цыган. — Устои нарушила…
И ловко прихватив бич к кнутовищу, пошёл со двора.
Пожилая цыганка принесла в подоле лук: длинную разбитую связку. Мать не брала, ей тошно было и смотреть на этот злополучный лук, но цыганка непреклонно вывалила лук на крыльцо и ушла.
Опустел наш двор, закрыл отец ворота. Мать собрала лук с крыльца в старенький ситцевый платок, завязала платок крест-накрест узлами и, догнав обоз, сунула узел в последние сани…
Калёным летним днём, когда все взрослые на работе, увидел я в окно, как по безлюдной деревенской улице, пыля подолами длинных цветастых юбок, шли цыганки. Они зорко выглядывали что-то во дворах, а одна из них, женщина лет сорока, подошла к моему окну.
— Маладой чоловек! Дай ручку — пагадаю!
Я не задумываясь протянул цыганке руку в окно, она цепко схватила её и затараторила:
— Вай, вай, вай! Сколько дарог тебя ожидает! Есть среди них счастливые, есть и несчастливые… Про всё скажу, пазалати ручку…
Я оглянулся, взял со стола початый кругляш хлеба и протянул его цыганке.
— Нет, нет, — запротестовала она. — Деньги давай!
— Денег нет, — ответил я. — Есть хлеб…
Цыганка обиженно насупилась, ловко бросила хлеб куда-то в юбки и пошла от окна, пробормотав:
— Не будет тебе счастья в жизни, сынок…
Вечером, когда пригнали уже пастухи из лесу коров, увидел я, как у соседа Григория под окном плясал под собственные выкрики цыганёнок. Собирались вокруг мужики и бабы, дивясь его коленцам. Я взял гармонь, рванул прямо с крыльца «прохожую» и пошёл к дому Григория, где под окнами во всю ширину дома стояла длинная лавка и где плотно была утрамбована земля плясками и хороводами — место летних деревенских гуляний.
Цыганёнок ходил меж людей и в подставляемую ушанку бросали ему кто кусок хлеба, а кто и глухо звякающие монеты.
Увидев гармонь, цыганёнок заулыбался, крикнул что-то по-своему, подбежала к нему девушка-цыганка в белой кофте и красной юбке, забрала шапку, а цыганёнок, скаля зубы, крикнул:
— Цыганочку… можешь?
Я кивнул головой, сел на скамейку, приладил плотнее гармонь и заиграл. Цыганёнок, раскинув руки, важно прошёлся по кругу и вдруг взорвался сумасшедшими хлопками рук. Он неистово дробил — бил твёрдую землю босыми ногами, ходил вприсядку, волчком метался по кругу на руках, и мелькали перед изумлёнными зрителями его грязные пятки. Наконец, он подпрыгнул в последний раз и остановился, подняв руки вверх. Захлопали в ладоши бабы, их глухо поддержали мужики.
Услышав гармонь, потянулись к дому Григория деревенские девчата. Подсел ко мне, широко улыбаясь, цыганёнок, покосился завистливо на белые кнопки, сказал:
— Чардаш… можешь? Сестра будет танцевать…
Я посмотрел туда, где у угла дома, скромно потупясь, стояла девушка-цыганка.
Заиграл «Чардаш». Девушка не двигалась с места. Я склонился над гармонью, выжимая из неё всё, что мог, сам весь отдаваясь течению музыки. Вдруг цыганка встрепенулась, и медленно, как бы нехотя, полузакрыв глаза, поплыла по кругу.
Как она была красива! Таких я ещё не встречал. Смуглое юное лицо, длинные ресницы. Чёрные волосы, буйно падающие на плечи, перехвачены красной лентой…
Всё живее становилась цыганка, распаляемая музыкой. Вот она закружилась, раскинув крылато руки. Заполыхала, захлопала парусно юбка, то стелясь над землёю ослепительным диском, то с резвым извивом падая вниз, и лакированные «лодочки» плели на хорошо убитом «пятачке» хитроумную вязь танца.
Цыганка загадочно улыбалась и мне казалось, что она где-то далеко-далеко отсюда со своими непонятными мне мыслями.
Как грациозно было каждое её движение! Как будто сама она вся состояла из звуков и излучала красивую тревожную мелодию. Зачарованный танцем, я в одном месте допустил в игре секундную ошибку, незаметную никому. Но она сразу же оглянулась, обожгла меня недовольным взглядом.
Полыхала кроваво юбка, развевались чёрные волосы, жаром и вдохновением горело лицо цыганки. Бойкими птицами бились под белой кофточкой маленькие крепкие груди. И вся она казалась мне птицей: вот-вот улетит…
Наконец, обессиленная, она упала на колени, протянула к закату руки, как будто молясь кому-то и прося у кого-то прощения. Молчали притихшие бабы, молчали мужики, прикоснувшись к чему-то для них неведомому. А цыганёнок уже шёл по кругу с протянутой шапкой.
Девушка вскочила, подбежала ко мне, быстро нагнувшись, поцеловала в щёку, щекотнув пушистым завитком волос, и ни на кого не глядя отчуждённо пошла по улице.
Я сидел в растерянном оцепенении, всё ещё ощущая нежное прикосновение её волос, видел дерзкие искры в глазах и слышал, как гогочут мужики, подтрунивая надо мной за её благодарный поцелуй…
Долго томила деревню в тот вечер моя гармонь. В который уж раз играл я недоумённым девчатам «Чардаш». Они танцевали покорно и скучно, а на их фоне всё извивалась в искромётном танце юная цыганка и всё жёг мне левую щёку её быстрый поцелуй…
Склонилась утром надо мною мать.
— Сынок, пошла я на работу. Сходи, сгреби в логу сено — высохло уж. Вечером привезём…
Сквозь сладкую дрёму слышал я, что говорила мать. Потом она кормила во дворе цыплят, ласково скликая их: «Сили-сили-сили!» Сердито квохтала наседка, отгоняя от своих кормящихся силек бойких кур.
Наконец, хлопнули ворота — мать ушла.
Подремав ещё час или два, я решил вставать. Жарко палило солнце. Вода в умывальнике была тёплой. Умывшись, я сдёрнул со стола полотенце, которым мать закрывала еду от мух. Выпил полкринки молока, завернул кусок хлеба в газету, густо посолив его, взял грабли и вышел со двора.
Тиха и пустынна была деревня в это позднее утро. Купались в мягкой пыли курицы, блаженствовали, закрыв глаза, хлопали крыльями, осыпая себя сухим песком. Под окном у Григория играли в «классики» девчонки, метая черепок от горшка и прыгая на одной ноге в расчерченных квадратах. Сенокос. Все взрослые в лесу.
Окликнул меня из-за ограды друг Шурка:
— Ты куда?
— Сено надо сгрести, — солидно пробасил я.
— А… ну, ладно! Я лук делаю. Приходи вечером — постреляем…
За околицей догнал меня на лёгких дрожках председатель сельсовета Шехирин. Поздоровался, спросил, куда иду, и дёргая вожжу, сказал:
— Цыган еду сгонять. Опять потравят весь лог…
Это было не ново. Предсельсовета каждый год до одури ругался с цыганами, располагавшимися на лучших покосах. Ходил даже по округе анекдот, как предсельсовета, наорав на старшего цыгана за потраву луга, бросил:
— Даю тебе штрафу триста рублей!
— Ой, спасибо, хороший человек! — заулыбался цыган. — В какой кассе можно будет получить?..
Тянулся лог вдоль нашей деревни километра на три. После весеннего половодья буйно росли в нём травы и косили в логу колхозники из года в год на себя.
По берегу лога вилась едва заметная тропка. Иду по ней, вспугивая прыгучих кузнечиков. В разморённом зноем воздухе изломисто покачиваются сизые ели на противоположном берегу. Внизу, в густых спутанных травах, пофыркивая и отмахиваясь от мух хвостами, паслись разномастные цыганские кони. Невдалеке, в развилке лога, белели палатки цыган.
Сено высохло. Легко шуршало под граблями, пахло таволгой. Работая, я вдруг поймал себя на мысли, что не хотел бы, чтобы предсельсовета прогнал цыган. Втайне я очень хотел увидеть вчерашнюю цыганку… но, когда увидел, вдруг растерялся.
Она шла со стороны речки, тихонько напевала, выдёргивая с корнями из травы какие-то длинные стебли. Она была всё в той же красной юбке и белой кофточке — сама как цветок на зелёном лугу. Занятая своим делом, она не сразу заметила меня. Увидев, вскрикнула испуганно и побежала прочь. Развевались чёрные волосы, мелькали из-под длинной юбки босые ноги.
Я помахал ей успокаивающе рукой, а у самого гулко зачастило сердце, горячий пот выступил на лбу. Узнав меня, цыганка вернулась, уселась на бугре и, обхватив колени руками, смотрела на меня. Мне неловко было работать под её взглядом, но делать было нечего и я продолжал сгребать сено, стараясь как можно реже поглядывать в её сторону. Я уже заканчивал работу, как она появилась передо мной, — насторожённая, готовая в любую секунду убежать.
— Дай я! — сказала она и выхватила у меня грабли.
Сгребать сено ей определённо нравилось. Молчаливо улыбаясь, она ловко работала, бросая на меня хитровато-горделивые взгляды.
— Всё? — спросила она, закончив.
— Всё! — ответил я.
Она положила грабли на землю, с разбегу упала на копну сена, лежала, покусывая травинку, с любопытством разглядывала меня. Потом вскочила:
— Пойдём цветы собирать! Я сплету тебе венок.
Подхватила пучок травы, что собрала в логу.
— Что это? — спросил я.
— Это… лекарство, — ответила она и побежала по колючей, синеющей мышиным горошком, отаве в сторону речки. Я подсунул грабли под копну и пошёл за ней.
Неистово скрипели кузнечики. Случайный ветерок, забравшись в лог, весело трепал кудрявые травы, катил сизые волны по метёлкам тимофеевки, тряс жёлтыми гребешками погремков-звонцов, ерошил на склоне полоски травки-ржицы. Душно пахли спелые травы, клонились перезрело к земле. Не все ещё успели выкосить свои участки и лог пестрел проплешинами. Разметочные колышки белели на примятых извилистых стёжках…
Цыганка подбежала ко мне, разжала кулачок. На ладони её сидел большой бурый кузнечик. В ту же секунду он спрыгнул в травы. Мы рассмеялись. Я протянул цыганке пучок земляники. Она улыбнулась, взяла его левой рукой — в правой она держала охапку ромашек и какой-то целебной травы — и принялась прямо ртом сощипывать с пучка сочные красные ягоды.
— Тебя как зовут? — спросил я.
— Зачем тебе?
— Надо!
Она повертела общипанный пучок земляники, бросила его на землю, взглянула на меня искоса и спросила:
— А тебя?
Я ответил.
— Меня — Рега! — сказала она. — Вообще-то Регина, но так меня зовёт только отец. Остальные — Рега.
— Красивое имя! — заметил я. — Впервые слышу.
— Оно не цыганское. Как-то не по-нашему оно обозначает «королева». Ну, царица… Отец в молодости любил женщину с таким именем. В Одессе. Это он меня так назвал. Мать хотела Джелмой…
Мы сидели на берегу речки. Регина, вся обложившись цветами, плела венок, не обращая на меня никакого внимания. Сноровисто работали её ловкие руки, что-то загадочное, таинственное чудилось мне в её сосредоточенном лице, изредка освещаемом скупой потайной улыбкой. Я с интересом глядел на её колдовство над венком, и необычная, нездешняя красота её вызывала во мне жаркий озноб, и вдруг мне захотелось поцеловать её. Я испугался этого желания, застыдился и резко отвернулся от неё.
Сверкала солнечными бликами речка, сонно шелестели вблизи ивняки, из овражка одуряюще пахло цветущим донником. Над сосновым бором осторожно кралось прозрачное облачко…
Регина сплела венок, надела себе на голову и повернулась, улыбаясь довольно, ко мне.
— Ты настоящая королева! — восхищённо воскликнул я.
На неё боязно было смотреть: настолько она была красива. Сверкающей короной лежал венок на её тёмных как ненастная ночь волосах. Среди жёлто-белых ромашек голубели колокольчики, золотыми крапинками вплелись нивяники, как драгоценные камни рассыпались по венку нежные головки клевера…
— Правда, красиво? — обрадовалась она. Осторожно, обеими руками, сняла венок и протянула мне. Я приподнялся, подставил голову и тяжёлый венок опустился на неё. Совсем рядом были её полураскрытые влажные губы и я, отчаянно припал к ним.
Она не оттолкнула меня. Она лежала на траве, раскинув руки, и лицо её не выражало ни отчуждения, ни испуга, ни радости. Я неловко целовал ей глаза, брови, щёки. Вдруг она, извиваясь, выскользнула из моих объятий, вскочила на ноги, подхватила с травы растрёпанный венок и отбежала в сторону. Я лежал счастливый и оглушённый случившимся.
Через некоторое время Регина склонилась надо мной, погладила мне щёку.
— Ты хороший! — тихо сказала она.
Я замер, боясь вспугнуть эту ласковую руку. Но не выдержал, поймал её и прижал к своим губам. Мне стыдно было взглянуть на Регину, но я решился. Она была серьёзна, как-то тихо и покорно серьёзна, и не было у неё в глазах обиды, не было и страха — какая-то спокойная женская мудрость светло стыла в её расширенных зрачках. Она решительно нагнулась и коснулась губами моих губ. Я схватил её за плечи, притянул к себе…
Мы встречались каждый день. Уходили в лес, на речку. Пухли от поцелуев губы. Мы растворялись друг в друге с самозабвением ликующей молодости.
Регина плохо читала. Я брал с собой книги, читал ей вслух, заставлял читать её. Она спотыкалась на словах, смешно шевелила губами, читая фразу сначала про себя, а уж потом произнося её вслух. Надоедала ей книжка — она отбрасывала её в сторону, прижималась ко мне и тянулась губами. К вечеру она уходила в табор. Иногда я давал ей что-нибудь из продуктов, чтобы не ругали её, что ничего не приносит. Родители удивлялись моей отрешённости от жизни, отец поругивал за безделье. Не догадывались они, что пришла ко мне первая любовь…
Будоражила деревню вечерами моя гармонь. Тосковал я по жарким губам цыганки. Бледными и неинтересными казались деревенские девчонки. Знал я, что слышит она мою гармонь, рвётся сердцем ко мне, но не может уйти из табора.
Плескался по сонной деревне девичий смех, сквозь щели в крыше сеновала пробивался лунный свет. Тоскливо поблёскивала небрежно брошенная на сено гармонь. Лежал я в тревожном забытье на мягком тулупе и торопил ночь. Скорее бы утро! А утром — встреча с ней. С любимой…
Остро пах шерстью тулуп. Увядшей земляникой пахло сено. Засыпал я неспокойным сном и всю ночь бредил её именем…
— Пойдём к нам! — сказала она.
Я не сразу понял, что приглашает она меня в табор. Идти туда мне было страшновато, но любопытство пересилило, и я согласился.
Регина рвала по дороге пыльный донник, гонялась за бабочками, сдувала на меня пышные шары одуванчиков. А то пряталась от меня в ржаном поле и выбегала потом вся в жёлтой пыльце, припадала ко мне, закрывала озорные глаза и ждала поцелуя.
Из лощины, спадающей в лог, тянулся дымок. Среди притоптанных трав беспорядочно грудились телеги, задрав к небу связанные оглобли. Две собаки с лаем выкатились нам навстречу, но после окрика Регины смолкли и виновато завиляли хвостами.
Безлюдно в таборе. Разбрелись цыгане по окрестным деревням добывать пропитание. Потрескивал дымно костёр. Висели над ним закопчённые котелки. Сидели около костра трое пожилых цыган. Они не ответили на моё приветствие, не повернули даже голов.
Около драного серого шатра сидела цыганка с яркими стеклянными бусами на шее и слушала патефон.
— Моя мама. Нога болит у неё, — сказала Регина, и цыганка блеснула в улыбке жёлтыми зубами, но ничего не сказала, накручивая заводную ручку патефона. Я узнал её: это была та самая цыганка, что нагадала мне: «Не будет тебе счастья в жизни, сынок…»
Регина объяснила что-то матери и стала перебирать пластинки.
— Хочешь Шульженко? — спросила она. Я кивнул головой.
Хрипела под тупой иглой заезженная пластинка, задумчиво перебирала бусы мать Регины, а с телеги неподалёку бросал на меня свирепые взгляды здоровенный румяный цыган. Он держал на коленях хомут и тыкал в него длинным шилом.
— Кто это?
— Васька, — небрежно ответила Регина, поставила новую пластинку, придвинулась ко мне и сказала:
— Осенью мне будет семнадцать. Меня отдадут за него замуж…
Я вздрогнул, а Регина продолжала:
— Отец меня отдаёт за него. Васька отцу уже двух коней дал… У Васьки была жена. Простудилась, умерла…
Я почувствовал смертельную ненависть к этому мордастому Ваське. Я не согласен был отдавать ему Регину. Я готов был биться с ним смертельным боем.
Земля пьяно плыла у меня перед глазами, я хватался за траву, вырывая её, а Регина добивала меня:
— Он даже бьёт меня иногда… Требует, чтобы уже теперь я приносила ему еду…
Васька, видимо, понял, что говорят о нём, сполз с телеги, бросил хомут и, подойдя ко мне, хрипло выдохнул:
— Чава нада?
Я встал и с ненавистью смотрел в его тупое лицо. Мне хотелось его ударить, но я видел, что мне с ним не справиться: Васька был больше меня вдвое. От бессильной злобы на глазах моих навернулись слёзы. Я кивнул Регине и пошёл прочь.
Горькая обида душила меня. Я злился на себя, на то, что молод, что не могу вот взять да и сделать Регину своей женой. Я чуть не плакал от досады, что мне всего семнадцать, что нет под ногами твёрдой почвы, что ещё год учиться в школе, что заикнись я отцу о женитьбе, — он, пожалуй, снимет с крюка ремень…
Регина догнала меня у самой деревни и, виновато заглядывая в лицо, сказала:
— Не сердись! Он очень грубый…
Я невесело улыбнулся ей, и Регина побежала обратно, крикнув на прощанье:
— Я завтра приду!
Я прошёл к дому напрямик, чужими огородами. Тяжело шевелилось во мне обидное предчувствие, что скоро всё это кончится. Уедет табор и — прощай любовь! Оборвётся всё. Пусто и одиноко будет мне в этом мире. Пусто и одиноко…
Весь вечер и всю ночь мучило меня это чувство безнадёжности моей любви, и едва дождавшись встречи с Региной у лога, у старой развилистой берёзы, я шагнул ей навстречу, крепко обнял и стал целовать. Регина, притихшая и счастливая, покорно подставляла мне тёплые губы.
Вдруг меня что-то рвануло за воротник рубашки. Я отлетел от берёзы, выпустив из рук Регину, и упал на спину. Передо мной мелькнуло злое лицо цыгана Васьки. Как разъярённый зверёк, я быстро вскочил и без раздумий бросился на Ваську. Я, кажется, стукнул его два или три раза. Но что могли сделать мои кулаки с этой глыбой! Страшный удар в лицо ослепил меня, и я опрокинулся на траву. Но снова вскочил, вытер рукавом кровоточащий нос и бросился на Ваську. Я уже ничего не помнил. От злости я готов был зубами перегрызть ему глотку. Но между нами встала Регина, сказала что-то резкое Ваське, взяла его за руку и повела за собой…
Я стоял, размазывая по лицу кровь и слёзы, и планы страшной мести один зловещее другого роились в моей голове…
Не видел я Регину три дня. Кружил затравленно по логу, вечерами подкрадывался к табору совсем близко, но никакого намёка на существование Регины не замечал. Как будто её и не было. Три дня эти были безрадостными и тягучими, как дурной сон. Я понимал всю нелепость и бессмысленность моей любви, но противиться ей не мог. Мне нужна была Регина. Я хотел её видеть. Больше мне ничего было не надо.
Крепко мучила и злость на Ваську. Я придумывал разные планы мести, но всё выходило так, что для их осуществления мне надо было стать сильнее его. В бессильной ярости я грозился в сторону ночного табора, что возьму у пасечника Петра Иваныча ружьё и подстерегу Ваську…
Среди ночи я проснулся от того, что кто-то меня окликнул. Ещё не очнувшись ото сна, я ждал повторения оклика. Ждал, не веря в него, надеясь на несбыточное и призывая его. Оклик повторился. С радостно забившимся сердцем я приподнялся на хрустящем сене. В проёме лаза на сеновал как привидение стояла Регина, кутаясь в большую шаль. Я протянул к ней руки. Регина бросилась ко мне, прижалась крепко всем телом и стала беспорядочно целовать меня: в глаза, в нос, в щёки. Порыв её был настолько стремителен и горяч, что я лежал, глупо улыбаясь, ошеломлённый её приходом, не отвечая на ласки.
«Завтра мы уезжаем…» — вдруг прорвались к моему сознанию её слова, и я почувствовал, что куда-то проваливаюсь, лечу в чёрную бездну, кружится от падения голова и от страха вот-вот лопнет сердце. Я отчаянно схватился за Регину, прижал её к себе. Падать так вместе! Я говорил ей что-то бессвязное, гладил нервно жёсткие волосы и всё мне казалось, что ей холодно и я настойчиво натягивал на неё тяжёлый тулуп…
Регина, уткнувшись носом мне в шею, всхлипывала:
— Васька не хочет ждать до осени… Отец согласился. Как только приедем на новое место — будет свадьба…
Каждое слово её, как игла, больно впивалось мне в сердце, и я тоже вместе с ней готов был горько плакать от безысходного отчаяния…
Потом Регина притихла. Крепко обвили мою шею её руки, сердце её жалобно колотилось мне в грудь. Я нечаянно провёл рукой по её бедру и вдруг почувствовал, как горячо и нетерпеливо её тело. Я отдёрнул руку, словно обжёгся. Регина поощряюще впилась в мои губы. Руки снова лихорадочно гладили её бёдра, и непонятная ещё мне страсть жгла меня…
Пробивался рассвет сквозь щели в крыше. Мы лежали уставшие и совсем не счастливые. Неизбежность разлуки беспощадно подавляла в нас всякую радость любви.
Захлопал крыльями внизу на шесте петух и истошно, с надрывом, прокукарекал. В соседнем дворе встрепенулся молодой петушок и звонко откликнулся. И пошло гулять по деревне разноголосое «ку-ка-ре-ку!»
Первой очнулась Регина. Наклонилась надо мной и сказала:
— Мне надо идти.
Безучастно кивнув ей, я поднялся. Я не хотел верить в неотвратимость разлуки, я просто не мог понять, зачем разлучаться, если от этого человек несчастлив.
— Как ты ушла? Мать хватится — попадёт тебе…
— Мать знает. Без неё мне бы не уйти…
Мы слезли по скрипучей лестнице с сеновала и вышли в проулок.
— Регина, слушай! — остановил я её. — Давай я тебя спрячу, оставлю у себя. Уедет табор, а ты останешься…
Мне даже весело стало на секунду от этой счастливой мысли: в самом деле, будь что будет, оставлю её и всё. Лучше умереть, чем жить без неё. Но Регина грустно возразила:
— Нет! Нельзя так! Без меня они не уедут.
— А как можно? — рассердился я. — Вот схвачу тебя и запру в амбаре!
— Нет! — холодно и твёрдо сказала Регина, положила мне на плечи руки и от её безжизненных тоскливых глаз ещё безысходнее стало моё горе, на душе было так муторно, что хоть в петлю.
— Ты хороший! — сказала Регина. — Я буду помнить тебя. Долго. Прощай!..
Коснулась вздрагивающими губами моих губ и побежала по тропинке. Шаль чёрным крылом взметалась за спиной…
Я вернулся на сеновал, уткнулся лицом в холодную овчину тулупа и заплакал…
Выплакавшись, я на какое-то время забылся в чутком сне. Сквозь сон я слышал, как мать доила корову, то называя её ласковыми именами, то строго покрикивая на неё. Тугие струи молока шумно ухали в подойник. Слышал как хлопал «махалкой» пастух, мычало стадо.
От какого-то внутреннего толчка я окончательно очнулся ото сна и долго смотрел, как мельтешат пылинки в лучах солнца, пробивающегося сквозь щели. Потом решительно вскочил, слез с сеновала и вошёл в дом, где, вздрагивая от кусачих мух, похрапывал отец и хлопотала у печи мать.
— Что это ты так рано? — удивилась она.
— Холодно, мама! — пожаловался я.
— Так ложись в избе, досыпай!
Я не ответил ей. Почувствовав себя голодным, съел ломоть хлеба с парным молоком. Потом долго мотался по избе и по двору, искал, чем бы заняться, но дела не находил. Отец, уходя на работу, видя мою неприкаянность, бросил:
— Бездельем маешься? Сходи в лес, наруби жердей: вон два прясла подгородить надо.
Я кивнул головой: понял! И стало чуть легче на душе: есть дело, есть цель…
Потянулся через деревню цыганский обоз.
Я выбежал из дому, привалился спиной к щелистому столбу ворот. Поскрипывали телеги, остро пахло дёгтем и лошадьми. Бородатые цыгане с кнутами в руках степенно шли вдоль обоза.
Я отчаянно выглядывал Регину, но её нигде не было. Злорадно скалил зубы Васька, сидя на телеге в окружении чумазых цыганят. Понял я, что Регину спрятали вон в тех повозках, затянутых выцветшим брезентом.
Как лунатик побрёл я за последней телегой, на задке которой, свесив босые грязные ноги, сидела старая цыганка и почему-то визгливо смеялась, тыча в мою сторону костлявым пальцем.
Слёзы застилали глаза. Крепко вцепился я в колючий придорожный куст акации, чтобы не упасть. Перевалился через бугор цыганский обоз, он увозил в неизвестность мою первую любовь…
1970 год
Ночные дожди
I
Неспокойно, смутно было на душе у начальника мелиоративной передвижной механизированной колонны Сергея Русанова. Приехал он домой вечером мокрый, грязный и голодный. Непривычной тишиной встретила квартира. Жена Таня, закончив учебный год в школе, уехала с пятилетним сынишкой Костькой в город, к родителям. Сергей обещал вырваться и приехать к ним хотя бы на недельку. Но сегодня, сделав прикидку, он понял, что дела отпустят его не скоро. По ночам повадились обильные дожди, земля не успевала впитывать воду, вязли в липкой глине бульдозеры, участились неполадки, производительность резко упала, и настроение у рабочих на объектах было ниже нуля. Под угрозой месячный, а с ним и полугодовалый план.
Целый день сегодня промаялись с одним столбом. Обмелевшая речка под дождями поднялась, заиграла новой силой. Столб ставили самоосаждением, вымывая из-под торца грунт. Насос был слаб, грунт крепок, и осаждение бетонной стелы шло по сантиметру. Эта долгая нудная работа вызывала раздражение. Сергей изо всех сил душил его, стараясь быть собранным и деловитым. Несмотря на молодость, он знал, что стоит только выплеснуться начальническому раздражению — оно тут же обретёт цепную реакцию — и всё пойдёт злым истеричным кувырком. Не жди тогда нормальной работы, не один день ухлопаешь на улаживание пустяковых конфликтов. И он старался своей личной энергией увлечь, приободрить рабочих, невозмутимо и весело командовал на объекте, как опытный дирижёр держал все нити прорабского участка в своих властных руках.
К концу дня он приехал в свою контору и дозвонился до заместителя начальника областного объединения мелиорации с намерением поругаться с ним.
— Вы подкинули нам эту передовую технологию! Старую технику забрали, новой не дали! — зло кричал он в трубку. — Я полгода прошу у вас гидромонитор. Я должен ставить за день восемь столбов, а ставлю один. Один! Вы понимаете это?..
Замначальника был тёртый калач: шумливые начальники ПМК для него не в диковинку. Он добродушно осаживал Русанова:
— Ну, ну, распетушился! Я что, рожу тебе этот гидромонитор? Нету пока. Понял? Придут — дам. Жди!..
Сергей в запальчивости заявил, что в таком случае он снимает с себя ответственность за план.
— План ты давал всегда, и в этот раз дашь! — жёстко пророкотала трубка и скороговоркой напомнила азбучную истину: кто хочет работать — ищет средства, а кто не хочет — причины.
— В сотый раз слышу, Наум Филиппович! — возмущённо простонал Сергей. — Мне техника нужна, а не напоминание о долге. Меня ваши снабженцы без ножа режут, без работы оставляют…
— Давай-ка, охладись! — посоветовал замначальника. — Денька через три прибывай, что-нибудь придумаем…
Трубка зачастила певучими гудками. Сергей с минуту озадаченно подержал её в руке, будто ждал от неё ещё чего-то, но тут увидел в окно, что по двору кто-то бездельно катается на роторном канавокопателе, в нём закипела новая волна раздражения, он бросил трубку на аппараты и выбежал из кабинета.
…Вернувшись домой и наскоро зажарив холостяцкую яичницу, Сергей поужинал, вымыл сапоги, развесил сушиться одежду и, нажав клавишу радиоприёмника, устало опустился в кресло.
Вечер неторопливо втягивался в широкие окна квартиры, наполняя вязким сумраком углы, чернил обойную желтизну, и в этой обволакивающей неспешности вечера было что-то потерянное, удручающее, что хотелось встать, отряхнуться, сбросить с себя расслабляющее оцепенение. Но встать уже не было сил.
Уплотнялась и тяжелела густая небесная синева, первая вечерняя звезда наплыла откуда-то сверху и зависла над окном, дразняще подмигивая. Из радиоприёмника лилась тихая и грустная мелодия. В каком-то далёком уютном зале нежно пели скрипки, задумчиво постанывало пианино, праздные нарядные люди наслаждались этой светлой музыкой, и им было наплевать на то, что есть где-то беспокойный начальник ПМК, преобразователь земли двадцати восьми лет отроду, и что ему трудно и одиноко.
Смежая тяжелеющие веки, Сергей со щемящей теплотой подумал о жене и сынишке, мельком удивившись, что так быстро заскучал о них. В подсознании яркой пульсирующей точкой засветилась радостная мыслишка о скорой поездке в город, что само собой связывалось со встречей с родными людьми, и согретый этой тёплой мыслишкой, Сергей крепко уснул.
Разбудил его близкий удар грома. Летучий фосфорический блеск почти беспрерывно заливал комнату. Сергей встал из кресла, пощёлкал выключателем — люстра не зажглась. Он подошёл к окну. Весь посёлок был занавешен безжизненной темнотой. «На подстанции вставки выбило или же сами электрики с перепугу вырубили», — подумал он.
Зигзаги молний яростно полосовали чёрное небо. В неверном, бликующем свете силикатные двухэтажки казались картинно-маленькими, боязливо вжавшимися в землю.
Дождь начался исподволь, не спеша, словно примериваясь. Прошёлся раз и другой редкими крупными каплями по оцинкованной жести подоконника, колотливой дробью пробегал по утоптанным дорожкам и затихал где-то на крышах окраинных домов. Но вот всё чаще и чаще забарабанили капли и, наконец, слились в сплошной ливневый поток. Молнии отодвинулись в дальние поля, пригласили слепящие вспышки.
Сергей открыл форточку. В комнату потянуло бодрящей свежестью. Монотонно, завораживающе шелестел проливной дождь, и в этой щедрой дождевой неиссякаемости была своя прелесть, своё очарование. Если бы не горел план, если бы завтра снова не предстоял тяжёлый изматывающий день…
За входной дверью на лестничной площадке тоненько и жалобно мяукал котёнок. Сергей отгонял от себя это мяуканье, но оно назойливо лезло в уши, и он начал злиться на глухоту хозяев малыша. Выждав минуту-другую, Сергей не выдержал, открыл дверь и чиркнул спичкой. К порожной перекладине сиротливо жался маленький серенький комочек.
«Ну, почему у моей двери?» — удивлённо подумал Сергей и решил, что тот ещё неразумный, не знает своего дома. Сергей зажёг другую спичку, котёнок поднял голову и глянул на него заискивающе-доверчивыми глазками. Сергей опустился на корточки и, полнясь умильной нежностью, погладил пушистый комочек, и тот съёжился, притих под его рукой. Сергей не очень-то жаловал взрослых кошек, но к маленьким котятам с детства питал необоримую слабость.
«Возьму-ка я тебя к себе, раз хозяевам не нужен, — решил он. — Ты одинок, и я одинок. Вместе веселее будет». Он подхватил котёнка ладонью под животик и занёс в квартиру, нашёл на антресолях увесистую стеариновую свечу и зажёг. Затем налил в чайное блюдечко молока и поставил на пол. Котёнок притаился под стулом и не проявил к молоку интереса. Сергей подтянул его к блюдечку и потыкал мордочкой в молоко. Котёнок начал облизываться и уверенно потянулся к блюдцу. «Ну, вот и молодчага! Ах, какой молодчага!» — говорил Сергей, и серенький комочек вздрагивал от его голоса. Потом Сергей зажёг газовую колонку, вымыл котёнка в ванне с шампунем, завернул в полотенце и положил в мягкое кресло.
Часы показывали полночь. Сергей решил лечь спать. За окном шелестел и шелестел дождь, и он уже покорно смирился с ним, и с тем, что завтрашний день снова будет выбит из налаженного ритма, думалось без раздражения.
Среди ночи его поднял настойчивый писк котёнка: пришлось высвободить того из полотенца. Только-только он начал проваливаться в зыбкое забытье, как его вернул к действительности какой-то шум. В комнате было светло: во дворе горели фонари. Дождь прекратился. Сергей недоумённо походил по квартире: котёнка нигде не было. И он понял, что тот сбежал в открытую форточку. Шум, что разбудил его, был судорожным царапаньем коготков по оконной раме. «Вот тебе и беспомощный малыш», — удивился Сергей. Удивление смешалось в нём с огорчением, что тот не захотел пожить с ним, сбежал, оставил его одного…
На утре громко зазвонил телефон. Сергей, пошатываясь спросонок, прошлёпал в прихожую, охрипло отозвался в трубку «Да?»
— Дрыхнешь, хмырь болотный?! — зло зарокотала трубка. — Ни горя у тебя, ни забот. Хорошо устроился, инженер!..
Сергей узнал голос председателя колхоза «Рассвет» Зотова и, прерывая негодующие выкрики, Сергей ледяным тоном спросил:
— В чём дело, Иван Панфилович?
— В шляпе дело, Русанов. В шляпе. Никудышный ты инженер. Мальчишка. Не умеешь строить — не берись. Я тебя выведу на чистую воду. Я тебя перед прокурором поставлю…
— Иван Панфилович, говорите дело или идите проспитесь.
— Я? Проспаться? — взвизгнул Зотов. — Это твои халтурщики с утра до вечера пьянствуют. Ты в своей разгильдяйной ПМК порядка навести не можешь… Я-то, дурак, верил тебе, а ты меня под корень срезал. Без кормов оставил. Я тебе этого вовек не прощу…
Сергею хотелось принять всё за злую штуку и бросить трубку, но к сердцу уже подступало ощущение беды, и он покорно слушал обидные, сумбурные выкрики обычно сдержанного и немногословного председателя колхоза.
— Снесло твою плотину! Слышишь, инженер? Работу твою халтурную вдрызг смыло! Ты у меня ответишь за это. Перед законом, перед партией!..
Сергей положил трубку на рычаги, опустился на низкий сыновний стульчик и обхватил голову руками. Боже мой! Его плотина, его бетонная красавица, его слава и гордость! Нет её! Сколько тяжёлых дней, сколько бессонных ночей, сколько нервов и надежд было в неё вложено. Как трудно она ему досталась. Сколько экскурсантов он на ней принял, как сдержанно и с достоинством давал пояснения; как приятно было ощущать на себе любопытные, уважительные, а часто и восхищённые взгляды: смотри-ка, какой молодой, а что построил…
Представился ему могучий, двухкилометровый разлив водохранилища со стежкой ивок по берегам и мяукающим криком чаек в небе. Полтора миллионов кубиков драгоценнейшей влаги… Сергей скрежетнул зубами, мотнул головой, словно отбрасывая внезапно свалившуюся на него беду, и тут перед ним встали глубоко посаженные укоризненные глаза старика Петровича. «Эх, ты! Я же тебе тоже верил!» Сергею стало не по себе, но старик не исчезал, упрямо стоял перед глазами, тянул оглянуться в недалёкое прошлое. Вот он, прихрамывая, вывернулся из-за ивовых кустов с вёслами на плече, в вылинявшей клетчатой рубахе, и на кирпичном лице его сияла довольная улыбка. «Красота-то, красота-то! — показывал он на водохранилище. — Умирать не надо! Порадовал ты меня, сынок, на старости лет, уж как порадовал. Спасибо тебе, до земли поклон. Я-то лыжи навострил отсюда. Домишко приторговал в братовой деревне. Речка манит туда… Но теперь я отсюда не уеду. Хоть силком выгоняй. Жизнь моя при воде-то смысл обретает. Три лодки сколотил. Выбирай любую. Дарю. Детки-то есть? Вот и будешь катать. Красота-то! Без этой красоты деток не вырастишь… Уж угодил ты мне под старость, так угодил…»
Петрович, кажется, дневал и ночевал на водохранилище, а однажды по секрету сообщил, что ездит на своём пенсионерском «Запорожце» на озеро, за тридцать километров, привозит оттуда в вёдрах карасей и выпускает в безрыбное искусственное море. «Полтыши, не менее, я их туда зафитилил, — довольно говорил старик. — Привози на будущее лето сынка — порыбачите…»
Порыбачили. Нет теперь водохранилища, нет карасей. Ничего нет. И старик Петрович, наверное, неприкаянно бродит по берегу, зло смахивая с морщинистых щёк скатывающиеся слезинки…
II
Ухабистая просёлочная дорога натужно ползла под колёса вездехода-уазика. До «Рассвета» был неближний путь — километров тридцать, и Сергей нетерпеливо и смело бросал машину на раскисшую ленту просёлка.
Утро нарождалось яркое и солнечное и, если бы не эта вязкая сырь на земле, трудно было бы поверить, что ночью шёл долгий проливной дождь.
Рядом с Сергеем сидел главный инженер ПМК Медведев — круглолицый, розовощёкий двадцатипятилетний парень, ещё не успевший согнать с лица утреннюю сонливость.
Сергей отрывал глаза от дороги и искоса поглядывал на Медведева. Тот спокойно встречал его взгляды и даже пытался успокаивающе улыбнуться. Это была их первая беда, первое поражение. Медведеву легче — он не строил эту плотину, она не была для него родной, наверняка, он даже в глаза её не видывал, поэтому он так спокоен. Вот если бы его плотину смыло… Тьфу, да что это он пророчит! Не дай бог никому такого испытания.
Медведев хороший парень. Года ещё нет, как он в ПМК, а будто всегда был. Ко двору пришёлся, славно прижился. Сергей невольно улыбнулся, вспомнив, как прошлым летом к нему в кабинет ранним утречком заявилось этакое чистенькое, бодренькое, румяное создание в модном сером костюме, в белоснежной рубашке и ярком цветном галстуке. Картинка или манекен с витрины столичного универмага. Сергей покрутил в руках новенький диплом инженера-строителя, внимательно изучил направление, спросил: «Городской? Женат? Дети есть?» — и встретив утвердительный кивок, подвёл итог: «Значит, срочно нужна квартира» — «Нет, нет, не надо, — поспешно возразил парень. Жена с дочкой в городе живут… пока я здесь не освоюсь…» — «Сбежит!» — уверенно подумал Сергей. Сколько их уж перебывало — с техникумов, с институтов, а задерживались считанные единицы.
Сергей всегда пытался сходу уловить характер молодого специалиста, безошибочно определить роль и место новичка в ПМК. «Кто ты? — вглядывались в прибывшего его пристальные серые глаза. — Что у тебя внутри? Будешь ли ты на земле чернорабочим или промелькнёшь мотыльком, не оставив следа ни в собственной душе, ни в чужих?..»
Была у него одна педагогическая метода, изобретение которой он приписывал себе, чем немало гордился. Обманувшись раз, и другой, и третий в молодых специалистах, он стал смотреть на них как на нечто преходящее и бросал их на самые горячие объекты. «Выживет — будет наш, не выживет — скатертью дорога», — с обиженной жесточинкой рассуждал он, и с лёгким сердцем отпускал тех, кто не выдерживал. Зато к оставшимся проникался безграничным доверием, уважал и дорожил ими, заводил личную дружбу.
«Пойдёте на новую плотину прорабом», — сказал он тогда Медведеву. Тот согласно кивнул и безмятежно улыбнулся. Сергей проводил взглядом плотную широкоплечую фигуру новичка, а через несколько минут увидел его во дворе у машин, и это ему понравилось. Не выскочил опрометью за ворота, а по-хозяйски обходит машины, подолгу разглядывает их. Сергей смотрел на новоиспечённого инженера в окно и уже жалел его. Эх, не знаешь ты, парень, что навалится на тебя завтра. Посылаю я тебя на дело, за которое и сам бы побоялся взяться. Две прогульные бригады: пьяницы, хулиганы… На бригадиров строгачи некуда вешать. Мастер третье заявление об увольнении накатал… А надо этими силами начинать насыпную плотину. Перегородить цепочку оврагов, поднять водохранилище на полмиллиона кубиков…
Медведев проявил неожиданную прыть. Как-то незаметно, быстро и круто, взял бригады в руки. Сам безотлучно жил на объекте в вагончике. Организовал двухсменную работу и секцию борьбы, и вечерами парни запальчиво возились на расстеленных на лужайке одеялах. И на удивление всей ПМК построил плотину за полтора месяца вместо трёх расчётных. Получив премию, он выпросил у Сергея неделю отгулов и автобус. Увёз свои бригады на Волгу, в палатки. Когда прошли отгульные дни, тридцать дружных, сильных, загорелых парней заполнили кабинет начальника ПМК. Тридцать подтянутых, улыбчивых парней, готовые на новое дело. И он дал им дело. Трудное дело. А Медведеву сказал: «Будешь главным инженером…»
Бригадиры во главе с мастером приходили ругаться, обещали забастовку, если не отдадут им прораба. Сергей широко, добродушно улыбался и охотно соглашался, что Медведев — отличный парень. «Но поймите вы, тут он нужнее, — убеждал он. — Никуда Медведев от вас не денется, только объектов у него прибавится. Я же механик. В машинах понимаю, а в стройке ни бум-бум. Чтобы стройкой руководить — нужен толковый инженер-строитель. Подходит Медведев на эту должность?» — «Подходит», — уныло согласились бригадиры и мастера, и ушли недовольные и не убеждённые в высшей правоте начальства, забирающего от них полюбившегося прораба…
— Спишь, Саша? — окликнул Медведева Сергей.
— Да нет, Сергей Василич. Думаю с закрытыми глазами.
— О чём?
— Пытаюсь проникнуть в психологию начальника ПМК, едущего на разрушенную плотину.
— Ну и как?
— Пока ничего определённого.
— Чего и следовало ожидать, — улыбнулся Сергей. — Вот когда твою плотину смоет, тогда ты сразу всю психологию поймёшь. Особенно, если первую…
— Тьфу, тьфу, тьфу! Не говорите так, Сергей Васильевич. Та плотина у меня — вот где, — Медведев приложил ладонь к сердцу.
— А у меня все объекты тут, — буркнул Сергей и с преувеличенным вниманием уставился на дорогу…
До плотины доехали молча. Сергей вздыбил уазик на взгорок и резко остановился. То, что открылось взгляду, поражало размахом разрушения. Это было так ошеломляюще, что Сергей невольно зажмурил глаза, и ему хотелось верить, что всё это нереальность, дикий кошмар, и стоит разжмуриться как заласкает глаза красавица-плотина с ажурными перилами моста, ударит в уши приглушённый гул водосбросов, расстелется до горизонта весёлая гладь воды…
Мотор уазика оборотливо частил, вибрировал тело, и эта дрожь ещё больше усиливала лихорадочно-потерянное состояние Сергея. Он наощупь повернул ключ зажигания, и в установившуюся тишину резко забил стук авиационных часов под щитком.
Сергей неохотно открыл глаза. Увы, сквозь ветровое стекло всё та же унылая картина: провал моста, нелепо торчащие быки, беспорядочное нагромождение разломанных бетонных плит.
— Вот так, Саша, — грустно выдавил Сергей и глянул на притихшего главного инженера. Тот промолчал. Сергей открыл дверцу и грузно сполз на землю.
— Пойдём, справим панихиду…
Утреннее солнце жарко накаляло небо, ярко зеленели омытые дождём травы, слабый ветерок нёс с полудня пряные запахи увядающей кошенины. Тишь в мире и благодать, вольный солнечный покой и сладкий озонный воздух. А внизу — жалкие развалины бывшей плотины. От них никуда не деться, они притягивают, привораживают глаза; мозг цепенеет, не в силах охватить всей величины случившегося. За что, за какие грехи эта напасть?
Тоненько взвизгнул, набирая обороты, мотор скважинного насоса на животноводческом комплексе. Сергей глянул на близкий городок комплекса, и новая боль кольнула его сердце. Восемьсот коров останутся без кормов. Вот это, пожалуй, главная беда от разрушенной плотины. Двести гектаров долголетнего культурного пастбища без воды. Тысячи тонн травы недополучит колхоз…
Скрипнули за спиной тормоза. Пожилой юркий шофёр выскочил из кабины грузовика, забегал по берегу.
— Это что же получается? — громко закричал он. — Вчерась был мост, седни уже нет. Куды делся? Кошки съели? А строительные начальнички стоят, не налюбуются на своё бракодельство…
Шофёр вскочил в кабину, круто развернул машину и, прежде чем уехать, высунул голову и презрительно выругался:
— Строители, мать вашу…
Сергей снял фуражку, подставил освежающему ветерку свалившуюся шевелюру. Тяжёлыми жерновами ворочались в голове ленивые мысли. — Это невероятно, Сергей Васильевич, — заговорил Медведев. — Это же какую силу надо приложить, чтоб сотворить такое! Аммоналом так не искрошишь…
Медведев, не дождавшись ответа, сбежал вниз на развороченные плиты сливной части бывшей плотины. За хаосом бетонных нагромождений в русловых яминах речки стояла мутная неподвижная вода. Вскоре оттуда донёсся возбуждённый крик Медведева:
— Сергей Васильевич! Карп! Вот такой! Килограмма на три…
— Да ну! Откуда тут карпы?
— Точно, Сергей Васильевич! Вон в яме плавает. Эх, удочки нет!..
— А ты его руками, — бездумно посоветовал Сергей.
— Правильно! Сейчас я его изловлю.
Медведев торопливо разделся и осторожно ступил в ямину. Воды было по колено. Медведев постоял, всматриваясь, и вдруг всем телом бросился вперёд, подняв каскад брызг. Отчаянно побарахтавшись в луже, он встал на ноги и обескураженно выдохнул:
— Ушёл, паразит!
Сергей невольно улыбнулся, глядя на грязную, комичную фигуру главного инженера. «Мальчишка», — подумал он с теплотой, и ему показалось, что разница в возрасте между ними куда больше трёх лет, и приходится с тоскливой обречённостью сознавать, что он уже не может так непосредственно окунаться в маленькие мальчишечьи радости, и что его совсем не радует этот взрослый сухой рационализм.
Неужели у Зотова карповый пруд ушёл? Если так, то лавина в триста кубов обрушилась на плотину. Ну и что? Даже в этом случае плотина должна была устоять. Что же случилось? Что?
Сергей устало опустился на подсыхающую траву. Незаметно подошёл Петрович, молча сел рядом. В прихмуренных глазах старика застыла стойкая боль. Молчать, глядя на огромное слизисто-грязное болото на месте бывшего рукотворного моря, было тягостно, и Сергей встал. За ним поднялся и Петрович.
— Сергей Васильевич, ура! На-аш! Уха будет! — донёсся снизу торжествующий вопль Медведева. Главный инженер поспешно выбирался из лужи, держа в вытянутых руках трепехающуюся жёлтую рыбину.
— Значит, ушёл у Зотова и пруд, — тихо произнёс Сергей.
— Ушёл, — глядя в сторону, глухо выдавил Петрович. — Была водичка да сплыла. Много было, не берегли… Не знаю, Сергей Васильевич, насколько ты тут виноват, но Зотова вина больше твоей. Это он не уберёг…
Вчерась я ходил к нему. Дай, говорю, бульдозер, а то вода мимо запруды уйдёт. Так он меня обругал. Без тебя, говорит, забот хватает; возьми, говорит, лопату да завали промоины; всё равно, говорит, тебе больше делать нечего… Цельный день я лопатой орудовал, да вот не помогло…
Старик горестно махнул рукой и пошёл по берегу к селу.
— Петрович! — остановил его Сергей. — Так что делать-то?
— Строить. Заново строить, — уверенно откликнулся старик. — Раньше, бывало, каждую весну мельничную запруду сносило, дак мужики в неделю новую ставили.
— Так то раньше. А этакую махину в полмиллиона рублей…
— Жалко, конешно, денег, што и говорить. Дак, наверно, разберутся кому положено, кто и пошто такой урон государству наделал… Ты особо-то не переживай, Зотов здесь виноватее тебя. А ежели чувствуешь што, так повинись перед Истоминым, перед Антоном Фёдоровичем. Ума палата, он поймёт. Уж я ему при встрече всё обскажу, ничё таить не стану… Крепок мужик Зотов, да ржа его изнутри разъедает. Ты не бойся его, сынок. Борись с ним. Он только с виду грозен, внутри-то труха…
Старик повернулся спиной к Сергею и пошёл. Линялая телогрейка мерно запокачивалась влево-вправо на его скорбно пригнутых плечах.
Сергей позвал Медведева. Тот, уже одетый, победно поднёс за хвост полуметрового карпа.
— Красавец, — сказал Сергей. — Давай садись, поедем.
Русанов кивнул на распластанного на траве карпа и пошёл к машине.
У правления колхоза «Рассвет» в этот утренний час было многолюдно. Русанов и Медведев вылезли из машины, поздоровались, и сквозь внезапно притихшую толпу пошли к крыльцу, ощущая на себе любопытные, а то и злорадные взгляды.
Войти в контору они не успели. На крыльцо выскочил председатель колхоза и загремел:
— Вот они, голубчики, явились не запылились!.. Ну-ка, покажитесь народу, в глаза ему поглядите, стыдно, авось, станет за свою халтурную работу…
— Иван Панфилович! — оскорбленно возмутился Сергей.
— Что Иван Панфилович?! — взревел Зотов. Полное лицо его побагровело, кровью налились глаза. — Мазурики вы, а не строители. Никудышные инженеры. Вы колхоз под корень подрубили. Вон перед ними, перед народом, ответ держать будете…
Сергей повернулся и пошёл к машине. Подождал, пока сядет Медведев, и бросил яростно взревевший уазик на лужистую дорогу…
III
Председатель колхоза «Рассвет» Иван Панфилович Зотов невольно вызывал к себе уважение крупной, осанистой, крепко обитой, раздавшейся вширь фигурой. Аккуратно обработанная городским парикмахером грива густых поседелых волос молодила его и сглаживала грубовато вытесанные черты лица. Несмываемой бронзовой накипью полевых ветров задубели щёки, скрыв склеротическую красноту; глубокопосаженные острые глазки всезнающи и мудры; серый хлопчатобумажный пиджак вольно распахнут; ноги в припыленных хромовых сапогах шагают размашисто, по-хозяйски; голос басовитый, громкий, с хрипотой; жесты повелительные, непререкаемые.
Таким он был на людях. Тридцать председательских лет горделивой усладой легли в его биографию и приучили к вседневной властной собранности и уверенности.
Но в последние годы что-то надломилось в Иване Панфиловиче, его, как набрякшее водой бревно, всё тянуло куда-то на дно, подальше от людских глаз. Раньше открытый, весь на виду, он стал окружать себя тайной, и за этой искусственной оболочкой, которой отгородился от людей, чувствовал себя спокойнее, прочнее.
В потайных уголках души всё чаще появлялось желание освободиться от председательства, но он с ознобистым страхом подавлял его. Нет уж, до пенсии он, кровь из носу, дотянет, а там — хоть трава не расти. И выход на пенсию представился ему праздником — вроде тихого солнечного багряного осеннего дня.
Дела в колхозе шли не так уж и плохо, но иногда ему казалось, что идут они помимо него, а он стоит на обочине и судорожно пытается поймать за хвост ускользающую власть.
Что же случилось? Почему он перестал предвидеть ход событий, и жизнь покатилась где-то стороной? Почему он как огня забоялся всяких новшеств? Куда девалось его былое ухватистое воображение? Отчего мысль стала бессильной, тусклой и недалёкой, скользко пробуксовывающей, как на холостом ходу?
Давно ли он получил орден за высокие урожаи льна, давно ли смело внедрял не внушающую доверия раздельную уборку зерновых, давно ли ходил хмельной от радости, чуть не силком протащив через общее собрание план застройки центральной усадьбы. Куда всё это утекло? Сегодня он ничего не мог предложить людям, не мог решиться ни на что новое, и собственная ущербность мучила его, выбивала из колеи, лишала привычной устойчивости.
Как-то незаметно обезлюдели деревни, позарастали цепким кустарником, поубавились поля. Он и не пытался отвоевать их обратно: дай бог с оставшейся землёй управиться. А тут как гром с небес: мелиорация, гарантированное земледелие, животноводческие комплексы, интенсификация, концентрация производства… Вроде бы знакомые слова, не раз и не два читанные в газетах, а как подступили вплотную — оглушили своей новизной и непонятностью. И всё это надо было принимать без раздумий, без прикидок, с ходу. Жизнь взяла какой-то невиданный стремительный разбег и галопом ускакала вперёд, а он остался сзади, и обидчиво щурился ей вслед, мечтая отгородиться от райцентра и связанных с ним скоропалительных нововведений непроходимым болотом.
Появились незнакомые машины, поля опутались трубами, коров загнали в неуютный бетонный дворец, так чужеродно и нелепо воздвигнутый в голом поле, — и всё это помимо его воли, приказами сверху.
Его окружили молодые, как-то неожиданно враз пограмотневшие люди, которым было тесно в привычном крестьянском возу, и которые горели нетерпеливой жаждой перевернуть вверх тормашками с таким трудом налаженную жизнь, перестроить всё по собственному младенческому разумению, словно до них тут был первобытно-общинный строй, как будто люди не работали от зари до зари, а загорали на солнышке да справляли праздники.
Нет, не принял он современного ритма жизни, не понял, куда она так суматошно несётся, и изо всех сил сопротивлялся этому бурному, водоворотливому натиску, и не раз в запальчивости был обвинён молодёжью в бескрылости, в ретроградстве, но как-то случалось так, что поначалу чаще выходило по нему, и он, добродушно посмеиваясь, называл смущённых крикунов пеногонами.
Выручали его, помогали удержаться на гребне врождённая тороватость да огромный жизненный опыт. А самым большим успокоением служило то, что все эти нововведения осуществляются за счёт государства, и в случае чего колхоз не останется в убытке.
Агроном, слава богу, толковый попался; вот уже пять лет исправно тянет полеводство, не обременяя председателя излишними хлопотами.
Образованья у Ивана Панфиловича кот наплакал; неполное среднее да многочисленные краткосрочные курсы председателей, больше похожие на разгульные отпускные пикники. Так что своим горбом всё постигать приходилось, на практике, по накладным элеваторов и счетам разных учреждений. И он постепенно запутался во всех этих бесчисленных сортах зерновых, удобрений, микродобавок, пестицидов и ещё всякой всячины, чьи названия он и выговорить не мог. Он внимательно выслушивал агронома, и, если тот был напорист и уверен, поддерживал во всём, утверждал все агрономовы решения, но стоило ему почувствовать в голосе агронома хоть малейшее сомнение, он решительно возражал; агроном уходил смущённый, а Иван Панфилович горделиво цвёл от своей прозорливости.
Труден председательский хлеб; много чего повидал на своём веку Иван Панфилович, и научился вести хозяйство осторожно, не промашисто, подолгу недоверчиво приглядываться, прицениваться, прежде чем на что-либо решиться. Слишком горьки и больны были прежние уроки: то кукурузу расти, то бобы; то запахивай луга и своди клеверища, то возрождай. Голова кругом шла от неожиданных и противоречивых отрицаний незапамятного крестьянского опыта, вверху велась сложная борьба, защищались диссертации, а внизу трещали чубы и наживались инфаркты.
Всё это надо было пережить, пересилить, суметь извернуться и уцелеть, остаться хорошим и для начальства, и для колхозников. И беспрерывно, как на конвейере, давать стране хлеб, мясо, молоко, яйца, шерсть. В районных сводках его вполне устраивала надёжная, незаметная середина, которую во всех докладах обходят молчанием — не хвалят и не ругают. «Сзади не оставайся, вперёд не вырывайся, в серёдке, в серёдке толкайся!» — балагурно поучал он вдрызг изруганных на активах коллег, чьи хозяйства замыкали сводки, и при этом хитровато посмеивался и похлопывал их по плечу, и сам себе казался ловким, изворотливо-удачливым мудрецом, который всё предвидит и всё знает наперёд, и которого на мякине не проведёшь.
Случались и ему тумаки, правда, не часто, и он, словно бы взбодрённый, становился оживлённее, говорливее, чем обычно, и охотно шёл с приятелями в чайную обмыть выговорок, балагуря: «Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию…»
Подули новые ветры, и улеглась лихорадка реформ и переустройства, отдали всё в их руки — хозяйствуйте. Можно было расправить слежалые, изрядно пообщипанные крылья, и развернуться с озорным размахом, что выстрадан годами и снится по ночам. Никто не препятствовал осуществлению самых дерзких задумок и планов, никто не осаживал окриком, не убавлял прыть. В те годы и поднялся на центральной усадьбе белокаменный посёлок — сладкая мечта его молодости.
Но слишком глубоко въелось в душу недоверие, и он, недосыпая, недоедая, старался успеть побольше, со страхом ожидая, что в один прекрасный день данные права грубо отберут, и с района снова раздастся командный голос, и снова нужно будет лишь покорно слушаться и хитро ликовать между руководящими установками, больше доверять своей крестьянской смекалке.
Как в воду глядел Иван Панфилович. Районные и областные уполномоченные по севу, по уборке, по молоку, по силосованию, по снегозадержанию, по вывозке удобрений и по десятку других искусственно созданных кампаний властно заполонили колхоз, отодвинули председателя в тень, повязали по рукам и ногам, отобрали необходимость думать и принимать самостоятельные решения. Он пытался сопротивляться этому нашествию, но райком был строг и неумолим, никакие доводы не помогали, все ссылались на решения свыше, и, в конце концов, Иван Панфилович, озлясь махнул на всё рукой и безвольно поплыл по течению. Прошёл день — и ладно. И было у него полынно-горькое ощущение, что его отстранили от руководства колхозом, что он тут лишний, всем мешает, путается под ногами, и всё чаще и чаще хотелось ему забиться в какое-нибудь недосягаемое для людей укромье и притаиться там.
Живя по непрерывной указке — что сделать и к какому сроку, он воздерживался от загляда вперёд, где всё было зыбко и туманно. Зато начал оглядываться назад. И чаще всего вспоминались ему послевоенные майские дни.
Солнце огненным глазом ползло из-под леса. Зеленоватым туманом подёрнуты березняки. Лёгким парком отдаёт пашня, босые ноги ласково вязнут в пухлой земле. Жаворонок выпорхнул из борозды и, трепеща крылышками, неспешно потянулся вверх, в наливающееся теплом небо. А в небе застыло глазастое облачко, насквозь пронзённое яркой синью и, казалось, следило за работой пахарей. Весёлые покрики, бесконечный, жирно лоснящийся отвал пласта; баловная силушка в молодых, жадных до работы руках. Земля-то, сердечная, намаялась за войну без мужиков, и радостно млела под плугом, врачевала наскучавшиеся, огрубевшие души и рваные осколочные раны. Меняя лошадей, по два гектара выхаживали за день плугом, не зная усталости. Тёмными вечерами, налитыми прохладными запахами молодой травки, частила в прогулке на пятачке гармонь; в бойком танце плыли ему навстречу горячие Глашкины глаза, и сердце окрылённо взмётывалось, и душа восторженно парила где-то в поднебесье и никак не хотела возвращаться назад…
Так славно, так легко, так зачарованно жилось. Какие крылья были за плечами в ту первую председательскую весну, сколько счастливых желаний и надежд нетерпеливо подрагивало в них! Жизнь была, ломала, укорачивала крылья, и вот уже остались одни жалкие огрызышки, на которых никуда не взлетишь.
Памятно горек был тот тусклый осенний день, когда ходил по дворам одной из своих неперспективных, умирающих деревень, и безуспешно уговаривал старых и малых выйти на копку картошки. Сначала обещал отдать половину накопанного, потом всё. Не откликнулись люди на его слёзную мольбу, не вышли, и двадцати-гектарное поле у самой деревенской околицы ушло под снег. Он был потрясён, подавлен, взбешён непонятным равнодушием селян к гибнущему урожаю, их откровенно-обидчивым отчуждением от родного поля. Тогда что-то с треском сломалось в нём, какая-то враждебная злинка к окружающим, казалось, навечно проросла в нём, и он стал неуважителен к людям. В его голосе появилась категоричность, командная крикливость, и он срывал своё частое раздражение на первом подвернувшемся. Он перестал советоваться с людьми, отдалился от них, и скоро почувствовал, что они работают всё неохотнее и под любыми предлогами стремятся уйти из колхоза.
Как бы дальше пошло — неизвестно, но выручил город. Там вдруг начали безропотно удовлетворять заявки на любое количество рабочих рук. Сколько запросишь — столько и пришлют. Жизнь наступила лёгкая, беспечная. Теперь он знал, что любой урожай будет убран вовремя, пусть из половины, но убран, и можно спокойно спать по ночам, без прежних тревожных дум о «мёртвой» технике и о способах извернуться. Токари, слесари, инженеры, научные работники, педагоги, студенты, школьники и другой городской люд надолго отрывались от своих главных дел и по-дедовски ковырялись в земле, компенсируя численностью неумение и смехотворную производительность ручного труда.
Иногда горожане приходили к нему ругаться по поводу плохих жилищных, культурно-бытовых и рабочих условий. Он, обычно не дослушав их, напористо заявлял: «Не нравится — поезжайте обратно, откуда приехали. Скатертью дорога. А я письмишко на вас накатаю. Бузотёры, мол, они и саботажники…» Угроза эта производила магическое впечатление: сникали люди, усмирялись, терпели покорно все неудобства, зная, что деваться некуда, и за преждевременный отъезд их действительно крепко накажут — кому навесят выговора, а с кого и премии снимут, тринадцатой зарплаты лишат.
Иван Панфилович был уверен в полной своей безнаказанности, и с какой-то злорадной жестокостью селил горожан то в школьные классы, то в захламлённые грязные избушки на бывшем конном дворе, не обеспечивая их ни постелью, ни посудой, ни топливом, ни продуктами. «Солома в омёте, картошка в поле, мясо у кладовщика, хлеб-сахар в магазине, дрова найдёте сами», — бодрой скороговоркой отвечал он на недоумённые вопросы и испарялся, и если удавалось кому поймать его ещё раз и повозмущаться, он с ехидной ухмылкой отрезал: «Не нравится — поезжайте обратно…» Тут он был неуязвим: стоит брякнуть в горком и вместо удравших недовольных завтра пришлют новых и, если надо, вдвое больше.
Заводы, фабрики, учреждения, учебные заведения лихорадило от массовой посылки людей на село. Их руководители из кожи вон лезли, чтобы выполнить установленные планы, а на них ворохом сыпались строгачи с неизменной шаблонной и маловразумительной формулировкой «за необеспечение сельхоз работ». И тщетно было взывать к здравому смыслу и требовать спроса только за своё непосредственное дело.
Иван Панфилович был достаточно умён, чтобы не понимать, что сложившиеся отношения между городом и деревней ненормальны, и иждивенчество это не может долго продолжаться, но его суетно-вялая мысль страшилась заглянуть в завтра, где всё изменится; его вполне устраивало сегодняшнее положение, когда не надо день и ночь колготиться в заботах, проявлять инициативу, идти на мировую с десятками обиженных колхозников, брать на свои плечи весь груз ответственности, от чего он, честно говоря, уже поотвык.
Однажды в каком-то чистом, благородном порыве он начал писать докладную записку в верха, в которой хотел высказать своё мнение и о «шефах», и о многочисленных толкачах, и о том, что город должен давать деревне не эти орды неумелых людей, а прежде всего то, в чём он действительно силён: машины, запчасти, стройматериалы, и, может быть, опытных специалистов — токарей, слесарей, электрогазосварщиков, — чтоб не стояла на приколе дорогая техника, и отпала нужда в непроизводительном ручном труде.
Многое хотелось написать в этой записке Ивану Панфиловичу, сделать выкладки и экономические расчёты; богат был его жизненный и председательский опыт, и, наверное, от этого же опыта он и разорвал своё незаконченное творение и бросил на загнетку, решив, что умные в советах не нуждаются, а дураки им не следуют, и что плетью обуха не перешибёшь. Куда проще было жить со слепой убеждённостью, что сверху всё виднее лучше и там знают, что делают. Во всяком случае, ему от этого пока не плохо…
Цепко ещё жила в деревне сволочная убеждённость: не подмажешь — не подъедешь. Председатель умело поддерживал это заблуждение, и правленцы бездумно поднимали руки, ссужая главу колхоза очередной бесконтрольной тысчонкой рублей на выбивание стройматериалов и запчастей.
Кладовщик грузил в председательский газик тушку поросёнка, кадушки со сливочным маслом и мёдом, мешок-другой яровой блинной муки, — и Иван Панфилович отбывал в город. Здесь он быстренько, с деловитой озабоченностью на лице обосновывал кабинеты областного управления сельского хозяйства и «Сельхозтехник», договаривался с кем надо о поставках планово занаряженных машин, запчастей, удобрений, семян, комбикормов, а потом, плотно набив в магазине объёмистый портфель бутылками с коньяком, ехал за город, к стародавнему знакомцу-леснику.
Чистенький, рубленный из вековых сосновых брёвен, дом уютно стоял на берегу полноводной реки в окружении высоченных заматеревших берёз. Бездетный лесник жил в нём с сухопарой, неопределённого возраста женой. Подкупленные щедрыми подарками и дармовой выпивкой, супруги встречали Зотова как родного, раболепно заискивали и с ног сбивались, всячески угождая ему.
Иногда он жил здесь до недели. Этот тщательно законспирированный дом в немой лесной глуши был ему жизненно необходимо. Здесь он чувствовал себя полновластным хозяином, отдыхал от людей, отходил от душевных неурядиц, сбрасывал с себя поганую тяжесть неуверенности, неподъёмными похмельными утрами находил целительное понимание и угодливую заботливость, а не истеричную ругань, как дома, в ответ на которую тупой бычьей злобой наливается голова, и хочется, зверея, по брёвнышку раскатать своё ненавистное, отравленное многолетним разладом жилище.
Сполна утолив жажду по спиртному, подавив в себе сумятицу и страх, он возвращался в колхоз будто бы помолодевший, по-прежнему шумливо-активный, напористо-суетливый. И мало кому было вдомёк, что под маской преувеличенной бодрости он скрывал свою растерянность и внутреннюю пустоту. А в том, что люди до сих пор не разглядели его пустоты, ему везло, как везёт игроку.
IV
Утро было свежее, ярко-зелёное, бодрящее. Солнце запуталось в лохматине уличных ветел, на дороге поблескивали лужицы. Кручёный ветер ударил из-за угла в лицо, высек слезу.
Первый секретарь райкома партии Антон Фёдорович Истомин неторопливым прогулочным шагом, заложив руки за спину, шёл по пустынному ещё райцентру на работу, глубоко, с удовольствием вдыхал напоенный дождевой прохладой воздух и пытался сосредоточиться на мыслях о сегодняшнем заседании бюро.
Катастрофа с плотиной в колхозе «Рассвет» получила широкую огласку. Зотов оперативно информировал о ней прокурора, райсельхозуправление, райисполком и райком. В своих письмах Зотов лил горячую слезу, может быть, чересчур эмоционально, но в целом довольно убедительно обвинял ПМК в некачественном строительстве и требовал наказать бракоделов. Истомину стало известно и то, что председатель колхоза обзванивал некоторых членов бюро и настойчиво убеждал их в неоспоримой виновности строителей. В обход райкома Зотов сообщил о сносе плотины в обком, и у Истомина был неприятный разговор по телефону. Пришлось, скрепя сердцем, признать, что райком ослабил руководство мелиоративным строительством, не уделял ему должного внимания, захлёстнутый лавиной других неотложных дел, вызванных непогодой. Секретарь обкома посоветовал строго спросить за качество с начальника ПМК.
В информационной торопливости Зотова было что-то нервозное и оттого настораживающее, но Истомин так и не успел вникнуть в это, и сейчас чуточку злился на себя.
Неделю назад он распорядился создать комиссию для расследования причин катастрофы, посчитав, что в технических вопросах специалисты разберутся лучше, а его забота — люди, нравственная атмосфера, окружающая это дело. Но вот проскочила молнией неделя, а у него не хватало времени. Всё реже и реже удаётся дойти до конкретного человека, до его души, мыслей и чувств. Планы и бесчисленные сводки об их выполнении стали какой-то догмой, на глаза материализующейся стенкой, заслоняющей живых людей. День ото дня растёт бумажный поток. Куда от этого деться? Что сегодня важнее: материальные ценности, что создаёт человек, или сам человек? Природа не создала ничего совершеннее человека. Сделала его творцом. Не заземляется ли его одухотворённость в этой непрерывной спешке выполнения всё более напряжённых планов? Вот бы что надо продумать да вынести на пленум. Взорвать технократическое мышление, обратить пристальное внимание на человека, на его мечты, надежды и боли.
Секретарь райкома — это не должность, а призвание, предполагающее высокое горение, всепоглощающую страстную любовь к людям и вечное недовольство собой. Он за всё в районе ответчик, и ему нельзя не иметь предельно объективного мнения.
Второй год он в этом районе, а вот что-то крайне важное упускает в текучке, суетно мельчит, никак не сосредоточится на перспективе.
В сельском хозяйстве один аврал наслаивается на другой. С области продыха не дают. Пора бы, наконец, понять, что административными пинками да директивными колотушками сельское хозяйство не поднять. А нравственные потери — они налицо: люди разучились планово работать, утратили инициативу, веру в себя. Хозяев надо растить, а не послушных исполнителей. Тогда не будут уходить под снег неубранные поля, тогда не будет этой уму непостижимой беспечности, когда ржавеют под открытым небом дефицитные насосы, исходят коррозией брошенные в полях дождевальные агрегаты. Нынче пока не нужно орошение… — и успокоились люди, бросили технику — без загляда вперёд.
Катастрофа такого размера — первая в районе. Да и в области. Случай из ряда вон выходящий, чтобы не обсудить его на бюро. Но что-то уж больно ретиво обложили его со всех сторон, настаивая на созыве бюро. И энергичнее всех Наумов — второй секретарь, правая рука, гневный, но и бездоказательный обличитель бракоделов-строителей, и в силу этого замаскированный защитник Зотова. Не понятна и неопределённа позиция председателя райисполкома, а прокурор напрямую просил санкции на заведение уголовного дела на начальника ПМК. В этой поспешной возне чувствовалась какая-то корысть, было что-то досадное, во что ещё предстояло вникнуть…
В своей многолетней работе с людьми Истомин привык доверяться первому впечатлению, и оно его почти не обманывало. Это было профессиональное чутьё опытного партийного работника — оценивать людей, выявлять их суть за время коротких встреч, чутьё обострённое и выверенное методом многих проб и ошибок.
Первая встреча с Зотовым оставила в нём неприятный осадок. Зотов встретил его тогда в своём просторном кабинете с покровительственной иронией старшего; осадисто влипнув в кресло, вполуприщур смотрел на него этаким умудрённым фертом, не скрывая высокомерной усмешки: ну что ж, мол, поглядим, как ты нами, старыми зубрами, управлять начнёшь…
Истомина долго не покидало ощущение непонятной скрытности, неискренности, недоговорённости председателя колхоза, и он не мог найти этому разгадки. Колхоз-то благополучный. Зотов — крепкий хозяин, опытный и надёжный. Полтора года до пенсии. Истомин изучил районные сводки за последние пять лет, и из них явствовало, что «Рассвет» за это время не продвинулся вперёд ни на птичий шажок. Как застрял на средней, не вызывающей тревог, отметине, так и топчется там. Что это: недальновидное успокоение, бессилие или желание отсидеться в тишке, дотянуть без хлопот до пенсии?
Странные у них сложились отношения, недоверчивые, искусственно бодренькие, хотя внешне всё, наверное, выглядело благополучно. При встречах медное изветренное лицо Зотова струилось приветной улыбочкой, держался он непринуждённо, с шутливой развязностью, покорно соглашался с любыми рекомендациями, но какое-то нагленькое хитрованство нет-нет да проблескивало в его маленьких глазках, заставляя держаться настороже и ждать от него хода троянским конём.
Агроном у Зотова хорош. Лазарев Дмитрий Павлович. Парень — кровь с молоком, грудь рубаху рвёт, а плечи такие, что двухпудовкой перекрестится — не моргнёт. Семь дел в одни руки готов взять. И такой молодой, беспокойной и уверенной силой веет от него, что хочется зажмуриться и счастливо рассмеяться. Похоже, что весь колхозный воз тянет он. А Зотов? Неужели только оболочка, фикция? Неужели сама жизнь безжалостно столкнула его на обочину, как ненужный хлам?..
Русанов. Высокий смугловатый брюнет; лицо волевое, жестоковатое; глаза горячие, пытливые. Что он знает о нём? Встречались-то раза два или три от силы. Но это был именно тот счастливый случай, когда человек понравился Истомину сразу. Бесхитростен, с хорошей деловой хваткой, со взрослой озабоченностью о земле. Интересный собеседник. Прошлым летом Русанов целый день возил его по своим объектам, и изрядно просветил на темы мелиорации. Молод, запальчив, ершист? Так это, пожалуй, достоинства, а не недостатки. Работать с такими интереснее, чем с теми, кого безнадёжно укатали крутые горки. ПМК выполняет план, держит переходящее знамя облмелиорации. Начальник — лауреат премии обкома комсомола, недавно награждён медалью «За преобразование Нечерноземья».
А какой нескрываемой гордостью светилось его лицо, когда он показывал рассветовскую плотину. Она была первой в его жизни, и поэтому гордость его естественна и понятна.
Они стояли на обрывистом береговом откосе, сбоку глухо шумел водосброс, остывающим калёным железом рдел закат, широкой матовой полосой уходило к горизонту искусственное море, и поигрывало там багровыми бликами. Душа наполнялась каким-то радостным, восторженным величием, и не верилось, что это море сотворено человеческими руками.
«Сын-то кем станет? Тоже мелиоратором?» — наверное, не к месту спросил тогда Истомин. Русанов удивлённо оглянулся на него, помедлил, и с отчуждённой грустинкой сказал: «Сыну придётся исправлять то, что я напортачу…» — «Как так?» — «А, так…» — Русанов задумчиво смотрел на малиновый закат.
— Секретари райкома — редкие у нас гости, — продолжал Русанов. Так что я, пожалуй, осмелюсь… Меня всё время что-то смущает в том, что делаю. Дали нам могучую технику, необъятный фронт работ — и кромсай, как можешь, как хочешь. Сверху было авторитетно сказано: комплексный подход, научный. А у нас наукой что-то и не пахнет, всё больше на глотку: давай, давай. Вон мы в «Заветах Ильича» низину осушили, а скважины у ферм пришлось на двадцать метров пробуривать…
Долгий и интересный получился тогда разговор. Скорее даже спор. Русанов нападал, а он защищался. И мало в чём друг друга убедили, расстались разгорячённые, каждый при своём мнении. А ведь прав был Русанов, утверждая, что любое долговременное действие должно быть последовательным, не нарушать аристотелевских законов формальной логики. Иначе мы придём к катастрофе. Без досконального изучения сложнейших экологических связей ничего нельзя трогать в этом удивительно гармоничном и хрупком организме — природе. От болот вроде никакой пользы нет. Более того, они кажутся язвами на теле земли. Но вот осушили болото — и вдруг стали сохнуть ближние речки. Оказывается, их питало болото. Погиб лес вдоль речек… Убытки от осушения в будущем могут во много раз превысить доходы от вновь полученных таким нерациональным способом земель.
Природа — живой организм, единство и взаимосвязи её поразительно точны и выверены тысячелетиями, чувствительны к антропогенному вмешательству. Человек же пока не осознал, что он сам часть этой же природы, притом часть не старшая, далеко не самым лучшим образом приспособленная к жизни на планете. Но он наделён разумом — и потому он повелитель. «Я — человек! Я — царь природы!» — горделиво вещал поэт, и в этом наивном заблуждении была своя сермяжная правда. Человек привык вести себя как потребитель. История знает множество примеров, когда после бездумного вторгательства в природу человек оставлял после себя пустыни. Нам хочется решительных и немедленных перемен на земле. Но прежде нам бы нужно проникнуть в тайны, в бесчисленные связи этого сложного мира — природы. Пока же знание наше недостаточно, торопливость недальновидна. Нам подавай сиюминутную выгоду, а что будет дальше — трын-трава. Наследникам придётся исправлять наше неумное хозяйствование на земле. Динамика развития современной цивилизации такова, что под угрозой нарушения экологический баланс жизни природы. Мы брали и берём у природы в долг, полными горстями. Пора возвращать долги…
Страстные монологи Русанова надолго запали в душу, зарядили её беспокойством, жадным интересом к экологическим проблемам, и Истомин с удовольствием вспоминал по-юношески максималистского начальника ПМК. К сожалению, другие встречи были мельком, мимоходом. Нынче на него уже поступала жалоба. Набухли от дождей речки, подтопили осушительные каналы на малоуклонном поле совхоза «Первомайский» и возвратным подпором заилили, забили песком коллекторы, закрытую дренажную систему. Разобрались. Виновными оказались кабинетные проектировщики, а не ПМК. А поначалу тоже каких только собак не вешали на Русанова. Не виновен он оказался, а исправлять-то ему. Нелёгкая доля врачевателя земли. Ох, нелегка. Ему симпатичен Русанов, никуда от этого не деться. Нет, не даст он его в обиду. Если даже тот в чём-то виноват…
V
— Ну что, товарищи, начнём?..
Истомин обвёл взглядом собравшихся, притушая говорок, и неторопливо, словно рассуждая, продолжил:
— Как вам уже известно, в ночь на двадцать восьмое июня в колхозе «Рассвет» снесло плотину. Не просто прорвало, а именно снесло, не оставив камня на камне. Нанесён ущерб государству в полмиллиона рублей. Двести гектаров долголетнего культурного пастбища остались без орошения. Пока, правда, с неба не плохо льёт. Кому во вред, а «Рассвету», выходит, во благо. Но дожди должны прекратиться. Все мы живём в ожидании этого. Для полива до конца лета потребуется ещё четыреста тысяч кубометров воды. А взять их негде. Значит, это не даст планируемых укосов. Создалась вполне реальная угроза недополучения 10—12 тысяч тонн зелёной массы. В результате один из крупнейших в районе животноводческих комплексов может остаться без кормов…
Истомин снова обвёл медленным взглядом присутствующих, будто пытаясь удостовериться, понимают ли они всю серьёзность создавшегося положения.
— Нужно искать выход. Но прежде нам необходимо проанализировать причины катастрофы, выявить виновных и извлечь урок для того, чтобы подобное где-либо не повторилось. Поэтому мы и пригласили на заседание бюро руководителей хозяйств…
В плотно набитом людьми кабинете стояла напряжённая, словно бы виноватая тишина, и чёткий размеренный голос Истомина падал в эту тишину, вспарывая её и заставлял опускать глаза.
— Для расследования причин катастрофы была создана специальная комиссия во главе с нашим главным мелиоратором товарищем Казаковым. Выводы свои комиссия нам доложит. Но сначала хотелось бы послушать председателя колхоза, начальника ПМК и так далее. Возражений нет?.. Тогда начнём с Ивана Панфиловича…
Зотов, тесно зажатый соседями, попытался было приподняться со стула, но тут же грузно осел и добродушно прогудел:
— А чего тут докладывать? И так всё ясно. Плотины-то нет. Тю-тю. Виновник перед вами. С него и спрашивать надо.
— Спросим, со всех спросим, — с хмуроватой бесстрастностью пообещал Истомин. — Так у вас нечего сказать? — Выждал короткую паузу, нашёл глазами начальника ПМК, и сожалеющим голосом сказал:
— Ну что ж, тогда вам слово, товарищ Русанов.
Сергей второй раз в своей жизни присутствовал на заседании бюро райкома. Два года назад в этом же кабинете его приняли в партию. Были крепкие ободряющие рукопожатия, была распирающая грудь радость, было ощущение силы, способной свернуть горы. И вот пришла пора отвечать. Отвечать перед лицом старших товарищей по партии. Сергей достаточно хорошо знал мощную двигательную силу бюро райкома партии. Здесь была высшая мудрость, высшая власть и высшая справедливость. И Сергей, веря в эту справедливость, подавляя волнение встал со стула и заговорил, стараясь не смешаться, не сбиться с делового тона под десятками прожигающих насквозь глаз.
— Мне бы хотелось напомнить сегодня предысторию рассветовской плотины. Когда в районе началось мелиоративное строительство Иван Панфилович Зотов не проявлял к нему ни малейшего интереса. Более того, он считал его пустым делом. «Был бы дождь да гром — не нужен агроном», — это была любимая присказка Ивана Панфиловича. Но когда в колхозе «За коммунизм» получили с поливаемого поля по восемьдесят кормовых единиц с гектара, когда строительство пастбища с лихвой окупилось в первый же год, Зотов засуетился. Как же, соседи его обошли! А Зотов в пристяжных ходить не привык. Он проявил удивительную энергию и выбил себе плотину. Но на этом его пыл и иссяк. На строительстве не показывался, рабочей силой не помогал. Приедешь к нему — разохается, разжалобится, так и уезжаешь ни с чем…
Сергей уже вполне освоился на бюро, видя внимательные заинтересованные глаза; предательское волнение исчезло, голос был крепок и звонок.
— Мы работали в три смены. Мы героями себя чувствовали. Мы не просто плотину — мы ландшафт строили, землю родную украшали. Я со всей ответственностью заявляю, что плотина была построена качественно. Она прекрасно выдержала два весенних паводка. Автоматичность водосброса и заданность уровня водохранилища не создавали угрозы плотине даже в условиях ливневых дождей. Уход карпового пруда создал экстремальную нагрузку, но и в этом случае плотина должна была выстоять. Запас прочности достаточен… Мы с главным инженером не поймём причины катастрофы. Я ещё прошлым летом указывал Зотову на необходимость постоянного контроля водохранилища, но он…
— Вот! — раздражённо прервал его Зотов, явно апеллируя к соседям. — Он мне указывал! Указчик нашёлся. Молод ещё указывать-то. Карповый пруд тоже ты строил, главным надсмотрщиком был. А где он?
— Карповый пруд строил колхоз. Я же только консультировал, — ничуть не смутившись ровным твёрдым голосом продолжал Сергей. — Я говорил председателю колхоза: положите в насыпь парочку труб, сделайте водосброс. Отмахнулся от меня председатель, как от надоедливой мухи, нет, говорит, у меня лишних труб. Куда вы их берегли, Иван Панфилович? Трубы же до сих пор за комплексом валяются. Пожадничали, запечатали овраг наглухо. Проявлено элементарное недомыслие и техническая безграмотность…
Глаза у Зотова гневно расширились, лохматые брови извилисто дёрнулись вверх.
— Но, ты! Выбирай выражения! — зло выкрикнул он.
Истомин постучал карандашом по графину: сказал сухо, отрывисто, строго:
— Товарищ Зотов, я призываю вас к сдержанности. Продолжайте, товарищ Русанов.
— Председателю колхоза «Рассвет» во что бы то ни стало хочется обвинить строителей. Но колхоз был обязан сам осуществлять уход и ремонт водохранилища. Ни одно из этих требований не выполнялось. Где в «Рассвете» гидротехник? Нет такого. Где агроном-мелиоратор? Тоже нет. Беспризорной оказалась плотина…
— Ты мне эти штучки брось! — снова запальчиво взревел Зотов. Был там у меня человек. Специальным приказом назначил ответственным за плотину…
— Был. Что правда, то правда, — спокойно подтвердил Сергей. — Пётр Скулкин был. Беспробудный пьяница, бывший тракторист. Прав лишили, так Зотов и приткнул его на плотину. Ответственным. А Скулкин во время катастрофы вдрызг пьяный валялся. Племянница школу окончила, так он аттестат её обмывал…
Дружный хохот мгновенно разрядил напряжённую обстановку, люди оживлённо зашевелились. Сергей ловил доброжелательные взгляды и, приободрённый ими, загорячился:
— Это что же получается, товарищи? Чуть что — виноваты строители. А землепользователи кругом не причём. Пора кончать с этими иждивенческими настроениями. Плотины-то строим за счёт государства. Колхозам они даром достаются — нате, пользуйтесь щедростью. А надо бы за счёт колхоза строить. Вложат свои деньги — ответственность появится, думать начнут, как вложенные средства сохранить и преумножить…
— Ты давай, Русанов, эти свои прожекты оставь, — перебил Сергея начальник райсельхозуправления Афанасьев. — Вверху этот вопрос решается. Ты нам свою вину признавай.
Афанасьев имел твёрдое мнение о случившемся. Кто бы там ни был виноват в сносе плотины, а нужно обвинить ПМК. Колхоз-то свой, Зотов — давнишний хлебосольный дружок. А ПМК чужая, облмелиорации. Начальник зелен, и ничего не стоит его прижать, заставить возместить убытки. Афанасьеву казалось, что ради блага района можно незаметно поступиться и истиной, и он настойчиво повторил:
— Ты нам свою вину признавай!
— Не знаю я за собой вины, — с упрямством школьника ответил Сергей.
— Ишь ты, не знает он вины, — возмущённо профальцетил Зотов. — А чем мне двести гектар поливать? Чем мне восемьсот голов прокормить? Может, подскажешь?
— Подскажу, — тихо и отчётливо произнёс Сергей, чувствуя, как горячеет лицо. — Хозяином надо быть на земле, а не иждивенцем…
— Мальчишка! Молокосос! — багровея, взорвался Зотов. — Это мне, ветерану колхозного строительства?!
Истомин энергично постучал по графину; тяжёлым, каменным взглядом посмотрел на Зотова, и тот поперхнулся на слове и обиженно отвернулся.
«Боец!» — довольно подумал секретарь райкома про Русанова и невольно сравнил его с тихим, меланхоличным председателем райисполкома Егоровым. «Вот мне бы такого работника», — шевельнулась неожиданная мысль, но он тут же погасил её. Нет, в роли начальника ПМК Русанов пока нужнее.
— Иван Панфилович, акт приёмки плотины в эксплуатацию вы подписывали?
— Подписывал, — неуверенно отозвался Зотов, явно не понимая, куда клонит Истомин.
— Значит, были согласны, что плотина построена на совесть?
— Разберёшь у них. Так замажут недоделки, что днём с фонарём не обнаружишь. Русанов мне откосы кустарником не укрепил…
— А сами не могли? Плотина-то наша.
— Так обязан же он…
— Ясно, — прихлопнул по столу ладонью Истомин. — Товарищ Казаков, вам слово.
Поднялся невысокий худощавый юноша, прошёл от стены к столу, вклинился папкой на уголок и, склонив кудрявую голову, начал раскладывать бумаги. Наконец, вскинул голову и заговорил:
— В результате тщательного обследования разрушения, инженерных расчётов и опросов колхозников комиссия выявила следующее: председатель колхоза «Рассвет» товарищ Зотов, обеспокоясь засушливым началом лета, приказал нарастить затворы, что превратило щитовую плотину в глухую. Такой вариант предусматривался техническими условиями, колхозу были приданы дополнительные затворы, чтобы и в засуху можно было накопить достаточное для полива количество воды. Непредвиденными оказались зачастившие позднее ливневые дожди и смыв карпового пруда в верховьях водохранилища, в результате чего разность уровней в верхнем и нижнем бьефах создала нагрузку гидростатического давления, превышающую допустимую более чем в два раза. Отметка расчётного подпорного уровня была превышена почти в три метра. Началась интенсивная фильтрация воды в берега, в обход плотины. И, разумеется, через основание. Проницаемый грунт медленно, но неотвратимо размывало. Поток, всё увеличиваясь, разворотил защитные береговые плиты, вымыл грунт из-под береговых устоев, произошло их сползание — и плотина рухнула…
В напряжённой тишине было слышно лишь недовольное сопение Зотова. Каждый из присутствующих, казалось, старательно осмысливал услышанное.
— Степень виновности колхоза? — спросил Истомин.
— Катастрофы бы не произошло, если бы вовремя был открыт водосброс, если бы за гидрорежимом водохранилища велось постоянное наблюдение. Но как мы уже слышали, в колхозе безответственно относились к эксплуатации водохранилища…
— Значит, виноват колхоз?
— Да, только он, — твёрдо ответил Казаков, глядя Истомину в глаза.
— Ну, а Русанов-то в чём-нибудь виноват?
— Непосредственной вины ПМК комиссия не обнаружила…
— Вот! Не обнаружила. Посылай таких! — Зотов сидел как на иголках, на мясистом лице его выдавились капельки пота, он раздражённо дёргал удавно жёгший шею галстук, чувствуя, что тучи над его головой сгущаются. Главный мелиоратор не удостоил вниманием его негодующую реплику и продолжил:
— Возможно, недостаточно качественно было произведено управление донного основания перед плотиной. Но это лишь предположение: зато просчёты проекта очевидны. На плотине не предусматривалось стационарных подъёмников затворов. Из-за дефицита металлических плит затворы были установлены железобетонные. Но всё это не явилось бы причиной катастрофы, если бы в колхозе была проявлена оперативность в устранении неуправляемости водосброса…
Сергей радостно слушал главного мелиоратора, проникаясь к нему огромным уважением за объективность и неуступчивость. Он плохо знал этого парня, до недавнего времени работавшего секретарём райкома комсомола. Вечно озабоченный, малоразговорчивый, он колесил на попутках по району, и Сергей не раз выручал его транспортом, в душе возмущаясь равнодушием кого-то свыше: «Это надо же: главному мелиоратору района машина не положена! Это какой же умник додумался? У него же десятки объектов. Как успеет?..»
Сергей слышал, что причины катастрофы выясняет специальная комиссия. Но встретиться с ней не удалось. Случилась очередная запарка, он уехал на дальний объект и весь ушёл в работу. Ему передавали, что его настойчиво разыскивает по телефону заместитель начальника областного объединения, но и с ним он не удосужился переговорить, отдаляя малоприятные расспросы и, возможно, накачку. «А-а, семь бед — один ответ», — с напускной весёлостью думал он, и ночевал с рабочими в холодном вагончике, устало проваливаясь в глухой, обморочный сон…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
