
Бесплатный фрагмент - Бездна

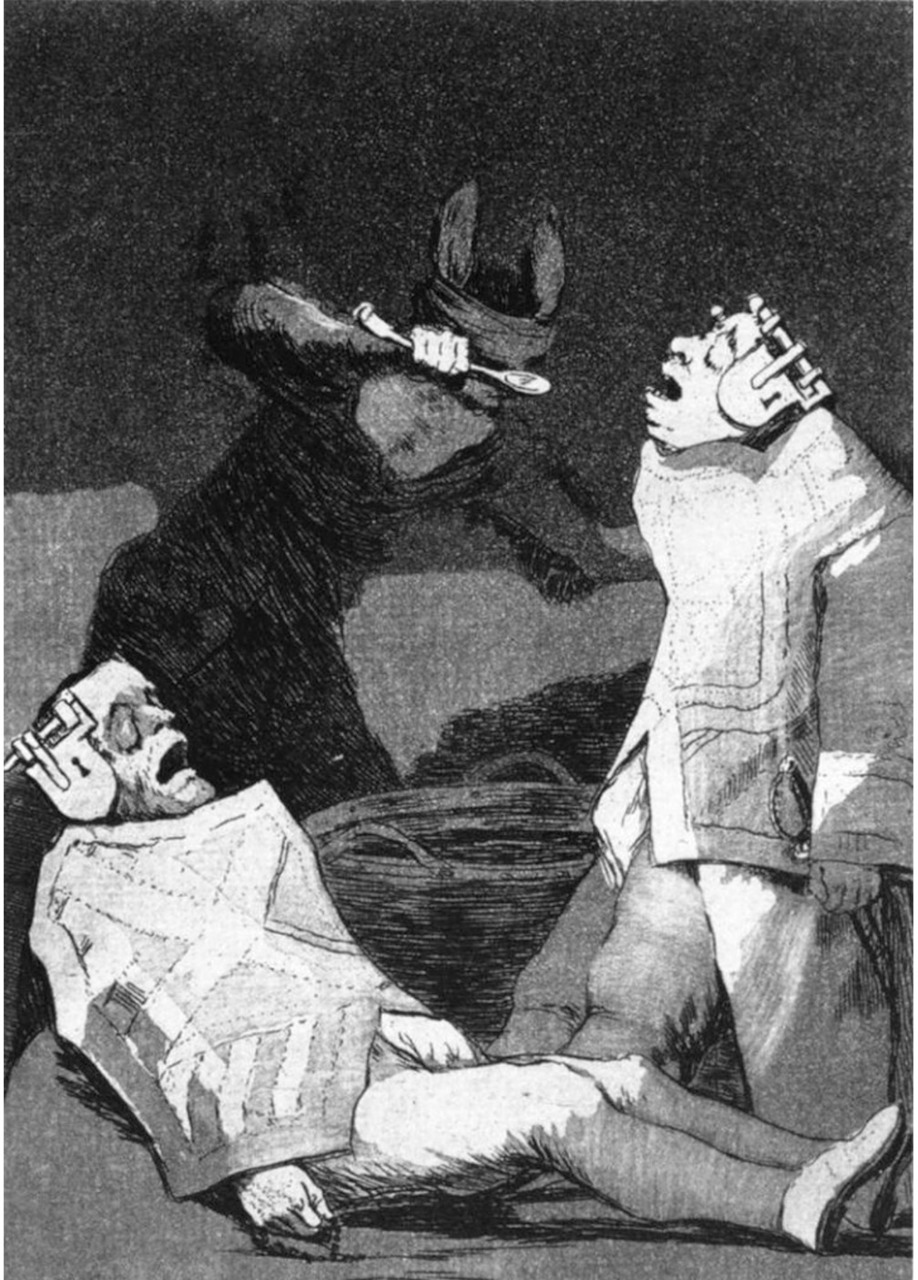
Сурки. Из серии «Капричос». 1797–1798.
«Тот, кто ничего не слышит и ничего не знает, и ничего не делает, принадлежит к огромному семейству сурков, кото- рые никогда и ни на что не годились».
Франсиско Гойя
Идя к истине, поклонись правде.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящую книгу включён ряд статей, которые по ряду причин не были опубликованы. А те, что были, — лишь благодаря мужеству Яны Жемойтелите в бытность её главным редактором журнала «Север». Навсегда останусь благодарным Яне — принципиальному и весьма одарённому прозаику — за профессионализм и уважение к авторскому тексту.
Помимо политического анализа социальных проблем и общественных отношений, внутренних связей Страны и государства, я рассматриваю причины падения русской языковой культуры и культуры как таковой. Пойдёт речь и о закрепившейся в России тяге ко всему «модному» и стремлению «бежать впереди лошади», что при падении общей культуры в короткой исторической перспективе может принять особенно неприглядные формы.
В это же «авторское русло» вливаются и повести. Ещё и потому, что в той или иной мере они носят автобиографический характер. К примеру, в рассказах «День Победы» и «Бездна» я порой буквально повествую о жизни моих близких, наиболее печальные страницы которой сплетены с бытием Страны. В то же время всё частное и личное я отодвигаю в сторону, когда касаюсь вопросов и обстоятельств, связанных с историческими бедами России.
Хочется надеяться, что книга пробудит интерес у читателя к рассматриваемой тематике.
Для того чтобы авторская мысль и отношение к предмету анализа были более ясными, я, как и в предыдущих своих книгах, прибегаю к акцентирующей мысль «смысловой графике».
Вот, пожалуй, и всё. Об остальном скажет текст.
Виктор Сиротин
14 августа 2019 г.
ЯЗЫК КАК ЦИВИЗИЗАЦИЯ ДУШИ
Пошлость — одинакова в грязноватой и «демократичной» пивной и в интеллектуальном салоне.
Георгий Свиридов
I
Полагаю, нет надобности специально и подробно излагать хорошо известное. Убеждать в том, что цивилизация и культура не равнозначны и не равноценны. Поэтому остановимся на этом лишь кратко. Если упростить разницу и выявить смысл, сжав его до условной схемы, то цивилизация характеризуется возникновением социальной сферы и ростом материально-технических и гуманитарных достижений, скреплённых правилами и законами. То есть цивилизация представляет собой внешний план бытия или форму человеческого содружества.
Культуру определяет человеческая деятельность, выраженная, прежде всего, в познании и творчестве. Стало быть, тяготеющая к раскрытию возможностей общества и личности через расширение диапазона внутренних свойств человека, она характеризуется ясностью этических и эстетически выверенных категорий. Иначе говоря, цивилизация тяготеет к внешним формам, а культура — к внутренним.
Между тем обе они, нуждаясь друг в друге, связаны между собой незримыми нитями.
Культура вне цивилизационных структур не способна полноценно реализовать себя, в то время как цивилизация без серьёзных культурных взаимосвязей обречена на стагнацию. Умалённая в по следних цивилизация разрушается, ибо общество делается неполно ценным, а человек — безличным.
Но и культура вне «вещей» цивилизации являет собой подчас унизительное и жалкое зрелище.
Обо всём этом можно было бы не говорить, если б не имеющаяся путаница в соотношениях заявленных нами ценностных категорий.
Запад, в вещно-ценностной ипостаси достигнув высокого уровня материального бытия, во внутренних сущностях скатывается к нищете, понятно, что не в библейском смысле этого слова. Достигнув высокого технического прогресса, западная цивилизация за тот же период понесла тяжёлый урон в своём духовном развитии. Причём в многоликой массе своей не осознавая этого. Пожалуй, не лучше обстоят дела и в России. Ибо замороченная «вещными» ценностями Запада, она в погоне за ними некогда соскользнула со своего исторического пути, в результате чего оказалась на обочине той цивилизации, за которой тщетно гналась на протяжении столетий.
Дабы не заблудиться в дебрях «вещей» и весьма не просто складывающейся духовности (которая к тому же бывает ещё и «чёрной»), ограничусь здесь — да простят меня прокураторы цивилизации! — тем, что определяет основу национальной и мировой культуры.
Поскольку, по моему глубокому убеждению, путь к мировой культуре прокладывается через «тернии» национальной, поставлю вопрос именно в этой плоскости.
Как обстоят дела в России в сфере национальной культуры?
За недостаточностью места и неохватностью темы ограничусь здесь свидетельствами тех, кто ярко обозначил себя и глубоко врос в русскую культуру, а потому имеет моральное право на своё авторитетное суждение.
Выдающийся композитор Г. В. Свиридов в последние годы жизни писал в своём дневнике: «В наше время Россия духовно опускается ещё на один порог преисподней»*. [1]
Там же с надеждой и требованием: «Если русской культуре суждено существовать, она должна возвратиться к истоку нравственности и добра». И опять: «Я печально смотрю на будущее, — имея в виду „нерусский взгляд на русское“, — борьба с национальной культурой ведётся жестокая…».
И в самом деле, недавних истуканов тоталитаризма сменили более расторопные и куда более лживые идолы либерального толка, в результате чего в народе подорваны основы, крепящие дух, мораль и нравственность. Стираются традиции, нивелируется своеобразие русской и других национальных культур. Отсюда далёкий от настоящей литературы жаргон жаждущих славы и почестей картонных борцов, «эстрадных поэтов» и громкоголосых песнопевцев «из тех чинов, что дрались из-за блинов». Да и откуда другим-то быть? «Меж слепых и кривой в чести», а «в уборе и пень хорош» будет.
Посредством «пней», Швондеров от литературы и лающих по их указке Шариковых русский язык превратился, по словам Свиридова, в «московско-арбатский» жаргон, умело увиливающий от достоинств литературной речи. Но, видя «новых Бурлюков», к которым так и льнут ряженные по-новому комики, хохмачи и «эстрадные пни», композитор настаивал на преемственности во зле: «Ошибочно… думать, что Бурлюки исчезли из нашей жизни. Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности».
Последнее замечание многого стоит!
Хилые литераторы, существуя в затхлых от духовного разложения тусовках, могли плодить лишь сорную литературу и, конечно же, обречены на забвение, «ибо нет Гения Беспочвенного». Это утверждает мировое творчество и блистательные произведения самого композитора. Но не мог он, выронивший своё мужественное перо, если не «один, как прежде», то в малом числе, успешно бороться с хорошо налаженной кампанией, направленной против России и превращённой в индустрию по обессмысливанию народа.
«Интернационально-ассмилянтскому ХАМУ с его „лагерным ивритом“ можно и нужно противопоставить национальное единство русского народа», — чётко определил положение дел в Стране писатель и политический мыслитель Александр Кротов. Говоря о тотальном развращении настоящего и подрастающего поколения, он настаивал: «Нельзя отдавать ХАМУ на воспитание собственных детей». [2]
Правильно.
Не нужно отдавать, как и самим идти к ним в пасынки… Однако последние сто лет не прекращающееся засорение русской культуры «Бурлюками» и хамами (без кавычек) происходит потому, что и устно-телевизионное скоморошье творчество, и печать находятся в руках тех же «нянек» и самозваных «представителей культуры народа», которые воспринимают его бытие «не как нацию, не как народ, — пишет Свиридов, — а как литературу, как искусство, как историю, как государство — опосредованно, книжно».
Следует со всей серьёзностью отнестись к мысли великого композитора: «Лозунг «Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности» совсем не устарел, как хотят обмануть нас адепты этого лозунга. Он жив, этот лозунг, он руководство к действию и призыв к нему! Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его извратить, оболгать, как это делает, например, литератор Ш <кловский>. [3]

Эти люди ведут себя в России как в завоёванной стране, распоряжаясь нашим национальным достоянием как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности»! «Для меня совершенно неважно, — пишет Свиридов, — кто он сам по национальной принадлежности: русский, еврей, папуас или неандерталец. Он враг русской культуры, достояния всех народов мира, он враг всех народов»! С ним полностью солидарен А. А. Кротов: «Помимо русской мысли, гениальной русской литературы, великой русской культуры, русской доблести и славы, русской Державы и русских границ, существует и развращающая русская мысль, и лживая русскоязычная культура, не имеющие корней в русском Отечестве, но, тем не менее, претендующие на лидерство и власть, на приоритет во всех сферах жизни ещё со времён интернациональной революции в России» (Выделено мной. — В. С.).
И впрямь, в русскоязычной окололитературе — по форме весьма претенциозной, а по сути беспочвенной — пустот и заковыристых «мыслей» тем больше, чем чаще авторы «мыслят» о русских классиках.
Так, в послеоктябрьские времена на «корабле Шкловского» одним из принципиальных его последователей был «корабельный юнга» и чистильщик сапог большевистских «штурманов» литератор Б. М. Эйхенбаум. Как филолог, он вряд ли заслуживает специального внимания, но как явление, безусловно, стоит того. Остановимся на нём подробнее.
Далёкий от понимания принципов художественного творчества, «палубный интернационалист» по призванию и «текстовик» по предпочтению претендовал на знатока тех авторов, в творчестве которых особенно плохо разбирался. Поэтому более всего досталось от него — чудны дела «текстовиков»! — Михаилу Лермонтову.
Казалось бы, уж на что велик поэт! Ан нет! Если мы вчитаемся в «текстоведение от Эйхенбаума», то убедимся, что наш герой, пожалуй, повеличавее будет…
Судите сами: грандиозный по замыслу и художественной форме, поразительный по философской глубине и красочности лермонтовский «Демон», по Эйхенбауму, — лишь «типичная литературная олеография („калька“ с чужих произведений. — В. С.)». Кого бы вы думали? Ныне забытых поэтов — И. И. Козлова, А. Т. Подолинского и других, ряд которых, очевидно, сжалившись над Лермонтовым, начётчик наш дополнил великими именами Пушкина и Байрона.
В «Смерти поэта» Эйхенбаум не находит ничего, кроме эмоций: «Стихотворение… действует общей силой эмоциональной выразительности, а не смысловыми «образами». Образы и речения сами по себе не представляют собой ничего особенно оригинального или нового»… То есть каждый раз выдавай ему эксклюзив, который (так хочет Эйхенбаум) опровергал бы каждое предыдущее — «отжившее», «старое»… классическое… Поправ «Смерть…», критик, в собственных глазах вырастая до небес, тем более не щадит «Мцыри». Мощная по духу, величию идеи и накалу творчества, свежести и силы образов поэма «не является новым жанром и не открывает нового пути», макнув перо в сапожную ваксу, пишет критик. Потому «Мцыри» в покрытых бельмами очах Эйхенбаума есть не столь уж и примечательное «завершение тех опытов эмоционально-монологической поэмы, которые начаты были Лермонтовым ещё в юности»… Мало того, «Лермонтов не создаёт нового материала, а пользуется готовым» (?!), усложняя его «обычными лирическими формами и сентенциями (пуэнтирован)», гневается критик на поэта, как раз обогатившего литературу новыми формами и техникой стихосложения…

Впрочем, книгочей по пристрастию и литературовед по призванию иногда в своих опусах нисходит до похвалы великому поэту. Так, полистав один из шедевров мировой прозы — «Тамань», Эйхенбаум роняет на её счёт скупую «похвалу»: «Лермонтов показал себя здесь мастером малой формы — недаром в кругу своих товарищей он славился как рассказчик анекдотов»… Закусив удила, и тут календарный юбиляр и оценщик «анекдотов» лихо несётся по кочкам своей ограниченности. Ни разу не споткнувшись на них, «крупнейший советский литературовед» [4] не унимается, пришпоривая себя вороньими перьями, выдаёт новое откровение: «Никто, кажется, из русских поэтов не пародировался так охотно, как Лермонтов, — и это совершен- но понятно» (?!).
Что тут скажешь… Всякий литературоведческий анализ бессмыслен, если он не освящён совестью!
Храбро «расправившись» с Лермонтовым и попутно вменив в вину анекдотичность стиля ещё и Чехову, «текстовик» наш не унимается. Прибегнув к до смешного частому и до неприличия пространному цитированию классиков, он хитро предоставляет им самим выяснять между собой отношения.
Почти всегда не к месту и никогда к смыслу, он Львом Толстым и Сенковским проходится по бедному Пушкину с тем, чтобы самого Толстого забить цитатами из Прудона, де-Местра и Бокля. Распустив павлиньи перья из цитат, от которых у читателя рябит в глазах, Эйхенбаум, почистив пёрышки, в Лескова выстреливает мыслями А. Скабичевского и М. Меньшикова. Силком втягивая писателей в свои интрижки, бойкий литератор даже и не пытается выглядеть прилично.
Что делать?! Не в состоянии постигнуть глубину текстов, не умея оценить и не особенно ощущая силу и богатство Слова, критику только и остаётся, что цитатами других заполнять пустоты своего мышления. Но художественное Слово существует независимо от умственных возможностей исследователя. Потому фрагменты эти, вопреки обрезаниям и препарированиям, продолжая содержать в себе яркие мысли и образы, подобно жерновам, без труда перетирают посреднические комментарии критика — жиденькие и никчёмные.
Относительно отсутствия в творчестве поэта «новых путей» и использования им «готовых материалов» скажем, что Эйхенбаум далёк был от творчества как такового, а то бы ведал, что процесс созидания неразрывно связан со всем предшествующим опытом — мировым, если художник гений, или региональным, если не является им. Поэтому тем, кто хочет выделиться, ничего не остаётся, кроме как «скакать» зигзагами, совершенствоваться в зауми или блудить со «смыслами», что, не имея никакого отношения к Лермонтову, целиком и полностью относится к Эйхенбауму.
И всё же, закрыв глаза на явное злоупотребление чужими текстами, Эйхенбаума можно было бы назвать сносным текстологом, если б он знал, для чего прибегает к этим самым текстам… Но, упиваясь собой, Эйхенбаум только себя и видит, а потому всякий раз скатывается в своих опусах к некому суррогату, который можно назвать литературоведением для себя. Это когда, начиная с писателя, продолжаешь о себе — драгоценном, текстологически эрудированном и в этом смысле даже более ценном, нежели исследуемый автор… Таким образом, того, может, и не желая, Эйхенбаум стал у истоков «течения», которое, будем честны, надолго пережило его самого.
Имитируя анализ творчества Достоевского и Толстого, этим же незадолго до Эйхенбаума и Ко. грешил другой «писатель о русской литературе» — Лев Шестов, которого Толстой, разглядев в нём бытовое лакейство, с иронией назвал «парикмахером». Таковые оценки, заметим, ничуть не смущали шествующих в Россию «парикмахеров», ряды которых полнили портные, фармацевты и прочие.
Выходцы из малороссийских и бывших польских местечек, как только освоили разговорный русский язык и научились писать «на ём», отложили в сторону «химию», ножницы и портняжное шило и, выплюнув изо рта гвоздики, взялись толковать русскую культуру, загружая не особенно понятный им русский язык заглавными сокращениями, жаргоном и прочими «терминами». Таким образом, «партизаны от литературы», освоив новое ремесло, ловко «маскировались всегда либо под русских „классиков“, либо под русских правдолюбцев, чтобы, получив у русских простаков „признание и авторитет“ (навязанные нередко из-за рубежа), держать самих русских в слепоте и неволе, укрепляя инородчество повсюду и паразитируя на русском народном теле „ввиду уже своего особого положения“», — писал в «Русской смуте» А. Кротов.
Казалось бы, зачем? К чему поганить язык великого народа, и без того неоднократно оболганного в пристрастных «исследованиях»?
Затем, видимо, что несёт он в себе тот образ, который источает свет души человеческой; хоть и надломленный, но исходящий из уникального состояния духа и честного сердца. Именно состояние души относит русский народ к числу тех, кто ещё в состоянии вдохнуть жизнь в изнемогающее от гари и пыли урбанизированное человечество. Переделывая на свой лад русских классиков, именно эту духовную свечу норовят погасить поколения «парикмахеров» и эстрадных хохмачей. Не ослабев в желании не мытьём, так катаньем избавиться от не своих духовных ценностей, хохмачи и циники объединёнными усилиями умело переливают в своих сочинениях из пустого в порожнее, простое представляют сложным, а сложное совершенно непонятным. Таким образом, сорные «филологии» вырождались в кладбищенские растения, и духом и цветом дурманящие сознание людей.
Но только ли в «науке о литературе» дела обстоят столь плачевно? Увы, не только. Мёртвой хваткой впились в культуру России невзлюбившие её ерофеев войновичи, познерствующие медиамагнаты и эстрадные «фольклористы на час». Последних повсеместно сменяют всё новые и новые персонажи «истории и культуры», в число которых вошли производители серийных монументов.
К примеру, на протяжении многих лет, пользуясь невежеством «городских голов», в Златоглавой победно шествуют монстры «вечного Зураба», который, словно издеваясь над обществом, «творит» в наименее знакомой для себя ипостаси.
Казалось, не выдерживая масштаба и не соизмеряясь с пространством, гигантские колоды должны пасть под давлением общественности. Ан, нет! И с благословения «голов», «отцов русской демократии» и министров попранной культуры, церетелизация Страны продолжается, бездарности резвятся на отведённых им площадях, а подлинные таланты гниют в подвалах. И не мудрено: веяниям нового времени соответствуют его кумиры. Вдохновляемая лукавыми диссидентами и сутулыми интеллектуалами именно эта публика охотно рядится в реквизиты романтических страдальцев, «героев» и «гениев».
Нечто подобное происходит и в поэзии. Выделив из «толпы» поэтов Иосифа Бродского, увидим, что с его амбициями может спорить лишь его неприязнь к России — и к той, «которую мы потеряли» и «которая его посадила», и к неповинной в том исторической России.
Выдающийся поэт Юрий Кузнецов очень точно охарактеризовал утерявшего внутренние стимулы русскоязычного «второго Пушкина»: «Поэзия Бродского — имитация, его надо переводить на русский язык, русское мышление».
Но почему? В чём проблема?
В том, что перевести его стихотворения на русский язык, как и на любой другой, очень даже сложно, ибо не перекликается такого рода поэзия ни с душой народа, ни с его культурой, ни с содержанием. Книжная душа Бродского способна «переводить» лишь умозрения, да и то сухим языком «технической» поэзии. Не имея тяги к народному, и по-настоящему не предрасположенный к классическому наследию, не понимая своеобразия национальной культуры, кроме как известной, наверное, только ему, Бродский не мог ценить и традиции. При духовной всеядности (т. е. бездуховном приятии всякой формы «слова») автор, или, как в данном случае, «человек Вселенной», может существовать лишь в лысом поле псевдокультуры, выраженной здесь в «голом (опять же — техническом) тексте» стихотворений.
Отчего же так?
На это даёт ответ сам Бродский, в Нобелевской речи не преминувший заявить о своём, разрушающем цельность всякого языка, «творческом кредо». В соответствии с ним — «кредо Бродского», — «не язык — инструмент поэта, а, напротив, поэт есть инструмент языка». Иначе говоря — не архитектор строит здание, а камни строят архитектора! Очевидно, нобелевский лауреат полагал, что «камни» музы важнее замысла, в его поэзии часто скачущего по поверхности темы или вовсе отсутствующего.
Итак, проблема обозначена.
Что на этот счёт говорят учёные-языковеды?
«Язык является одновременно материалом, орудием и произведением литературного творчества. Из этого следует, что он, во всяком случае, представляет собой нечто большее, чем простой „слой“ в литературном произведении», [5] — утверждает австрийский учёный Макс Верли, специально оговаривая, что языкознание и литературоведение взаимозависимы, но не идентичны.
В. Шкловский — здесь стоит отдать ему, отрёкшемуся от «опоязовщины», должное! — прямо писал о смешении «инструментов языка»: «Многие литературоведческие школы, сближающие себя с языкознанием, считают искусство явлением языка, понимая язык как систему, заменяющую самое действительность». И далее — с явным неудовольствием: «Мы часто спорим о словах, подставляя слова вместо предметов и пряча в словесных обобщениях те противоречия действительности, которые должны были бы определять существенные качества предмета».
А вот рассуждения Шкловского не только по теме, но и по существу языкового творчества:
«Если литература — явление языка, то, значит, мы познаем не мир, а словесные отношения и сама история человечества — смена разных отношений к словам.
Если же мы познаем через литературу действительность, если она — средство для познания ее сущности, то, конечно, познание это тоже совершается через сочетание слов, но слова — способ изобразить событие, показать поведение людей».
Хорошее и очень точное определение!
Далее Шкловский пишет о том, что его почитатель Бродский просто обязан был знать: «Не язык владеет человеком — человек владеет языком, привлекает разные стороны его: иначе разговаривает на улице, иначе — дома, иначе поёт и иначе мечтает». [6]
Итак, с этим вопросом вроде бы ясно. Но возникает следующий.
Только ли живая, а значит — совестливая и созидательная — мысль отсутствует у Бродского?
Г. Свиридов даёт весьма точное определение характеру его поэзии.
По неприязни к Отечеству и духовной затхлости относя Бродского к «скорпионам» предшествующей революционно-реформаторской поэзии, композитор живыми и точными штрихами передаёт суть будущего лауреата: «У Бродского нет совсем свежести. Всё залапанное, затроганное чужими руками, комиссионный магазин. „Качественные“, но ношеные вещи, ношеное бельё, украшения с запахом чужой плоти, чужого тела, чужого пота. Нечистота во всём. Что-то нечистое, уже бывшее в употреблении — всегда! Нет никакой свежести в языке, и это даже не язык, а всегда жаргон — местечковый, околонаучный, подмосковно-дачный».
И в самом деле: полные прямых или косвенных компиляций изначально старческие стихи, отдающие болями в пояснице и мигренью в голове автора, говорят ещё и о каком-то общем несварении организма.
Поскольку многие из них не обладают внутренней целостностью за отсутствием серьёзных или выстраданных идей (искусственно придуманные или раздутые до размеров «земного шара» в расчёт не берутся), зачастую их можно завершить любой строчкой из середины, с которой можно и начинать их читать.
О «залапанности» поэзии Бродского Свиридов говорит в связи с общим упадком религиозного сознания, к чему «инструмент языка» непосредственно приложил своё перо. Это позволяет считать стихотворчество «нового Иакова» «идеологическим элементом в борьбе против христианской культуры, которая подлежит уничтожению». А то, что в тексте Свиридова это жёсткое замечание делается в связи с усиленно пропагандируемой антимузыкой, нисколько не снижает уместности определения применительно к претенциозной и бодливой, но пластически незадачливой поэзии Бродского. Ведь какие формы ни изобретай, как ни разбрасывай слова по «пьяным» строчкам, но поэзия, отвечая поющей или страдающей душе, в недрах своих является всё же музыкой в Слове.
И тем не менее у поэта есть вполне добротные вещи, существующие как бы вне связи с личностью автора. Это — «Элегия» (1968), «Осенний крик ястреба» (1975), «Пятая годовщина» (1977), «Песчаные холмы, поросшие сосной…» (1978), «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980). Пожалуй, ещё «Аллея со статуями из затвердевшей грязи…», «Только пепел знает, что значит сгореть дотла» (1985), «Рождественская звезда» (1987). Можно найти у Бродского и прекрасные афоризмы: «Обычно тот, кто плюёт на Бога/Плюёт сначала на человека». В справедливости этого убеждают воспоминания Л. Штёрн.
Любопытно, что в юные годы Бродский, имея некоторый опыт стихосложения, более зрело смотрел на вещи. Так, своим «Неотправленным письмом» (1962–1963 гг.) как бы участвуя в развернувшихся тогда дискуссиях о реформе правописания в русском языке, он писал: «… наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется…». И завершает письмо совершенно справедливым замечанием: «Язык — это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни». Но вскоре последовавший арест, суд и годовая ссылка на работы в Архангельскую область, видимо, усугубили разложение характера стихотворца. Хотя именно суд (словно в угоду возопившим на весь мир «голосам», «друзьям» и проч.) нежными женскими руками судьи Е. Савельевой «сделал биографию» Бродскому, сплетя поэту нобелевский венок. Судья же невольно и водрузила его на благородно полысевшую голову лауреата. Если б не «образцово-показательный» суд над «тунеядцем», то бедный Иосиф, со временем пробившись-таки в «толстые журналы», вряд ли выделялся бы среди талантливых поэтов России. Впрочем, если принять во внимание memoir — воспоминания старинной поклонницы поэта Л. Штёрн, куда как убедительно характеризующие Бродского того периода, — то в благородное негодование «глупым и нелепым судебным процессом» придётся внести серьёзные коррективы. Тем более, помня вышеприведённый афоризм поэта.
Привожу memoir Штёрн без купюр:
«Я позвонила Иосифу: приходи завтра на смотрины. Прихорошись, побрейся и прояви геологический энтузиазм. Бродский явился обросший трёхдневной щетиной, в неведомых утюгу парусиновых брюках, — сообщает Штёрн.
Итак, Иосиф плюхнулся, не дожидаясь приглашения, в кресло и задымил в нос некурящему Богуну смертоносной сигаретой «Прима». «Ваша приятельница утверждает, что вы любите геологию, рвётесь в поле и будете незаменимым работником», — любезно сказал Иван Егорыч.
«Могу себе представить…» — пробормотал Бродский и залился румянцем (в юности он был мучительно застенчив)», — лучится вос- хищением Штёрн.
«В этом году у нас три экспедиции: Кольский, Зауралье и Магадан. Куда бы вы хотели?» «Абсолютно без разницы», — хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок. «Вот как! А что вам больше нравится — картирование или поиски и разведка полезных ископа…”. «Один чёрт, — перебил Бродский, — лишь бы вон отсюда!»
«Может, гамма-каротаж?» — не сдавался начальник. «Хоть — гамма, хоть — дельта, — не имеет значения», — парировал Бродский. Богун поджал губы.
«И всё-таки, какая область геологической деятельности вас интересует?»
«Геологической?» — переспросил Иосиф и хохотнул.
Богун опустил очки на кончик носа и поверх них пристально взглянул на поэта. Под его взглядом Бродский совершенно сконфузился, зарделся (тем, кто забыл, напомню, что поэт был более чем застенчив. — В. С.) и заёрзал в кресле (и, как видим, очень даже совестлив. — В. С.).
«Позвольте спросить, — ледяным тоном произнёс Иван Егорыч. — А что-нибудь вас вообще интересует?» «Разумеется, — оживился Иосиф. — Ещё как! Больше всего меня интересует проблема духа… как бы объяснить вам попроще (какое, однако, сострадание к безнадёжной простоте не известного миру И. Богуна со стороны неведомого ещё человечеству гения! — В. С.) … Точнее, сейчас меня занимает метафизическая сущность поэзии…»»
После столь невыразимо глубокой мысли тогда ещё не святого Иосифа Богун вежливо, но решительно попросил свидетельницу бессмертного разговора (со стороны Бродского, разумеется) проводить её великого современника к лифту.
Смывшись от геологии и при этом обхамив (причём, даже не заметив этого!) незнакомого и много старшего, чем он, человека, Бродский так ни разу не испытал чудесной возможности увидеть свою страну. Невероятным просторам он предпочёл «проблемы духа», «метафизическая сущность» которого простиралась от дивана до книжной полки и обратно. Что касается поэтических исканий, то и здесь он не возблагодарил свою судьбу. Впоследствии сбившись (прошу прощения за каламбур) с большой дороги в мировоззренческую колею, Бродский уверенно выбирается на проторенные другими поэтические тропы, на которых тернии встречались ему всё реже, а бурьяна становилось всё больше. Об этом, в частности, говорят откровенно наводящие на ответы вопросы Бродского знаменитому польскому поэту Чеславу Милошу и, в ещё большей степени, многочисленные интервью, которые давал он сам.
И в своих переводах Иосиф не особенно внимателен. Кто-то заметил: «Если вы прочтёте стихотворение „Сатрапия“ в переводе Бродского, то увидите, что он вносит в текст лексику Ленинграда, своего поколения, арго». Ну, да бог с ними, с переводами. Вживаться в чужой мир дорого стоит. Обратимся к жанру путевых заметок, тоже, впрочем, влетающих в копеечку.
II
С изумлением прослеживая в «Путешествии в Стамбул» (1985) размышления Бродского о восточном (греческом) христианстве и католичестве и читая его рассказ о поездке в Бразилию («Посвящается позвоночнику», 1978), не знаешь, чему в них удивляться больше всего: невежеству или цинизму. Однако, скоро разобравшись, приходишь к выводу, что любви к себе отдано там наибольшее предпочтение.
Через все писания красной нитью проходит откровенно потребительский взгляд на мир, разбавленный «вечными» сентенциями о «человеческом стаде, бродящем под сводами Аль-Софии»… Всё это сменяется скукотой не знающего куда себя деть туриста. Отсюда подробное описание «негнущейся» спинки сиденья самолёта и злое брюзжание на местную пыль после посадки. Во всём сквозит больная душа классически гнилого «русского интеллигента», а потому всё, на что ни обращает своё раздражённое внимание Бродский, говорит, конечно же, о нём самом. Это же «всё» Бродского попутно свидетельствует о его психически неуравновешенной натуре.
Оттого не удивляешься, что, рассматривая в музее исламские реликвии «и прочие священные тексты» и не умея прочесть их, поэт (а лучше всё же сказать Бродский) разом и без всякой нужды умудряется оскорбить и арабский, и русский языки. Как бы отплёвываясь от всего увиденного, он небрежно роняет: «… невольно благодаришь судьбу за незнание языка. Хватит с меня русского, думал я». Через страницу — в своих мыслях о Византии — он ещё более конкретен. Обыгрывая турецкие слова «бардак» (стакан) и «дурак» (остановка), Бродский совсем не по-великому острит: «Достаточно, что и христианство, и бардак с дураком пришли к нам из этого места», то есть… из «византийской Турции». Но учитывая, что не был Бродский историком (ну не был, и всё тут! Хоть и слышал, что турки завоевали Византию потом, через пять веков после принятия Русью православия), не будем очень строги и обратимся к его туристским эмоциям, которые впечатляют не меньше.

«Но мечети Стамбула! — никак не уймётся в своей желчности жертва клевет, наговоров, милицейских, судебных и прочих социальных притеснений. — Эти гигантские, насевшие на землю, не в силах от неё оторваться застывшие каменные жабы!»…
Негодуя едва ли не на всё, но в Греции решив всё же хоть что- то похвалить и выбрав для этого храм Посейдона, Бродский делает это совершенно замечательным образом: «Он в десять раз меньше Парфенона (?!..). Во сколько раз (!) он прекрасней (?!), сказать трудно, ибо непонятно, что следует считать единицей совершенства (?!..). Крыши у него нет» (…).
Вот так… Одной только фразой, как будто взятой из тетрадки полкового писаря или сочинения второгодника, Бродский умудряется принизить поразительный по красоте Парфенон, посеять сомнения в эстетическом ощущении («отсчёте») красоты и «добить» храм обывательским замечанием об отсутствии «крыши». То есть надо ещё подумать, что прекрасней: «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля или «Свиные туши» Хаима Сутина. Что уж тут сетовать на неведение Бродского относительно «крыши», которая на самом деле есть антаблемент с настилом и пере- крытием под кровлей из черепичных или мраморных пластин. А ведь оголённые человеческим произволом колонны храма свидетельствуют не только об утере «крыши», но о великих трагедиях древности, беспощадно распинавших и культуру, и жизни человеческие. Эти изувеченные, но грандиозные останки ушедшей цивилизации напоминают нынешнему человеку о том, что не он только, но и всё сущее преходяще…
Расстроенный от потери «крыши», Бродский в том же «Путешествии…» походя называет идиотом выдающегося архитектора Корбюзье, а прожив в Рио-де-Жанейро всего неделю, утверждает, что это тот «город, где у вас не может быть воспоминаний, проживи вы в нём всю жизнь».
Отчего же? Да люди там никуда не годные — «не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая», «лощёные такие шоколадные твари…» — пишет он о соплеменниках Хорхе Борхеса, Хулио Кортасара, Леопольдо Лугонеса и Адольфо Касареса.
Но вот, отвратив свой взор от «шоколадных тварей», одна из которых, к слову, спёрла у него кошелёк (надо же — дрянь такая!), он и в белых своих коллегах на конгрессе ПЕН-Клуба в Рио не находит ничего путного: «Занятно было наблюдать всю эту шваль…» — отхаркивается от них «духовно-проблемный» Иосиф и попутно «выдающийся поэт современности». Как тут не вспомнить сентенцию Цицерона: «Чтобы быть Цезарем, надо иметь душу Цезаря».

Но отвлечёмся от никак не впечатляющих путевых заметок и обратимся к мыслям Бродского о европейской цивилизации. Судя по контексту записей, не понимая, о чём он, собственно, думает, Бродский пишет: «Может быть, даже, говорил я себе, вся европейская культура, с её соборами, готикой, барокко, рококо, завитками, финтифлюшками, пилястрами, акантами и проч., есть всего лишь тоска обезьяны по утраченному навсегда лесу»… [7]
И здесь реплики Бродского вызывают ощущение духовной неопрятности, «залапанности» и немытости, являя тот род интеллектуального сора, из которого если и растут цветы, то кладбищенские или попросту дурно пахнущие («Представление», 1987). Когда читаешь всё это, не покидает ощущение пребывания в непроветренной петербургской коммуналке, донельзя загаженном общественном подъезде с вечно заплеванным полом, раздавленными некогда окурками и тараканами, которым в отличие от поэта бежать некуда… Всё это говорит о разложения чего-то важного.
Впрочем, туристская ипохондрия Бродского, ровно запыленная на страницах юбилейного сборника литературоведческой заумью, скоро становится вполне объяснимой. Поскольку в одном месте, видимо проговорившись, автор называет себя «затравленным психопатом». [8]
Как бы там ни было, прозаический опус «Путешествий…» Бродского, став ляпсусом, никогда более не имел продолжения, как, собственно, и сами путешествия (опять ведь спереть могут что-нибудь… гады!). Путешествуя уже без записей, Бродский на ощупь, но уверен- но пробирался к своей славе.
Окружённый толпой политизированных поклонников, только что не бросающих пальмовые ветви к его стопам, Иосиф на ослах от литературы (да простят меня те, кто просто запутался в тенетах его поэтической зауми и цинизма в прозе) добрался-таки до поэтического Олимпа. Там — в окружении проходимцев от «большой» политики — его ждала Нобелевская премия. То был не первый и не последний «политический нобель». [9] Уже потому, что в число лауреатов не попали ни А. Куприн, ни Л. Леонов, ни М. Горький (ну, с ним-то понятно), ни А. Ахматова, ни В. Астафьев. И не только им — Льву Толстому, Чехову, Ибсену, Верхарну и Малларме «комитет» не удосужился присудить Нобелевскую премию. А вот Уинстону Черчиллю присудил… Причем, по литературе (хорошо хоть не за укрепление мира… [10]). Потому, наверное, что писал лучше всех…
Словом, феномен Бродского интересен, прежде всего, как явление, а не факт поэтического пространства. Именно последнее выявляет подмену истинных ценностей мнимыми, в которых роль древней цифири принимают на себя «части речи» наряду с высосанными из пальца «амбивалентными образами» и прочим. Всё это в основных «частях» своих выморочено, за исключением тех «живых мест», где проявляется циничное отношение к духовным святыням и самой жизни («Набросок», 1972).
Ввиду духовной и физической запущенности, муза Бродского становится похожей на до времени располневшую даму, опрометчиво выставляющую свои сомнительные достоинства. Этакую гейневскую «богиню Гаммодию», убранную в плохо стиранное бельё из плохонького комиссионного.
Итак, если поэтическое дарование Бродского очевидно, а умосплетения прозаика не выдерживают критики, то аура гения, упорно навязываемая массовому читателю, вызывает изумление… [11] Поэтому видеть в Бродском некоего знаменосца русской литературы и тем более языка — весьма сомнительно.
Но лиха беда начало. Благо, что не одним Бродским жила литература, поросшая густым бурьяном схожих сочинений. Ибо перекосились опоры русской жизни, и «поехала крыша» у целого ряда российских литераторов…
«Эпоха Бродского» вытряхнула из реквизитов диссидентства духовно обрезанных ерофеевых и войновичей. Унавозив своими писаниями отечественную литературу, они предопределили гнилую поросль из великоматерных сорокиных. А чего ещё можно было ожидать? С воцарением в России «новой культуры» лишённое самосознания общество неизбежно покрывает короста из самозванцев от литературы. Увенчанная премиями именно такого рода «литература» выстилает дорожку в ад стереотипов.
Беда, однако, в том, что суррогатная культура, метастазами разойдясь по телу страны и наполнив миазмами читательский мир, сумела занять прочные позиции в жизни остальной России. На фоне этого словесно-порнографического «творчества» (между тем широко представленного и в соответствии с планами «рынка» «недурно расходящегося») «канонический Иосиф» смотрится почти целомудренно.
Если бы только это…
Массовое оглупление дешёвым чтивом достигло такой степени, что наиболее чтимыми в России оказываются «полёты» Гарри Поттера, сладковатые, с горчинкой, истории баснописца Пауло Коэльо и околокремлевские сплетни неудавшихся сатрапов и их прихвостней. И всё это происходит в лоне великой отечественной литературы, которая самой сущностью своей призвана оберегать человека от духовной неопрятности, тотального невежества, пошлости и безвкусицы. Ведь именно русская литература в лице своих гениев в наибольшей мере свидетельствует о душе и необходимости совести в человеке. Но и это не всё…
Иные «случаи» в литературном мире, выходя далеко за пределы и совести и морали, напрямую грозят привести нравственные мерила людей к полному нулю, прямо свидетельствуя о том, чего стоит нынешнее российское общество. Помимо самозванных «академиков» к ним относятся самозванные же «исследователи».
Некто Плутцер (очевидно, от слова — «плут») или Плуцхер (уж и не знаю, как объяснить, но догадаться можно) издает Энциклопедию русского мата в 12 томах (!), в которой одному только известному слову из трёх букв он уделяет весь первый том. Здесь под видом изучения автор смакует падаль своего внутреннего разложения, заполняя миазмами «черные дыры» общества, и без того во многом опущенного до плинтуса…
Ясно, что «труд» сей является не просто похабщиной, но пробным шаром духовных дегенератов, мечтающих бытие страны превратить в некую «хреновину» или гноящуюся «дыру». Очевидно, такую цель преследуют «писатели и философы». По сей день ненавидя чуждый им язык, они упорно отыскивают в нём то, что близко им самим. В этих целях и пытаются они своими духовными миазмами вымазать истинно великое и могучее Слово, язык которого им до сих пор непонятен (от Троцкого — до Плуцкера), а потому вызывает панический страх!
И всё же главное зло от деятельности нынешних «интеллектуалов», «энциклопедистов» и «просветителей», которых в теперешней России развелось немерено, видится мне не в глупости и даже не в наглости их. Куда большее беспокойство вызывает в этом подлом деле число помощников, кои нашлись сначала в лице коллектива издательства, а потом и в лице убогих миром покупателей этой продукции. Ибо, по словам автора, первый том тиражом 10 000 экземпляров «разошёлся довольно скоро». То есть сочинитель без труда нашёл (и, очевидно, найдёт и в дальнейшем) многие тысячи поклонников и единомышленников, которые так же, как и он, «тащатся» от подобных «народных изречений».
Казалось бы, достаточно устыдить сочинителя, издателей и какое-то число читательской публики, если бы в этом «деле», как в зеркале, не отразились пороки всего российского общества. К ним следует отнести реакцию на подобные вещи. В этом «зеркале» угадываются уродливые отражения тех, кто издавна ненавидит русскую культуру, кто употребляет эти слова и делится с другими этой гадостью. Именно они настойчиво и не со вчерашнего дня распространяют подобные гадости.
Во всём этом повинно не только отребье и малодушные низы общества, но и «чистенькая» его часть, бездеятельно отвращающая благородный лик свой от подобных мерзостей. «Кто из нас не возмутится, когда бесчестят женщину, отчего же мы не возмущаемся, когда бесчестят язык: ведь и он живой, ведь и он целомудренный. Есть преступления против языка, которые никому не прощаются», — писал Дмитрий Мережковский во времена, когда общество способно было ещё возмущаться бесчинством и когда подобного рода гнев не назывался ещё фашизмом…
Есть ещё и другое…
Если с Плуцхером (или как там его…) всё более-менее ясно — тот исходит восторгом от… «широты» русского языка, то М. Эпштейн — другой «русский писатель» и тоже «филолог, философ, культуролог, эссеист» и прочее, наоборот, сетует на бедность русского языка (поэтому настойчиво предлагает внедрять в него английские слова).
«Можно ли сравнивать: 750 тысяч слов — и 150 тысяч (а если без лексикографических приписок, то всего лишь 40–50)!», «имея страдание» о языке, сопоставляет Эпштейн английский язык и русский. [12] Кстати, это «тот самый» автор, который, будучи в Балтиморе (США), умудрялся влиять на «целый „Континент“» (журнал такой), где он когда-то впервые изложил идею (и не оставляет её до сих пор) интернетовской шифровки произведений великих людей. К примеру, Ф. М. Достоевского он честно и откровенно предлагает… не читать (и в самом деле, зачем?!), «сжав его» в коротенький абзац…
Ясно, что «описания сути произведений» Достоевского и исследования о нём (как и обо всех остальных гениях) будут принадлежать авторам подобных идей, в числе «шифровальщиков» которых себя, Эпштейн, очевидно, по скромности своей не упоминает. Ну, не то чтобы он совсем уж устраняет себя от этого, а, как бы это сказать, передоверяет, что ли (я, ей-богу, сам напуган строгостью языковых смыслообразований, поэтому боюсь ошибиться в словоиспользовании), подталкивая к этому других. Кого? Как… кого? Некого, что ли?
Тот же Иосиф Бродский некогда нашёл у Достоевского «всеядную прожорливость языка, которому в один прекрасный день (любил всё же Бродский природу! — В. С.) становится мало Бога (правильнее, конечно, писать — Б-га, ну, да ладно), человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя» (язык на себя набрасывается! — В. С. См. «Звезда», 2005, №10. page number 220).
А вот ещё: в далёкие уже времена социал-демократ Б. Г. Столпнер шептал на ушко Вас. Розанову: «Достоевский весь вертляв и фальшив. …И у него всегда так. Лицо являет величайшее смирение, убогость, нищенство, и из-под него лезет на вас сатанинская гордость (а что, Толстой разве лучше? А Пушкин? А Лермонтов? А Тургенев? А этот, как его… Лесков? А Есенин? Всех бы их!.. — В. С.)». Свои сентенции Столпнер закончил изречением, которое могло быть (начитанный Эпштейн как-то упустил его…) и эпиграфом, и путеводной звездой (пишу без намёков, ей богу!) всей деятельности «шифровальщиков» — мастеров букв, слов и чисел. Вот оно: «Россия должна выбраться из этого бреда, из этого дурмана, из этой фальши, лукавства и всяческой духовной тьмы…» («Мимолётное», 1915). Как мы знаем, так оно и получилось. Через два года в Россию устремились спасители её — и на кораблях, и в запломбированных вагонах, и на верблюдах, и на всех остальных, возможных и невозможных, видах транспорта. Продолжают помогать России и сейчас — и «оттудова», и «отсюдова», и «откудова» угодно. Благо, современные технологии позволяют это делать, не отходя от компьютера и, прошу прощения за неловкий каламбур, не отходя от кассы. Но не будем отвлекаться от «творческой филологии» Эпштейна. Скажу только, что «абзац» о Достоевском, собственно, готов… почти. Специально для удобства использования я выделил всё, наиболее ценное для него — абзаца. Ну, может, Эпштейн найдёт нужным к нему добавить чего, а так — готов.
Так вот — и вполне серьёзно! — рассматривается (по первоисточнику назовём её «континентная») блокада человеческого гения, загоняемого «Эпштейнами и Ко» в прокрустово ложе собственных — на- зовём их субъективными — умозрений.
А что ещё думать, если в соответствии с задумкой «авторов проекта» за короткое время можно будет прочесть «всего» Достоевского, Толстого, Гомера, Цезаря, Лермонтова, Пушкина, Бальзака, Диккенса и ещё десяток-другой гениев. Ну, хорошо, один вечер будешь читать «их», ну два, ну три, а дальше что?
Как это — «что»? Разве прецедент-открытие не стоит того, чтобы воспеть Эпштейна, столь хитроумно избавляющего нас от невежества?! Тем более, что сэкономленное время можно использовать на что-нибудь путное, более приятное и естественное, например, выпить пива или съесть что-нибудь. Да мало ли на что! И тогда воцарится над мировыми знаниями лик Его (Эпштейна) и сонм порхающих круг Него «ангелов» единокорытников, [13] выморочных борцов с гениями, апологетов тупости и провозглашателей «знаний» для телесмотрителей и поедателей за компьютерными играми попкорна, чипсов, гамбургеров и прочего.
Размышляя обо всём этом и даже где-то завидуя столь грандиозным планам Эпштейна, почему-то опять пришёл мне, грешному, на память другой «спецьялист» по тюремно-лагерному ивриту — Плуцхер. Почему пришёл? Сам не знаю. Потому, наверное, что два «антагониста» (один из которых одного только мата насчитал больше, чем другой слов в русском языке) всё же нашли бы общий язык через понятные им слова.
И точно — на ловца и зверь бежит!
Занимаясь наукой посредством не живого общения, а как сейчас стало принято — «по компьютеру» и разрешившись при этом «творческой филологией» (а всё же интересно, — что это за зверь такой?), Эпштейн «сдаёт» себя с головой. Найдя рубрику «Русский мат» (которую тоже, наверное, основали «филологи» типа Плуцхера), исследователь наш оскаливается злорадной репликой: видимо, русский мат является «главным источником новейших словообразований» («Знамя». 2006, №1, page number 195).
Очевидно, здесь проявляется духовная связь эпштейнов-словоизучателей, плуцхеров-словораспространителей и прочих «писателей». Удивительно, однако, не это, а то, что они, через задний ход (не подумайте ничего плохого!) пробравшись в русский язык, пролазят и в «игольное ушко» науки… Уж не потому ли, что научились прикидываться верблюдами?
Поневоле приходят на память слова А. Куприна из письма Ф. Батюшкову, как будто отвечающие и на поставленные и на незаданные вопросы: «…Ведь никто, как они (предтечи нынешних „спецьялистов“ по русскому языку. — В. С.), успели внести и вносят в прелестный (гламурный, сказали бы эпштейнианцы) русский язык сотни немецких, французских, польских, торгово-условных, телеграфно-сокращённых нелепых и противных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку социал-демократическую брошюрятину. Они внесли припадочность, истеричность и пристрастность в критику и рецензию».
Далее Куприн чуть ли не с мольбой обращается к знаковым «филологам»: «… Идите в генералы, инженеры, учёные, доктора, адвокаты — куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который вам чужд и который вы <…> и вывихнули».
Да, впечатляющая характеристика дана «писателям и филологам», как и тому, чем они на самом деле занимаются! Однако не тронули молитвы Куприна циничных похабщиков русского языка. Не тронут и мои… А потому вернёмся к «культурологии».
Как же пришёл к своему «числовому» выводу выдумщик и печальник о языке русском г-н Эп-н (здесь и далее, дабы не прослыть — упаси Б-г! — юдофобом, буду упоминать его фамилию в сокращении)? А вот как: г-н Эп-н исходит из количества («прироста») новых слов. Нелепость этого всякому здравомыслящему человеку очевидна, но мыслит г-н Эп-н по принципу «пипл всё схавает». Однако не будем нервничать, а рассмотрим всё по порядку.
Если бы «прирост» слов за многие столетия был главным достоинством языка (любого), то стараниями «собирателей слов» каждый следующий век плохо понимал бы предыдущий, а лет этак через триста народное тело и вовсе перестало бы понимать само себя. Тогда в мировой культуре произошла бы полная неразбериха, которая напрочь перечеркнула бы все предыдущие достижения человеческого гения! Ибо не было бы никакой возможности переводить на новый язык все эти (назовём их «эпштейновскими») изменения. Не было бы и смысла. Почему? Да потому, что язык всё время исчезал бы, «появляясь» по-новому в совершенно ином качестве.
Но Бог милостив! Потому на одного г-на Эп-на приходятся достаточно честных, порядочных и умных людей. Культурный Апокалипсис не приходит ещё и потому, что язык по своей природе консервативен. Настолько, насколько консервативное (т. е. несовращённое) сознание народа тяготеет к своей сущности. Сама же она является следствием многовекового формирования своеобразия мировосприятия, которое заявляет о себе (или не заявляет) в мировой культуре. Увы, для г-на Э-на язык народа сродни галантерейным новшествам, которые должны сменяться в соответствии с требованиями сезона или по капризу модниц.
Но это ладно. Как можно не сказать о том, что г-н Эп-н попросту передёргивает суть факта. Так, утверждая, что в английском языке 750 тыс. слов, он обходит главное: сколькими словами живёт англоязычное сознание (в устной ипостаси на три четверти германского происхождения). То есть не задаётся вопросом: сколько слов работает как в реальности, так и в облюбованной г-ном Эп-ном семантике, филологии и т. д. Что с того, если в копилке 75 монет, а вытрясти из неё можно 2 или 3? Не является секретом ведь, что словарь самых выдающихся писателей редко превышает семнадцать-двадцать тысяч слов. И даже в совокупности всех «разниц» (т. е. сложив арифметическую разницу самых великих англоязычных писателей за последние три столетия) число «рабочих» слов вряд ли превысит 40–50 тысяч. К примеру, словарь Шекспира (кстати, внёсшего в родной язык около 1700 новых слов) специалисты признают одним из самых богатых в англоязычной литературе, но он насчитывает «всего лишь» около 24 тысяч слов (столько же у А. Пушкина). Если же самому г-ну Эп-ну предложить перечислить все известные ему слова, то, лихо начав, он наверняка начнёт спотыкаться на первой же сотне…
Да, чуть не забыл: откуда г-н Эп-н взял цифру 750 000?..
Самый авторитетный в США Webster’s Dictionary, выпущенный в 1983-м г., насчитывает 315 000 главных слов (в 2001-м г. он переиздаётся с тем же количеством слов). В 1989 г. Webster’s New Internetial Dictionary of the English Language, second еdition, unabridged (то есть другой Вебстер) насчитал 550 000 главных слов. В 1993 г. Random House Dictionary, second edition «укорачивает язык» до 450 000 слов. Последний Webster’s Third New Internetial Dictionary (2005) подтверждает наличие 450 000 главных слов (для справки — в одном из первых словарей в 1864 году было 114 000 слов, в 1890 — 175 000, а в 1909 г. Webster’s Dictionary включал 400 000 слов). Но это всё ветреные американцы, к тому же язык этот «не ихний». Как же обстоят дела в Англии? Там тоже регулярно считают слова. The Oxford English Dictionary выпускает в 1989 г. 20 томов, в котором было 290 500 слов. Но, очевидно, заглянув в «штатовские» словари и придя в ужас от разницы, учёные по новой считают слова и в 2005 г. выпускают Oxford English Dictionary в 20-ти томах, в которых уже 301 100 слов. Но досчитать до 750 тыс. им совесть не позволила.
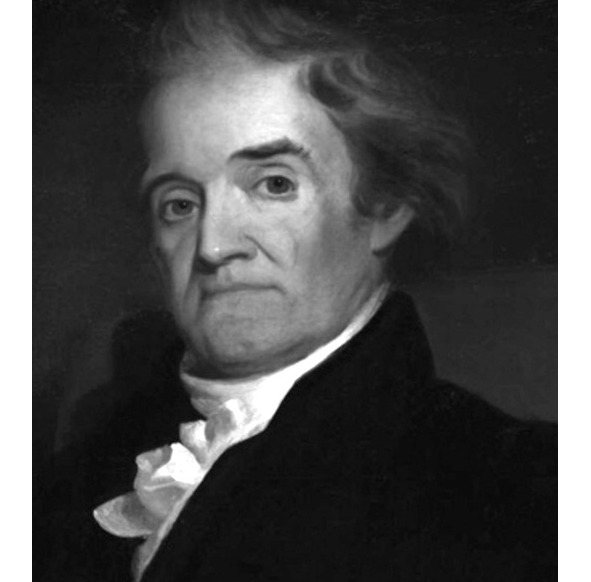
Так, где же г-н Эп-н выкопал свою «магическую цифру»? По каким «буквам» разгадал и по каким «числам» вычислил её?
Что касается русского языка, то Владимир Даль ещё в позапрошлом веке выпустил Словарь, в котором насчитывается более 200 000 слов. При этом Даль не включил в свой труд уменьшительные и увеличительные формы в качестве самостоятельных лексических единиц, иначе в нём оказалось бы более 600 000 слов. [14] Количество слов, безусловно, говорит о богатстве языка, но до известных пределов. Каких? Их опять же определяет рабочее состояние языка, включающее все известные человеку сферы деятельности (при этом обязательно оговаривая разницу «прибавочных» технических и прочих специфических слов, не принадлежащих, собственно, к «языку», но в иных случаях могущих участвовать в нём). Исходя из этого приходишь к совершенно противоположному, чем у г-на Эп-на, выводу: современный английский язык, разрастаясь, структурно иссыхает именно ввиду обильного привнесения в словарь множества узкофункциональных, технических и про- чих лишённых образа, а то и вовсе бессмысленных слов и словообразований, совершенно не нужных в языковой и какой бы то ни было культуре! И если разбухание — по Эп-ну, «богатство», — английского будет продолжаться, то он (язык — не Эп-н) разделит участь латинского или, что не многим лучше, превратится в сленг или диалект внутри него. То есть будет язык «для жизни» и «для словаря» (для «филологов», эп-нов и пр.). Ибо о богатстве языка свидетельствует не количество слов, а степень их задействованности в бытии. Это касается не только языка, но и творчества вообще, на которое, судя по названию статьи, почему-то претендует г-н Эп-н.
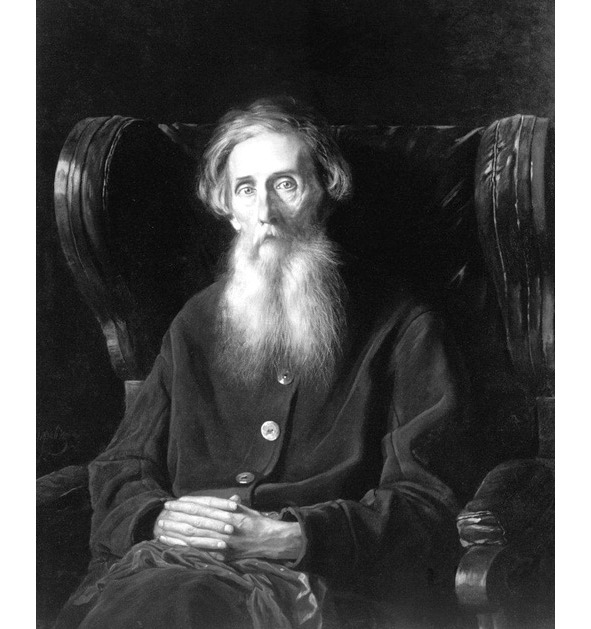
Рискуя вызвать ропот «ортодоксальных филологов» и языкоедов, скажу всё же: Рембрандт, Веласкес и Хальс создавали свои шедевры, пользуясь лишь шестью (6-ю) цветами! Умело создавая нужные, мастерски пользуясь дополнительными и взаимодополнительными цветами (чуть не сказал — словами), живописцы пользовались великолепным по своему богатству и разнообразию «числом» цвета и оттенков, колористическая тонкость и глубина которых свидетельствует о широкой палитре. Дабы унять гордость нашего (всё же уточню — балтиморского) великого философа, скажу ещё, что «эпштейнизм» опередил самого Эп-на! Причём в современной (или, да простится мне моё языковое невежество, модерновой) живописи, ибо разноцветье тюбиков, нынче исчисляясь уже сотнями, всё растёт и растёт, а толку с этого — чуть… И ещё: можно ли не замечать псевдонаучность и косноязычие, слабоумие в анализе и на редкость безобразное ощущение русского языка самим г-ном Эп-ном, что весьма странно для философа, филолога, культуролога и ещё чёрт знает кого! Ибо звания, должности и научные степени не имеют значения, если подтверждены лишь кафедрой (-ами), а не реальными знаниями.
Чего стоит один только, простите, перл: «Но если всю почву русского языка залить (?!) под этот железобетон (?!) (неологизмов. — В. С.), на ней (?!..) ничего уже не останется».
Ну, в самом деле: как можно сыпучую почву… залить под железобетон? Может, проще железобетон, отбив от арматуры, [15] размолотив, добавив цемент и разбавив водой, «залить» на почву? Но если даже «залить» то, что не заливается, под то, что как будто обладает «литейными» свойствами, то что же будет представлять из себя и как увидеть то, что «залито»? Ибо (здесь осмелюсь прибегнуть к слогу «великих философов») покрытое тем, что не заливается, оно будет невидимо ни для тех, кто, подобно г-ну Эп-ну, «заливает», ни тем более — для тех, кто знает, что неспособное заливаться никак не может быть залито под то, что хоть и может как-то заливаться, но что делать не целесообразно ввиду абсурдности заливания тем, что в принципе заливаться не может… Впрочем, это нам тяжело. Г-н Эп-н может «заливать» всё, что угодно и под чего угодно. В данном случае «под», «на» или, скорее всего, мимо русского языка…
И опять приходят на память слова А. Кротова: «Казалось бы, прост путь в русский язык, но исхода из него инородцам, презирающим русский народ, не было и не будет» (с. 194).
Как же пришёл г-н Эп-н к жизни такой — энд why?
Ясное дело, не без поддержки выдающихся, ушедших в мир иной или живущих ещё гениальных философов, поэтов, культурологов, которых в «евонном» штате, наверное, пруд пруди. Впрочем, в данном случае он приводит образец мысли другого философа и, конечно же, русского писателя. «Лев Шестов напрямую связывал идеологическую „диктатуру слова“ при большевизме с пережитками магии», — пишет г-н Эп-н, по всей вероятности, опять (теперь уже с Шестовым) ревнуя «магию» к «числам». Что же говорит сам Шестов, в котором, к слову, новая власть души не чаяла?

«Для них (т. е. возлюбивших его большевиков) реальные условия человеческой жизни не существуют, — писал Шестов о своих протеже „оттудова“ уже. — Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу». Но г-ну Эп-ну Иегуды Лейб Шестова мало, и он опять берёт на подмогу Иосифа Бродского, в послесловии к «Котловану» рассуждавшего об Андрее Платонове (к слову, проект настоящего — «политического» — котлована принадлежит не Платонову <г-н Эп-н знает кому…>, писатель лишь придал ему художественную форму). Здесь ясно видно, что по крутизне своих умозрений Бродский явно превосходит Шестова (будем честны — Шварцмана). Судите сами: у Платонова возникает… «возникновение понятий, лишённых какого бы то ни было реального содержания <…> …Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшим от него в грамматическую зависимость», — вставляет Бродский в уста Платонова собственные домыслы. «Мне думается, что поэтому Платонов непереводим и, до известной степени, благо тому языку, на который он переведён быть не может (так и написано: благо тому языку!)», — делится своими думами Бродский, одним махом уничижая и русский язык, и великого писателя, рядом с которым его самого и различить-то трудно. Так, «нобелевский бушмен» цитируется просто бушменом, отчего оба они становятся ещё меньше ростом!
Словом, и в отношении Андрея Платонова «полный абзац»… Впрочем, прокомментирую его.
В нём — в «абзаце» — теперь уже Бродский использовал давненько наработанный им приём: когда можно было утаить или незаметно изменить смысл цитируемого, он это делал, не моргнув глазом. А когда это не представлялось возможным, то говорил от своего имени, как в данном случае. И тогда, хучь глаза закрывай, хучь нос вороти от сказанного… — тоже, как в данном случае. Не иначе как оба писателя (Эп-н и Бродский), переутомившись за «вычислениями», спутали русский язык с чем-то ещё…
Если жизнь где-то и «выстраивается» по числам и по магии, это не значит, что она так же строится и в грамматике. Хотя чем чёрт не шутит. К примеру, А. Е. Кручёных выворачивал её наизнанку: «Бор а циципи. Рпе сека, зоркотимся!».
Но то было давно. Г-н Эп-н с наслаждением приводит «магические слова» из «Геологов» теперешнего «классика» Вл. Сорокина: «Мысть, мысть, мысть, учкарное сопление. — Мысть, мысть, мысть, полокурый вотлок».
Чем не магия, а? Здорово, да? И ведь по-русски написано, не по-аглицки! Буквы-то русские… Или вот, из того же Сорокина (рассказ «Заседание завкома») г-н Эп-н любовно приводит следующий отрывок: «Нашпиго! Набиво! — заревел милиционер. — Напихо червие! Напихо червие! — закричала Симакова… — Напихо червие, — по- вторял Старухин — Напихо…».
Так и хочется подумать вслед за г-ном Эп-ном: Э-эх, дикари!
Здесь отвлечёмся от языка, «напихо-филологов», «классиков» и «дикарей», и обратим своё внимание на российский социум. Тем более, что это позволит нам разглядеть дверцу, через которую некогда вломились в отечественное бытие хамство, цинизм и издевательства над прекрасным и благородным русским языком.
С «нулевых» годов в России упразднялись старые и активно создавались новые более эффективные и не обязательно медийные «средства общения» с народом. Возьмём хотя бы ОМОН, СОБР или национальную гвардию России, призванные решать «вопросы» путём инициативного или лучше сказать «плотного» контакта с людьми. Ясно, что для этого им нет нужды расширять свой словарный запас — и того что есть хватает… Нацеленные на самый близкий контакт службы эти — помимо дубинок, наручников и, естественно, мата, оснащены всем, что помогает внятно воздействовать на «всяких оболтусов».
Шли годы… На излёте второго десятилетия «бурь порыв мятежный», сказал бы поэт, продолжал с корнем вырывать всякие живые ростки, включая плодоносящие древа в образовании и культуре Страны. Но «дубы» оказались не тронутыми. Они остались! Причём, на самом верху… «Сверху» и был спущен народу общественный «Институт Счастья» и «Министерство Правды».
«Всё это ужасно! Но при чём здесь язык?..» — в нетерпении спросите вы.
А при том, что один из главных «министров» и глашатаев дозволенных истин журналист Дмитрий Киселёв на своей «Культурной странице» вдруг неожиданно для всех и даже для смотрящих (без намёков — я имею в виду TV) разразился лирическими сентенциями относительно… «русского мата».
Но об этом чуть позже. Сейчас — о «дубах».
Наделённые неуёмной энергией и поэтикой (мы знаем чего и даже в каких словах…) они не замедлили взяться за реформу образования и, не моргнув глазом, «выстругали» из себя три буквы… И мы знаем какие именно — это ЕГЭ (Единый Государственный Экзамен) для школьников. Экзамен отгадай-ка вымел почти из русской школы остатки «советского прошлого», то бишь прославленного на весь мир образования. В обмен на это научившиеся с грехом пополам читать и писать школьники, да и всяк заглядывающий в голубой «ящик», могут услышать пение сирен, восхваляющие патологии нынешнего убогого и донельзя опущенного бытия России.
А вот теперь вернёмся к Киселёву. Что же так возбудило в мате неугомонного бойца видимого фронта?
А то, что мат, воздымает очи к небу Киселёв, — «волшебен»; «в нём есть колоссальная энергия, загадка и своего рода поэтика»; «он культурная роскошь, достойная сбережения, как неприкосновенный запас»! «Мат — неотъемлемая часть русского языка»; «не хотелось бы, чтобы мат исчез из русского языка», — кадит своему идолищу Киселёв. Что там русский язык! «Русский мат обогащает и другие языки», — радуется Киселёв за «других». И тут же печалится за них, ибо в «других языках» с матом совсем плохо: «в них нет той тайной, резервной энергии, которую всё ещё хранит русский мат».
Ну и как тут не сказать, что радетель о «языке русском» делится со зрителем своими откровениями о мате по государственному каналу, который злые языки давно и не без оснований окрестили, да простят меня ревнители изящного слога, — «федеральным аналом».
III
Вернёмся всё же к «филологии Эп-на». Внимательно вчитываясь в неё, приходишь в изумление от его утверждения, что словоизменение и словообразование — совершенно разные вещи?! Это означает, что с изменением слова г-н Эп-н не чувствует изменение образа его, как и образа вообще.
Приводя удобные для себя примеры: «сапожок» и «сапожище», «сирота» и «сиротинушка», а не, скажем, «дочь» и «доченька» (чётко разделяющие наличие дочери и отношение к ней), Эп-н считает эти пары одним словом. Впрочем, и в своём примере «писатель» не видит разницы между смыслом и образом, между фактом отсутствия одного или обоих родителей и отношением к сироте — чаще всего мягком, лирическом, жалостном и т. д. Не буду продолжать, ибо нашему учёному и эти слова могут показаться идентичными, а потому к словарю русского языка не имеющими отношения.
Очевидно, внутренне абсолютно чужой русскому языку г-н Эп-н вполне естественно не понимает того, что язык, облечённый народным телом, сопротивляется чуждым ему привнесениям. Как бы ни хотели того апологеты трупных языков, русский язык, как и любой другой, не ограничивается одним только «запасом слов». Не понимая этого, не ощущает г-н Эп-н и изменения образов слова. Впрочем, усилия «языковеда» не пропадают даром, ибо сплошь и рядом натыкаешься на чуждые языку (но не г-ну Эп-ну) словоизменения и словообразования. Поэтому, подменив действительное эфемерным и лихо отбросив «приписки», филолог наш в лучших традициях «парикмахеров» от литературы обскубал русский язык до 40 тысяч слов. А почему нет?! Было бы желание. Вот и я мог бы после устного счёта г-ном Эп-ном свести его «запас» к нескольким сотням слов. Но делать этого не буду, хотя бы потому, что в его статье с заумным и до смешного претенциозным названием, их (разных слов), наверное, больше. Другое дело — нужно ли было писать все эти «слова»?.. Знакомясь с опусами г-на Эп-на, видишь полное непонимание им того, что разрастающийся словарь и пухнущий не по дням, а по часам язык есть свидетельство его деструктивного разжижения, размывания и ослабления. И если всего этого не происходит с русским языком, то это свидетельствует о силе и языкородной защите его!
Не понимает этого г-н Эп-н или, наоборот… — понимает? Впрочем, какая разница, если у него есть возможность размахивать «Знаменем» со «Звездой»…
В свете всего рассмотренного становится очевидным, что г-н Эп-н не только не знает, не чувствует и не любит русский язык, он его ненавидит! И, ненавидя, вредит всеми доступными ему способами. Целенаправленно наносимый им вред русской культуре не вызывает сомнений, поэтому в оценке его псевдонаучных опусов не должно быть ни двойственности, ни толерантности, ни либерально-космополитической «амбивалентности». Причём духовная мелкость и личная интеллектуальная ущербность Эпштейна не играют здесь большой роли, поскольку его опусы рассчитаны на малосведущую и духовно неприхотливую публику. Другое дело — направленность деятельности. В длинном ряду старых и новых «схарий» Эпштейн, по сути своей, по призванию, предназначению и по делам своим, является банальным продолжателем «учения» псевдомудрствующих. Поэтому к нему целиком применимы слова Г. Свиридова, ставившего во главу угла не национальную принадлежность «неопапуасов» и «неадертальцев», а преследуемые ими цели: они враги русской культуры и культурного достояния всех народов.
Кстати, о словообразованиях. Когда я писал — «г-на Эп-на» или «г-ну Эп-ну», то (уточняю на всякий случай) имел в виду «господина» и «господину», а не всякого рода непотребства, которые могут-таки прийти в голову по ознакомлению с опусами г-на Эп-на. Наверное, в связи с ними и пришло мне на память имя Плуцкера — тоже г-на, и не меньшего!
Впрочем, всем этим опусам не приходится удивляться так же, как и сочинителям их. Уходящая в историю наглость (да простит мне г-н Эп-н это, быть может, не самое удачное словосочетание) чуждых русскому языку писателей вполне узнаваема. В доказательство этого приведу небезызвестный факт, характер которого, при всех «словообразованиях» свидетельствуя о позорной беспомощности «нашего» правительства, узнаётся довольно легко.
Судите сами.
После подавления Временным правительством восстания большевиков в июле 1917 года их главарям было предъявлено обвинение в измене, грозившее в военное время смертной казнью. Невзирая на это, Лейба Бронштейн по кличке Троцкий «в Совдепе стучал по трибуне и кричал: «Вы обвиняете большевиков в измене и в восстании?.. Сажаете их в тюрьмы?.. Так ведь я же был с ними, я же здесь!.. Почему вы меня не арестуете?”… — Члены Совета депутатов молчали (они были противниками восстания, большевики тогда были в меньшинстве)», — пишет журналист и писатель А. И. Дикий. [16] Вместо того чтобы судить Троцкого, как преступника, Совдеп, очевидно, опешив от «исторической наглости», замял инцидент. Джинн был выпущен из бутылки… Возникают «окаянные» вопросы: Где ещё? В какой истории можно найти прецедент, когда — от имени народа и в качестве русского правительства в самый ответственный момент для государства четырьмя «плуцкерами» (карликом- уродцем Троцким, Иоффе, Караханом и Каменевым-Розенфельдом) заключён был позорный для страны мир с врагом? Доказано ведь, что если б не разлагающая армию деятельность тысяч «просветителей», то враг был бы побеждён в том же 1917 году!
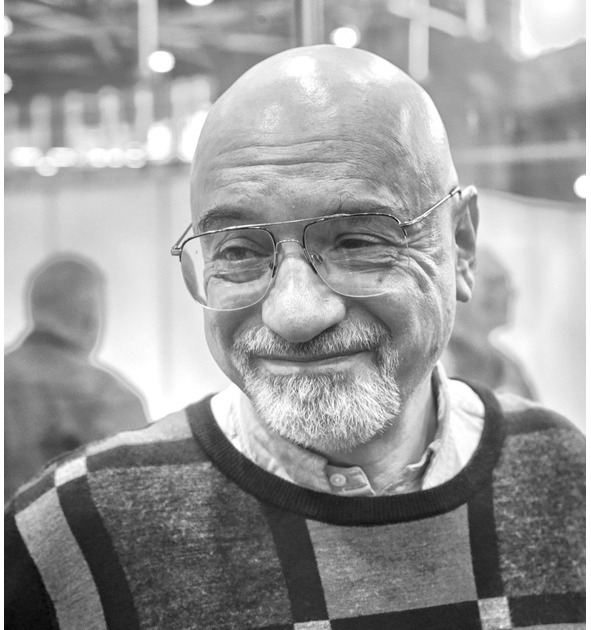
«В том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделали всякое изумление, всякий возмущённый крик наивным, дурацким», — писал И. Бунин в «Окаянных днях» о подписавших в Брест-Литовске «похабный мир».
Увы, «жирондисты» не были свергнуты. Обезволенный народ не способен был защитить своё Отечество, да и не понимал уже, где оно… Когда же Сталин взялся вытащить Страну из тяжелейшего кризиса и в этих целях стал проводить «чистку в рядах партии» (что, напомню, было перевыполнено холуями системы с невероятной жестокостью), то потомки «пламенных революционеров» до сих пор ему этого не могут простить! В условиях тотальной блокады России лидер постленинской эпохи сумел создать мощное государство, но и это всё никак не зачтётся ему. Вписан был Сталин в историю (причем «окончательно, бесповоротно и навсегда»), как чудовище, превзошедшее даже «психопата и идиота» Гитлера (хорош, однако, «идиот», сумевший за несколько месяцев захватить чуть ли не всю Европу и поставить с ног на голову полмира!)
Но мы несколько отвлеклись от «литературы».
Я далёк от мысли сравнивать местечковых «энциклопедистов», которые, конечно же, являются «русскими писателями, философами» и прочая, с негодяем мирового масштаба Троцким, но хочу лишь отметить, что в некоторых случаях история повторяется. Вместе с этим хочу указать и на неминуемую историческую наказуемость всякой анемичной власти, которая в России в лице нынешних временщиков подобна узкоголовому страусу.
Как только возникает ситуация, требующая энергичной защиты культуры, так номинальные правители России, более всего боясь принять меры по отстаиванию интересов русского народа, зарывают головы в «песок» должностного уюта. Когда же проблемы буквально тычут в глаза «окопным правителям», то они зарываются глубже или натягивают на глаза свой должностной «колпак», дабы ничего не видеть.
Увы, вместо резкого (вплоть до уголовной ответственности!) осуждения «энциклопедистов» — русофобов и похабщиков русской культуры, власти предоставляют им телеканалы и СМИ. Поощряя наглость, прямо потворствуют гибельным для страны процессам. Единственное, что заботит нуворишей, ставших политиками, это:
«Как, если негодяи получат по заслугам, воспримет Россию демократический мир?..»
Если анемичная номенклатура, глядя «наверх», трусливо лепечет: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?..» — то чиновная челядь охает: «Ах! Как бы чего не вышло!» Между тем Запад, как дикий, так и не очень, с издевкой посмеивается (и вполне заслуженно!) над аморфной российской властью — жалкой в личной слабости, политическом малодушии и социальной беспомощности.
Чего удивляться мату, если в отечественной прессе «смело» публиковались ещё недавно низкопробные вирши, которые заканчиваются злобными и безумными словами: «Благодарю тебя, Дантес! Благодарю, Мартынов!» («Московские вести». 2001, №3, с. 246).
Разве это не плевок в культуру России и в самую душу народа?! Но и здесь же добавлю: подобные плевки духовных дегенератов следует считать заслуженными, если на это не следует никакой реакции! Ибо тот, кто вытирается, достоин не только плевков… Деяния ничтожных стихоплетов, того же рода «просветителей», «геростратов» и прочих необходимо расценивать как преступления против Общества, Закона и Государства. То есть они должны быть преданы суду. Только такая реакция может смыть грязь, брошенную в лицо народу. Долг всякой уважающей себя власти состоит в законном (подчеркиваю это!) наказании негодяев, к числу которых следует причислить не только авторов, но и издателей. Ведь совокупно вся эта публика на глазах у всех планомерно и продуманно оскорбляет Россию и её культуру, при этом по-шакальи вгрызаясь в и без того иссушенные корни нравственных устоев народа!
Кто же виноват? Опять инородцы и опять евреи?
Полагаю, дело не только в этом. Больше того, не «они», а именно мы (без кавычек) виноваты во многом из того, что происходит. Обвинять в бедах России одну лишь заезжую братию не только глупо, но и при боязни глядеть правде в лицо непродуктивно и исторически опасно. Ибо, прикрываясь «чужаками», мы опять не видим собственных болезней. «Советская империя, рухнувшая в конце ХХ века, не погребла под собою, а, напротив, вытолкнула на поверхность „всё гадкое и безобразное“, копившееся у неё внутри, в то время как в коридорах власти „произошли тектонические сдвиги“», — с горькой иронией пишет А. Кротов. В отношении «чужих» нелишне знать, что, наделённые пристрастием к «материи» и за счёт внутреннего обладая внешним мышлением, мифические «граждане мира» с отнюдь не мифическими целями ловчее других подбираются к издавна облюбованному ими золотому тельцу. И потом, почему другие державы, тоже находящиеся под игом «тельца», отнюдь не дышат на ладан (о духовном умерщвлении — разговор особый)? Следовательно, надо говорить о формах вмешательства в структуру и жизнь чуждого им и по духу, и по сознанию государства. «Пусть наш народ идёт своим путем, — размышляя о России, писал Свиридов. — Русские не претендуют на руководящие роли в правительстве государства Израиль».
Однако не получается это. Никак. В том числе и по нашей вине. Иные русские «…с особой инородческой изощрённостью, добившись чинов и положения, вытаптывали вокруг себя талантливое и национальное, воспитывая молчалинское холуйство, присущее не таланту, а серости, безликости и бездарности, каковая их же по- том беспощадно и губила криминальной смердяковщиной, мстя, в свой черёд, за перенесённые унижения и издевательства», — с горечью отмечает А. Кротов извечную нашу взаимную рознь. Поэтому, заостряет свою мысль писатель, «хватит винить во всех бедах одних только инородцев, пора оглянуться и на самих себя, погрязших в обличительстве, способствуя тем самым дальнейшему разрушению Державы и превращая русскую соборность в миражи и утопию без конкретной созидательной работы».

У меня нет желания развивать донельзя изжёванную «тему инородчества», но в отношении сути проблемы придётся сказать: Березовские, Ходорковские, Гусинские и прочие существуют не только в России, но рулить развалом Страны и красть её ресурсы лучше всех удаётся им здесь потому, что они смогли купить с потрохами многие тысячи ленивых на доброе дело изолгавшихся друг перед другом и просто бестолковых в деле «нижестоящих» русских. «Ведь Абрамовичи… вашими же руками всё делают — воюют, копают золото, дороги строят, чтобы его вывозить. Плодят новых рабов», — устами своего героя говорит писатель П. Проскурин. Но всё это происходит потому, что «русская жизнь потеряла путь, направление своего движения» (Свиридов). И разве само наличие — как и количество «олигархов в законе» — не говорит о том: чего все мы стоим?! Когда же мы научимся наконец видеть окружающую нас подлость и различать нашу причастность к ней?!
Давно прошло время щекочущих нервы удобных формулировок и слов, успокаивающих нечистую совесть. Настала пора чётких и ясных определений, без недомолвок и смущений в раскрытии поистине страшного диагноза. Гигант, поражённый тяжелой болезнью, должен знать её, а не, внимая временщикам, тайным советникам и явным лицемерам, слышать спасительные для них басни и неумолкающие оптимистические прогнозы. То же касается и главного действующего лица истории — народа.
Долгое время лишённый духовных пастырей, народ наш «без веры, без идеи бредёт по свету», с ним «можно делать всё, что угодно, ибо он утратил высший смысл существования…», — пишет Свиридов.
Вернёмся к языку.
Разве на пустом месте, по словам композитора, «тюремный жаргон стал языком России»? Нет, конечно, не на пустом, а на имевшемся или специально для этого подготовленном. В результате, пишет Свиридов, русский народ «почти утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию и сохранившую лишь жалкие остатки своего былого богатейшего языка для уразумения приказаний, отдаваемых ему его владыками, и матерную брань, которой он выражает отношение ко всему на свете: к своей жизни, своим близким, своим хозяевам, своей судьбе».
Но не только жаргон царит в русском языке, и не только в устном. Повсеместно, как тараканы, плодятся письменные извращения великорусского языка, заявляя о себе в «фэнтези» — от английского fantasy (так в России в Домах книги называется отдел фантастики), «гламурах» (от английского glamourous — обаятельный, очаровательный), нелепых транскрипциях и буквальных заимствований (нонфикшэн — non-fiction — не художественный) из английского в русский язык, превращая его в псевдорусский. В Златоглавой снуют сотни маршрутных такси, надписанные нелепым «Автолайн» (тогда уж надо писать ауто, от слова auto, или, не без иронии, — авто-line, поскольку в русском языке никакого «лая», кроме собачьего, не существует). Примеров всем этим языковым извращениям не счесть. Спортивные комментаторы, которых молва кличет «прапорщиками эфира», загаживают русский язык до безобразия!
Так, вместо слова «перспективный» (о спортсмене) или мягкого, приятного на звук — «угловой», «прапоры» употребляют ломающие русский язык «английские звуки» — «проспект» и «корнер» (от англ. — prospect и corner)! Но если в эфире и «письменности» разносчиками языковых инфекций является «спортивная братва» и журналистская братия, в первом случае свидетельствуя о малой образованности, а в последнем — подтверждая «древность» своей профессии, то в устной речи языковую заразу типа «фьючерсов» разносят мещане, имя которым — легион! Хотя потеря памяти в русском обществе, обвалом заявившая о себе среди как известных, так и неизвестных нам «учёных-лингвистов», имеет давнюю историю. Взять хотя бы прилепившийся к бумаге кроссворд (от англ. сrossword), вытеснивший красивое и благозвучное слово крестословица.
Выпоротая мировой и русской классикой, живущая ото дня ко дню и плюющая на всё, что нельзя съесть и чем попользоваться эта армия превращает в пустыри духовное наследие России. И то, что «народу» помогают в этом (и немало!) «другие», ни в коей мере не оправдывает добровольного самооглупления, но заявляет о коллективном беспамятстве по-холопски. Уже сейчас приехавшему, скажем, из Вологды, очень трудно ориентироваться в Златоглавой без русско-английского словаря. Сделаем вывод: замена русских слов иностранным эквивалентом свидетельствует о психологическом предательстве тех, кто это делает. Настанет день и час, и они могут стать реальными предателями!
Остановимся на «прилипании» чуть подробнее.
В незапамятные времена формирование народов сопровождалось длительным периодом совершенствования средств письменного, бытового и обиходного общения. В этом процессе обмен и заимствование слов были и неизбежны, и необходимы. Когда же становление языков прошло стадию необходимости, тогда интенсивность языкового обмена значительно уменьшилась. Единичный «обмен словами» между различными языковыми группами как средство оптимизации общения продолжается и сейчас. Международные культурные и политические диалоги, как и деловые связи, поневоле приводят к отбору приоритетных, обоюдопонятных и приемлемых в контактах слов. Это же касается литературы и обиходного общения. Но следует признать по меньшей мере странным, когда коренные, ясные по слогу, смыслу, многозначные по содержанию и ёмкие по об- разу русские слова-понятия сменяются громоздким, режущим ухо и колющим читательский глаз жаргоном (как то — хоспис, от английского — hospice, в русском языке имеющего свой, куда более богатый по ассоциативному ряду аналог — приют, богадельня). Разве здесь не налицо подмена одной системы понятий — другой?! Не проще ли тогда взять русско-английский-французский-немецкий-испанский… словарь и в зависимости от степени малодушия буквально вносить в русский язык тысячи иноземных слов?.. Если уж сдаваться, так сразу, а не втихомолку и по-холуйски!
Должно быть ясно: когда равно значительные языковые культуры в своих контактах заимствуют друг у друга отдельные слова — это понятно, потому что естественно. Но когда — при отмеченной равнозначности — это происходит главным образом в одностороннем порядке, то со всей очевидностью свидетельствует о психологической слабости, моральной ущербности и духовном пораженчестве допускающей этот процесс «стороны». Разве не таким образом общество и сам народ превращаются в мировую окраину? Применительно к России это равно свидетельствует как о вторичности самосознания лёгких в «окультуривании» нынешних русских, так и о том, что они ими не являются… Ибо для русских по исконной принадлежности к своей истории и культуре такое самоуничижение является казусом или вопиющим исключением.
«Мы русские — какой восторг!» — говорил Александр Суворов — «Меч России», до мозга костей принадлежа мощному культурно-историческому пласту русской жизни. Это было самоощущение, личная оценка и восхищение народом в ипостаси чудо-богатыря, «булатную» закалённость которого явил сам полководец. Всего этого лишены нынешние, не помнящие родства заёмщики чего попало и отовсюду. Психологически существуя в около-истории и оставаясь чуждым отечественной жизни, они среди тех, кто обрекает Россию на вторичность. Здесь и нужно искать неприязнь «к самим себе», к «своей» культуре, языку и, наконец, друг к другу… Здесь же взращиваются адепты глобализации, маскирующиеся в попечителей на- рода в лице политиков и «спецьялистов» по языку, обкатывающих свои «открытия» в либеральных СМИ.
К примеру, на страницах журнала «Знамя» и «Звезда» (кстати, «Знамя» теперь уже чего?.. Со «Звездой» — то всё понятно…) сии знатоки языцей, а всего более ересей лингвистики, не устают навязывать обществу то латинскую «буквицу», то английскую лексику.
Всё неймётся ненавистникам русского Слова! Хочется им замордовать или размыть до неузнаваемости великолепие языка Лермонтова и Тургенева!
Конечно, не на всякую глупость следует обращать внимание. Но иная из них, облачаясь в псевдонаучную форму и свивая паршивые гнёзда в редакциях русскоязычных журналов, находит сторонников среди несведущей публики. Делая свои мыслишки «достоянием общественности», литературные трутни и грантоеды, звеня паршивыми серебрениками, вносят свою лепту в разрушение всякой национальной культуры. Закрывать глаза на такого рода «рупоры гласности» совершенно недопустимо. Ибо всё, что не служит интересам России, работает против неё!
Переубеждать эту публику печатным словом — пустая трата времени. От непечатного же она только возрадуется, ибо окунётся в родную для себя стихию «лагерного иврита», по меткому выражению А. Кротова. Между тем в «непричёсанных» редакторами дневниках Достоевского, статьях и письмах русских классиков разъяснён уже характер опасности русской культуре и языку, в частности. Те, кому дороги богатейшие россыпи и нераскрытые ещё залежи удивительно пластичного, многомерного и жизненно ёмкого русского языка, знают, что он является средоточием формируемого многими веками стиля мышления, склада ума и характера народа. Это и делает язык исторически заявившей о себе нации уникальным явлением мировой культуры.
Русский язык сродни океану. Верхняя, обиходная его часть подвержена «ветрам перемен», но не глубины его. Так, айсберг являет свою мощь главным образом сокрытой, глубинной своей частью, без которой «айсберг слов» будет плоской ледышкой, легко стаивающей под всяким внешним воздействием. Будучи социо-народо- и странообразующим феноменом, язык не позволит безнаказанно вычленять себя из души народа и мышления его. Тем более, что он есть инструмент не только мышления, но и чувствования, воображения, ощущения и творчества в целом.
Если волевым путём отсечь современность от консервативного, «отсталого» и «тянущего вниз» прошлого, то тогда неизбежно наступит духовное отупение и моральное разложение носителей языка. Ибо с потерей живых сущностей (образов) из языка и из души народа уйдут богатейшие пласты сначала письменной, а потом и всей остальной (в масштабе человечества — мировой) культуры: изобразительной, музыкальной и пластической.
Язык всякого народа содержит в себе условную сумму духовной и исторической информации о нём, при историко-культурном своеобразии составляющую общую значимость его языка. Когда в народе, а значит, и в языке преобладает внутренне обусловленная значимость, тогда он, мощно заявив о себе в истории, создаёт великую литературу. Когда же громким «языком» «орёт» о себе поверхность, в характере преобладает разбросанность и доминирует инертность, тогда великолепие языка стаивается, подобно плоской ледышке. Тог- да и достоинства народа неизбежно оказываются на вторых или вовсе никаких ролях, а литература, плетясь в хвосте опущенной культуры, становится вялой и неслышной для себя и тем более для других народов. Отсюда важность формирования и отдельных личностей, позитивная сумма которых составляет культурное богатство общества и народа.
Подобно живому организму язык развивается, приходя в соответствие с формами сознания и неизбежным количественным расширением материального мира. Но, как и в нерукотворном храме, в нём есть святыни, которые необходимо почитать и защищать! Слово хранит в себе таинства, смысловую, образную и художественную сущность которых необходимо оберегать от духовных невежд и псевдореформаторов, добровольных или нанятых могильщиков культур, языков и наречий. Язык нашедших себя в мировой культуре народов несёт в себе интереснейшую информацию, содержащую код созданной культуры. Богатые смыслом и образами языки, стоящие
у рождения всякой целостной культуры, ждут бережного раскрытия и сохранения себя в самом языке в виде письменного или устного Слова. Но «лингвисты» и «филологи», как и парикмахеры и фармацевты от литературы, вне сомнения, знают, что исчезновение языковой сущности повлечёт за собой деградацию сознания человека, общества и народа в целом. Не знают они только того, что деградация коснётся и их самих! Она и будет местью языка тому народу, который не ценит, а значит, и не заслуживает его достоинств, художественных образов и смысловых сокровищ…
Что касается возможных и неизбежных языковых изменений, то естественнее будет исходить от корней (в данном случае — славянских) слов, что присуще народной этимологии. Тогда, не нарушая сущность языка, изменения и привнесения смогут дать здоровые, плодоносные ростки. В этом процессе могут приживаться и чужие слова, если они органично впишутся в характер и своеобразие русского Слова и речи, без чего русский язык не является национальным. И в самом деле, сколько поэзии в таком слове, как «проталина», отражающем проседание субстанции, податливость её, внутреннее неслышное и невидимое сочение воды — талой воды; или в слове «капель», внутренняя (слоговая) раздельность которого несёт в себе и пластичность, и отрывистость, передающие неспешное падение одной и рождение новой «капли». Вот и «ручей» даёт представление о малой, резвящейся по камням и неровностям почвы ручной речушке. Подобных прекрасных, образных, живых и навсегда современных слов в русском языке не счесть! Эта же ёмкость языка позволяет ему дружить с новоприёмными словами. Наверное, одним из них может быть предложенная мною эвольвента (производное от завитка греческой капители ионического стиля — волюты). Ибо не знаю, как, избегая многословия, передать изменяемость в своём развитии духовной, бытийной и смысловой ипостаси, в пространственном, «завивающемся» продолжении своём могущей привести к содержанию, противоположному или противостоящему изначальному.
О тектонике языка.
Казалось бы, нет нужды доказывать исключительную важность языка в его этической ипостаси, формирующей культуру. И всё же приведу мнение весьма авторитетного американского учёного Э. Сепира и его ученика-единомышленника Б. Уорфа, ясно показывающее: язык не просто способ общения — это психический склад народа.
Куда более сведущий, нежели известный нам «русский писатель», «философ» и «культуролог», — этнолингвист Эдуард Сепир отмечал важность в человеческом общении, в первую очередь, языковых норм: «Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения».
Бенджамин Уорф, завоевавший мировую известность своей теорией «лингвистической относительности», согласно которой открывающаяся человеку картина мира в значительной степени определяется системой языка, на котором он говорит, делал акцент на строительные культурообразующие особенности языкового материала: «Языки различаются не только тем, как они строят предложения, но и тем, как они делят окружающий мир на элементы, которые являются материалом для построения предложения. Грамматика сама формирует мысль, является программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза» (выделено мной. — В. С.).
Грамматические и семантические категории языка, согласно Уорфу, служат не только инструментами для передачи мыслей говорящего, но и формируют его идеи и управляют его мыслительной деятельностью, дисциплинируя, добавлю от себя, поведение человека, стиль его мышления и логику построения фразы.
Оттого в тех же США (и особенно в США!) вас могут не понять, даже если вы построите фразу грамматически правильно и произнесёте её без акцента. Потому что вы свой стиль мышления «не выстроили» в соответствии с местноязычной грамматикой. Таким образом заявляют о себе связь стиля и логики мышления с грамматической формой их выражения.
Впрочем, помимо понятийного несоответствия мыслительных процессов виной тому окажется ещё и ущербное ассоциативное мышление, в ходе культурной эволюции англосаксов уступившее место сугубо рациональному мировоззрению в ущерб самому миру (о том, почему глупый «на всех языках» не поймёт умного, говорить не будем — тут явно причины иного рода).
И в самом деле, позвонив в англоязычную страну, вы можете услышать по автоответчику: «Please, leave me а message. I will call you back», что в буквальном переводе на русский язык означает: «Пожалуйста, оставьте мне сообщение, я позвоню вам обратно».
В русском языке отмеченные слова опускаются. Они и не пишутся, и не произносятся, потому что подразумеваются. В этом проявляется специфически русская экономность мышления, имеющая основу в стиле жизни и мировосприятии, отличном от англосаксов. Мировоззренческая разница, будучи базой всякого языка, здесь заявляет о себе в языковой форме.
В по-инженерному строгой и неизменной конструкции английского предложения — подлежащее — сказуемое — дополнение — заложена архитектоника, выстраивающая дисциплину информативного общения, тогда как носителю русской языковой динамики свойственно предполагать (додумывать) то, что не выражено (не высказано) словом. Эта особенность русской (славянской) ментальности — видеть мир в его многосложности и неоднозначности, как мы уже говорили, — исходит от исторически сложившегося мировосприятия. Именно оно, вне всякого сомнения, способствовало созданию великой литературы, с её богатством образов, пластичностью и широтой ассоциативного ряда в языке. Но эта же особенность ввиду неизбывной нашей «стихийной» склонности недосказывать (а недосказанное домысливать по-своему) и на деле — не завершать (и доделывать по-своему усмотрению) обусловила отставание в том, что требует чёткой организации, дисциплины и аккуратности исполнения. Отсюда нескончаемые беды в экономике, путаница в социальных связях, бытовых и всяких иных отношениях.
К примеру, на вопрос: «Где находится…» или «Как пройти…» — вам, скорее всего, ответят: «Там…» или махнут рукой: «Идите туда…», указывая направление мимо всяких дорог. В результате вы ещё не раз будете вынуждены задать тот же вопрос. И это при том, что оно таки действительно «там», но по некой прямой… — «по воздуху», над котлованом разрытой до подземных ключей улицы (потому что технику некогда завезли «не туда», то и рыть начали «не там»), через кварталы и невесть откуда появившиеся стройплощадки (которых вчера не было, да и сегодня вроде не должно было быть) и т. п.
Такого рода трудности будут подстерегать вас и там, где и желательна, и важна максимальная ясность. Эта же способность перетолковывать (ввиду той же «шири» и «вековой» неопределённости) тему в неведомые и порой неожиданные для другой стороны значения позволяет понимать самые очевидные вещи «и так» — «и эдак». И даже в такие взаимоисключающие слова, как «да» и «нет», мы умеем привнести оттенки, нивелирующие их решительную однозначность. Наверное, только в русском языке «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» — означает одно и то же, а ответ на вопрос может звучать, как отказ и одновременно — как согласие:
«Водку пить будете?» — «Ах, оставьте!..»
Оно вроде бы и «да» («Хорошо бы!»), но вместе с тем и не совсем «да» («А удобно ли это?») … Отчего эта несогласованность? А пёс его знает… Во всяком случае, в «округлости» ответа иной раз ощущаются «колючие уголки» (понятно, что тоже неочевидного) «нет». Также и «нет». Оно, конечно, «нет», но в то же время не совсем «нет…», ибо в нём ощущаются «округлости» того же, где-то в уголках сознания затаённого «… да». В результате: ни «да», ни «нет» (ни то ни сё). Но и в этом же поле можно нарваться на та- кое (словно обухом по голове) «НЕТ», что хучь стой, хучь падай! Так же, впрочем, как и от «ДА!», потому что тоже «обухом»… Словом, и здесь «единство противоположностей». Наверное, такого рода словесные и смысловые парадоксы каким-то чудным образом вмещают в себя нашу знаменитую вселенскую ширь, в которой безнадёжно тонет самое мудрое мировоззрение и не может найти для себя опору «железная логика». Есть, конечно, ещё более плотные, не столько по смыслу, сколько «по эмоциональной окраске» слова. Однако не будем их рассматривать, ибо это может лишь вдохновить известных нам сочинителей.
Кстати, о ясности и точности в значении слов.
Английское слово couple или pair и в переводе и наяву означает «точно два». В славянском сознании «пара» — это тоже «два», но может быть три и даже четыре… Поэтому, если вы скажете англичанину, немцу или американцу: приходите через пару дней, — они за- явятся к вам точно через два дня, и вы можете оказаться не готовы к встрече. Если же где-нибудь в русской глубинке спросите у хозяйки пару яблок или пару грибов, то она не замедлит отсыпать вам полсумки — от души и бесплатно. В данном случае — и в этимологии слова, и в характере человека — заявляет о себе щедрость и великодушие, не- когда особенно присущие русскому народу, но в нынешних реалиях и конкретном деле создающие неясность, непонимание или недоумение. Англичанин, например, спросит пару фунтов яблок или грибов и непременно заплатит. Примерно о том же (вот и у меня тоже — «примерно») писал Уорф. Впрочем, не только об этом.
В соответствии с его теорией индивиды членят мир на фрагменты, предопределяемые структурой их родного языка. Так, если для обозначения схожих объектов в одном языке имеется несколько различных слов, а другой язык обозначает их одним словом, то носитель первого языка должен уметь определить разницу характеристик, тогда как носитель другого языка не обязан это делать. Таким образом, Уорф отмечает важную роль родного языка не только в межличностном, но и в межнациональном общении, подразумевая и известные трудности в работе филологов в постижении премудростей литературного творчества.
Итак, язык, будучи самодостаточным, не является только самостоятельной величиной. В своих проявлениях перерастая функции общения и информатики, он приобретает содержание, которым полнится общество, живущее и мечтами, и благими намерениями, и реальностями бытия. Потому именно духовное здоровье народа вкупе с его культурно-этическими запросами определяет «здоровье» языка. Более того, обладая немалой социальной и культурной ёмкостью, включающей развитое мировосприятие народа, язык, будучи важнейшей частью культурной и общественной жизни, определяет культурный массив настоящего и будущего страны.
Ввиду этого осмелюсь заявить: языковые параметры есть самостоятельные начала цивилизационной идентификации. Поэтому для сбережения русского языка от словесной грязи следует отвергать всякое пустое или провокационное «совершенствование» его. Отвергать ещё и потому, что отдающие кладбищенским духом сочинения лицедеев от филологии, совершенно свободные от нравственности, перегружены псевдосмыслом.
Это прирождённые мастера о простом говорить сложно, о совестном — с издевкой и пренебрежением, о духовном — цинично. Именно эти самозваные «благодетели» и самоизбранные опекуны всякой культуры являются первыми завистниками и неприятелями великорусского языка.
А ведь русская культура тем ценна для остального мира, что наделённая стремлением к истине исследует душу человеческую. Для этого она в полной мере обладает языковым богатством, пластикой, многозначностью и выразительностью образов, произрастающих в беспокойной душе народа — истинного носителя языка и запечатлённых в нём образов. Отсюда важность сохранения языка, который есть пользуемая сотворческая ипостась души человеческой, без которой человек и человеком-то не является. И не только в России.
«Исчезнет русский народ, и исчезнет духовное зрение планеты. Начнётся, разумеется, новая эпоха, но эпоха оскотинивания (на сей раз уже окончательного) современной цивилизации и приход в мир человекообразных мутантов. Исход такой эпохи предугадать не трудно», — писал А. Кротов.
В том-то всё и дело! Именно здесь зарыта собака. Человек в глобализованной культуре попросту не нужен. Он лишний!
Но кто же нужен?
Да в том-то и дело, что Никто — «глобальный ноль», многомиллионный потребитель, комфортно существующий вне всякой национальной культуры!
Отсюда «желание исказить, окарикатурить человека, лишить его богоподобия и сделать скотоподобным», — писал Г. Свиридов. Во всём прослеживается «идея» пересотворения человека в недочеловека! Поэтому, имея в виду «пекущихся» о русском языке, следует говорить не о средствах лицемеров и лжецов, а о целях, которые они преследуют. Обращение homo sapiens в биоовощ, наделённый покупательной способностью, есть одна из них, для чего культура языка сводится к некому «юниверсуму».
Опасность такого «бытия» нарастает с увеличением пустых и безликих, ибо обездушенных, клипов мышления, которые ввиду плоских характеристик легко укладываются во всякой голове. Эти, по факту пересозданные, неисчислимые «хомо сапиенсы» и есть жертвы потерявших или никогда не имевших совесть фальсификаторов — менеджеров лжи, функционеров «культурной» подлости и насилия над лучшим, что было и всё ещё есть в человеке!
Но беда не только в новоявленных «схариях-интернационалистах» и даже не в числе их, а в том, что ереси их обращаются в теле ослабленного духом общества в раковую опухоль. Как тут не вспомнить Ортега-и-Гассета: «Не страшно захворать, — страшно быть самой болезнью. Плохо, когда общество поражено безнравственностью, хуже, когда оно перестало быть обществом»!
Об «Иванах, не помнящих родства» в верхних эшелонах власти можно и должно говорить много. Но и остальным, кто не «там», должна быть ясна и цена, и мера великой ответственности. Ибо великой страны заслуживает не тот народ, который некогда заявлял о своих выдающихся качествах, а тот, который продолжает заявлять о них в исторической жизни! Могучий народ никогда не размещался в «собачьей конуре» истории.
Она попросту не годится для того, кто нуждается в иных культурных и пространственных измерениях.
Этим отличается пёс, привязанный к собачьей конуре, от созвездия Пса, принадлежащего звёздным пространствам мировой истории!
2007 г.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Цит. по: Г. В. Свиридов. «Музыка как судьба». М. «Молодая гвардия», 2002.
2 Цит. по: А. Кротов. «Русская смута». М. Издательство: Библиотека журнала «Молодая гвардия», 1999. С. 162.
3 Свою книгу «Материалы и стиль в романе Льва Толстого» (1928) В. Б. Шкловский сам впоследствии назвал «в целом ошибочной». В других своих работах он более интересен. Хотя и там, едва начав, за цитатами других авторов порой забывает, о чём пишет (см. анализ «Записок из подполья»). Пытаясь вспомнить, продолжает о чём ни попадя, вновь теряя мысль до следующей цитаты из кого- нибудь. В литературных попурри (см. «Художественная проза — размышления и разборы», 1959) Шкловскому нередко изменяет и вкус, и стиль, отчего, сваливая в кучу цитаты из классиков, он в своих мыслях порой «сваливается» туда и сам.
4 Строка из предисловия к книге: Б. М. Эйхенбаум. «Статьи о Лермонтове». М.-Л. 1961. С. 3. Все приведённые цитаты взяты мною из книги Эйхенбаума «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924). Wilhelm Fink Verlag Munhen. 1967 (издана на русском языке).
5 М. Верли. «Общее литературоведение». М., Изд. «Иностранная литература». 1957. С. 66.
6 Шкловский В. Б. Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1959. С. 409–410.
7 Все цитаты, включая «Бродский — геолог» Л. Штёрн (с. 250–251), взяты из книги, посвященной 50-летию, цитирую: «выдающегося поэта нашего времени» Иосифа Бродского, «Размером подлинника». Таллин. 1990.
8 Бродский знал, что говорил. Журнал «Новый мир» (№1, 2007) приводит заключение судебно-психиатрической экспертизы от 11 марта 1964 года: «Бродский проявляет психопатические черты характера», но «психическим заболеванием не страдает и может отдавать отчёт своим действиям и руководить ими». В последнем особенно убеждают дневники поэта…
9 Напомню: ежегодная международная Нобелевская премия по физике, химии, физиологии, литературе, а также за деятельность по укреплению мира учреждена Альфредом Бернхардом Нобелем, присуждается с 1901 года.
10 За девять лет до получения премии — 5 августа 1944 года
11 Черчилль сделал запрос в правительство Великобритании о возможности использования против Германии отравляющего газа. Черчилль, вознамерясь стереть немцев с лица земли, указывал на готовые к применению 32 000 тонн горчичного газа и фосгена, которые могли бы уничтожить всё живое в Германии на площади 965 кв. миль, что превышает города Берлин, Гамбург, Кёльн, Ессен, Франкфурт и Кассель вместе взятые (см. Albert Speer. «Inside the Third Reih», Р. 413. Примечание ** David Irving, Die Ceheimwaffen des Dritten Reiches. Hamburg, 1969). Рядом с этой несостоявшейся акцией бедствия Хиросимы и Нагасаки выглядели бы ничтожными. Даже Гитлер отказывался (Ibid, Р. 413) применять в военных целях отравляющие средства.
12 В сборнике «Назидание. Стихи» (Ленинград. 1990), посвящённом тому же юбилею, в предисловии так прямо и написано: «Творчество Иосифа Бродского относится к высшим достижениям русской и мировой культуры, и оно должно как можно быстрее и шире войти в обиход русского читателя и читателей всех народов нашей страны».
13 См. «Русский язык в свете творческой филологии». «Знамя», №1, 2006.
14 Они же, в университетах США (насчёт Европы не знаю) занимая на факультетах славистики известные позиции и оберегая их (позиции) от иначе мыслящих, мягко говоря, по-своему преподносят русский язык и литературу. Остаётся только надеяться, что умные и упорные в учёбе студенты сумеют овладеть русским языком настолько, чтобы суметь без посторонней (опять винюсь за неловкий каламбур) помощи разобраться в русской культуре.
15 После смерти В. Даля Бодуэн де Куртэнэ включил в Словарь (видимо, «для количества») множество ругательных слов, ввиду чего истинным «далевским» Словарём следует считать репринтные издания 1863 и 1866 (1955 и 1994). Для сравнения: современный немецкий язык насчитывает около 400 000 слов, шведский — около 300 000. В латинском языке специалисты насчитали 100 000, в древнегреческом — более 100 000, в древнеисландском и в санскрите (литературном языке древней Индии) — более 200 000 слов.
16 Железобетон — это монолитное соединение бетона и стальной арматуры, применяемое в строительстве. Конструкция — изделия из такого материала (Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. М.: 1999).
17 Цитируется А. Диким по книге Никитина Б. В. «Роковые годы», Париж. 1937.
БУДУЩЕЕ РОССИИ — НЕ В ИЗБЕ
На поприще ума нельзя нам отступать.
А. Пушкин
I
Статус-кво современной литературы России так или иначе отвечает состояниям народов, разбежавшихся по углам постсоветского пространства. Может быть, поэтому критические материалы в периодике и «толстых» журналах носят лоскутный характер. Возможно, и этот материал покажется «лоскутным». Ибо в интересах темы приходится выхватывать из истории отечественной культуры не самые лучшие, но характерные для её драматического развития «куски».
Впрочем, повременим с оценками, обобщениями и выводами. Тем более что в нынешних реалиях трудно определить: в чём, собственно, состоит русскость характера, литературы и русской культуры? Заглавие статьи, ставя под сомнение важность «избяной ипостаси» русской литературы, тем самым утверждает её наличие, а своей широтой лишь провоцирует постановку вопроса. Казалось, и так ясно: не в «избе» — даже и в царской — будущее Страны, культуры и литературы, в частности. Чего тут растолковывать?! В помощниках окажутся и русские пословицы: «Мудрость в голове, а не в бороде»; «Залетела ворона в царские хоромы: почёту много, а полёту нет». Однако смысл не устаканивается… никак. Может, потому, что с «бородой»?
Поговорим об этом.
Поиск истины, традиционно присущий русскому сознанию и наиболее полно выражавший себя в сокровениях отечественной литературы, теряет свои позиции в русской словесности наших дней. Вместо правдивого, выстраданного душой Слова и честных дел видишь обмылки прежних духовных исканий.
Даже и высокоодарённые писатели (понятно, отечественного толка, о литературных недругах России речь пока не идёт) в своём творчестве стараются стыдливо не вглядываться в болезни русской жизни. Но снисходительность их и «доброта» к «нашенским» несовершенствам порой переходит через край.
Вместо раскрытия противоречий, они поэтизируют пороки «времени», [1] представляя неспособность к делу, безалаберность, хаотичность мышления и отсутствие самообладания в невинном, «род- ном» и благостном «великолепии». И эта мифическая «святая душа на костылях» (выражение Валентина Распутина) едва ли не предлагается в качестве примера народу, нуждающемуся отнюдь не в костылях. Поданные в патриархально-романтическом ореоле «святые души» на протезах подчас претендуют на некую «глубоко сокрытую» нравственность и «нутряные» достоинства. «Костыли» увечных душ подобно набату стучат по вековому бездорожью России, а нам всё нипочём… В патристике с прежней приятностью «в голосе» передёргивается или воспевается достойное осуждения в жизни народа, характере его и в истории самой Страны. Но при умилении неизбывной вялостью «русского мужичка», а в трудной ситуации — понуром бор- мотании вместе с ним: «Вот приедет барин, барин нас рассудит», — почему-то не берётся в расчёт, что «барин» — то всё не едет…
Так, волею или неволею, отгораживается сознание от истоков корневых проблем и, что хуже, посредством «отмытой» совести уводится ум и от причин, и от следствий их. А когда художественное Слово, противясь макияжу из фальши, не даётся апологетам
«Руси», тогда они прибегают к формам повествования, позволяющим и в неказистых малостях увидеть былинное. Когда же «малости» эти совсем уж теряются в низостях и постылостях, тогда «кудесники пера» и в них умудряются отыскать некую «изюминку». Нечто такое, что… ну вот как-то, всё же, несёт в себе труднообъяснимое (что понятно) и невидимое постороннему глазу (с чем также можно согласиться), но представляющее собой «определённую ценность». И это несмотря на то, что российское бытие вопиёт о разрушении истинно духовной структуры и нравственных устоев. Так, вместо восстановления утраченных достоинств пишущая братия чуть ли не бравирует их отсутствием.
Деформация некогда ясного отношения к Отечеству не могла не привести к искажению патриотизма в Слове и Деле, вследствие чего им стала «благая» любовь к себе такому, какой ты есть. Любовь к болезням и язвам своим, которыми стали подменять само Отечество; любовь к себе — ленивому и лживому; любовь к себе — беспутному, недоброжелательному и мрачному. Словом, любовь к себе даже и тогда, когда у тебя за душой ничего нет и в сложившейся ситуации быть не может, то есть когда ты ничтожен и пуст. А ведь именно это посредством «идейного» сочинительства, не забывающего кадить самому себе, и приводит к размыванию в русской жизни феномена Отечества. И всё это «курится» тогда, когда Россия повисла над бездной, в которую, неровён час, может свалиться при очередном «повороте» истории или экономическом кризисе!
Эта-то ложь — «видимость, обман, ложь во спасение, ложь каждодневная, навязчивая», — писал Виктор Астафьев, тем опасна, что имеет в себе паразитирующую на совести моральную основу, отчего «…уже сомневаться начинаешь: может, ложь-то и есть правда, а правда-то и вправду — ложь».
Здесь Астафьев придаёт лжи, хоть и постыдный, но всё же смысл. Однако весь трагизм в том, что ложь эта, став «вещью в себе», за годы бессмысленного вранья стала самим смыслом. Более того (и это страшно!), даже лгунами перестала восприниматься как ложь, потому что, сроднившись с ложью, они стали ею. Но ведь ложь, паразитируя на долготерпении людей, — когда примитивная до нелепости, а когда — изощрённая и наглая до пошлости, во всех своих ипостасях загоняет проблемы внутрь. Она же порождает и множество пороков, среди которых мудрые старики подметили наиболее характерный:
«Кто лжёт, тот и крадёт». Вспоминаешь и предостережение дедов, как будто прямо обращённое к столпам культурной жизни и литературы, в частности: «Во всяком заборе столбцы наперёд подгнивают». Отсюда особая ответственность «столбцов», так как «и слепая лошадь везёт, коли зрячий на возу сидит»! Ну и сколько же можно лгать? И во имя чего? Спасения? Какого «спасения»? Чьего? Уж не души ли?! Может, во имя спасения общества? Идеологии? Системы правления?! Авторитета Страны? Отечества? А может, государства?
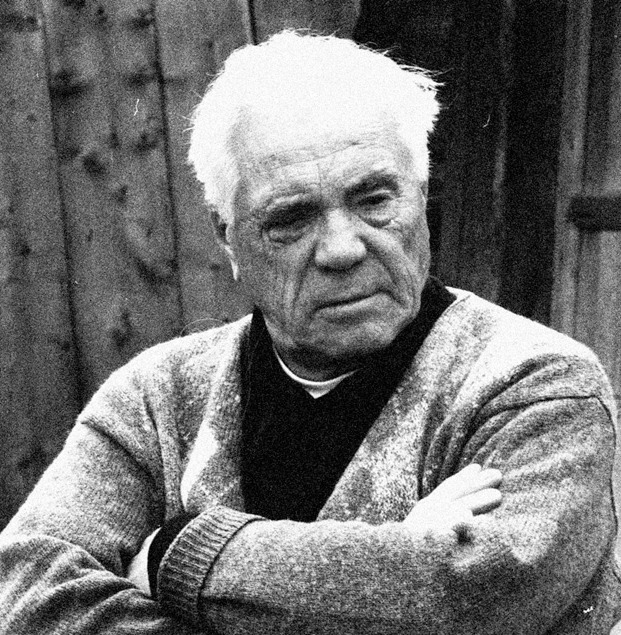
Иллюзии! Ложь унижает самый смысл жизни. Затаптывая искры божественного в человеке, не щадя ни совести его, ни чести, ни духовного достоинства и более всего оскорбляя искони присущее русскому человеку ощущение Правды, она не может быть орудием спасения чего-либо. Не может уже потому, что является орудием адептов, поклонников и делателей лжи!
Ложь, идя рука об руку с воровством и от мерзкой близости рождая лицемерие и жульничество, через духовную бездомность ведёт к беспринципности и враждебности ко всему созидательному, при этом рождая множество других пороков.
Не зря говорят, что у лжи короткие ножки, поэтому всё у неё временное, подлое и неполноценное. Оттого «ложь во спасение» — на всех уровнях и во всех смыслах — есть факт трусливого, теряющего человеческий облик рабства. Рабства человека, не имеющего ни в душе, ни в сознании своём ничего святого.
Игрою случая допущенный к государственному корыту или ютящийся у грязных её стоков иной «господин» остаётся рабом потому, что не имеющий совести не знает свободы. Не достойный её, он являет собой широко распространённый тип раба-пораженца. Причём не бунтующего раба, а навсегда сдавшегося! И раб этот, растратив и духовные, и физические силы, не видит уже смысла своего существования, ибо свет в конце тоннеля заляпан, а путь к истине загажен нечистотами потерявших себя душ.
Это же можно отнести к идеологии, ставшей наиболее изощрённым и действенным инструментом в руках карьеристов, разномастных честолюбцев и «властителей дум». Именно адаптированная идеология в первую очередь становится вотчиной мёртвых и грязных душ. Именно её первой «хватают» и залапывают лгуны своими грязными руками.
Поэтому не всякие разговоры об Отечестве — как с «гербовых», так и «сермяжных» трибун — следует считать полезными. Забалтывающие причины и обращённые в пустую говорильню — слова лишь замыливают проблемы, ждущие немедленного разрешения.
Во всяком случае, благими ли намерениями, в кои издавна и намертво вплелась пресловутая ложь во спасение, по наущению ли, по ревности ли, либо по недоумию, из российского бытия не исчезает Ложь. Не исчезает потому ещё, что стала профессией словоблудов и любимым занятием сладких сирен от идеологии. Она, как это ни покажется странным, находит «понимание» и усладу даже среди «спасающихся», коим несть числа. Но если апологеты творческой «свободы без берегов» откровенно развращают души людей, то их идейные противники (из числа как будто совестливых «народных» писателей) «из самых лучших намерений» кривят небесталанным пером. Ибо преподносят жизнь России вроде потёртого «деревенского» лубка, так некстати подтверждая некогда наблюдённое: «Дурак и под коровий рёв пляшет».
Поверив школе старших, в ряде случаев одарённых писателей, некогда молодая и подававшая надежды, а нынче поседевшая от ли- тературной подёнщины поросль старательно выписывает из забытых словарей деревенские архаизмы типа: «вервие», «ковды», «куды», «покуль», «откуль», «ково», «дак чё с ево», «сплотатор» и т. п. С тем, чтобы, одевшись в давно прохудившиеся лапти, лихо пуститься в пляс под свои разудалые или «подёрнутые тоскою» и печалью ностальгические, не иначе как по допетровской Руси, куплеты. Как будто истинно русская речь может существовать лишь в лохматостях искусственно созданного или усреднённого, опрощённо-путанного «русского говорка», бытуя в бесформенности языка неприкаянных маргиналов, сомнительно-народных выражениях или облекаясь «благостной праведностью» околоцерковного повествования.
Если говорить конкретно, то издержки куцего мировоззрения, порченого стиля и нехитрой внутренней культуры столь же откровенно, сколь бессодержательно и многословно, являют себя в трилогии Вл. Личутина «Раскол». А в партийно-«покаянной» прозе Владимира Крупина то ли замаливают себя, то ли причитают о себе с «духовным надрывом». Личутин не столь «жесток», но его повествование буквально тонет в «пряностях» говорка a, la XVII век, который, не убеждая, собственно, ни в «русскости», ни в особой необходимости, настаивает на себе больше, нежели само содержание. Что касается действия непереводимого ни на один язык романа, то его и вовсе не видно под частыми речами желающих угодить автору опрощённых донельзя московитов.
Иван Бунин, негодуя на такого рода прозаиков и стихотворцев, видел во всём этом великую опасность для русского языка и литера- туры. Они «делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, „словеса золотые“, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своём архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно!», — писал Бунин.

Будучи тончайшим стилистом, Бунин не переносил весь этот «тошнотворный… маскарадный и аляповатый style russe», вроде:
«Ну, батенька-с, хлопнем-ка ещё по одной… с селёдочкой-то, а?», которым грешил, дополняет Бунина Адамович, даже Иван Шмелёв. Но нерадивым ученикам время не впрок. И сейчас, в пику предостережениям русских классиков, этнографическая «жись» рассматривается a-la «русистами» через призму лениво небрежной созерцательности. И не без крестьянской хитринки, что, «по идее», как будто предполагает связь со староотечественной культурой. Однако узость миро- воззрений, не позволяя увязать вчерашнее с настоящим и будущим, сводит все старания к банальному бытописанию. Потому куцая «близость к народу» приводит к кондовому языку, «простота» которого и вымышлена и выморочена, а потому неестественна. Если ребёнок всего лишь обижается, когда с ним говорят «по-детски», то народ смеётся над придуманным за него, оторванным от жизни языком.
Стремление сказать «попроще», «понароднее», посредством стилистических завитушек и пустословесного узорочья ведя к изобретению лженародного говора, не продлевает жизнь языку, а укорачивает его.
И в самом деле, кто будет принимать всерьёз язык, шарахающийся «в глубь» псевдопатриархальности?! Не говоря о том, что, будучи непереводным, он непременно закиснет в сермяжной «квашености» его апологетов и распространителей. Поэтому, в художественном отношении не дотягивая до литературы, опростевшие «до народа» «гусляры» и бытоописатели плетутся далеко в стороне от мудрого лесковского сказа. Точки над «i» в этом вопросе, казалось бы, навсегда, расставил великий знаток русского языка А. Н. Островский: «Для на- рода надо писать не тем языком, которым он говорит, но тем, которым он желает»!
Однако не всякое лыко в строку: иной «не пляшет — так прищёлкивает». Взятая в отрыве как от достижений, так и от поражений современной цивилизации, подобная «древность» на поверку оказывается новоделом или мёртвым источником. Под «лыковым» пером лукаво-наивных авторов она не имеет в себе ни глубины, ни живительной силы, ни истинной духовно-нравственной основы. «Словотворчество есть хождение по следу слуха народного и природного, хождение по слуху. Всё же остальное — не подлинное искусство, а литература», — писала Марина Цветаева. Да и литература-то сомнительная, а значит, временная, поскольку «быстрая вода до моря не доходит»…
Связывая дух народа с языком, немецкий философ Германн Люббе писал: «Там, где стремление сохранить местный диалект обращается против литературного языка, где экстремистские неокельты и неогерманцы бравируют своим антиримским стилем, там культурная программа превращается в лозунг изоляции». Иными словами, одним топором, да ещё с помощью «какой-то матери» (с некоторых пор прочно угнездившейся в сочинениях особо «раскрепощённых» авторов), не «срубишь» высоких технологий и не создашь культуры; «не зробиш» космического оборудования, как и не «выстругаешь» точных наук. «Топором» можно лишь вырубить (без кавычек) эти достижения, чему в истории России есть немало примеров. «Дай глупому лошадь, так он на ней и к чёрту уедет» — гласит народная мудрость. Если же пойти на поводу «топорной правды», то придётся признать, что тончайшие по строю духа иконы писались не иначе как вениками. А эпические, на удивление ёмкие по содержанию и наполненные красочными образами летописи, былины и сказания утверждались в культуре Руси косноязычием смердов…
Ко всему прочему, нынешним, как будто бы безобидным, плакальщикам «по Руси» следовало бы знать, что мысль-образ посредством активного воздействия на сознание способна выстраивать реальность, формируя само бытие. И если она, нарочитая реальность эта, будет-таки выстроена («выстругана», «зроблена» или «срублена»), то в перспективе всем нам «светит» в городах не удобное жильё, а «жись» в глинобитной хате или курной избе с вырытым в земле (или, как в степи, — «везде») отхожим местом. Словом, через просторечие придя к простомыслию, а затем и к опрощённому до дерюги бытию — ждёт нас не улица, а околица, выходящая на такие же нелепые — через дорогу — жилища с колодцем и «журавлём в небе». Печалясь о колодезном «журавле», крестьянский поэт Николай Клюев сварганил у себя в «фатере» «синицу в руках».

В конце 1920 гг. приехав в Северную Пальмиру «заниматься отхожим промыслом, то ли плотничать, то ли быть ямщиком» (по словам В. Г. Базанова), «олонецкий мужичок» живо превратил петербургское помещение в старом доходном доме в крестьянскую избу, по брёвнышку перетащив её из родной ему Олонецкой губернии. Причём, всё в ней было самое что ни на есть взаправдашнее, вплоть до того, что между брёвен торчал густой мох. Впрочем, театрализованная обстановка не лишена была реалистических элементов, включая домашнюю живность, в чём наглядно убедился литератор Геннадий Гор. Как-то зайдя к Клюеву, он увидел, как из щели бревна ему навстречу выполз (тоже, видимо, чистопородных олонецких кровей) таракан, который безбоязненно уперся «взглядом» на изумлённого пришельца. [2]
А ведь в «сказания» эти, казалось, давно уже внесена ясность. Даже Константин Аксаков, который, по Герцену, одевался настолько по-русски, что народ на улицах принимал его за персиянина, и тот отделял истоки России от её первобытного существования. Бравируя древнерусским зипуном и мурмолкой, убеждённый ревнитель старины всё же понимал, что возвращение к первопричинности, через непонимание реалий приводя к поддёвочному, сусальному патриотизму, нарушает понимание эволюции русского общества, жизни Страны и развития государства. «Должно воротиться не к состоянию Древней России (это означало бы окаменение, застой), а к пути Древней России (это значит движение)», — наставлял Аксаков). А уж нам-то — через полторы сотни с лишним лет — тем более должно быть ясно, что шитая лыком ностальгия по «избяной Руси» не в состоянии ни остановить негативные тенденции, связанные с урбанизацией социума и уплощения сознания общества, ни возродить объективно отмерший феномен обрядовой культуры и старорусской жизни.
Этнографическое смакование допотопной деревней, как и ностальгия по никогда не существовавшей Руси, ничего не прибавляя литературе, способно лишь тормозить её развитие. [3]
Культура и бытие Отечества, нынче одетая отнюдь не в «лапти» и коноплянки [4] с онучами, должны жить в душе и памяти достойного их (традиций и обычаев — не лаптей) человека. Если же её (память) отшибло, то запоздалые «вспоминания» не способных к жизни остатков прошлого больше похожи на отмывание совести. Но, ущемляя и размывая последнюю, это лишь промывает «дыры» в отечественной культуре. Мало того, театральное одевание в «традиции» есть фарс, посредством скоморошного водевиля способный лишь усугубить растление культуры. Отмирает ведь то, что либо утрачивает живительную силу, либо не способно выдержать столкновения с жизнью. Да и что толку «сплуатировать» прошлое, если не можешь создать равноценное ему?!
Жертвами такого столкновения следует признать «зилотов» патриархального быта, ревность которых выродилась в умозрительный, «письменный», сектантский патриотизм. Имея на себе старые метины, он не нов ни в русской литературе, ни в русском сознании. Отталкиваясь от «критического реализма» второй половины XIX в. и невесть какого реализма начала ХХ в., в конце оного «стилевые патриоты» пришли к тому же плачу, разве что едва слышному и мелкослёзному. И псевдовселенский плач этот, переходя в бессильное всхлипывание, раздаётся из-под тех же обветшалых рогож того же ненастного бытия, оплакиваемого как будто бы честной по своим намерениям литературой.
Плач по чему? Да по всему и более всего — по деревне…
Но какой? Когда существовала в России та деревня, которая заслуживала бы столь горьких и безутешных рыданий? При каком царе?
Да, были времена не слишком продолжительного благоденствия, которые скрашивали вызванную, прежде всего, климатом тяжесть деревенского быта. Последний и выковывал неудобный для «европейского мира», но сильный и суровый характер народа, тяготеющего к вере, делу и справедливости. И тогда — в случае нарушения народного устава или при случившемся воровстве — при въезде в селение вкапывали столб, который, свидетельствуя о позоре, стоял до тех пор, пока не сгнивал. Однако «вбивание столбов» почему-то не нашло широкого распространения. Не до того было деревне, из столетия в столетие ведущей борьбу за выживание. Потому, когда толстовский Нехлюдов «начал свою речь тем, что объявил мужикам о своём намерении дать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения».
И не могло произойти! Поскольку у крестьян, за века многажды обманутых «отцами-благодетелями» из высшего сословия, не было к ним никакой веры. И не могло быть, ибо не знали «кормильцы» ни русской жизни, ни русского языка, а те, что знали, напрочь забыли его за ненадобностью, так как с детства говорили на иноземных языцех. Итак, сформированные вне традиций и форм русской культуры, «отцы» могли лишь презирать собственный народ, на что последний мрачно отвечал им тем же.
Глубина проблемы была ясна не только классикам.
Давно и незаслуженно забытый писатель-народник Александр Эртель, [5] не только «ходивший в народ», но и долгие годы живший его нуждами, в конце ХIХ века с горечью писал: «Нет, никогда ещё я так не понимал некрасовского выражения «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта…». А ведь если сравнить с состоянием деревень середины ХХ века, это были времена патриархальной деревни. Что-то ведь тронуло душу обрусевшего немца, ставшего православным и прилепившегося сердцем к России.

«Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе…», — отмечал Эртель. Значит, отметим и мы, в те времена существовала (пусть и далёкая от идеала) деревенская цивилизация, которой пришёл конец после Октябрьской революции, последующего раскулачивания, коллективизации, и прочих бедствий. Иначе говоря, было-таки время, когда народ, не изменяя благовесту, не только не рушил церкви, но и строил новые. Когда же деревенскую жизнь нарушали въедливые «сицилисты», то народ сам исправно вязал их и сдавал в участок. И. Е. Репин даже картину написал — «Арест пропагандиста» (1880–1892). Судя по долгой работе над полотном — сдавали в участок революционеров регулярно, во всяком случае, до скончания века.
Однако поиск в истории идеальной или просто добротно скроенной деревни не входит в задачу настоящей работы. Тем более, что оценок и мнений на этот счёт предостаточно. К примеру, Михаила Бакунина (в отличие от Эртеля) отнюдь не воодушевляло деревенское бытие, как и сама патриархальная жизнь. Последней здорово достаётся от него в письме к Герцену: «Почему эта община, от которой вы (и Эртель, добавлю от себя. — В. С.) ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства?», являющего «…бесправие перед всем миром», убивающего «…всякую возможность индивидуальной инициативы», лишающего «…права не только юридического, по простой справедливости в решениях того же мира…».
Впрочем, словам Бакунина можно противопоставить другие слова, которые опровергнут его на словах же, в ответ на которые можно привести опровергающие их. И так — до бесконечности.
Словом, разноголосица в мнениях людей, не понаслышке знавших деревню, может у кого угодно отбить охоту забираться в дебри противоречий деревенской жизни.
Нам, нынешним, тем более не пристало рядиться в компетентные судьи издавна дышавшей на ладан житницы Страны. Поэтому за невозможностью объять необъятное взглянем на деревенское бытие в произведениях «критического реализма». То есть вспомним эпоху, когда и община, и мужики были «лучше эртелевских», когда ходоки после отказа в просьбах не крушили земство, а, поверим Н. Некрасову, «с непокрытыми шли головами», возвращаясь в свои жилища не солоно хлебавши.
Итак, обратимся к художественному Слову. Точнее, к давно отмеченному филологами феномену негативного восприятия многих аспектов российской жизни.
Заявив о себе в литературе середины ХIХ века, он нашёл себя в «критическом мазохизме» последующих времён.
При рассмотрении вопроса возникает серьёзное сомнение в том, что декларируемый со времён Чернышевского и Герцена «поиск истины» посредством критического мировосприятия был настоящим, духовно осознанным стимулом литературного творчества. Ибо, как правило, начинаясь с «высоких материй», «поиск» этот скоро переходил в мелкое копание в бытийной и социальной жизни. Здесь специально оговорю, что мелочность состоит не в пресловутом «маленьком человечке», а в масштабе духовного посыла авторов, лучшим примером чего является бытокопирование живописцев из числа «Передвижников».
Сомнения возникают потому ещё, что в произведениях русских классиков, исповедовавших постулаты «нравственного реализма», в той или иной форме заявляет о себе отрицание как таковое (в чём «замечены» Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Куприн, а более всех в своих разбойно-удалых и беспросветно-унылых рассказах, Л. Андреев; список длинён). Может, А. Чехов, утверждая: «Нужно по капле выжимать из себя раба», — имел в виду неприятие «доли народной» внутренне рабствующими, в душах которых и затесалось отрицание радостей русской жизни?! Внутренне вольный человек — писатель, художник или музыкант, наблюдая мир явлений, не останавливается на внешней грязи, так как видит их глазами свободного.
По этой причине Лермонтов и Достоевский, умевшие вникнуть в противоречия не только русского, но и «мирового человека», были далеки от огульно критикующих. От тех, кто видел русское бытие однозначно мрачным, беспросветно несчастным, ничего хорошего не имеющим и ни к чему путному не ведущим. Истинно глубокий ум видит историю не только в срезе современности.
Сумел же Фридрих Шиллер написать свою знаменитую оду «К радости» даже в несвободной, раздробленной до карликовых государств Германии! Потому, очевидно, что умел ощущать жизнь не только текущего времени.
Что там Шиллер! Разве русская икона — великая в гимне божественному в человеке — непостижимой красочностью своей, переходящей в нетленную «радость цвета», не несёт в себе признаки бытия в их чарующей ипостаси — той, в которой духовная гармония доминирует над несовершенствами человека?
Разве она соборностью сознания иконописца, чистотой темы и красочностью её решения превосходя самые выдающиеся индивидуальные достижения живописцев, их глубокие (и тоже духовные) изыскания и откровения, не содержит в себе начал, вразумляющих душу и сознание человека?! Разве красота такого рода не есть зеркало души «человека радостного», между тем способного и на подвиг?! Разве не явили его иноки-воины, вдохновлённые на знаменитую битву св. Сергием Радонежским?! Но если так, то не лучше ли было бы возвратиться к тому, что присуще народу по культуре и происхождению, нежели в плачах и скорбях развивать то, что ему исторически не свойственно?!
II
Увы, правительство Александра I не поняло звёздного часа русского бытия, а его наследник с оловянными очами не поддавался ни вразумлению, ни настояниям времени. Плац-парадный «уровень, начертанный николаевским скипетром» (А. Герцен), обусловил острокритичную «линию» Чаадаева, за которой стелилась широкая полоса уныния — везде, во всём и среди всех!
Некрасов, разглядев «несжатую полосу» на крестьянском поле и обратив свою «находку» в громкую песнь о тяжёлой доле народной, не удосужился увидеть сжатые полосы крестьян. Бессильные пахари Ивана Никитина — современника Некрасова, и вовсе не доживали до жатвы… Их соха — «горькой бедности помощница» — застревала в дикой полыни — «травке дикой», символизирующей горечь жизни, неразлучной со смертью. Повсюду немощному жильцу — Никитину — виделась «Бедность голодная, грязью покрытая/Бедность несмелая, бедность забытая…».
Заживо погребённые персонажи отдающей Богу душу поэзии мрачно тянули свою «лямку» вместе со своими авторами. Чахлые духом и одолеваемые телесной хворью, они, подобные бурлакам Репина, из последних сил волокли свои «полосы» до погоста с тем, чтобы справить там тризну и по ушедшей Руси, и по себе самим…
В своём стихотворении «Родина» (1846) Некрасов, «с враждой и злостью новой» вспоминая свою безрадостную юность, пишет о том, что всё «Проклятьем на меня легло неотразимым,/Всему начало здесь, в краю моём родимом!..».

«С отвращением кругом кидая взор, с отрадой» видел Некрасов, как «срублен тёмный бор… и нива выжжена… и на бок валится пустой и мрачный дом…» его детства… его Родины.
Плач Некрасова о «несжатой полосе» и по всему вообще подхватили другие литераторы. Переведя «полосу» в прозу, они к концу века обратили её в реквием по несостоявшейся русской жизни. Ту же «песнь», придав ей монументальность и возведя в масштаб государственности, продолжил М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сформировавшись при режиме Николая-«Палкина», писатель обрёл специфическое видение России, впоследствии ничуть не поколебленное более разумной политикой следующих двух императоров. Отсюда «николаевская» — во фрунт — прямолинейность и несгибаемость его сатир, кои находили-таки себе почву в ухабах «расейской» неупорядоченности. В этом смысле тоже «почвенник», он по-своему обессмертил отечественные реалии.
Иное отношение к России было у Чехова.
Сложившийся в другой политической реальности, он умело прятал эпические картины Щедрина в «футляр» конкретной обывательской жизни, часто ядовито, но всегда беззлобно указывая на её изъяны, нашедшей живой отклик в «щедринском эпосе».
Сатиры Чехова не только жалили, но и лечили небезнадёжных, тем самым выгодно отличаясь от произведений авторов, заражённых неприятием бытия как такового. Последнее с редким постоянством заявляло о себе в произведениях Максима Горького и уныло-тяжёлой, без щели просвета, прозе Леонида Андреева.
В рассказе «Супруги Орловы» (1897) Горький делится с читателем отнюдь не безвредной «удалью» главного героя. Она, своей непристойностью завораживая «страстных любителей всевозможных происшествий» в самом повествовании, в некоторых аспектах потрафляла (это несомненно) тайным стремлениям читателей из потенциальных «товарищей»…
О чём же грезил один из «орлов» гнезда Горького?
Прожив жизнь тупо и без пользы, он мечтает «отличиться на чём-нибудь», хотя бы даже «раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей!» или сотворить «что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и потом вниз тормашками — и вдребезги!» Заканчивается рассказ описанием каба- ка, где автор участливо общается со своим детищем: «Тяжелая дверь кабака, в котором я сидел с Орловым, то и дело отворялась и при этом как-то сладострастно повизгивала. И внутренность кабака возбуждала представление о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощает одного за другим бедных русских людей, беспокойных и иных…». В рассказах Л. Андреева «жизнь» горше даже и горьковской реальности. Содрогаясь от неё, критик Ю. Айхенвальд пишет: «Внешний безобразный ужас застилает собою у Андреева внутреннюю жуть».
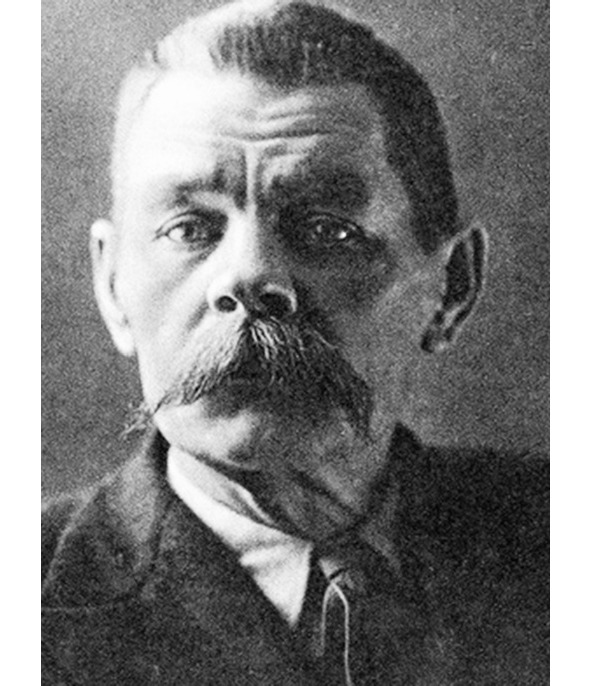
В своих текстах писатель и в самом деле «разевает» перед читателем художническую «пасть», которая по-горьковски пережёвывала и по-андреевски проглатывала души «попавшихся».
Взять хотя бы унылый, тяжёлый, без щели просвета рассказ Андреева «В подвале» (1901), течение которого он предваряет беспощадным началом:
«Он сильно пил, потерял работу и знакомых и поселился в подвале вместе с ворами и проститутками, проживая последние деньги. У него было большое, бескровное тело, изношенное в работе, изъеденное страданиями и водкой, и смерть уже сторожила его, как хищная серая птица»…
После такого вступления и в самом деле хочется взять жбан водки, опорожнить его «до части», привязать недопитое к вые и… — пропади оно всё пропадом! — броситься головой в омут. Но погодим пока. [6]
Что же дальше-то? А дальше Андреев пишет: «Пришла ночь. Пришла она чёрная, злая, как все ночи, и тьмой раскинулась по далёким снежным полям… Слабым огнём светильников боролись с ней люди, но, сильная и злая, она опоясывала одинокие огни безысходным кругом и мраком наполняла человеческие сердца. И во многих потушила она слабые тлеющие искры». И здесь Андреев, зло констатируя чьи-то невидимые смерти, опять подсказывает нам «единственный выход» из такой жизни…
А кому же подсказывать, как не ему, ведь он несколько раз пытался покончить с собой?! Исповедуя безысходный мрак, писатель настойчиво внушает читателю, что в этой жизни нет ни радости, ни надежды! Потому и своему герою (Хижнякову), «приговорённому» автором, он не оставляет никаких шансов на выживание. Заканчивает свой рассказ Андреев так же безнадёжно, как и начал: «А у изголовья уже усаживалась бесшумно хищная смерть и ждала — спокойно, терпеливо, настойчиво»!

На фоне такой прозы самые строгие проекты и предложения Градоправителя из «Истории одного города» (1870) С. Щедрина кажутся олицетворением невинной шалости, юмора и строевого «плац» -оптимизма.
И в самом деле, «вглядываясь» в будущее России, Угрюм-Бурчеев предлагает планы гуманного умягчения его. В соответствии со своими грандиозными планами он выстраивает для народа некий Коммунистический Город, где есть даже «манеж для коленопреклонений, где наскоро прочитывают молитву». И угрюмый прозорливец наш таки был пророком в своём отечестве! Ибо прошло время, и «манежем» стали тысячи площадей, на которых счастливый народ маршировал, пел песни, читал гимны и прочее. А местами для преклонений стали миллионы «красных уголков». Но и это не всё.
По плану нашего героя после оздоровительной маршировки обыватели «направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой (что, плохо разве? — и тоже ведь было); наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску хлеба, посыпанного солью (это уже не так хорошо, но не хуже пайка будущих ГУЛАГов).
По принятии пищи выстраиваются в каре и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются, сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы» (вспомним кинематограф 1930-х гг. — тут Щедрин прям как в воду глядел!).
О «жизненности» проектов Градоправителя говорит то, что большинство их было взято на вооружение «красными камандирами», выполнено и даже превзойдено. Словом, то, что самому Щедрину казалось сатирой и утопией, позднее было блестяще выполнено под блеск наганов «товарищей».

Именно под их «чутким руководством» трудовые коллективы и ходили на работу в ногу, и нагибались единовременно, и косили в одном ритме. Если б писателю-сатирику хватило идеологической фантазии, то он к «стуку заступа» непременно добавил бы песни счастливых трудящихся. Но что уж теперь сетовать…
Зато другие инициативы Угрюм-Бурчеева «товарищи» обошли и по смыслу, и по содержанию, а во многом и перевыполнили даже, для чего сравним то, что знаем, с тем, что имеем в пунктах «Устава о свойственном Градоправителю добросердечии»: «Казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таких расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба (пункт 8-й III- го Устава)».
Правда, в житейском исполнении один из пунктов «Устава» (13-й): «В пище и питии никому препятствий не полагать», — содержит небольшие перекосы (ибо с пищей в России были-таки трудности), зато с питиём никаких перекосов (прошу прощения за каламбур) не было и нет. Ибо питиё воистину стало любимой «пищей» пролетариата, да, впрочем, не только его. Далее читаем (пункт 14-й):
«Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития». Полагаю, долгое время так оно примерно и было, хотя, может, не всегда и не везде…
Но самое ценное предложение Градоправителя содержится в последнем, 15 пункте. Сила его в том, что оно завсегда способно развязать руки властям, в то же время способствуя «полёту фантазии» и буйству «мыслей» иных его замов.
Содержание этого пункта, вне сомнения, заслуживает всяческого поощрения, а потому должно быть возведено в догмат общественно-обывательского жития. Более того, лаконичный по неясному смыслу и безупречный по неуловимой форме пункт этот должен быть «отлит (цитирую одиозного политика нынешней уже России) в мраморе» во всяком государстве, не знающем куда идти… Вот этот, краткий, как всё гениальное, пункт: «Во всём остальном поступать по произволению»!
Итак, в силу умения и меры уныния, глубины восприятия и личных пристрастий писатели заката XIX и рубежа веков озабочены были главным образом трудностями и мерзостями повседневной жизни. Причём критике подвергались все звенья российской власти, обвинялись практически все сословия, система общественного и государственного устройства и сам император. Таким образом, Угрюм-Бурчеевы, Иудушки Головлёвы и Кабанихи, кочуя из жизни в литературу и наоборот, становились подлинными героями произведений, опосредованно формируя по себе российское бытие.
Замечу здесь, что в «чаадаевских» настроениях и смехе сквозь слёзы писателей пушкинской поры слышалась горечь от наблюдаемой действительности. Но замерло эхо последних из них, и преемники Гоголя, прослезившись от смеха, всерьёз задумались и сделали «критический реализм» жупелом своего творчества. Всё больше исходя страданиями от «такой жизни», они не нашли ничего лучшего, как прийти к отрицанию уклада отечественного бытия, как и самой «русской жизни», лишь частью которой были пороки российского общества. Не все, конечно. А. Эртель, наблюдая исподволь усиливавшееся безверие, признаётся: «Я долго писал о нём (народе), обливаясь слезами». Ему больно было видеть, как талант и великие потенции народа из поколения в поколение уходят водой в песок…
Но собратьям Эртеля по перу недосуг было разбираться в «низовой культуре» и принимать близко к сердцу интересы простого люда. Убеждённые в своём призвании научать и пестовать «низы» общества, они — при недостаточном почтении к себе — тыкали в рыло всякому «хаму» своим «фи». Сам Эртель не был склонен к анализу перипетий и тонкостей отечественного бытия, а народу в ещё меньшей степени были интересны «сложности» навязываемых ему «сверху» литературных образов. Не научен он был этому, да и не до того ему было… Как это ни покажется странным, но понимание народа интеллигенцией не особенно отличалось от «видов на народ» дворовых, коими были сотни тысяч приблудивших к городу селян, давно переставших быть крестьянами и не ставших городскими. У обоих «классов» было схожее презрение к «своему народу».
И те и другие, потеряв родство и память о своей малой родине, не способны были распознать в ней Страну. Восприятие «приблудивших» к дворовым по факту было сродни опрощённым до безликости и потерявшим народную характерность маргиналам, коим до культуры не было дела. Интерес к ней у одной «части» был умственным, а у другой — сродни балаганному, ярмарочному — «весёлому». И то, что интеллигенция была куда более образованной, нежели её «сосед по классу», ничего особенно не меняет. Потому что и те и другие, если мерить не эрудицией, а пониманием российских реалий, были одинаково далеки от народа.
В результате самоослепления тогдашних «образованцев» истинно талантливую и мыслящую Россию на рубеже ХХ в. заглушил гогот толпы, презиравшей «высокие материи», не умевшей и не желавшей видеть ничего хорошего в собственной жизни. Остатки дышащего на ладан дворянства, как и образованные слои «продвинутого общества», по-прежнему оставались страшно далеки от народа… И ничего не менялось… Позднее, уже после революции, Сергей Есенин с горечью писал в «Ключах Марии» (1918) о трагедии преданного всеми «мужика»: «Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью прочувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на св. духа».
Однако выгонять было уже поздно… Слишком долго сознание «плебса» процеживалось через сито безысходности, общих тягот и личных разочарований… Отсюда сентенции Василия Розанова, печально глядевшего на «российское человечество»: «Расцвели розы. И увяли розы. Что же ты плачешь, смертный человек? Скажи „здравствуй“ одним и „прощай“ другим» («Мимолётное». 1915). Но не расцвет был в чести и во внимании «плачущих» писателей, а увядание и запущенность… Не восторг и вдохновение, а глубокий упадок духа!
«…Все русские (везде выделено В. Розановым. — В. С.) прошли через Гоголя — это надо помнить. Это самое главное в деле, — там же писал Розанов (31. III. 1915.). — Не кто-нибудь, не некоторые, но все мы, каждый из нас — Вася («Вася» уж точно! — В. С.), Митя, Катя… Толпа. Народ. Великое «Всё». Каждый отсмеялся свой час…«от души посмеялся», до животика, над этим «своим отечеством», над «Русью» -то, ха-ха-ха!! — «Ну и Русь! Ну и люди! Не люди, а свиные рыла. Божьи создания??? — Ха! ха! ха! Го! го! го!..».
2. V. В 1915 г. Розанов ещё более категоричен: «…Русская литература есть несчастие русского народа. Неужели можно «воспитывать детей» на проклинании и насмешке над своею родною землёю и над своим родным народом?». А 10.V. того же года записывает: «Гоголь в русской литературе» — это целая реформация… Не меньше».


Как видим, Гоголю особенно досталось от Розанова. Но первым, кто критически отнёсся к творчеству Гоголя, был — с лёгкой руки Николая I — «сумасшедший» Пётр Чаадаев. В 1836 г. (т. е. задолго до выхода в свет знаменитых «Мёртвых душ», 1842–1852) в «Апологии сумасшедшего» анализируя комедию Гоголя «Ревизор», Чаадаев жёстко указывает на потенциально вредный сарказм писателя: «…никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось полного успеха». Это глубоко осознал и сам Гоголь — отсюда глубочайший внутренний разлад великого писателя…
— V. 1915 г. Розанов дополняет свою мысль: «Дело в том, что не Гог <оль> один, но вся русская литература прошла мимо Сергия Радонежского. Сперва, по-видимому, нечаянно (прошла мимо), а потом уже и нарочно, в гордости своей, в самонадеянности своей. А он (Сергий Радонежский) — ЕСТЬ» (выделено Розановым). Замечу, задолго до него А. Дружинин писал в статье о Пушкине (1855) о том же: «…наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением».
К счастью, Андреев в своём нездоровом любовании чёрными сторонами жизни не стал маяком русской литературы. Но его большой талант, в котором «внешний безобразный ужас застилает собою… внутреннюю жуть» (Ю. И. Айхенвальд), не мог не воздействовать на настроения, мировосприятие и стиль писателей начала века. А живучей «внутренняя жуть» была потому, что как-то отражала разлад русского бытия, находившегося в шаге от революции. И разлад этот преумножался усилиями самоизбранной, завсегда неугомонной и истеричной в своей «избранности», либерально, без берегов, настроен- ной интеллигенцией, к концу XIX века существенно разбавленной не очень уверенно говорившими на русском языке литераторами.
Иван Шмелёв понимал причины настроений Розанова. Потому, наверное, и написал «Богомолье», а затем — «Лето Господне». Но, во-первых, эти благостные произведения были написаны после всего (соответственно в 1931 и 1934–1946 гг., к тому же в эмиграции). Во-вторых, они были продиктованы, скорее, чувством вины (общей — «от всех» русских писателей), а потому по своим художественным достоинствам намного уступают его же великому реквиему по гибнущей России «Солнце мёртвых» (1923). Разница в достоинствах обусловлена тем, что трагическая тема решалась всем существом автора, а не только «религиозной направленностью», сусально-покаянным умом, «чувством вины» и пр. Ибо истинное творчество не реализует себя по заказу, даже если «заказ» этот исходит от самого автора и продиктован самыми благочестивыми побуждениями. В данном случае именно ощущение вины — чувство греха (совершённого или несовершённого, внушённого или надуманного), отравив душу и сознание Гоголя, привело его в ужас. Именно нравственная подавленность от того, что не на том бытии сконцентрировал он свой гений, не позволила Гоголю создать шедевр, равный первому тому. Поэтому, выморочив «из себя» продолжение «Мёртвых душ», продиктованное нарочитостью (т. е. написав не по вдохновению, а по прямому <пастырcкому> наущению), и увидев разницу, унижающую его гений, Гоголь сжёг свою рукопись. Не мог не сжечь! Поскольку из того, что было у него под рукой, можно создать лишь образ «положительного негодяя», что шло вразрез с его намерением обустроить Отечество. Именно это осознал Гоголь.
Кто знает, может, сожжение тома невольно подсказал ему другой гений — Михаил Лермонтов. Проникновенный поэт, не имея иллюзий относительно своих современников, провидел и пустоту будущих «потерянных поколений». Может, Лермонтов и Гоголь предвидели тот «Апокалипсис», суть которого позднее раскрыл Достоевский, а трагическое развитие его дали выдающиеся писатели и мыслители России рубежа и начала ХХ века. Придётся признать, что драма Гоголя была не только в том, что он осознал, какую Россию развернул в своих «Мёртвых душах», а в том, что другой России он не видел! И не потому, что не способен был увидеть, а потому что искал и не находил предпосылок для обновления России, отчего не мог найти и вдохновенных образов её… Это и было истинной трагедией Гоголя-человека, мыслителя и писателя. И не его одного, но и всего русского народа, что подтвердилось через несколько поколений.
«Мёртвые души», ожив, реализовали себя в волчьем оскале свиных рыл. Именно их узрел остальной мир в начале ХХ века…
Прошло немного времени после «освидетельствования» Розановым переворота большевиков — и он меняет название своего следующего сочинения на более принципиальное — «Апокалипсис нашего времени». В нём он без обиняков и со всей категоричностью заявляет: «Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература» (1917)!
Здесь в интересах дела позволю себе отвлечься от мыслей Розанова.
Падение Российской империи подготавливала, действуя «из самых лучших побуждений», не только литература, но и другие формы воздействия на бытие. Сатира, юмор, ирония и сарказм были при- думаны не в России и, охватывая не только литературу, всегда имели цель совершенствовать общество. Но именно в России писатели, декларируя устранение пороков, придавали своим произведениям такую форму и прибегали к таким средствам, которые рвали само существо Страны. Желчно-подозрительное отношение к достоинствам народа подчёркивал непропорционально жёсткий подход к его порокам. Таким образом, первые изолировались от общественного сознания, а вторые заняли в нём доминирующие позиции. Для чего не было ни исторических причин, ни нравственных мотивов, как не существовало и серьёзных поводов для глубоких духовных разочарований.
В первой трети XIX в. Россия имела прекрасный повод для общенародного подъёма, коим была победа в Отечественной войне 1812 года. И искусство, и литература достойно откликнулись на это событие, подняв в сознании народа авторитет Отечества. Упомяну лишь творчество В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, романистов М. Н. Загоскина, И. И. Лажечникова, музыкальные произведения С. А. Дегтярёва, А. Е. Варламова и М. И. Глинки. Однако триумф ограничился восхвалением «Александра Великого» и на фоне экономической отсталости — подъёмом при Николае I «уставного самодержавия». Новый царь видел идеал общественного устройства в армейской жизни, освящённой уставами и циркулярами. Такое положение дел, помимо разочарования культурных слоёв общества (замечу — продолжавших существовать «отдельно» от своего народа), способствовало проигрышу Крымской войны (1853–1855) шести европейским государствам. А последующие «вердикты» выигравшей «шестёрки» открыли миру «глиняные ноги» Колосса. Но вместо того, чтобы начать наконец двигаться, разгоняя свою застоявшуюся кровь, высшие слои общества, погрязнув в рутине бюрократии, только и говорили, что о своих болезнях… Результаты общественной ипохондрии не замедлили сказаться.
С середины века замирает развитие скульптуры и архитектуры России: первая становится академически слащавой и разночиннокамерной, а вторая едва ли не целиком уходит в обслуживание функций городов. Живопись, с лёгкой руки Карла Брюллова и Александра Иванова, по-прежнему остаётся «итальянской». Выдающиеся апологеты академического искусства так и не выбрались из прокрустова ложа петербургской академической школы (по сути, филиала Болон- ской Академии).
Но если гигантское полотно «Последний день Помпеи» Брюллова (1830–1833) вписывалось в эстетику европейского искусства (русского в «Помпее» изначально ничего не было), то картина «Явление Христа народу» Иванова (1857) по своим живописным качествам отставала от стилистически быстро обновлявшейся эпохи, особенно в Западной Европе.
Каноны классицизма пока ещё отвечали нуждам эпохи, но мало удовлетворяли запросы развития и совершенно не способны были окрылять одарённую молодежь. В Петербургской Императорской Академии художеств это привело в 1863 г. к бунту выпускников. Но созданное «бунтарями» общество передвижников с первых же шагов ушло в другую крайность.
На смену «идеальному» пришла «реальность» — столь же тщательно выписанная, но в наименее вдохновляющей своей ипостаси. На измождённой и голодной «Тройке» В. Г. Перова (1866) в русскую живопись въехали крайне пессимистические настроения.
Конечно, не в ней одной было дело. До Перова ипохондрия свила своё гнездо в творчестве ряда художников. К примеру, ещё «при Иванове» Павел Федотов озабочен был сюжетами, названия которых говорят сами за себя — «Утро чиновника, получившего первый крестик» (1846), «Разборчивая невеста» (1847), «Вдовушка», «Сватовство майора» (1848) и др. На редкость «безнадёжной» и не очень содержательной была кисть М. Клодта. Так, в картине «Больной музыкант» (1859) тема никак не раскрывается в связи с творческой ипостасью музыканта. Столь же убийственна картина художника «Последняя весна» (1861). На ней освещённая благословенными весенними лучами изображена умирающая миловидная девушка в окружении столь же бледных, умирающих от горя родственников…
Но лидерство в этом отношении по-прежнему удерживал В. Перов. Он изобразил «Проводы покойника» (1865), где убитая горем вдова с двумя (конечно же, нищими и голодными) детьми сопровождает повозку с гробом. Это «перовское горе» тащит кляча, которую автор почему-то написал недостаточно истощённой и замученной. До того, как убить в зрителе всякий интерес к жизни, Перов выжимает какую бы то ни было живость из самих красок, ибо коричнево-войлочный колорит картины извещает о последней стадии умирания.
В картине Перова «Утопленница» (1867) тоже нет жизни. В ней даже застывший у тела полицейский пристав, весь в куреве, никак не олицетворяет её, жизнь. Но если мёртвая утопленница изображена миловидной и вызывает сочувствие у готового разрыдаться зрите- ля, то живые и подчас бодрые персонажи других его картин больше напоминают свиные рыла, а потому вызывают (ибо задумано так) «справедливое негодование». Таковы «лица» в картине «Сельский крестный ход на Пасху» (1861), где пьянорылые — в дым! — крестьяне только что не вываливаются из картины. Так же и в «Чаепитии в Мытищах» (1862) «рыло» чаепьющего вызывает у зрителя ненависть, ибо ясно, что калеке-солдату ничего не подаст этот… боров-иерей. «Такие вот они, православные…», — как бы нашёптывает автор на ушко зрителю, который и без подсказки готов уже «дать в рыло» разжиревшему батюшке, и не только ему… А почему бы и нет?! Стоит только взглянуть на громадного в животе «Протодиакона» И. Репина (1877). Ну а глядя на «Последний кабак у заставы» Перова (1868), недобитого ещё зрителя просто трясёт и от холода, и от негодования на всё… на всех… и вообще…

Так Русь, с лёгкой руки Гоголя крылато отождествлённая с «птицей-тройкой», под кистью Перова обернулась в «тройку» замученных работой и замордованных жизнью мастеровых (полное название картины — «Тройка. Ученики мастеровые везут воду»). Никакие другие мысли и настроения не могут возникнуть при виде запряжённых в сани вместо лошади оборванных детей, в жесточайший мороз из последних сил тянущих огромный бак с водой.
Вымирал народ… в живописи не только во времена Клодта и молодости Перова, но и в творениях следующего поколения художников. В. Поленов пишет картину «Больная» (1886). Справедливости ради замечу, что умирали не одни только женщины… «Восстанавливая справедливость», В. Максимов пишет картину «Больной муж» (1881), а Сергей Иванов создаёт в буквальном смысле убийственное произведение — «В дороге. Смерть переселенца» (1889), в котором убитая горем женщина лежит рядом с трупом мужа. Жара кругом, судя по теням, неимоверная. Маленькая, обгоревшая на солнце девочка, ничего, очевидно, уже не соображая, дико уставилась на свое- го умершего отца…
Надо сказать, что С. Иванов вообще был мастером «жанра», никому не оставляющего надежд на жизнь.
III
Ну, а как обстояли дела у живых?
Увы, тем, кто выжил от «живописного мора», тоже было несладко, а иные из них и вовсе были готовы променять жизнь на смерть. Словом, народ тогда, если не умирал, не тонул, не гибнул под пулями или не вешался, то ругался или судился друг с другом, в чём убеждаешься, глядя на «Семейный раздел» (1876) — тоже Максимова.
«Но где же спасители Отечества? — воскликнет кто-то в отчаянии. — Где они, родимые?».
И они тоже есть. Как же без них-то?! В. Маковский пишет полотно «Вечеринка» (1875–1897). Долго писал и как будто не без удовольствия. В нем впечатляют образы тогдашней «прогрессивной молодёжи», то бишь революционной интеллигенции. Один из «тиллигентов» стоит посреди комнаты в расхристанной позе с цигаркой в зубах, осоловело глядя перед собой; пол заплёван, повсюду раз- давленные окурки, грязь. Обо всём остальном можно только дога- дываться… Фантазию, впрочем, особо напрягать не приходится, ибо сидящая за столом девица (студентка?!) всем своим видом выражает «кайф» от сложившегося в доме «положения вещей». Что касается рабочего класса, то он либо тупо рабствовал с утра до ночи «на душегубов» (на картине Н. Касаткина «Углекопы. Смена», 1895 г., рабо- чий черными «андреевскими» глазищами прожигает «тьму жизни»), либо, являясь малосознательным элементом, в остальное время пил «горькую» от безысходности. То есть почти «по уважительной причине». Правда, на картине В. Маковского «На бульваре» (1886–1887) мастеровой наигрывает на фисгармонии незамысловатую мелодию, будучи в стельку пьяным. Жена его остекленевшими глазами безнадёжно глядит куда-то в землю. Чай, чует чего… Ну и, конечно же, не могли наши правдолюбцы не откликнуться на тяжёлый труд женщины.
Александр Архипов с готовностью пишет картину «Прачки» (1890), где, судя по густому пару, бельё варится едва ли не вместе с самими прачками… Не отставал от молодёжи и И. Е. Репин. Куда более талантливый, нежели «любители вечеринок», и Репин, где видел народ, там и слышал стон его да скрежет зубовный («Бурлаки на Волге», 1870–1873). К счастью для Репина и для искусства у художника были друзья, которые могли и вовремя одёрнуть его, и в выборе темы помочь. Посоветовал же кто-то Репину не вписывать в композицию сочувствующую бурлакам аристократку в кружевах и с изящным зонтиком в руках. Тем не менее и он отдал дань моде в полотнах «Отказ от исповеди» (1879–1885), «Не ждали» (1884), «Арест пропагандиста» (1880–1892) и ряде других. От всей этой «густоты» русское искусство могло бы задохнуться, если бы не утверждающее жизнь мировосприятие других живописцев.
Вдохновенные образы настоящего и прошлого России нашли себя в искусстве великих мастеров — Валентина Серова («Девушка освещённая солнцем», 1888; «Мика Морозов», 1901; «Дети», 1899; серия живописных листов, посвящённых Пётру I <1907>, Петру III и др.) и Василия Сурикова. И им был открыт трагизм русского бытия. Но Серов в силу большой культуры и тонкого вкуса не мог ограни- чиваться лишь «иллюстрациями к жизни». Чуждый поверхностному видению бытия и истории, Серов не скатывался до перебирания сора событий и преходящего времени. И он откликался на «боль жизни», но тогда только, когда для этого были действительно веские основа- ния (в частности, в грозовой период истории России 1905–1907 гг.).

Потому и произведения на злобу дня выполнялись Серовым на очень высоком художественном уровне.
Сибирская душа Василия Сурикова, не заражённая разночинными страстями, воспринимала жизнь шире, здоровее и глубже, чем многие его коллеги по цеху. Духовная целостность Сурикова и оптимистичное видение России в истории подвигало гениального живописца раскрывать нерастраченные силы русского народа. Отсюда позитивная заряженность его полотен, которую мастер «весело» явил в картине «Взятие снежного городка» (1891). Утверждающее жизнь настроение не исчезает даже при рассказе о наиболее критических моментах истории России — «Утро стрелецкой казни» (1881), «Меншиков в Берёзовке» (1883), «Боярыня Морозова» (1887), «Переход Суворова через Альпы» (1899). Отражая в своих картинах изломы истории, Мастер умел видеть продолжение жизни сквозь угасание предшествующей.
Холсты глубоко религиозного Виктора Васнецова излучают чистую душу автора, его веру в настоящую и будущую Россию. Мощью старой Руси веет от его эпического полотна «Три богатыря» (1898) и ряда других произведений.
Михаил Нестеров, сочетая в своих произведениях гармонию цветов с внутренней умиротворённостью, незримо осеняет душу зрителя важностью чистоты помыслов. Как будто исчезая в равновесии цветовых гамм, художническое «я» Нестерова заявляет о себе в необходимости «стяжания мира» каждым из нас. Неброская манера письма Мастера несёт в себе светлые идеи, в которых угадывается духовное осмысление и беспокойство о судьбе России («Видение от- року Варфоломею», 1889–1890; «Под благовест», 1895).
Особняком от всех в русском и мировом искусстве стоит многогранное и грандиозное творчество Михаила Врубеля. Явление высочайшей культуры, великого таланта, ума и глубокого мировосприятия, его творчество — широкоохватное и исполненное драматизма — было, скорее, исключением из «общего правила» творческой интеллигенции. Как мы знаем, последние большей частью ограничивали свое видение России показом выгребных ям русской жизни. И у Врубеля находим мы горечь. И он отдал дань печали. И его творения пронизаны трагизмом эпохи. Но вдохновлённый другим титаном духа — Лермонтовым, художник никогда не опускался до пережёвывания и смакования преходящих реалий. Печаль Врубеля, не опускаясь до низин частного и социального неблагополучия, была истинно лермонтовского — вселенского масштаба.
Глубоко чувствуя народную жизнь и переживая перипетии исто- рии, Врубель не замыкал своё творчество в пределах одной только России. Ломка эпохи, погубившая многие таланты, не обезобразила искания великого Мастера. Более того, прозревая общественные катаклизмы и возвещая о них, Врубель беспощадно раскладывает их сущность в «ломающихся» градациях цвета («Демон сидящий», 1890). Как бы мимоходом освоив свежее ощущение цвета импрессионистов Европы и пойдя дальше их, гений Врубеля превращает цвет в драгоценные камни, переливающиеся неземными оттенками. Из этих сокровищ цвета и света художник выстраивает картины современного ему бытия и воссоздает внутренние реалии ветхозаветной истории. В то же время, наблюдая разгульность народного духа, предвозвещая неоязычество в России и провидя движение новых орд («Св. Афанасий и Богоматерь с младенцем», 1885; варианты «Надгробного плача», 1887; «Голова Демона», 1890–1891; «Гадалка», 1895), великий живописец создаёт мозаичные образы, свидетельствующие о наступлении трагического будущего («Микула Селянович и Вольга», 1899–1900; «Демон поверженный», 1902; карандашные эскизы «Пророка», 1904).

Итак, если «сузить» искания русских художников и литераторов до «размеров» отечественного бытия, то повод для печали (и немалый!) у них, конечно, был.
Но густота и унылость отображения социальных бед превышает все разумные пределы.
Любопытно, что во Франции в преддверии Великой Французской революции отношение к теме было принципиально иным. К примеру, Ж. Грёз неустанно и весьма плодотворно прославлял добродетели третьего сословия. Его матроны и величественные старики в окружении множества детей как будто относят нас во времена гордого своими родовыми связями Древнего Рима. Что касается тяжёлого и изматывающего труда, то он, конечно же, был и там. Ему отдали дань Г. Курбе «Дробильщики камней» (1850), [7] Ф. Милле («Человек с мотыгой», 1863), живописец А. Менцель («Железопрокатный завод», 1875), неустанно славивший труд скульптор К. Менье («Подлингтовщик», 1886) и др. Но нигде, кроме России, во главе угла не ставились страдания человека вне позитивных возможностей и надежды выйти из них! В пику «русским» настроениям (или нестроениям духа) Жак Луи Давид звал французов к доблести во имя Отечества («Клятва Горациев», 1784). Восславлению подвига посвящена Триумфальная арка Франсуа Рюда, сооружённая в передышках (1833–1836) между четырьмя революциями (здесь отдадим должное исторической правде — губящими Францию).
А ведь мастера вполне могли расставлять акценты лишь на трагических сторонах жизни, которых тоже было предостаточно. Могли, но не расставляли! Очевидно, потому, что, имея не менее печальный исторический опыт, знали: навязывание обществу горя, безысходных переживаний, аффектов и всякого рода негативных эмоций снижает потенциал народа и психологически адаптирует его к феномену страдания. Поэтому они внушали французскому народу уважение к себе (которого, по правде говоря, со стороны сильных мира сего в то время к народу не было: к примеру, за украденный кошелёк, платок или булку в Англии и Франции можно было запросто угодить на виселицу).
Как бы там ни было, но Великая французская революция (на остальные отвлекаться не будем) провозглашена была во благо беднейших сословий. И хотя благо это так и не наступило, отдадим должное идее уничтожения классового неравенства. Впрочем, если в первой из них, по словам русского религиозного мыслителя Георгия Федотова, действовали и «силы добра, и сатанинские силы», то в совокупности революций «черти», пожалуй, что возобладали.
Вернувшись к русской живописи, скажем, что в своём самоуничижении она всё же уступала отечественной литературе. Потому, видимо, что Слово, рождаясь, прежде всего, в сознании, на сознание и распространяется. А в «цветописи», обладающей иными (психо-физическими) особенностями, сознание оперирует существующими в природе цветами. Неся в себе смысл, отличный от словесного, создавая иные эмоции и формируя личностное мировосприятие, «цвета» находят понимание не у каждого зрителя. В принципе верна мысль:
«Когда художник берёт в руки кисть, мир окрашивается в его цвета». Но всё же она не отражает всей полноты взаимодействия художника и мира, ибо не учитывает многообразия форм воздействия последнего на сознание первого.
По схожей причине менее подвергнута была влиянию политических движений русская скульптура середины XIX в. И дело тут не в формах её, а в том, что русская пластика всё ещё оставалась пасынком (замечу, перезрелым) достижений западной скульптуры. Отставая от запросов и задач своей жизни и не очень уже помня пластические достижения Ивана Мартоса, русская пластика ещё только создавала собственный диалоговый язык. Не восприняв полноты и специфики «российского духа», а потому не найдя ему пластического эквивалента (это произошло уже в начале нового столетия), скульптура всё ещё драпировалась в салонно-романтические «одежды», умело обслуживая состоятельные слои общества.
Говоря о русской живописи второй половины ХIХ в., нельзя обойти вниманием её бросающуюся в глаза склонность к повествованию. Художники большей частью «водили кистью», как пером. Исключение составляют отдельные выдающиеся произведения живописцев, умевших придать эпическое звучание своим камерным полотнам («Грачи прилетели» А. Саврасова, 1871).
Ввиду этого каждое «слово» в русской живописи тех лет было ясно и не нуждалось в расшифровке, в кропотливом описании жизни иной раз даже обгоняя современную ей литературу. Почему? Потому, наверное, что, утеряв значительность содержания и не имея что сказать изобразительными средствами, «эпоха» прибегала к непритязательному рассказу о быте, в чём особенно отличились и чем совершенно напрасно гордились передвижники. Именно по наезженной ими колее да под звон печальных бубенцов последующих рассказчиков и «извозчиков» от живописи в Россию «въехало» неуважение к ней самой. В идейном и живописном отношении едва плетясь, «Тройка» Перова буквально ворвалась в социальную жизнь России, посторонившись разве что перед ещё более тяжелой литературой.
Упаднические настроения охотно поддерживались революционерами от демократии. Изгаляясь над самодержавием, они безумно, с пеной у рта отстаивали жизненность опровергнутого историей все- общего «равенства и братства». Дальнейшее течение общественной и политической жизни России хорошо известно…
Вернёмся к умозаключениям русских писателей-классиков в канун революции.
Мысли-эмоции Розанова рубят тугой узел моральных и нравственных противоречий эпохи. Бьющие в цель, сверкающие молнии его формул выхватывают самое существенное, но как будто субъективно им воспринятое… Точки над «i» в сентенциях Розанова расставляет Бунин. В те же дни, придя к мысли о пагубности для русской жизни «критического реализма», он отмечает: все мы «вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть „попа“, „обывателя“, мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина — словом, вся и всех, за исключением какого-то „народа“, — безлошадного, конечно, и босяков».
Понимая замечания Розанова (и согласного с ним Бунина) как сумму навязчивых сетований «литературы», «убившей Россию», можно попенять на живущую по сей день «классическую» причину печального положения дел, если б не одно обстоятельство, почему-то обойдённое вниманием Розанова и Бунина. А именно: русскую литературу в ипостаси «русской безысходности» создавали люди, которые сами в избытке наделены были этой самой деструктивной для себя и гибельной для России неустроенностью! Классики наши (к счастью, не все) «и примкнувшие к ним» живописцы лишь выражали то, что в той или иной мере было присуще не только им, но и немалой части остального народа, который был таким, какой есть, другим быть не мог и… не хотел! Очевидно, отсюда надрывное «буйство» мировоззрения Андреева, чрезвычайная унылость ряда произведений Куприна и скептицизм самого Бунина.
Пытаться понять и осознать всё, что творилось в мозгах «передовой части общества» России уже не представляется возможным. Но создаётся впечатление, что общественные изломы и переломы могли зародиться в головах, наподобие той, которую ёмко и убедительно вылепил Андреев в одном из лучших своих рассказов «Иуда Искариот» (1907): «Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв». И хотя описание черепа относится к голове Иуды, а не ко всему поколению (включая писателей) рубежа столетий, ближайшие события показали, что «раскроенный» череп предателя Иуды может служить символом «передоновской России». Именно она на протяжении лет исправно поставляла новым властям своих безбашенных рекрутов. Но, «убив Россию» тогда, не продолжаем ли нечто подобное и сейчас? Разве не очевидно в принципе то же непонимание причин, подорвавших устои России, которую, говоря словами Бунина, «мы не ценили, не понимали»?!
Не в забвении ли причин и беспечности к их следствиям историческое несчастье России?
Разве не о том же самом (из хороших ли побуждений или по лихому наваждению), посредством почвенно-старушечьих всхлипов распространяя те же упаднические настроения, и сейчас продолжают заявлять в своих произведениях маститые авторы? Разве их настроения по сути своей не свидетельствуют о тех же «перовско-андреевских» явлениях, только разделённых десятилетиями? Не превращается ли современное «почвенничество» в болото, где продолжают вить свои гнёзда «перовщина» в мироотношении и «передоновщина» во взаимоотношениях?! Не им ли вторит смолоду погребальная проза Валентина Распутина и писателей «почётно-деревенского» мировосприятия?! Но тогда не к большинству ли героев их произведений можно отнести слова Анатоля Франса: «Он считал себя несчастнейшим из людей, да и на самом деле был несчастнейшим человеком, поскольку чувствовал себя таковым»?!
С выводом французского писателя трудно не согласиться.
Мимо взоров писателей, при распутице мировосприятий заплутавших в художественном нравоучительстве и погрязших в трагизме быта, прошло главное: реальность далеко не так трагична, как кажется. Трагична поверхность реальности, потому что соткана она из наших настроений, неоправдавшихся надежд, мечтаний и чаяний.
Нет спору, проза совестливого Распутина светлее, нежели «человеко-убийственная» проза Горького или Андреева. Его произведения пронизывает горечь от ослабленного волей неприкаянного Отечества. Распутину больно было видеть, как прошлое Страны грубо попирается «консервной банкой» (по определению Г. Свиридова) ушлой цивилизации. В «Прощании с Матёрой» финальная сцена сидящих в ночи старух, потерявших ощущение времени и мира, исключительно сильна! Она не просто жива, но кинематографически осязаема.
Всеми доступными человеку органами чувств ощущаешь ту темень, в которую погружается жизнь старух, как и тех, кто пока ещё «веселится» (в городе). Ибо та же тьма, придёт время, пригнёт и их — слепых и неразумных… Одна только эта, ночная и мрачная, сцена колоритнее и масштабнее иных полнометражных фильмов. Что касается цвета и света, то в повести «Пожар» они явлены в красках, доступных лишь большому мастеру Слова! Распутину, пожалуй, нет равных в современной русской литературе (а возможно, и в зарубежной, ибо, где ещё могут гореть деревянные избы?!) в описании не просто пожара, а сгорания в жару нелепого бытия самих душ человеческих, «задымленных» общим неустройством и собственной неприкаянностью.
Несмотря на всё это, невзирая на мелькающую кое-где «жестокость» слова, во всех текстах писателя ощущается искренняя и беззаветная любовь к России. Не по-андреевски хищная, ненастная и агрессивная, но глубоко переживающая затянувшийся упадок Страны. Произведения писателя наполнены острой душевной болью ввиду наступления ложных для человека и гибельных для России приоритетов, когда мораль подвергается ежедневной экзекуции, а совесть — тотальному унижению.
И всё же, несмотря на очевидную разницу в мироотношениях, приходишь к «еретической» мысли, что в Распутине-писателе живёт-таки достаточно ясно узнаваемый Андреев. Пусть не жестокий, откровенно деструктивный и болезненно-агрессивный, а добрый и стеснительный даже, но с истока творческого пути тоже уставший от нелепостей бытия, а потому грустно-сентиментальный и завсегда готовый погрузиться в тот же бездонный и безвыходный пессимизм умирающих… Потому что, как и Андреев, не находит Распутин в российской действительности способных к жизни, ярких и оптимистичных, полезных в бытии и исторически перспективных образов.
В безыскусном и малохудожественном рассказе «Не могу-у…» (1982) Распутин крупным планом даёт тип вконец обезволенного и потерявшего человеческий облик пропойцы, вокруг которого вдохновлённый состраданием автора жалостливо суетится весь вагон.
Да, это печальная реальность наших дней, которая с тех времён лишь ухудшилась, ибо теперь сталкиваешься с ней чуть ли не на каждом шагу. Но нужно ли, сострадая ей (получается именно так), по существу, лелеять и холить эту самую реальность?! Ведь фактом жалостливого обращения к ней (и с ней) лишь укрепляется, а посредством «литературной обработки» ещё и множится гниль неустроенных, спившихся, подлых и напрочь забывших о духовном устроении душ — «душ», не желающих меняться, а потому ничего для этого не предпринимающих. Не в таком ли сострадании к народу содержат- ся зёрна не только приятия факта, но и обеления исходных причин подобного «горя»?! И чем здесь особенно вдохновляться?! Каким примером? Не этими ли «героями», не одно уже поколение уничтожающими в себе человеческий облик?
Но зачем ими, тленностью своей из года в год полнящими и поганящими российское бытие, заполонять (причём, лаская их!) ещё и литературу?! Об этом чаде, исходящем от чрезмерного внимания к неустройствам общества, в древности писал афганский поэт Щахид Балхи: «Когда бы дым валил от горя, как от костра лесного,/Лишил- ся б мир, закрытый дымом, сияния дневного».
Но то — от горя… А это от чего?
И потом, где? В какой истории народ спивался от «неподъёмной» и, в сумме реальных и надуманных бед, неприкаянной жизни? Когда и где это признавалось альтернативой неустроенному бытию? Разве «путь» североамериканских индейцев (иммунная система которых, как известно, не имеет защиты от алкоголя) не является предостережением всем, кто добровольно топит свою жизнь, жизнь своих детей и судьбу Страны в ядовитом зелье?
В жалости, как и в специфическом сострадании к погибающим душам, Распутин был не одинок. Другой выдающийся и не менее честный русский классик Василий Шукшин в рассказе «Стёпка» жалеет своего героя. Отчаянный Степан, которому сам чёрт не брат, затосковал по своей малой родине и бежит из тюрьмы в деревню, хотя срок его практически заканчивается. «Я такого дурака люблю, — пишет Шукшин. — Могуч и властен зов родины, откликнулась русская душа на этот зов, — и он пошёл…». Согласен, сострадать таким «дуракам» и жалеть их можно, но вот нужно ли любить и лелеять их?..
При разговоре об «андреевщине» в мировосприятии и «перовщине» в трактовке его поневоле приходят на память первые строки повести Распутина «Последний срок». Чаруя своим строем, они явно перекликаются с началом рассказа «самого» Андреева. Пронизанные полным бессилием и мёртвенностью «жизни» строки эти словно подготавливают читателя к отсутствию всякой перспективы в ней… Ибо подобно камертону задают не только фабулу произведения, но и распространяют производное от неё, дышащее на ладан мировосприятие. Читаем:
«Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силёнок, сдалась и слегла».
И дальше: «За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у неё осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорёк в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война». Заканчивается повесть тоже вполне по-андреевски, даже ещё короче: «Ночью старуха умерла».
Казалось бы, что с того? Причём здесь Андреев? Что ещё могло случиться со старухой, лежавшей на смертном одре? А раз так, то всё ясно, убедительно, и главное — правда.
Но кто, как не писатель, волен выбирать тему, степень её убедительности и нужности, как и саму правду. Да и «горькая правда» в ином контексте разве не перестаёт быть таковой? Вообразим ситуацию полного развала Страны и общественного уныния (чего, избави бог, в России ещё нет)!
И что? Будем пережёвывать темы из жизни кладбищенских сторожей, вконец опустившихся бомжей или работников морга с тем, чтобы талантливо «обыгрывать» могильно-воровские, сексуальные и прочие реалии?
А нужно ли? Зачем смаковать «реалистические детали» патологоанатомических будней? Многое ведь зависит от направленности идей, которыми писатель заряжает человека, от важности его мыслей и образов, от отношения его к теме и, опять же, от настроения (или нестроения) писателя. Поскольку именно писатель выбирает тему, реализует идею и задаёт посыл, который считает наиболее значимым, важным и нужным. Вслед за этим признаем и то, что в первую очередь духовная организация и мировосприятие писателя определяют его творчество.
Мало того, достигнув высокого общественного признания, кто, как не писатель, является опорой «общественному человеку»?
Ведь, признав в нём мастера Слова и Мысли, с надеждой выделив его из своих современников, общество ждёт от него не решения накопившихся противоречий (это не дело писателя и литературы вообще), а нравственных ориентиров и достойных подражания примеров, убедительности образов и раскрытия жизненных коллизий! Реальность — это ведь не только «события».
Мысль, облечённая в форму, тоже становится реальностью.
Слово, исполненное чаяний души, мысли и чувства, по природе своей может и должно настаивать на заложенной в нём силе.
Именно так!
«В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые», — считал Гоголь.
В своих «Окаянных днях» и Бунин говорит о том же: «Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого»!
Аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес настаивает ещё и на обратной связи: «Я думаю, что люди вообще ошибаются, когда считают, что лишь повседневное представляет реальность, а всё остальное ирреально. В широком смысле страсти, идеи, предположения столь же реальны, как факты повседневности, и более того — создают факты повседневности. Я уверен, что все философы мира влияют на повседневную жизнь».
И Юлий Айхенвальд убеждает нас в том же: «Литература далеко не отражение. Она творит жизнь, а не отражает её. Литература упреждает действительность; слово раньше дела… Словесность всегда впереди, она — вечное будущее… она местное и временное как раз и отвергает, с ним не считается, его не воспроизводит. Она сверхвременна и сверхпространственна».
Говоря коротко, творчество выдающихся мастеров Слова оказывает воздействие на формирование личности не «вообще», а в частности и всегда конкретно!
IV
И в самом деле, разве образы мужественных героев Джека Лондона не рождают бесстрашие в сердцах юношества, а романы-гипотезы Жюль Верна не будят дерзкую мысль молодёжи?!
Ведомые авторами миллионы читателей достигают самых затаённых уголков планеты, девственная чистота которых и неизменно острые приключения вызывают их неподдельное восхищение. Рождая не только страх, но и мужество, разве не обогащали они мировосприятие и пытливый ум многих поколений, до сих пор зачитывающихся их книгами?!
Именно отважные герои Жуль Верна решили судьбы юных читателей, впоследствии ставших учёными, географами и открывателями в самых разных областях. Можно ли забыть светлые романтические и благородные образы скромнейшего Александра Грина, чьи феерии возвращали к жизни разуверившихся в ней?! Разве не «Алые паруса», давая надежду, по словам писателя М. Кабакова: «увели в море несметное число молодых читателей-россиян»?!
А «Спартак» Р. Джованьоли?
Разве не вдыхает мужество в души юношей страстная борьба за свободу бесстрашных невольников-гладиаторов, которые по силе воли и состоянию духа не являлись и не хотели быть рабами! Можно ли сбрасывать со счетов героический облик Павки Корчагина (ныне, как и многое что из «проклятого прошлого», оплёванного, а в своём авторе Николае Островском почти забытого)?! А ведь именно символы и образы, отливая мирный труд в бронзу, способны поднять дух, как отдельного человека, так и всего народа, ведя его к подвигам в тяжёлые для Отечества годы! [8] А сколько веры и надежды в стихотворении К. Симонова «Жди меня, и я вернусь…»!
Не только монументальные произведения — и стихи, ставшие песнями, придают силу духа, веру в жизнь, надежду и волю к победе. Вспомним полные сознанием правого дела песни на стихи А. Суркова — «Бьётся в тесной печурке огонь»; величественные, излучающие широту души народа-победителя «Соловьи», «На солнечной поляночке» (1942), «Майскими короткими ночами» и «Горит свечи огарочек» (1945) А. Фатьянова; «В лесу прифронтовом», «Ночь коротка, спят облака» Е. Долматовского; «Огонёк» (1943), «Враги сожгли родную хату» (1945) М. Исаковского; «Тёмная ночь» (1943) В. Агатова или «В землянке» (1941). А чего стоит налитая духовной мощью песня-гимн «Священная война» (1941), в которой музыка (А. Александрова) и слова слиты воедино.
Как можно забыть (а ведь забыли же!) скудный по средствам, но потрясающий по мощи художественного воздействия советский фильм «Радуга» (1943), явивший силу духа жителей одного из затерянных в просторах России обезлюдевших селений. «Оскар» стал наградой авторам за магию их творчества.
После просмотра фильма в США молодые американцы тысячами записывались добровольцами «на Восток». Возможно, именно порыв общественности ускорил открытие Второго фронта, ибо политическая совесть народа всегда чище политической воли любого правительства!
Вне всяких сомнений, создавая духовную реальность Словом и образом, писатель может и должен посильно участвовать в бытии. И нет нужды, косясь на «запятнанную идеологию», опасаться этого. Идеология, всегда существуя в народной ипостаси, реализует свои функции в созидании и побуждает нравственность независимо от глупого подстёгивания ханской властью. Можно и нужно спорить с идеологическими клише, но не с художественной убедительностью произведений.
Придётся признать (хоть тресни!), что идеологию несли в себе законы и указы Древнего Рима, учение Платона (видевшего истину в идеях, а не в порочном бытии) и поэзия Вергилия. Она присутствует в сатирах и «Сатириконе» Петрония, изобличавшего пороки патрициев («Как тяжко приходится живущим не по закону: они всегда ждут того, что заслуживают») и в частных письмах к римлянам. Не случайно Ренессанс ознаменовал себя возвращением к «проверенной идеологии». Её несли гуманисты, давшие обществу полезные ориентиры, а миру — несравненные образцы художественного творчества.
Просвещение XVIII века, правда, несколько сбилось с пути, но это лишь подтверждает необходимость «зрячей» идеологии. Поэтому бояться нужно не идеологии, а её вырождения — «победивших» её ложных идей, отравляющих народ и мешающих ему сплотиться в социальное целое.
Именно за омертвлением идей следует разложение души и нравственности народа, после чего неизбежно следует разлад и в государстве, как то произошло с псевдоимперией — СССР. Феномен Сталина внутри «Союза» и есть имперский феномен, в условиях ложных ценностей вынужденно прибегнувший к жестокости (увы, в арифметической прогрессии увеличенной холопством партийной номенклатуры и малодушием «человеческого фактора»), единственно способной укрепить форму при изломанном содержании.
Одним словом, жизнь (в том числе и неприкаянная) подвигает нас к осознанию того, что идеи и идеалы важнее и действеннее сугубо реалистических форм. «Оставьте ваши истины при себе, при мне останется мой идеал», — говорил А. Франс, отвергая постылые «правды». Силу идеального, вдохновляющего и формирующего бытие начала, внушающего веру в себя и своё будущее, понимали и в древности. Потому каждый народ создавал эпосы, саги, сказания и былины, повествующие о своих героях, способных в одиночку одолеть тьму врагов, шагать через горы, а при необходимости спрятать и луну. Этими «делами давно минувших дней» сейчас, конечно, никого не обманешь и не удивишь. Но прелестный обман и во времена оные не ставил таких целей. Я же веду речь о важности вдохновенной ипостаси художественного творчества. Той, которая подвигает человека на свершение дел, созидающих бытие, а потому достойных остаться в памяти поколений. Благо, что подобные примеры мы находим не только в сказаниях, но и в реальной жизни. В ней же, помимо громких подвигов, кроются «тихие», достойные не меньшего, если не большего восхищения.
Только ленивые и нелюбопытные не знают того, что в Ленинграде во времена блокады учёные-вавиловцы, продолжая исследования своего учителя, предпочли умереть голодной смертью, но не тронули ни горсти зерна из бесценной коллекции выращенных ими семян. Это пример великой в своей осознанности отваги, явленной благородством духовно живущего человека!
Художественные творения, отвечающие реалиям жизни, не должны лишать веру человека в саму жизнь, иначе грош цена такому творчеству. Отсюда ответственность «художеств», в шири и глубине которых, конечно же, могут и должны существовать, в том числе, и самые печальные, трагические эпизоды жизни народа и государства.
Но это никак не даёт художнику морального права «зависать» на этих эпизодах. Ибо художественная вещь, сотворчески приобщая к ней читателя, призвана не ковырять язвы человечества, а помочь увидеть и по возможности предостеречь от угнездившихся в бытии болезней. Потому куда действеннее обращаться к сути проблем, а не к их проявлениям.
«Мы размазываем в нашем воображении грязь народную, вместо того, чтобы смывать её. Общее правило: вода в ванне должна быть чище тела, то же и литература: она должна быть чище жизни, чтобы очищать её», — писал М. Меньшиков. Конечно, каждая эпоха, разнясь с предыдущей, нуждается в соответствующем психологическом восприятии и форме его отображения. Но это относится не к существу, а к средствам творчества. С какой стороны ни подойди, жизнь подтверждает важность направленности творчества. Она же приводит к мысли: если «бытие определяет сознание» малоспособных и ленивых умов, то сознание определяет бытие тех, кто достоин формировать бытие! «Сдержанная печаль — дань усопшим, излишняя скорбь — враг живых», — утверждал Шекспир.
Итак, сила Слова велика. Можно, на беду нищему, тыкать ему его нищетой, а можно — помочь выбраться из неё. Слово является славным делом, когда ведёт к позитивному результату. Оно, как и дело, не должно быть ни праздно беспутным, ни, естественно, бездарным. Но оно и не призвано навязывать поколениям дышащие на ладан образы. Словом, посредством силы художественного образа можно убить, а можно — поднять на ноги. Им, как и лекарством, можно спасти жизнь, а можно — добить её. Художественное Слово многомерно и многопланово, но отечественная его ипостась, помимо освещения реальностей жизни, состоит в том, чтобы поднять павшего и возвысить стоящего, а во всех остальных вдохнуть энергию созидания. Последнее возможно при отображении писателем не только наиболее существенного в бытии, но и благодаря его способности видеть в человеке образы целостные и нетленные!
У Распутина, конечно, и в мыслях не было добивать кого-то, и он вовсе не пытается «смаковать» полную немощность своей героини (хотя мысль эта нет-нет да и возникает). В отличие от ненужно-тяжёлой и настаивающей на «чернухе» прозы Андреева, Распутин привносит в повесть идею нравственной преемственности поколений. Ибо с утратой каждой «ступеньки» внутренней реальности, освящённой совестью, и наступает та самая злорадная тьма, которая облекла потерявшегося Андреева и пугала Распутина. Последний глубоко встревожен был той разрывностью и путаницей в мозгах, которая опустошает и внутреннее, и внешнее бытие России. В том же «Последнем сроке» видишь, насколько духовно беднее (хоть и по жизни «правильнее») дети Анны, отгородившиеся от своей матери и земли (по смысловому фактору матери-земли) далёким «городом». Так, самая любимая дочь — Таньчора вообще не приехала попрощаться с ма- терью…
Беда, однако, не в глубокой грусти и даже не в горьком «плаче» писателя о России, а в том, что его повести слишком уж напоминают оплакивание её посредством той «вечно пьяной» и раздрызганной деревни, в которой «не токмо» жить невозможно, но которую даже и проезжать не хочется…
Вот и в рассказе «Василий и Василиса» дюжий Василий кидается на свою беременную жену… с топором, в результате чего у неё происходит выкидыш. Понятно, что и здесь Распутин как бы говорит нам: вот во что превращается (надо полагать, некогда лучший) деревенский народ. Но тогда напомню вопросы, которые уже были поставлены:
В какой русской деревне не было подобного? Когда патриархальная благовоспитанность крестьян не входила в жёсткое противоречие со всеми жестокостями их жизни, больше походившей на выживание? И в самой ли «деревне» (в деревне ли вообще?) находится излечение от подобных напастей? Потому при всей существенной (в пользу Распутина) разнице между его мировидением и мировоззрением Андреева оба художественные феномены «без протиска» укладываются в ту же форму, поскольку являются следствиями той же самой внутренней реальности, породившей знаменитую «русскую печаль» — печаль, до сих пор не видящую и не знающую для себя исторически позитивного исхода!
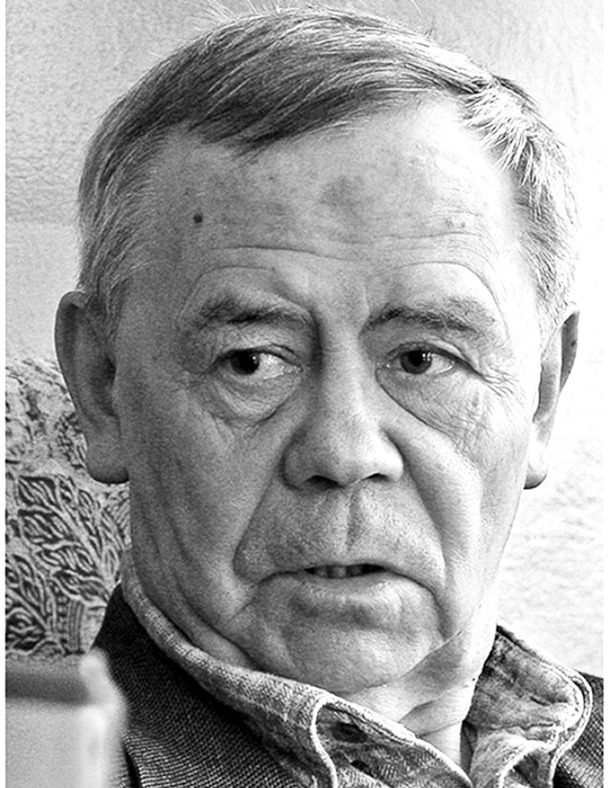
И в самом деле, в нынешней «деревенской прозе», не без оснований претендующей на художественную и общественную значимость, почти не встретишь таких весомых «городских» слов-понятий, как благородство, доблесть, честь и достоинство. И не только их нет — нет даже смыслового контекста (не путать со словесным) для этих понятий, ибо размыт он настроениями авторов, при которых он («контекст» этот) всё время куда-то исчезает.
Вот и у Распутина в произведениях «Василий и Василиса» (1966),
«Деньги для Марии» (1967), «Последний срок» (1970), «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой» (1976) и «Пожар» (1985) этих слов в их главном значении попросту нет! За исключением повести «Деньги для Марии», где достоинство к месту упомянуто два раза, и «Пожар», где слово доблесть по делу употреблено один раз… И это при том, что в «Живи и помни» речь идёт о дезертире Великой Отечественной, а в «Деньгах…» повествуется о злополучной недостаче казённых денег.
Но если этих понятий нет в Слове писателя, значит, они проходят мимо (так получается) его сознания, ибо пишешь о том, о чём думаешь. А ведь именно эти, долженствующие действовать в жизни, понятия лежат в основе формирования личности, выстраивания общества и государства!
Могут сказать: но в произведениях Распутина, при его «вечных» старухах, стариках, тётках и пьяных трактористах, просто никуда не воткнёшь эти слова.
Так ведь в том-то и дело, что «не воткнёшь»! Именно о том и речь. Выдающийся бытописатель российской глубинки обращается к реалиям, в которых действительно очень трудно найти место этим исключительно важным жизнеобразующим понятиям. [9]
И опять слышу: вы ратуете за зов к патриотизму «от буквы» — к патриотизму в лоб! Тогда как художественное произведение, оперируя мыслями, образами и символами, имеет опосредованные, но весьма действенные формы и средства для выражения этих и подобных им понятий. Отечество ощущается в каждом слове писателя; везде чувствуется боль автора по нему!
Согласен, всё это есть у Распутина. Но, скажите, как можно говорить о деле, не называя вещи своими именами и избегая предмета обсуждения (кстати, слово Отечество ни в одном из указанных произведений Распутина не употреблено ни разу)? Как можно строить дом, опираясь лишь на «фабульное» представление о нём, то есть без плана, чертежа и (в нашем контексте) без брёвен? Возможно ли есть, но так, чтобы ни ложки, ни вилки, ни самой еды не было, и при этом чтобы всё это как-то ощущалось, виделось и подразумевалось?
Нет сомнений в таланте и заслуженности славы писателя, но есть сомнения в необходимости совестного плача вне совестного созидания. Ибо первое свидетельствует об упадке духа и воли, тогда как второе вдохновляет на устроение жизни.
Ещё большее сомнение вызывает искренность хлопальщиков Распутину, не знающих меры ни в кумовских пристрастиях, ни в вывесочном патриотизме и словесном недержании оного. Не хватая хлопающих за руки, предлагаю лишь отделить их от тех, кто занимается делом, кто принадлежит русской литературе, не оскверняя её сути и не совмещая её с личными пристрастиями, и кто в своих творческих исканиях, конечно же, имеет право заблуждаться.
Когда честный писатель преломляет через «слезу ребёнка» проблемы морали, нравственности и духовного здоровья общества, это хорошо. Но когда «слеза» возводится в масштаб Страны, когда творчество (теряя в художественности) морализует факты истории, то полезно знать: насколько он убедителен в своих сетованиях и в чём они? Вправе ли он (речь идёт не о праве мочь, «сказать», а о «праве» компетентности) возводить локальную беду в Эпос, придавая ей форму Вселенского Плача и трагедии — своего рода всероссийской Герники?! Да и всякая ли «слеза» свидетельствует о бедствии?! Но если и так, то не лучше ли для получения большего результата обращаться к другим средствам воздействия на региональные власти и само правительство (что сам Распутин, к его чести, и делал)?!
Человечество отнюдь не сегодня вступило на склизкую стезю технического прогресса. Противостоять бедам урбанизации и в самом деле необходимо всеми силами, в том числе художественного творчества.
Но это не значит, что «художества», взывая к чувствам там, «где нужно власть употребить», должны брать на себя функции, им не свойственные. Ведь куда действеннее бороться со злом на научном, хозяйственном и этическом поле, прямо обращаясь к властям, а не аморфно вызывать ощущение вины «у всех».
Если лучшие произведения писателей-«деревеньщиков» включены в традицию совестливого участия в реалиях жизни, то «окрестившееся почвенничество» тяготеет к застарелому в России духу смирения с неприглядным бытием.
Не этот ли «дух» выпестовало «синодское православие», олицетворяемое «смирно» ушедшими от мирских сует монахов и старцев? А ведь войну со злом «мира» некогда осенял меч св. Александра Невского и его последователей в вере и деле. Разве не Церковь в лице великого устроителя Страны св. Сергия Радонежского благословила Русь на войну с врагами?! Об этом помнил Гоголь даже в состоянии тяжёлой депрессии и смятенного покаяния: «Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать её. Чернецы Ослабя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на поле битвы…».
Словом, даже при самых высоких нравственных посылах произведений и, наверное, помимо воли самих авторов, смиренно-покаянная, заведомо виновная литература омывает слезами дорогу России прогибающейся, а не восстанавливающейся, тем самым противореча России, уверенной в себе, сильной, борющейся со злом и властвующей!
При упадническом настрое иначе и быть не может. Произведения авторов, лишённых силы духа и воли, могут воспроизводить лишь то, что в них реально есть, а не то, что ими будто бы имеется в виду.
Другая крайность наблюдается в «почвенно-оптимистической» литературе фольклорно-баянного типа, красочностью своей не слепящей глаза разве что самим авторам. В частности, дремучими «старорусскими» изысками полна упоминавшаяся уже проза Вл. Личутина — пряная, полная медовыми ароматами, придуманная. Явленная сплошь картонными типажами и «разудалыми головушками», между тем склонными к внезапному и безутешному плачу, Россия предстаёт у него истёртой до дыр «почвенной печалью»; и вообще — такой, ка- кой она никогда не была и быть не могла.
Лишённая прелести простоты, но полная вымысла и перезревшей фантазии авторов такая «почва» не может служить «чернозёмом» для социально хилого бытия Страны.
Над такими «каликами перехожими», бродящими в рубищах, «залатанных» смирением и непротивленчеством, и глумятся нынче ветхие в своём цинизме «медиа». И даже переодевшись (т. е., «тоже став русскими»), либеральные СМИ не изменяют своему призванию морочить людей. Хотя — поделом. Потому что и «грабли» там же, и наступающие на них «лапти» те же…
К такой литературе, в своём настрое мало изменившейся со времён Розанова, прибились монтируемое деструктивным сознанием «художественное кино», театр и прочие средства толповоздействия, вред от которых очевиден, но вряд ли понастоящему осознан. Остановимся подробнее на фильмах.
Западным боевикам обычно присущи продуманные сюжеты, они насыщены динамичным повествованием и энергичными сценами. Личная жизнь тоже присутствует, но, как правило, подчинена основному действу. Лучшие из этих фильмов смотрятся на одном дыхании. При просмотре нашего «кино» создаётся впечатление, что криминальный (и всякий другой) сюжет лишь средство показать российское бытие и отношение между людьми. Какое же оно?
Во-первых, положительных героев почти нет. Сценарий часто убог, а диалоги примитивны. Все пьют! Менты пьют ещё и на работе. Ментовская вертикаль, включая смежные службы, коррумпирована. Вся! «Властные» менты больше всего озабочены докладами начальству, для чего они жертвуют интересами дела, да и самими сотрудниками. Младшие офицеры и рядовые подчас тупы настолько, что их и людьми трудно назвать (в жизни я таких не встречал). Шутки соответствующие. Дружба — явление редкое. Слишком часто лучший друг из категории «не разлей вода» «вдруг» оказывается гнусным предателем. В ряде фильмов это вообще любимая тема режиссёров. Зрителю упорно навязывается вывод: «Дружба — это бред! Её нет. Думай о себе!». Соседки сплетничают о жильцах, подглядывают за ними, с удовольствием «стучат» на них, а «друзья» по лестничной клетке с радостью выложат всё, что знают друг о друге. Посыл: российский обыватель — человек-дрянь, за бутылку и без неё сдаст кого угодно! Главный герой то и дело попадает в ситуации, в которых все или подонки, или около того. В фильме «Прячься!» (2010) мерзавцы вообще все, кроме одного — и того убили…
Если такого рода фильмы смотрят питающие интерес к русской культуре знающие русский язык иностранцы — они наверняка в шоке! Уже потому, что «западный народ» очень доверчив к информации, ибо врут у них меньше.
Главный вывод от всех просмотров: «Из России нужно бежать! В „этой стране“ жить нельзя! Это страна подонков, предателей, преступников и пьяниц!» На фоне такого рода сериалов, многими часами вдалбливающих зрителю всякого рода гадости, многажды заплёванный «патриотическими» СМИ «Левиафан» смотрится почти рождественской сказкой! Доводы, типа: «Не нравится — не смотри!» — считаю глупыми, ибо всё это смотрят другие. Гадкие посылы так или иначе, но прилипнут к кому-нибудь.
Возникает и другой вопрос: «Может, всё так оно в России и есть?» Но даже если так, надо ведь понимать элементарные задачи жанра, суть которого — развлечь зрителя, а не гадить ему в душу. И таких фильмов не счесть!
Чего стоит «крутой» телесериал, посвящённый С. Есенину, или фильм «Девятая рота». В первом гениальный поэт представлен буяном и пьяницей, который иногда что-то сочиняет… Во втором мы видим худосочных и жалких десантников, которые не столько дерутся на учениях, сколько цепляются друг за друга, а при реальной опасности мочатся в штаны.
Для сопоставления приведу зарубежные аналоги.
Один только Акиро Куросава, воспроизводя в своих фильмах национальные боевые искусства и прославляя доблесть самураев их подвигами, высоко поднял авторитет Японии. Так же и США, героизируя сомнительные персонажи и умело пакуя «бандитскую Америку» ХIХ века в киношный вестерн, добились того, что мир до сих пор упивается небесталанной «долгоиграющей» продукцией. И если в японском прокате усилиями актёра Тосиро Мифунэ создавался образ «честного самурая», то роль «американского Робин Гуда» с успехом играл Крис Иствуд и иже с ним. В России же удельный вес Страны определяют фильмы иного рода, плана и не понятно каких целей. Пагуба от «отечественного кино» и такой же «литературы» навязывается российскому обществу ещё и в форме «сложных» духовных противоречий и «инновационных» развлечений. Не убедительные по местному посылу они ничего не представляют собой в большем масштабе. Потому, не имея вселенских достоинств, не найдут они себе нишу и в мировой культуре.
Пора, однако, внести большую ясность в моё понимание «деревенской прозы» или «почвенничества».
Вовсе не отрицая необходимость российской житницы, полагаю нужным умерить бесполезный и даже вредный «свято-покаянный» плач о ней, который лишь обессиливает дух народа. Отринув надуманные «вспоминания» и «лицезрения» никогда не существовавшего «бытия», куда важнее приступить к выстраиванию в сознании и реальной жизни не лубочной деревни, а той, которая могла бы оживить и духовную, и хозяйственную функцию народной жизни. И тогда, став субъектом социальной и исторической жизни Страны, «деревня» из статуса литературного мифа шагнёт в реальную жизнь. Она же, будучи органичной частью бытия Страны, станет функциональной структурой и в государстве.
Да, отечественная глубинка была и пока ещё остаётся наиболее реальным стихийным носителем национальной культуры в её бытийном диапазоне. И эти оставшиеся ещё кое-где очаги народной жизни, несомненно, следует охранять, как зеницу ока. Но нужно ли тратить силы на восстановление (и тем более — на распространение в качестве образца) того, что отмерло уже… давно?! Да и можно ли воссоздать те пласты стародавнего бытия, которые, столетиями существуя в ином информационном пространстве, питаясь иной (это тоже нужно учитывать) духовной пищей, в современной жизни являются деструктивным анахронизмом?!
Другое дело, изучение народных промыслов и создание заповедных зон русской народной культуры. Они важны и необходимы! Ибо через видение и ощущение народ осознаёт свои корневые начала как в историко-отечественной, так и в повседневно-бытийной форме. Поэтому исключительно важно беречь те благотворные живительные начала, без которых душа народа и в лучшие-то времена способна была усохнуть… По этой причине слова Сергея Есенина из произведения «Ключи Марии» видятся горьким предзнаменованием:
«Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба…».
Но именно в целях сохранения феномена деревни разве не полезно было бы принять во внимание (но при этом держа в приоритете свои задачи) опыт существования и развития сельской жизни в других странах?! Не той «народной глубинки», где люди живут, как в хлеву; у которых «в одном кармане — вошь на аркане, а в другом — блоха на цепи», но тех регионов, где народ, с толком используя технические новшества, живёт, не бедствуя и не забывая свои традиции (фермерская Германия, Франция, Швейцария и др. страны).
V
Из сказанного сделаем промежуточный вывод: и в «литературной», и в «изобразительной деревне» вовсе не обязательно представлять русский народ в ложных образах и сомнительном убранстве. Он ничего не приобретёт от того, что в специально сочинённой для на- рода «литературе» облачится в неокрестьянские рубища «для сохи», в окладистую бороду, с соломой «в голове» и в домотканые порты. Такие идиллически-патриархальные картины не нужны ни России, ни тем более не знающему, куда деваться от своих рубищ, деревенскому люду. Искусственно взлохмаченная «старина» эта и есть тип того, вечно обездоленного и неприкаянного мужичка, характер которого тонко подметил сам народ: «Бедный часто озирается, хоть его и не кличут».
Столь же неуместным видится и городской всхлип по идеальной «деревне в косоворотке» (хорошо, хучь не в лыковых лаптях с онучами). Ведь крестьянина красят не «родные» атрибуты, а результаты труда. Если же их (результатов) нет, то и мужичонки будут выглядеть нарочитыми и подержанными, будто взятыми, как реквизит, на прокат. Это и есть те «мужики», у которых, по словам самого Распутина, «всё вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья». Должно быть ясно: реализованная в «бытии» псевдодеревенских мировоззрений — только псевдодеревня и может существовать.
Прошлогодний снег можно вспоминать и, умильно поёживаясь, восхищаться былыми снежными метелями, но не пристало печалиться из-за того, что сейчас — в иное время года — нет за окном ни снега, ни метелей. Потому что нынешняя «зима» — другая… Поэтому куда уместнее сетовать не на умирающую (в том числе и из-за нерадивых «мужичков») от нищеты деревню, а на общенародное обезволенное и опустошённое сознание, как раз и приведшее к её гибели.
Ибо «могильщики деревни» — Сталины, Хрущёвы и нынешняя власть — служат стрелкой общественной жизни, компасом же её был и остаётся сам народ, в лице оболваненных энтузиастов проникшийся уничтожением своего же «старого», а теперь «не нужного уже» прошлого.
Всё это есть рецидив внеэволюционных явлений, сметающих самые важные для Страны «центры жизни».
«Переход в социализм и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно „в баню сходили и окатились новой водой“. Это — совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар», — писал В. Розанов в ноябре 1917 года в «Апокалипсисе».
Словом, переосмыслив причины, важно увидеть корни проблем в самих себе, а не одеваться в «ностальгию» в духе лубочно-«шкатулочной» деревни, тем самым уходя далеко в сторону от реальной народности. Укреплять и охранять должно деревню, имеющую, а значит, сохранившую в своём укладе русскую культуру — ту (православную) деревню, которая содержит в себе и внутренние и внешние составляющие «той ещё» России. Потому что истинно народным, традиционным может быть лишь то, что сумело охранить и отстоять своё исконное духовное и историческое бытие. Воля к этому лежит в основе всякого самовосстановления. Тогда как внешнее оживление народной жизни есть макияж воли, напоминающий стёртую и омертвелую историческую гримасу.
Однако непонятно всё это апологетам из века в век неизменной «патриархальной Руси»; и неймётся им. И сейчас видят они «святую Русь» по образу и подобию допетровской, «в идеале» — изолированную от остального мира. Причём воскрешение Страны видится им (и это примечательно!) не через углублённое внутреннее, очищение, не через веру в делах, а под звуки непрестанно-бравурного марша «государственной духовности» в духе церковно-феодальных торжеств. В «красной», по-площадному эпической оркестровке, с роскошными хоругвями и блеском золотых окладов, где, будто ненароком, но на равных, являют себя государственные штандарты.
Ясно, что «эпический» церемониал коллективно-торжественных хождений к символам церковной и присно живущей державной власти будет проходить при бдительном благословении последней. И всё это под несмолкаемо-задорный колокольный звон новодельных храмов, при молитвенном «слухании» которого «обновлённым» мужичкам в нынешних «зипунах и с посохами» и их жёнам «в епанчах» любо будет смиренно кланяться в пояс «боярам» из российского истеблишмента, при этом произнося слова как будто простые, но полные неизреченного смысла.
Нет нужды доказывать, что подобные инсценированные церемониалы и духовно порожние «богомолья» явятся следствием неустоявшегося духовного и политического сознания, которое по этой причине можно повернуть как и куда угодно, в том числе и во фрунт поставить… И всё это вполне реально, покуда о себе заявляют массовая духовная вялость и социальная инертность.
«Вольному — воля, ходячему — путь, а лежачему — кнут», — исстари определял народ своё понимание имеющейся, то есть исторически заявившей о себе, инициативы. Поскольку именно воля народа, ища выход, подобно воде в запруде, в конечном итоге находит возможность оживить свою жизнь, истинность которой меряется внутренней необходимостью.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
