

Только достойное печати
Достойное печати в этом альманахе только то, что укладывается в рамки классической литературы. В альманахе «Белуха» нет и не будет места шизофрении в литературе, здесь шизофренизмовластвующая писанина не пройдёт. Почему шизофренизмовластвующая и что это такое? Я полно ответил на этот вопрос в альманахе №4, но напомню; шизофренизм в литературе — отрицание смысла и ритмической дисциплины, как в поэзии, так и в прозе; властвующая литература — издаются только те авторы, кто стоит близко к эшелонам власти и издательствам. Талантливым поэтам и прозаикам в современной России выбиться «в люди», — напечататься, практически невозможно! Книжные магазины заполонили дешёвые мелодрамы с героикой криминала, пошлые книженции с героинями проститутками и фэнтези с морем крови и злобными чудиками. Такова нынешняя действительность, этому ныне учат подрастающее поколение. Исчезла мораль, уважение человека человеком. Идеология любви и равенства подменилась религиозной идеологией, которая под благими намерениями продвигает свою политику, цель которой оболванивание человека и превращение его в раба божия, т.е. церкви. В альманахе «Белуха» этого не будет. Он доступными ему средствами боролся и будет бороться со всеми проявлениями шизофренизмовластвования и с засильем страны религиозной идеологией.
В альманахе «Белуха» будут печататься все авторы — прозаики и поэты, кто придерживается классицизма, нынешнему модернизму здесь нет места. Здесь ШИЗОФРЕНИЗМ не пройдёт. Здесь будут печататься только талантливые писатели и поэты, и работы мастеров слова забытых временем. Да, альманах продолжает рубрику «Славное прошлое». Он поднимает и будет поднимать из ушедшего времени имена мастеров слова, звучавшие в досоветской литературе, т.е до 1917 года. Альманах будет выводить их из тени на свет, где им и должно быть!
Виктор Вассбар о себе.
Поэт и прозаик, редактор-издатель альманаха «Белуха». Родился в городе Барнауле 5 августа 1948 года. По окончании школы поступил в Омское Высшее Общевойсковое Командное Дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил в 1970 году в звании лейтенант. Служил в СибВО, КДВО, ЮГВ, КУрВО. Впервые начал печататься в 1967 году в газете Сибирского военного округа (СибВО). Печатался в журнале «Сибирские огни». Автор научных работ по танатотерапии и теологии, более 20 книг прозы, — романы, повести, рассказы — военные, фэнтези, романтика, приключения и т. д.
Виктор Вассбар
ЧАСТЬ 1. ПРОЗА СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ

Корни России
(Роман эпопея. Продолжение. Начало в №4)
В. Вассбар и В. Зимаков
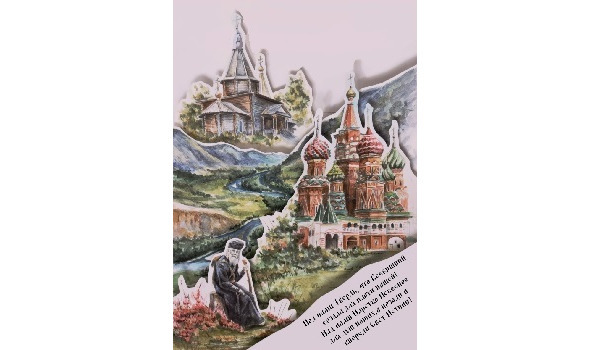
ГЛАВА 2. БАСАРГИНЫ
Всю масленичную неделю погода баловала селян. Лёгкий, но не жгучий морозец лишь утром пощипывал румяные щёки девушек и носы парней, выпячивающиеся из редкой поросли волос на их обветренных зимними ветрами лицах, а к полудню пригревало солнце. К вечеру вновь холодало, но разгорячённая от быстрых игр и горячих блинов молодёжь не чувствовала холодного веяния ночи, лишь к исходу последнего праздничного дня резко похолодало, хотя солнце всё ещё светило с безоблачного неба.
Склоняясь к закату, зимнее солнце выбивало из пышного снега последние холодные серебряные искры, отчего всё окрест пылало огромным ледяным костром. Охватив двух влюблённых плотным кольцом, он, казалось, вот-вот поглотит не только их, но и мчащуюся по заснеженному полю тройку резвых коней.
— Э-э-эй, родимые, мчите мою милую Авдотьюшку с ветерком! Несите нас, быстрые, вдаль счастливую! — понужая тройку, кричал Фёдор Снежин и тройка, звеня бубенцами, несла влюблённую пару всё дальше и дальше от села по безбрежной заснеженной шири Алтая. Несла сквозь обжигающее морозом зимнее пламя.
Ветер свистел в ушах, вечерний морозец щипал лица, и фейерверк радужных холодных искр слепил глаза.
Никогда ещё не была так счастлива Евдокия, маленькая, хрупкая девушка шестнадцати лет, как в дни масленицы. Что призы, выигранные ею, по сравнению с тем, что было сейчас в её душе, да, она и забыла о них. В ней был лишь огонь любви, в пламени которого сгорал даже всё усиливающийся мороз.
— Э-э-эй! — вторила она крику возлюбленного и крепче вжималась в его сильные руки.
А Фёдор, понукая и понужая коней, успевал целовать алые губы и розовые щёки своей милой, согревая их своими разгорячёнными губами.
С последними лучами солнца тройка подкатила к дому Евдокии.
— На троицу жди сватов, — сказал Фёдор и, крепко поцеловав любимую Авдотьюшу, гикнул. — А ну, вороные!
Родители Евдокии.
Сложная и трудная жизнь сложилась в семье Евдокии. Мать — Аксинья Кирилловна и отец — Василий Никифорович вели честную и достойную жизнь, жили счастливо и безбедно, но всё порушилось в один миг.
Василий вместе с братом близнецом Фёдором содержали мясную лавку, в которой продавали мясо дичи и таёжных зверей, добываемых совместно в течение многих лет. Как и в любой семье были у них и невзгоды и трудности, но все сложные моменты своей жизни преодолевали совместным трудом, как это и было принято у староверов. Жить бы и радоваться, растить детей, только человек предполагает, а судьба располагает. Трагический случай поставил семью на грань выживания.
Поздней зимой 1880 года, взяв ружья, пошли оба брата на кабана, да только охота принесла не радость, а горе. Не услышали тихие, крадущиеся шаги медведя шатуна, кинулся зверь на Василия, повалил и стал драть. На помощь брату поспешил Фёдор, выстрелил в зверя, да поторопился, рана оказалась не смертельной. Бросил медведь Василия и надвинулся на Фёдора, а у него ружьё было одноствольное, не успел перезарядить, зверь сбил его лапой, накинулся на свою новую жертву и стал трепать. Пока Василий поднимался из глубокого снега, пока произвёл в голову зверя два выстрела, медведь изрядно порвал Фёдора. Уложил Василий брата в салазки и побрёл в село. Пройдёт с десяток шагов, упадёт, полежит минуту и снова в путь. Сколько прошёл, не помнил, очнулся в своём доме через пять дней, к этому времени Фёдора уже похоронили, а через неделю умер и Василий. С тех пор на хрупкие плечи вдовы легла забота об одиннадцатилетней дочери Дуняше и двенадцатилетнем сыне Павле.
Зиму и весну кое-как протянули, летом огород и тайга кормили, а в конце августа Евдокия и Павел в бригаду шишкарей напросились. Дети малые, что толку от них, но бригадир свой был, карагайский, знал беду Басаргиных и зачислил их сборщиками. Первый год частенько в голову Евдокии и её брата прилетали увесистые шишки, на второй, изучив приёмы лазания по деревьям, стали на кедры лазать и сбивать шишки с их ветвей. Работа опасная, не детская, но высокооплачиваемая. Так Евдокия научилась ловко лазать по деревьям, это умение и помогла ей через четыре года получить призы в первый день масленицы 1885 года.
Но всем этим событиям предшествовали давно ушедшие в прошлое годы, о которых, изредка улыбаясь, вспоминала яркая нестареющая тридцативосьмилетняя вдова Аксинья Кирилловна Басаргина.
Семнадцать лет назад, — раннее летнее утро 1868 года, когда спали даже первые петухи, разбудил громкий детский плач. В семье Василия Басаргина родился долгожданный ребёнок. Одновременно с детским плачем лицо роженицы, измождённое трудными родами, озарила улыбка.
— Кто? — одновременно с выдохом проговорила Аксинья и, услышав: «Сын», — облегчённо вздохнув, произнесла, — сыночек!
При крещении первенцу дали имя Павел.
На следующий год, шестнадцать лет назад родилась Евдокия, больше Василию и Аксинье Бог не дал детей, но они и этому божьему дару были рады, ибо, прожив в супружестве первые два года, уже и не мечтали о детях.
Медведь, порвавший братьев близнецов, был убит алтайцами. Медвежий след взял пёс Сёмки Горняка, но это, естественно, не вернуло из загробного мира двух неразлучных братьев.
— А когда-то… — вспоминая прожитую жизнь, улыбнулась Аксинья, — дело дошло до смешного, хотя… в те годы было не до смеха.
Тридцать восемь лет назад в семье старовера Кирилла Евстафьевича Серова родилась очаровательная девочка, лицом и телом чистая, без опухлостей и изъянов. Крестили девочку в древлеправославии и нарекли Аксиньей, а пятью годами ранее утро августа 1842 года разбудил не хор петухов, а громкий плач двух младенцев. В доме Никифора Петровича Басаргина жена Лукерья Ивановна родила двойню — мальчиков.
— Разродилась, страдалица моя милая, — облегчённо вздохнул Никифор и отёр тыльной стороной ладони вспотевший лоб. — Вот ведь… живот болел, — дотронувшись до живота, — а сейчас как рукой сняло. Ишь, как оно бывает, как будто сам рожал. Чудеса!
Роды проходили долго и тяжело, но Бог миловал, всё обошлось, близнецы родились крупными и здоровыми. Крестили по древлеправославному обычаю, — полным троекратным погружением в воду с накинутым крестом и поясом. (Крест представляет собой не только символ веры, но и оберег от нечисти). Новорожденным дали имена Василий и Фёдор.
Активные были дети. Как встали на ноги, так и стали шалить, то посудина какая-либо заинтересует на полке, заберутся, достанут и обязательно либо разобьют, если из хрупкого материала сделана, либо сядут и раздавят, если из бересты. Руки и ноги резали несчётное количество раз, и ведь спрячут от них всё колющее и режущее, найдут, как будто нюхом чувствовали, где и что лежит им нужное. Чудили, пользуясь своей схожестью, каждый день. В селе не различали, где Василий, а где Фёдор — это понятно, близнецы и как две капли воды, мать и та порой за проделки одного, наказывала невиновного, поскольку внешне трудно было разобраться, кто из них кто. Одно время даже подстригать их по разному пыталась и одежду разную надевала, но всё равно чаще Ваське доставалось за Фёдоровы шалости. А Василий молчал, Фёдора младшим считал, значит, в ответе за него был. А Фёдор и рад стараться, на выдумки горазд был, но Василию не перечил, за старшего его почитал, собственно, так оно и было, первым свет увидел Вася. Селяне, увидев братьев, головами качали и мысленно говорили:
— Родители светлые, а близнецы чёрные, словно смоль.
И неведомо было им, что не только чернотой, но и статью они в деда Петра были, а тот свою черноту от своего деда взял, казака с Кубани. В давние времена сослали его в Сибирь на каторгу за бунтарство. Тот во время этапа умудрился цыганку из табора увести, и бежал с ней в таежные дебри, где пристанище нашел у так называемых «раскольников» с реки Керженец. Там и веру древлеправославную принял и детям её своим привил. Потому, наверное, братьев Василия и Фёдора цыганятами и дразнили. Оба смуглые, кареглазые, но по характеру не вспыльчивые, какими обычно бывают цыгане, а добрые, открытые. Хоть и не богатыри, но скроены ладно. В юношеских играх и забавах часто были первыми. В драку не лезли, но за себя и друг за друга достойно стояли. В деревне двойняшек уважали за честность, прямоту, почитание старших и готовность прийти на помощь любому нуждающемуся в ней.
Семьи, у которых дочки были в невестах — не прочь были породниться с Басаргиными, да только Василию и Фёдору с детства нравилась дочка соседа Кирилла Евстафьевича Серова — Аксинья. Ухаживали за ней оба. За её взгляд и улыбку не раз отношения между собой выясняли на кулаках, до крови.
В армии не служили, но к оружию страсть имели. В шестнадцать лет встали в ряд лучших и удачливых охотников Карагайки, а на двадцать втором году жизни открыли свою мясную лавку, и всё из-за любви к Аксинье, посчитали, что если будут при деньгах, то добьются её расположения, а кому она ответит взаимностью… на то она и судьба. А тут ещё и Пётр их ровесник, высокий двадцатидвухлетний красавец — сын Гаврилы Даниловича Косарева стал частенько, как бы ненароком, появляться возле Аксиньи. То, видите ли, мимо проходил, увидел её и решил поздороваться, то, дело у него есть к брату её Григорию, а однажды прямо так и сказал ей, что хочет сватов к ней засылать. Обо всём этом Аксинья сказала близнецам, сказала, что не люб он ей. Воспряли братья и решили отвадить Петра Косарева от любимой им девушки. Бить из-за угла, как самые поганые людишки, в мыслях не было, подошли открыто и сказали: «Ты, Пётр, к Аксинье не поваживайся ходить, не люб ты ей, сама нам об этом сказала. Свой ты, не тайнинский, или из какого другого села, бить не будем, но если и дальше приставать к ней станешь, не сдобровать тебе, так и заруби себе на носу». А Пётр… он, что… после таких слов мог бы с братьями своими, которых у него десяток наберётся, спокойно побить Ваську и Федьку, но ума хватило не будоражить село. Ещё раз подошёл к Аксинье и произнёс: «Скажи прямо, люб я тебе или нет». Аксинья прямо и сказала, что любит другого. Отошёл от неё Пётр и больше близнецы не видели его возле любимой им девушки.
Аксинье нравились оба брата, но любовью пылала к Василию. Родная мать не всегда различала сыновей, а Аксинья видела в них различия, — Василий сердцем мягче был, нежели Фёдор и более открыт, Фёдор же скрытен был. Не устояло сердце девичье и перед взглядом Василия, в глазах его не было тайны, всё, что на сердце то и в глазах было. А была в них большая любовь к Аксинье, её она увидела ещё отроковицей, ею и была в плен взята. После признания братьев в любви, не задумываясь, ответила взаимностью Василию. Фёдор долго переживал, но смирился, после свадьбы свояченицей стал звать, но сам так и не женился. Очевидно, носил в себе великую любовь к Аксинье, отсюда и скрытен был, а глаза… отводил взгляд свой, лишь только встречался с её глазами.
Привёл Василий Аксинью в свой дом, поставленный сразу после сговора, и с тех пор Фёдор стал реже видеть свою любовь. Свою страсть к ней стал заглушать походами к вдовам и разведёнкам. Корили его за разгул родители, а что толку, взрослый уже, под замок не посадишь и в угол не поставишь.
Аксинья была под стать мужу, в росте и ширине кости ему не уступала. Статью и лицом была краше многих девушек карагайских. Своей красой могла любого молодого мужчину покорить и не только Гаврила, многие пытались любовью её завладеть, да вот только выбрала не так уж и красивого, не столь уж высокого и сильного. По характеру добрая, но если кто-нибудь обижал, спуску не давала. Если дело зимой, снимет валенок и давай понужать им обидчика, если летом, прут возьмёт и так отстегает, что у того надолго прыть обижать отпадала. До замужества подружки выспрашивали, как да чем она близнецов отличает, а Аксинья, отшучиваясь, отвечала:
— По запаху. Вася мятой пахнет, а Федя молоком.
Подруги её и впрямь при встрече с братьями не раз пыталась те запахи учуять, но не тут-то было. Только потом, когда Василий мужем стал, Аксинья созналась:
— Один глаз у Василия, не карий, а чёрный, и взгляд у него добрее Фединого.
И надо же было такое природе учудить. Никто не приметил, а Аксинья усмотрела.
Два года прожили супруги, а детей всё не было. Что за причина, понять не могли. К знахаркам обращались, настои травяные пили, к целителям ходили, даже у шамана алтайского были, бесполезно. А после того, как бийский врач сказал Василию, что детей у того не будет по причине перенесённой им детской болезни, Василий пристрастился к спиртному, чуть было руки на себя не наложил. Спасибо Аксинье, вовремя подоспела.
Поняв, что бабьим вытьём, уговорами да сюсюканьем не вывезти мужика из такого состояния, пересилив в себе всю жалость и любовь к мужу, решилась на последнее. Когда в очередной раз супруг, изрядно выпив, дошел до скулежа и слёз, Аксинья окатила его ледяной водой и бросила к ногам свою юбку и вожжи. Затем непривычным для слуха жёстким и грубым голосом закричала:
— Не мужик ты, а баба! Так и лезь в петлю в бабьем, а я в твоём рядом повешусь. Ты хоть раз подумал обо мне! Как мне бабе пустой остаться! Я ведь уже две подушки выбросила, потому, как от переживаний своих слезами их насквозь промочила. А ты думаешь только о себе!
Дальше уже не помнила, что кричала, как и где хлестала при этом мужа вожжами.
Неделю Василий в дом боялся зайти, у брата в доме ночевал. Не за себя, за жену боялся, любил её. Но как-то всё само собой стало у них по-прежнему. В субботу, как ни в чём не бывало, Аксинья, зная, что Василий у Фёдора, зашла к нему и, поздоровавшись со свояком, обратилась к мужу:
— Вась, баня стынет, да и я замерзла.
Фёдор стал напрашиваться в баню, съязвив, что мол, такой куме одного мужика мало. Она же привычным тоном, без умысла задеть самолюбие шурина, ответила:
— С Зойкой на днях встречалась, так та говорила, что петух и тот дольше курицу топчет, чем ты бабу, — и, засмеявшись, увела мужа домой.
Остепенился Василий, но желание иметь ребятишек не пропало, а крепчало день ото дня, вытесняя остальные мысли. Да и разговор среди сельских болтунов появился: «Два года женат, а в женихах ходит». Что-что, а бабам только повод дай посплетничать.
Однако прошлая попытка самоубийства не забылась. Нет-нет, да и вновь все более настойчиво появлялось то страшное искушение, противоестественное сути жизни. Ох, как Василий сожалел, что нет уже рядом мудрого советчика — деда Петра. И вспомнились слова его: «Самоубийство — грех великий». Припомнил и другое, привечать в своей семье дитё чужое — дело богоугодное. С тех воспоминаний раз и навсегда решил с мыслями о самоубийстве покончить. Даже съездил в детский дом в Барнаул, узнать, как делается усыновление, а после подумал, сможет ли сделать счастливым приёмное дитя? Не возникнет ли отчуждения к ребенку и у Аксиньи? Будет ли она любить того ребенка, как своего? Решил, чтобы Аксинью сделать счастливой, испытавшей материнство, пусть не от его семени, а от другого, на трудный поступок её подтолкнуть, — к супружеской измене. Этому и случай помог.
Ближе к осени приехала в гости двоюродная тётка Василия — Лариса, симпатичная и умная женщина, всего на пять лет старше его. Как-то, будучи уже девушкой на выданье, приехала Лариса с отцом в Барнаул по торговым делам, там её молодой богатый кожевенник увидел и влюбился до беспамятства. Что только не сулил отцу её, и деньги большие, и половину своего предприятия кожевенного, отец ни в какую.
— У нас староверов, — сказал её отец, — дочери сами себе мужей выбирают. Мы не неволим их.
Хозяин кожевенного завода упорным оказался. На управляющего своё кожевенное производство оставил, а сам отправился в Карагайку. Организовал закупку кож, их выделку и производство изделий, чем расширил своё немалое предприятие. Через полгода добился-таки своего, женился на Ларисе и увёз её в Барнаул, а карагайское кожевенное предприятие отписал тестю, как подарок или за что-то иное, никто в это не вникал и не интересовался. Семейная жизнь Ларисы сложилась на славу. Двух детей родила.
Рассказал, Василий тётке обо всем, да так, что та, согласившись с его задумкой, сказала:
— У мужа брат есть, как раз твоего года и главное женат, и дети есть, так что претендовать ни на что не будет. Мужчина он умный, здоровый, не пьющий, по женщинам не гулящий. А жена твоя, Василий, если настоящая, то тебе всё равно верной останется. Будут у тебя дети, точно говорю, но смотри… чтобы Аксинью потом ни пальцем, ни взглядом, ни словом не обидел.
— Иду на это из-за любви к ней. О какой же обиде тут говорить, сердце, конечно, разрывается, но душа гибнет без ребёнка, — ответил Василий, помолчал с минуту, потом ударил рукой по колену, как бы поставив печать, и твёрдо сказал, — так тому и быть.
Уговаривал жену на поездку в Барнаул долго, зачем отправляет, не могла понять, но всё же согласилась и через неделю отъехала с Ларисой в Барнаул.
Что дальше произошло, узнаем от самой Аксиньи.
Добралась до Барнаула благополучно, комнату в доме Леонида — мужа Ларисы отвели светлую, просторную со всеми удобствами. На второй день в дом Леонида пришёл его младший брат — Семён, обходительный мужчина, пригласил на прогулку в парк. Парк Аксинье понравился, особенно вход со стороны красивой улицы Петропавловская, откуда шла центральная аллея. Гуляли по парку вчетвером, Аксинья, Лариса с мужем и Семён, но вообще в парке было очень много людей. Аксинья говорила: «Иногда даже с трудом расходились на аллее, а порой плечами соприкасались. Во, как много народу, больше чем у нас в селе. Страх как много, и заблудиться можно. Ужас прям, ужас!» А ещё Аксинья сказала, что ей очень понравилась красивая и богатая коллекция сибирской флоры. Семён сказал, что в Барнаульском ботаническом саду выращивается около 400 видов лекарственных растений и имеется плантация ревеня, даже ботанический сад Москвы снабжается семенами из этого сад. Домой возвращались мимо собора на Соборной площади, а на следующий день Семён вновь пришёл к брату. Пообедали и пошли смотреть товары в магазинах. «Ах, чего там только нет, глаза разбегаются. Ткани красивые, яркие. Пуговки, булавки и нитки шёлковые прям рядами и много всего», — восторженно рассказывала Аксинья. На третий день Аксинья затосковала по дому, по мужу любимому, в Карагайку засобиралась, но Лариса уговорила её остаться ещё на два дня.
— Что-то тут тёмное, — подумала Аксинья, — Лариса странно ведёт себя по отношению ко мне. Оставляет одну с Семёном. А он пытался ухаживать за мной.
Припёрла Аксинья Ларису, как говорится к стене, та всё рассказала о сговоре с Василием. Недолго думая, Аксинья собрала вещи и отправилась домой. Обида наполняла душу, и если бы ей в это время под горячую руку попался Василий, несдобровать бы ему. Но за время поездки домой обида прошла и на Василия и на Ларису.
Приехала Аксинья в село, домой зашла, Василий вспыхнул как костёр, по глазам жены понял, быть ему битому как шелудивому псу. А Аксинья вздохнула глубоко, головой покачала, потом, улыбаясь, сказала: «Что ж ты надумал, Вася, милый ты мой? Да разве ж смогла бы я измену тебе принести! Глупый ты мой, дуралеюшка!» — подошла вплотную и тихонько ткнула в лоб рукой.
Василий стал разные глупости говорить, оправдываться, а Аксинья мешок развязала, что привезла из Барнаула и, вытащив и него сапоги, без намёка на осуждение сказала:
— Это тебе, Васечка, подарок от меня, а от Леонида бутылочка. — Выставила на стол красивую бутылку с непонятными басурманскими буквами, Vieux Rhum Anglai. — Леонид сказал, что это какой-то ром.
— Ты прости меня, глупого, милая моя Аксиньюшка, как лучше хотел, о тебе думал, — склонив голову, тихо проговорил Василий.
Подошла к мужу Аксинья, голову его к своей груди прижала, гладит и говорит: «Поняла я всё, Васечка, нет обиды у меня на тебя. Будем жить, как Бог дал».
На спас — Преображение Господне, после праздничного семейного стола, за которым собрались Басаргины и Серовы, Аксинья тихо шепнула мужу на ухо:
— Вася, я хочу детей, но похожих только на тебя, наших, деревенских. Только не отправляй меня больше из дома.
В ответ Василий только кивнул. Чувствуя недоговоренность мысли Аксиньи и не осознав полностью смысла всего, что это значило, тихо, но внятно, так же на ухо произнес:
— Так… только Федька на меня походит.
Аксинья, ожидая этих слов, шепнула:
— Только пусть он трезвый будет.
— Так вот оно что, — поняв, к чему жена клонит, мысленно произнёс Василий, но, не зная иного выхода, молча согласился, кивнув головой.
Василий брата уважал за упорство в делах, за умеренность в выпивке и редкую для мужчин холостяков чистоплотность и умение ладить с женщинами. Знал и то, что Аксинью брат до сих пор любит, но не имел к нему никаких претензий, потому, как не давал он повода для ревности. Брату доверял, поэтому и надеялся, что он правильно поймет его желание, — иметь детей и будет держать язык за зубами, а за свой брак с Аксиньей был спокоен. Фёдор, пока решался столь трудный вопрос, в этот праздничный день в Бийске был, и понятия не имел, что удумали брат с невесткой.
Брат.
Фёдор приехал через пять дней нагруженный городскими покупками и, не заходя домой, появился у брата, сияя каким-то восторгом. Василий же, в ожидании трудного разговора, как будто не обрадовался приходу брата, собственно, так оно и было, ибо сомнения в правильности принятого решения всё же были. Аксинья стол накрыла, пригласила мужчин за него, и, сказав, что к матери пошла и до утра не возвратится, вышла из дома. Фёдор бутылку водки из мешка достал, на стол выставил, сказав, что повод есть. Выпили по рюмке, тут Фёдор весь расклад и перетасовал.
— Ну, Васька, женюсь я! — сверкая глазами, выпалил он. — Не говорил прежде времени, а вот на праздники в Бийск съездил и всё решилось. Через неделю обратно поеду, привезу мою Зоюшку, знакомить с нашей роднёй буду.
Василий ни слова не сказал, и радости не выказал. Сидит и молчит, голову опустив.
А Фёдор всё о своём, о невесте и любви к ней, только уже после четвертой рюмки узрел смурность брата. Начал того пытать. Видя упорство, налил ещё стопку. Потом, изрядно охмелев, вытянул: «Ро-о-одной ты мне-е или-и нет? Что молчишь? Говори, поку-уда…»
Василий, в мыслях уже отрешившись от задуманного и потеряв свою уверенность, всё-таки рассказал о своем горе и намерении в отношении помощи братовой. Фёдор от такой просьбы опешил, но, подумав, с пьяного пыла согласился.
— Вас-с-сюха, а с-сколько ребяти-и-ишек за-а-делать? Может тройную-у-у? Я всё для тебя смо-огу.
После этого начал балагурить и разные юморные истории на этот счет рассказывать.
Расстались уже поздним вечером, выпив еще изрядно спиртного, при этом всё обсудили и решили. Утром Василий сказал Аксинье, что идёт в тайгу на охоту и без дальнейших объяснений взял ружьё и вышел из дома. Тем самым дал понять супруге, что всё остальное решать ей придётся самой.
Поднявшись на пригорок, откуда ведёт тропа в тайгу, Василий обернулся, чтобы посмотреть на свой дом и увидел бегущего к нему брата. Дождавшись его, спросил, в чём дело, брат ответил:
— Ну, не могу, что хочешь делай, не могу… и всё тут. Мало ли что по-пьяни сказал.
На что Василий окатил его холодным взглядом с головы до ног и не просто сказал, а приказал:
— Не можешь как брат, смоги как мужик.
С тем и ушел, оставив Фёдора в тяжёлом раздумье.
Фёдор, оставшись наедине с собой, после резких слов брата начал трезветь мозгами.
То, ещё детское влечение к Аксинье, из-за которой он с братом порой бился до крови, со временем не прошло, и теперь, когда появилась возможность обнять её, приласкать, вдруг засомневался в правильности задуманного, и что-то отвратительное, гадкое и мерзкое с колючим холодом вползло в душу. Вспомнил Фёдор слова своего деда, внесшего мир в те детские распри. Разговор тот начался с вопроса Фёдора:
— Дедунь, что такое любовь?
Знал дед, что бьются кровники часто, а по какой причине не ведал, но вопрос Фёдора всё поставил на свои места. Сообразил дед, о ком идёт речь, о девчушке соседской — Аксинье. Подумал с минуту и решил поговорить с внуком, как с взрослым человеком, как мужчина с мужчиной.
— Запомни, внучек, не человек находит сие сладострастие, то великое упоение для души — дар Господний, потому он, этот подарок, сам к человеку приходит. То великое чувство всей твоей сущности, как озарение, как молния, вдруг налетит и так схватит, что, кажется, жить без него не можешь.
После этого напрямую спросил Фёдора, кого тот любит больше — Аксинью или брата Василия?
— Я, дедуня, обоих обожаю одинаково, за каждого готов жизнь отдать.
— Ну, а она к кому более благоволит, к тебе или к брательнику?
Федя со слезами, но по правде признал свое поражение.
— Ну, а раз так, — молвил наставник, — не по-христиански и не по-людски на пути у любимых становиться. Усмири гордыню свою, не твори зла. Бог даст, и тебе благоверная найдется.
Фёдор с тех пор, терпеливо снося страдания, сокрушения и томления, сумел ради благополучия самых близких ему людей спрятать это чувство в глубине своей души. Перед свадьбой Василия и Аксиньи, боясь, что не сдюжит, выплеснет всё, что внутри накипело, чем порушит любовь братскую, ушёл в тайгу на охоту и промаялся там почти месяц. Пришёл домой, конечно, с дичью, мясом и шкурами, а внутри всё кипит от осознания того, что навечно потерял возможность взаимной любви. А как увидел Аксинью, так ещё ярче и сильнее почувствовал аромат, исходящий от любимой, ещё слаще стал голос её. Однако собрался, взял свою волю в кулак, поздравил со свадьбой и понёс мясо и охотничьи трофеи в лавку. Там брата увидел, и его поздравил.
Аксинья с Василием, конечно, поняли, почему Фёдора на свадьбе не было, но промолчали, не стали тревожить его душу.
С тех пор прошло два года, Фёдор обрел нужную твердость и власть над чувствами, научился спокойно относиться к близости Василия и Аксиньи. И вот теперь, — такое! Что делать? Решил, не допустит он этой плотской похоти даже из огромного желания обнять любимую, даже ради дальнейшего благополучия в семье брата.
Река рядом, доплёлся до неё, снял одежду, забрёл в воду и полчаса бултыхался в ней, как бы смывая с себя всю нечисть, что забралась в душу прошлым днём в виде зелёного змея. В эту полуденную жару подъехали к берегу свои карагайские мужики с сетями и выпивкой. К вечеру изрядно охмелевший и осмелевший Фёдор направился к подворью брата. Увидев, что над баней брательника идет дымок, решил: «Будь, что будет, придёт Аксиния, скажу всё что думаю, а спать с ней… ни-ни». Скинув в предбаннике ещё мокрую после рыбалки одежду, забрался на полок слегка теплой бани и, дожидаясь Аксинью, заснул. Среди ночи, спросонья и с перепоя, не поняв, где он и что с ним, резко приподнялся, долбанулся лбом о потолок, скатился вниз и угодил в таз с водой, по пути головой о каменку остывшую ударившись. Искры из глаз, боль в голове и во всём теле, и страх, да такой, что крик ужасный из горла вырвал. Орёт, мечется в темноте, на стены и полки натыкается. Случайно наткнулся на дверь, распахнул её и, выбегая наружу, лбом в косяк угодил, не помнил, что в бане был, что дверь в ней низкая. Бухнулся наземь, орёт, катается по траве, собаки в селе лай подняли. На шум в одних подштанниках, но с ружьём из соседнего дома дед Гапанович выскочил. Как жахнул с двух стволов ружья дуплетом в воздух. Фёдор голый, как заяц подпрыгнул от страха и угодил прямо в крапиву, что рядом с баней росла. С крика на дикий вой перешел. Так и прыгал голышом до своего дома, не выбирая дороги, меж палисадников чужих. На его пути молодые, что дружили в вечерней полутьме, в разные стороны разбегались, забыв от испуга про любовь. От крика, воя и лая собак, соседняя деревня Тайна переполошилась. В окнах домов огни зажглись, и тайские собаки как волки завыли.
Утром через соседского парнишку вызвал Фёдор карагайскую знахарку. Глаза от ударов, в бане полученных, заплыли, будто пчелы покусали, а от крапивных ожогов сплошная краснота с волдырями появилась, особенно в местах, для мужиков болезненных.
А по деревне с рассветом слухи поползли. Супруга деда Гапановича с утра полдеревни обежала. Видение ночное по-своему толковала, что, мол, утопленник по ночам крапиву собирает на рубашку себе, а там, где рвет её — покойника ждите. Двух соседок к месту, где Фёдор валялся, водила. Те, увидев смятую, вырванную крапиву, новыми подробностями слухи украсили. К обеду в Карагайке, а следом за ней в Тайне и других соседних сёлах не было ни одного двора, где этот переполох бы не обсуждался. Дошли слухи о мистике в селе и до Феди. Понял, выходить из дома нельзя, мало того что стыдно, расспрашивать начнут, что да как, тут и догадаются почему вдруг среди ночи оказался в брательниковой бане. Посмотрел на себя Фёдор в зеркало и ахнул, синяки на лице цвели разными цветами радуги, кроме того, щёки, лоб и нос оплыли от крапивных ожогов, нос аж отвис, и стал схож с крючковатым носом старой ведьмы. Знахарка из уважения к потерпевшему тайну его не выдала односельчанам.
Аксинья.
После отбытия мужа на охоту душа её вдруг затомилась от сомнений принятого накануне решения. Всё внутри отвратительно и мерзко стало. Очевидно, в истинно русской душе свыше изначально заложена преданность и верность мужу. Представив наяву весь предстоящий порок, еще более взбунтовалось, всполошилось нутро Аксиньи. Как же она, познавшая, принявшая в первой ночи близость суженого, отдавшего ей любовь свою, когда нежные, добрые, спокойные, но сильные мужские желания сделали её женщиной, а Василия мужчиной, должна стать доступной другому? Сказала себе:
— Не быть этому никогда!
Вспомнила бабушкин наказ. Бабушка всегда говорила: «Нет, внучка, жизни плохой, а есть отношение недоброе к своей судьбе, все невзгоды да неприятности изживай любым задельем».
Этот наказ заставил Аксинью хозяйством заняться. Хоть и не решила, как со свояком обойтись, баню все же протопила. Зная, что Фёдор туда придёт, сказала себе: «Вот пусть паром дурь всю и выгонит».
Работы по дому уйма, но руки и ноги от терзаний, переживаний и дум, словно заиндевели, — чуткость и плавность утратили. Начала доить любимую Зорьку, а та, хоть и животина, сразу учуяла неладное в хозяйке. Пальцы Аксиньи соски грубо тискают, стала корова истошно мычать, а потом, взревев, брыкаться стала. Молока мало дала и ко всему прочему копытом ведро опрокинула. Решила хозяйка яйца от курочек собрать. Вошла в стайку, так петух, что обычно поутру хозяев будил, вдруг расквохтался, а потом вовсю кукарекать начал средь бела дня, чем собаку всполошил. Та взвыла, словно к беде какой. Вконец измотанная Аксинья в дом вернулась, стала вещи перебирать, потом угольков в утюг насыпала и стала их гладить. Гладит и причитает:
— Васечка, любимый мой, что же я баба дура этакая надумала. Да, как же такие мысли дурные в голову-то мою залезли?
Стоит, клянёт себя, на чём свет стоит. Задумалась и насквозь прожгла праздничный сарафан, что муж на масленицу подарил.
— Господи, прости ты меня дуру окаянную, — отложив утюг в сторону запричитала Аксинья и, пав перед иконой на колени, стала неистово молиться.
К вечеру, изрядно устав и обессилев, легла в постель и уснула. Сквозь сон слышала шум на подворье, да только усталость сильно сморила, или на то божья воля была, не смогла подняться до утра. Днем слухи о ночном происшествии стали известны Аксинье. Поняла она, кто и зачем рядом с её домом переполох устроил.
Из дома вышла, расспросить, что в селе нового, узнать, не догадался ли кто, отчего переполох, а по пути в лавку сходить, посмотреть, как наёмный рабочий торг ведёт. Идёт по улице, а навстречу цыгане.
Зная о цыганской родословной своего мужа, Аксинья, тем не менее, цыган остерегалась. В том вина бабок была, в детстве заложили в её сознание мысль о том, что все цыгане детей и коней воруют и порчу на людей наводят. И уже, будучи замужней, увидев, как те по дворам с товаром ходят, калитку и двери закрывала, словно нет никого дома.
Испугалась, хотела обойти их, а ноги не идут, тяжёлые стали, будто по гире к ним привязали. Самая старшая цыганка дорогу перегородила и, глядя в глаза Аксинье, ласковым голосом сказала:
— Не бойся, милая, заботы твои без денег развею. Не украду, не обману, а вижу на лице твоём пятно тяжкой печали, что взывает о помощи.
С тем в избу её и зашла. Как хозяйка, в спальню заглянула, портрет Василия увидев, близко к нему подошла. Долго рассматривала.
— Нет, бабонька, ворожить тебе не стану. Хозяин твой на цыганской крови замешан. А деток-то сколько?
Аксинья в слезы. Ни с кем из родных о горе своём не делилась, а цыганке всё выложила. Про то, как в Барнаул к Ларисе во второй год замужества ездила, и про грех, что с мужем замышляли, рассказала. Цыганка задумчиво поглядела на Аксинью и своё слово сказала:
— Э-э-эх, милая, зачать не можешь, так как мир в душе твой порушен, а без него не может быть в жизни порядка. Вижу, ангел твой немало сил приложил, когда ты по глупому умыслу муженька своего в Барнаул ездила. Спас он тогда тебя от беды. Мало тебе науки той, так ты на грех новый пошла и мужа к этому подтолкнула. Но главная твоя беда в том, что телом к одному примкнула, а душой мечешься меж двух огней. Пока не будет покоя в душе не знать тебе материнства. Венчана, понятно, а часто ли молишься? Часто ли в церковь ходишь? Вспомни, когда последний раз каялась?
Услышав, что венчана по древлеправославию, поглядела цыганка испытующе на доверчивую хозяюшку и уже с некой притворной участливостью и сопереживанием, продолжила:
— Вера твоя правильная, истинная вера. По тебе вижу, бога почитаешь, а как муж твой, всё ли соблюдает, что предписано верой вашей?
Аксинья ответила, что Василий охотник, часто в тайге бывает, оттого и службы пропускает, а как там, — в тайге, поминает ли Бога, не ведает.
Вздохнула цыганка тяжело, головой покачала и спокойно вымолвила:
— Вижу, птица ты вольная, айда к нам в табор. Ромалы наши не чета твоему муженьку-слабаку. Детей нарожаешь, сколь хочешь, всё прошлое забудешь.
Услышав такое, Аксинья вспыхнула гневом и возмущённо выплеснула:
— Негоже ты, гостьюшка, на горесть, печаль мою отвечаешь, — неприглядностью и коварством к дорогому для меня человеку.
Ворожея, видя, что уловка не пришлась хозяйке по нраву, и что та действительно не просто любит, а ценит супруга, по-другому заговорила:
— Успокойся, не со зла говорила, тебя испытывала, а потому скажу, в чём я выход вижу из положения твоего трудного. Не кручинься, не переживай, не всё у тебя потеряно, здоровье, силы есть, а главное, любовь незапятнанная осталась. Не зря нам, женщинам, мудрость особая дана, не держи обиды на супруга за слабость его, что пошел на твоём поводу на сделку с совестью. Мужики, по сути, кое в чём слабее нас — женщин. Все мы под Богом ходим, он всему хозяин. Иди-ка ты прямо сегодня в церковь, исповедуйся. Благодетель наш Христос, всемилостив, всемогущ и в добрых помыслах людских помощник истинный, главное — душу свою к одному берегу прибей, не рвись от одного к другому, сгоришь меж двух огней. Не верю я, что слаб корень у мужа твоего, тем более кровь в нём цыганская имеется. Я верю, и ты поверь, будут у тебя по весне дети. Будут! Не от себя говорю, а от сути цыганской. Специально вернусь к тому сроку, захочешь — крестной нарекусь. Ну, а за пожелания мои и совет, не обессудь, так положено, дай мне денежку любую.
Аксинья без раздумий достала двадцать копеек и без сожаления отдала монету цыганке.
Расцвела душа у Аксинье, уверилась женщина в своём материнстве, а главное, силы в себе нашла, яркий свет в судьбе увидела. Одно мучало, правду сказала цыганка, мечется меж двух огней, между любовью своей к мужу и брату его, оттого и намекнула Василию, что хочет ребёнка похожего на него.
В церковь пошла, с Богом пообщалась и к батюшке Алимпию с недугом душевным обратилась. Священник без расспросов лишних свершил чин исповедания, не на виду у всех, а в комнате-исповедальне.
Домой Аксинья с легкостью в душе и на сердце возвращалась, неся в себе надежду, уверенность, что будут у них с Василием свои дети и познает она счастье материнства.
Василий.
Не менее тягостен и Василию этот день показался. Дорога к охотничьему домику сразу не заладилась. Всего-то часу не прошло, как с Фёдором повздорил, ливень на тайгу обрушился. С деревьев льёт, под ногами всё разбухло, идти вперёд невозможно и назад дороги нет, — ноги по мокрой траве скользят, если подъём, так чуть ли не на карачках, если спуск, так на заднем месте, мучение, не дорога. Дальше, ещё хуже.
Путь к домику пролегал через горный ручей, так он в этот ливень рекой стал бурливой, кипящей, ступить в такую реку опасно, подхватит, закружит и утащит под коряжину или во второе русло, что нередко под дном реки нарождалось, а там поминай, как звали, век не сыщут.
Планы утренние, чтобы еще засветло в домик охотничий прийти, вмиг рухнули. Постоял у реки, потоптался, решил здесь же заночевать, благо дождь потихоньку ослаб и к вечеру прекратился. К рассвету и река ослабла, превратившись снова в слабый ручеёк. Пошёл дальше. Частенько падая на спусках, увазёкался хуже ребёнка несмышлёного, но всё же к полудню, уставший и промокший насквозь, грязный с ног до головы, достиг конечной точки своего пути. К ночи кое-как обсушился и даже успел ужин приготовить из тех продуктов, что с собой взял. Заложенные в домике на экстренный случай не трогал.
Устроился на ночной отдых, лежит, уснуть не может. В голове думы тяжёлые, прав ли был, что брата в такое богопротивное дело впутал, а любимой жене согласие на порок дал. Гадко на душе и пусто от безысходности. К утру забылся на пару часов, а когда глаза открыл, соскочил с полатей и домой засобирался.
Идёт по тайге, в мыслях Аксинья. Не верится ему, чтобы на грех пошла и в то же время сомнения одолевают. Шёл, думал и не заметил, как со своей тропы сошёл и на неведомую ступил, что вглубь леса завела. Стоит, озирается, не может понять в каком направлении родное село. Видит, чуток поодаль жердина, дорогу перегораживает. Подошёл, и стало ясно, вышел на дорогу хоженую. Дым от костра почувствовал, понял, место это обитаемое, значит, можно спросить дорогу в село.
Через полчаса подошёл к утёсу и под навесом скальным, среди разлапистых пихт увидел строение старое, низкое, рядом печурка из камней сложена, и дымок от неё тоненький вьётся. Рядом с печью старый человек, мужчина с длиной седой бородой. Подошёл к нему Василий, поздоровался, дед ответил на приветствие и сказал:
— Трапезничать вместе будем, а покуда присядь на чурочку, как сготовлю, сообщу.
Понял Василий, что вышел к скиту отшельника старообрядца и на душе сразу легко стало. Знамением крестным осенил себя, поясной поклон отвесил.
С детства дедом наученный, со «своим уставом в чужой монастырь не суйся», не решился более отвлекать старца. Присел на чурочку, что под сенью кедра молодого установлена была. Прикорнул, и слышит голос, вроде как деда своего:
— Жизнь, внучек, твоя безрадостной стала, потому, как от веры Христовой отошел, зашорилась душа безверием в силушку свою, надеждой на советы беспутные, греховные.
Открыл глаза — никого. Сумерки, земная твердь теплом знойного дня напоённая к ночи готовилась. Тишина особая, таёжная. Где-то ветка хрустнула от птицы или зверя, ночлег ищущего. Рядом река бежит, плеск от неё доносится до Василия, — рыба к берегу подошла и резвится.
Ночь прошедшую, в тревожных муках проведший, отдохнувший на чурочке, пришел Василий к суждению, — во всех мыслях и делах прошедших, в мытарствах нынешних и блужданиях в глуши неведомой, есть некий промысел свыше, как и появлении в этом райском уголке. Нашел спокойствие и понимание, как дальше жить. Вдруг прикосновение легкое, теплое, приятное на плече почуял.
Приподнял голову, увидел старца преклонных лет и вспомнил, как оказался здесь.
Встал Василий с чурочки, поклонился старцу и назвался: «Басаргин я, Василий Никифорович. Заблудился, случайно на твой скит вышел. Прости, что покой твой потревожил».
Старец телосложения еще внушительного, не сгорбленный, без полноты излишней, с взглядом ясным и проницательным, добрым голосом проговорил:
— Вот оно что, а деда твоего уж не Петром ли величают?
Смотрит на Василия, лицо светлое, спокойное, неотягощенное заботами прошедшего дня, трудностями и лишениями годов прожитых.
После этих слов Василий признал в отшельнике однополчанина деда, оба в войне с Наполеоном дошли до Парижа. Вспомнил, как в детстве с завистью смотрел на два его Георгиевских креста, как поражён был статью героя, как любовался красотой лица его и бородой тогда черной, словно смоль.
Услышав ответ, что Петр Илларионович действительно родной дед Василия, старец улыбнулся радостно и широким жестом указал на избу, — пригласил путника в гости. С виду дом небольшой, старый, однако внутри просторный и чистый. Пол из лиственницы аккуратно половичками чистыми укрыт.
В прихожей для одежды вешалка просторная, чтобы одежда одного не накрывала вещь подобную у другого. Для шапки, фуражки полочка отдельная. Не принято головной убор на гвоздик вешать. Вода в кедровой кадушечке, крышкой прикрыта, чтоб сглазу бесовского не было, а ковшик вверх дном положен по той же причине. Рядом две кружки малая и большая. Чтобы гостю воды испить — прежде ковшом черпают, а потом в нужную по объему кружку наливают.
Комната высокая, широкая, от окон светлая. В одном углу кухня занавеской прикрыта, там отшельник в непогоду пищу готовит. В другом углу большая русская печь, чисто выбелена. От печи наискосок красный угол, там «Божница» (Иконы святых), стол обеденный, две лавки и табуретки самодельные, но слажены мастером искусным. Всё это убранство напомнило Василию дом деда.
Вспомнил Василий, как с Федором, будучи малыми детьми, любили играть в дедовском доме, было в нём что-то тёплое, отчего на душе легко становилось. В дедовском доме всегда приют ласковый находили, но, главное, когда гостили у деда, уму-разуму и порядку старообрядческому у него обучались.
Как за столом себя вести. Без обиды, за нарушение устава как сидеть, кушать и крошки не ронять по шее получали. Все это потом в привычку вошло, сидеть надо прямо, локти на стол не класть, растопырив, а только кисти рук держать на краешке. Пищу принимать достойно, красиво, не тянуться к тарелке, ложку, подложив кусочек хлеба, подносить к устам, с уважением к тем, кто рядом. Слова деда: «Ты — человек, чашке с едой не кланяйся, к ложке не тянись, у тебя в отличие от собаки али кошки руки с пальцами и губы Богом дадены», — внуки крепко усвоили. Запомнили и такие слова деда: «Человек при бороде аккуратен при еде». Оно и верно, человек, локтями половину стола занявший, носом в тарелку уткнувшийся, головой к ложке склонившийся — весьма не пристойное зрелище.
Некое удивление, а больше уважение к хозяину дома у Василия вызвали книги старца, коих на полках было десятка два. Помпезность, красочность, прочность обложек книг наглядно говорили, издания те из века прошлого.
На столе в ожидании гостя стоял медный самовар и два заварника для чая, в малом — травы таёжные, в большом — ягоды лесные. Мёд в кедровой плошке, две тарелки деревянные, рядом ложки, тоже деревянные. Из еды грибочки соленые, овощ какой-то диковинный сваренный прямо с кожицей, рыба речная, перья лука, каравай хлеба ещё не надломленный (у староверов хлеб принято не резать, а преломлять), огурчики малосольные.
Старец и гость прежде застолья молитву сотворили. Поужинали молча, чин благодарности Богу за соль, хлеб вместе свершили. Разговор первым дед Никола начал:
— Вижу, Василий к разговору ты склонен, да не решаешься. Не стесняйся, изложи, что на сердце наболело, вместе обсудим, вместе и решим, как жить, а прежде послушай притчу, может быть, она развеет твои думы мрачные.
«Один человек, чтобы уверовать в Бога обратился к Нему с просьбой:
— Боже сотвори чудо перед моими глаза, чтобы я убедился, что ты есть и сила в тебе великая.
Бог сотворил чудо в глазах этого человека и тот воскликнул:
— О Боже, теперь я твой навеки.
Бог ответил:
— А теперь ты мне не нужен, ибо вера твоя в моё могущество и существо не в сердце твоем была. Но как создатель и Отец твой, прощаю на первый раз.
— Запомни это, Василий, никогда не проси чуда у Всевышнего, сердцем доверяйся ему, а если иначе веришь, отринут Создателем будешь.
Выслушал Василий старца и начал, было, объяснять, как здесь оказался, да как-то нескладно, — с одного на другое перескакивая, старца запутал и сам запутался, а потом вдруг на колени перед ним упал и словно на исповеди отцу духовному, о своем горе без утайки, сквозь слезы скупые, всё ему поведал.
Отец Никола, не то с мыслями собираясь, не то собеседника к вниманию большему призывая, прежде три свечи возжег и к ликам святым поставил, а уж потом, не садясь, руки у груди, по обычаю предков веры старой сложив, пояснение своё дал.
— Не буду томить тебя риторикой богословской, спорностью суждений кто прав, а с надеждой на разум твой постараюсь вопрос такой объяснить иначе. Вот ты с детства до юности в своей семье жил согласно правилам, порядкам и традициям пращуров своих. Уголок свой укромный в доме имел. А теперь представь, в одно утро ты проснулся в непривычном для тебя месте. Выход на улицу из родной хаты, что ты с закрытыми глазами находил, в другой стене прорублен. Вместо обычного, почтенного обращения отец или батя, ты обязан говорить родителю не иначе как Никифор Петрович, а самого близкого тебе человека, вместо мама, мамочка родная, Лукерья Ивановна говорить обязан. Они же тебя, не сыном, дитём родным, а Васькой окликать должны. Вроде бы всё, как и прежде на месте, — дом отчий, родители те же, да только вот по решению власти церкви никонианской и светской обязан ты любовь, привитую древлеправославием, сердцу близкую и милую выражать по чужим пришлым правилам, не свойственным русскому человеку — православному. Не буду более распространяться, всё сказал, а ты головой думай, последнее скажу. На счёт Богопочитания, когда в совете нуждаешься, ты наверняка обращаешься не к юнцу безусому, а к человеку с опытом, сединой наделенному, так ведь!? — словно вопросил старец. — Потому и староверы к Всевышнему обращаются, как на иконах древних, самых первых Исус Христос показал двуперстием, а не щепотью сомкнутой. Тех же поборников древлеправославия, что на ошибки отдельные указывали, власти церковные и царские в огне, пытках, казематах уничтожали. Синагоги, мечети, храмы католические разрешено было возводить, службу в них вести по правилам своим, а старообрядцам — людям русским православным на два столетия под страхом смерти запрещено было свои приходы строить, и любой чин богослужения свершать.
Вот почему, пристанища наши не на виду. Может, оно и к лучшему. Со стороны-то виднее жизнь мирская, грешная.
Под впечатлением услышанного, Василий спросил: «Да что же это за сила такая в Вас?»
Отец Никола голосом не громким, но с твердой ноткой веры в свои слова ответил: «Все просто. Не в силе Бог, а в Правде. Вера она у каждого своя, а вот довериться Сыну Божему — Исусу Христу, как судье, спасителю, учителю истины, сила нужна. А ты, я вижу, запутался на пути жизненном, равновесие мужа достойного потерял, надежды в силы свои утратил. Нет болезней неизлечимых. Бог лечит, доверься ему, а не советчикам. Давай-ка, Василий, порешим так, — утро вечера мудренее, а потому не стоит кручиниться на ночь глядя. Из того, что я услышал от тебя, надежда есть на благоразумие супруги и брата твоего, что не допустят они грехопадения. Мысли же о твоем недуге мужском неверны, надуманы самим тобой. На мнение других не полагайся, а рассчитывай только на себя да Бога. А сейчас иди спать, ночью я тебя подниму на молитву, отдыхай, тебе нужно сил набраться.
Утром ранним, в три часа, едва начало светать, старец разбудил Василия. Склонившись перед иконами Исуса и Божией матери, Василий вдруг ощутил пространство великое для души своей, светом наполненное от ликов святых. Уверился в силе исполнения желания, лишь ему известного.
Вторил Василий старцу, поклоны земные отвешивал. Часы молитвы с совестью своей, разумом Высшим, святыми, что с икон на него созерцали, быстро пролетели. Чувство благодати, проникшее в сознание Василия, наполнило всю сущность его любовью и доверием к миру окружающему. Слова деда Коли на какие-то доли секунды поднимали разум его ввысь, где он парил, не чувствуя под собой опоры. Для него это было как сладостный сон, где он не ощущал своего тела, где была только сознательная душа, парящая в сладостном упоении.
По окончании молитвы Николай Тимофеевич пригласил Василия за стол и после трапезы, рассказал притчу.
«Брат сказал авве Сисою: «Авва! Что делать мне? Я пал во Грех».
Старец отвечал: «Покайся и Встань».
Брат сказал: «Я встал и опять пал».
Старец отвечал: «Снова покайся и встань».
Брат: «Доколе же мне каяться, вставать и падать?»
«До кончины твоей. Пока тебя не настигнет смерть — павшим или поднявшимся», — ответил старец»
Обратный путь домой для Василия был благополучным. К поселку подходя, решил, что если у жены с Фёдором что-то было, уйдёт к тётке в Барнаул. Аксинья молодая, красивая, а для материнского счастья мужа достойного найдет. Приехав в деревню, первым делом к брату подался. С опаской в дом вошел. В мужике опухшем, что в центре комнаты голяком в тазу с травами сидел, брательника с трудом узнал. Мысль жуткая и одновременно радостная на ум пришла: «Видно, Аксинья так его отделала, что сидит сейчас и отмокает».
Шагнул было к Фёдору, а тот со стоном из таза выпрыгнул и как от проказы в угол забился и оттуда матерно на Василия сквозь зубы опухшие закричал:
— Иди ты… вместе с женой своей, туда… куда… разъядрит твою… подальше!
После, правда, успокоился, обмяк, брат всё-таки, любимый. Два часа рассказывал, как гульнул у реки, как уснул в бане и как оказался в таком болезненном состоянии. У Василия после объяснения с братом будто бы камень с души сняли. С легким сердцем в свой дом пошел.
Баню протопил, первый жар, как хозяин на себя принял. Отправив жену на пар вторичный, вдруг вспомнил, что воду-то холодную почти всю на себя потратил.
Уже с ведрами, что водою с реки наполнил, в предбанник вошёл и в проёме приоткрытой двери увидел Аксинью. Та без одежды, украшений, с волосом распущенным, не видя мужа, веник омывала. Женщина ещё не рожавшая, тело молодое, жаркое, груди как две скалы, бёдра белые округлые взбили естество мужское. Замер Василий, ведра из рук выпали, — с гулким стуком и плеском воды разлитой покатились они по полу. Аксинья повернулась на звук, выпрямилась. Впервые не ойкнула, без суеты чуть прикрыла розовые груди и улыбнулась. Вспыхнул от смущения Василий, поднял вёдра и вышел из бани за новой порцией воды.
А потом была их ночь, самая благодатная, чувственная, открытая, просветленная, чистая, обоюдная и желанная, наполненная благостной любовью и истомой, во время которой и зародилась новая жизнь.
В рождественские праздники Василий по гостям с Аксиньей с большим желанием и достоинством ходил. Полнота и походка жены выдавали в ней будущую мать.
Когда Аксинье по делам женским доводилось в Бийске бывать, цыганку ту, что ей помогала, искала. Оказалось, табор тот откочевал, но местные цыгане пообещали по связям своим сообщить об Аксинье.
А 22 марта, в день сорока мучеников, для Василия двойной праздник — жена сына родила. К Пасхе крестины наметили. Только вот имя никак подобрать не могли, всё, что родственники и знакомые предлагали, Аксинье не по душе приходилось. Опять цыганка помогла. И ведь не обманула, перед крестинами в дом явилась. Подошла к люльке и ласково вымолвила:
— Вот и Павлушечка наш.
Через год Василию опять забота — новую люльку пришлось мастерить. Дочка родилась, ну просто копия мамы! Всего-то различий — одна кареглазая, другая черноокая. Евдокией назвали.
Фёдор вскоре женился. Подруга его по сердцу всей родне Басаргиных пришлась. Через год девочку родила, на второй год мальчика и ещё через год второго сына. Девочку крестили Марией, мальчиков Василий и Алексей.
Продолжение в следующем номере.
Огненные годы
(Повесть. Окончание. Начало в №4)
Виктор Вассбар

Глава 2. Враг
Лейтенант Берзин
— Согнись, разогнись! Годен! Следующий! — проверяли призывников две докторши.
Филимон Берзин вместе с Сергеем Трусовым и Иваном Кудряшовым были признаны годными для воинской службы, но так как им было всего семнадцать лет, то их направили в Омское военно-пехотное училище имени Михаила Васильевича Фрунзе.
В январе 1942 года, после шестимесячного курса обучения, Филимон Берзин, два его товарища односельчанина и ещё около полутора тысяч младших лейтенантов и лейтенантов направились в действующую армию на должности командиров стрелковых, пулемётных и миномётных взводов.
— Пацаны, а ведь нам здо́рово повезло, только мы изо всего выпуска попали в полк, штаб которого находится здесь же в деревне, разве что в другом её конце, а другим нашим пацанам добираться до своих полков попутками, а где и пешком, — выйдя из штаба дивизии после распределения по воинским частям, проговорил младший лейтенант Берзин и, бодрой походкой вместе с друзьями односельчанами — Сергеем Трусовым, Иваном Кудряшовым и ещё пятью выпускниками Омского военно-пехотного училища — земляками из Алтайского края направился в штаб полка 338 стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта.
Представившись командиру полка, младшие лейтенанты Берзин, Трусов, Самсонов и Пермяков были зачислены в первый стрелковый батальон, Уфимцев Василий и Кудряшов Иван во второй стрелковый батальон, Алексейцев Валерий и Горбунов Владимир в третий стрелковый батальон.
Новые сапоги, тонко поскрипывая яловой кожей, взбивали плёнку свежевыпавшего снега и вносили в душу Филимона радостное настроение, а твёрдый шаг его крепких ног нёс в воспоминания, — недавний торжественный марш по плацу училища в честь получения первого офицерского звания — младший лейтенант. Маленькие кубики в петлицах шинели грели душу Берзина и растворяли его в радужных мечтах. Филимон шёл на КП роты, в которую был направлен на должность командира стрелкового взвода после распределения в штабе полка.
— Приду в роту, получу взвод, буду строгим, но справедливым командиром, а иначе нельзя, — вышагивая по узкой тропе редкого берёзового колка к командному пункту роты, мыслил Филимон. — Солдаты они все люди разные, и по возрасту и по натуре, а коли я для них командир, то спуску давать не должен. Вот, ежели, к примеру, взвод побежит в атаку… — хмыкнул, — бегут с передовой, а в атаку идут. Так вот, ежели взвод пойдёт в атаку, все же по-разному бегают. Я могу быстро бежать и поведу взвод в атаку с криком «Ура», а который солдат старый, ежели ему лет так за тридцать… Как ему? Он быстро бежать не сможет, старый уже. Вот, как тут быть, спрашивается? Наказывать? Но он же не виноват, что уже старый и не может быстро бегать. И что… объявить ему выговор? Нет, тут как-то надо по-другому! А ежели я всех быстрее бегаю во взводе, это что ж… весь взвод наказывать надо? Какая-то неувязочка. Вот приду в роту, обязательно спрошу, как быть в таком случае… у ротного командира или комиссара. Лучше у комиссара. А, может быть, не спрашивать? Подумают, что я, прям, какой-то недотёпа. Нет, не буду спрашивать.
Неожиданно впереди справа послышался чёткий ритмичный скрип снега, как будто несколько человек шли след в след и под одну команду: «Раз, два, три! Раз, два, три!»
Отпрянув в сторону, метров на пять-шесть от тропы, Берзин залёг за берёзку, напряг зрение и слух.
Вскоре на тропу вышла группа в маскхалатах и с оружием в руках, у двух солдат, из молчаливо шествующей семёрки людей, были немецкие автоматы.
— Фашисты! — промелькнула мысль у младшего лейтенанта. — Диверсанты, идут в нападение на штаб дивизии. Срочно, срочно, надо срочно что-то предпринять! — лихорадочно думал он, не мог принять ни одного действенного решения. — Бежать, но снег… он выдаст меня, меня застрелят. Ждать! — принял решение, — а когда уйдут на значительное расстояние, бежать и сообщить!
Когда последний диверсант скрылся в ложбине, а то, что это диверсанты Берзин утвердился с первого взгляда, — в руках у них кроме ППШ было немецкое оружие, и шли молча, прислушиваясь к каждому звуку, младший лейтенант быстро покинул укрытие и, что было сил, побежал к расположению роты.
Забежав в землянку и увидев в ней старшего лейтенанта, торопливо выкрикнул:
— Там, там! — указывая в предполагаемую сторону берёзового колка, — диверсанты, немцы, фашисты!
— Ты, кто такой, младший лейтенант? — воззрившись на заполошного офицера, спокойно проговорил старший лейтенант.
— Я… это… Берзин, — часто моргая глазами, ответил Филимон.
— Хорошо… Берзин. Откуда ты такой заполошный?
— Я, товарищ старший лейтенант направлен в первую роту первого батальона командиром взвода.
— Вот оно что! Это хорошо, что направлен. Только, младший лейтенант, прежде чем кричать, надо представиться, а потом уже докладывать, что и когда видел. Понял? — строго и одновременно с лёгкой улыбкой проговорил старший лейтенант.
— Простите, — склонив голову, повинился Берзин, затем собрался, встал по стойке «смирно» и чётко произнёс: «Товарищ старший лейтенант, младший лейтенант Берзин представляюсь по случаю назначения на должность командира взвода в первую роту первого батальона».
— Ну, вот, это уже по военному, а теперь докладывай, что видел и когда.
Доложив о группе в маскхалатах, Берзин услышал следующее:
— Это, младший лейтенант, как тебя по имени?
— Филимон, — тихо проговорил Берзин.
— Это, Филимон, полковая разведка. Ты что ж думаешь, они не видели тебя.
— Я спрятался за берёзой!
— За берёзой, говоришь, — хмыкнул и мотнул головой старший лейтенант Потёмкин. — Они тебя, взводный, раньше приметили, нежели ты их. Ты ещё по берёзовому колочку шёл и птичьи песенки слушал, они мне уже доложили, что в направлении расположения моей роты движется неизвестная личность, а ещё раньше о тебе мне сообщили по телефону из штаба батальона. Вот так-то, Филимон Берзин. Да, ты не смущайся, — увидев склонившуюся голову взводного и расплывающийся румянец на его щеках, — всякое случается, а за бдительность объявляю тебе благодарность.
— Служу Советскому Союзу! — приложив правую руку к голове с нахлобученной на неё шапкой, бойко ответил младший лейтенант.
Полк, в который получили распределение молодые офицеры — выпускники Омского военно-пехотного училища, в составе 338 стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта готовился к наступлению в направлении Вязьмы. Наступление было запланировано на 17 января 1941 года.
В ночь с 15 на 16 января во втором взводе третьей роты 1 стрелкового батальона поднялась тревога, и он в панике, оставив свой участок обороны, побежал в полном составе в тыл своих войск, но был остановлен прибывшим за день до этого командиром взвода младшим лейтенантом Пермяковым.
Как бы ни хотелось командиру роты капитану Кузнецову скрыть столь прискорбный факт от командования полка, он не пошёл на это, понимал, что подведёт под трибунал не только себя, но и командование батальона.
На вопрос комбата: «Что за шум был ночью в твоей роте, капитан?» — командир роты ответил кратко: «Паника. Кому-то померещился фашистский десант».
— Вот оно что, — задумчиво проговорил комбат, затем, помяв подбородок, спросил. — Кто?
— Выясняю, — ответил капитан.
— Выясняй и постарайся как можно быстрее. Мне уже звонили из штаба полка и требуют доклад. Скрывать не буду, так и доложу, что паника в твоей роте. Как можно постараюсь сгладить твою вину, но на себя брать её не собираюсь. Быть расстрелянным за трусость не по мне, — ответил майор Семилетов и приказал связисту соединить его со штабом полка.
Представитель особого отдела недолго искал виновника поднятия паники. Настоящие паникёры, сговорившись, указали на рядового Прозорова — щуплого восемнадцатилетнего паренька, их поддержали ещё несколько человек, решивших свалить свою вину на слабого беззащитного человека. Бежали все, а судили одного. Выяснилось, что молодой солдат, не сумевший постоять за себя, собственно, его никто и не слушал, — нужен был козёл отпущения, — был комсомольцем, но… Приговор зачитали всему личному составу полка и передали его дальше по инстанции, для зачтения в других полках дивизии. Когда Прозорова поставили перед расстрельной командой, он крикнул: «Да здравствует Сталин, да здравствует Родина!» Не помогло, расстреляли, труп бросили в яму, разровняв её и не поставив на месте захоронения даже берёзовый колышек.
17 января после продолжительной артиллерийской подготовки Берзин куда-то бежал, куда-то стрелял, рядом падали солдаты, свистели пули, глухо взрывалась земля, выбрасывая в морозный воздух мёрзлые комья земли и снег, превращавшийся за долю секунды из белоснежного в грязно-серый. Но ничего этого он не видел и не ощущал.
Ему не было страшно, эмоций не было, он был как бы обезглавленным без мыслей и чувств, с одним лишь желанием — скорее бы кончилось это безумие, где, как казалось ему, нет ни верха, ни низа, где нет никого, а есть только он в какой-то бесцветной, звенящей, взрывающейся пустоте.
Бег, стрельба, короткая передышка, снова наступление, дым, разрывы снарядов, смерть и всё как в тумане, — такими были первые дни настоящей войны, а не учебной на полигоне «Карьер» Омского военно-пехотного училища.
В эти дни Берзин понял главное, надо выжить, но не любой ценой, а ценой смерти врага, которого он должен, нет, обязан, уничтожить. С каждый новым наступлением он понимал, что идёт на смерть, но уже шёл в атаку не бездумно, а с полным осознанием своих действий, он учился воевать.
За одним днём приходил другой, смерть чередовалась жизнью, а жизнь ранениями и смертью. В первом бою погиб младший лейтенант Пермяков, через два дня младшие лейтенанты Самсонов и Уфимцев.
26 января в 8 часов 338-я стрелковая дивизия овладела Воскресенском, Мамушами и, не встречая особого сопротивления со стороны немецкой обороны, продолжала наступление в направлении на Замыцкое. В этом бою погиб односельчанин Филимона — младший лейтенант Кудряшов Иван и боевой офицер кавалер ордена Красного Знамени участник финской войны командир батальона майор Семилетов. Командование батальоном взял на себя командир 3 роты капитан Кузнецов, роту принял командовавший 1 взводом этого подразделения младший лейтенант Трусов — единственный офицер роты, оставшийся живым к этому дню.
Январские морозы, не ослабевая, заставляли командиров и комиссаров всех степеней в перерывах между боями вести разъяснительную работу среди личного состава о недопущении обморожений тела, т.к. среди солдат всё чаще стали появляться обмороженные и даже умершие от переохлаждения, особенно из числа жителей южных республик страны.
— Кто же умирать хочет? — между собой говорили бойцы после таких инструктажей, — тем более так бесславно, — от холода.
— Рады бы в тепле-то, только валенки и тёплые рукавицы командиры меж собой расхватали, а нам на рыбьем меху, — отвечали другие.
— А Худойбергенов так тот вообще пальцы на ногах и руках обморозил. Солдаты, которые лежали с ним в санбате, сказывали, ампутировали их ему, — говорили третьи.
— Колотите, — говорят командиры, — ногами и руками, — а толку что… Я вот колочу-колочу ногами, всё равно мёрзнут, а руки только и согреваю, что в штаны между ног сую, так от этого яйца мёрзнут и ещё больше колотун берёт.
— Это точно! Если руки-то как-никак согреешь, то ноги в яйца не засунешь, — тяжело вздохнув и грубо понося фашистов, говорили солдаты отделений, взводов и рот, и к утру нередко находили одного, а то и двух из тех бойцов с остановившимся сердцем — замороженным январской стужей.
Война, никто из солдат, офицеров и генералов не знал, что ждёт его завтра, через месяц или через секунду. И не только от мороза умирали солдаты и офицеры, они гибли в бою, падали на промёрзшую землю и в чёрный взъерошенный снег сражённые пулями и осколками снарядов. За первые девять дней наступательных боёв в 1138-ом стрелковом полку 338-й дивизии погибло 50% офицерского состава. Урон в потерях офицерского состава был ощутимый, приказами по полку командирами рот назначались младшие лейтенанты и старшины, командирами взводов — сержанты.
(27 января 338-я дивизия овладела районами Скотинино, Дорофеево, Кобелево. К 28 января, не встречая сопротивления противника, переместилась в район Федотково, Буслава, Абрамово.
31 января передовой 1138-й полк занял Горбы.
В ночь на 2 февраля 33-я армия заняла позиции для атаки на Вязьму. 338-я дивизия остановилась в Воробьёвке. В этот же день — утром противник атаковал 1138-й полк в районе Захарово, и немцы окружили передовую Юхновскую группировку 33-й армии, в которой находился командующий армией генерал-лейтенант Ефремов.
После нескольких дней ожесточенных боёв, испытывая недостаток в личном составе, вооружении и боеприпасах, группировка пошла на прорыв по кратчайшему пути — на соединение с частями 43 и 49 армий. Этот прорыв закончился гибелью командующего армией генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова и командиров его штаба, пленением большого числа бойцов и командиров.
14 апреля изрядно поредевшие полки 338-й дивизии прорвались через дорогу Беляево — Буслава и вышли из окружения, но это была малая часть Юхновской группировки 33 армии, которая пробудет в окружении до середины апреля — начала мая 1942 года.
Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова хорошо описана военным историком и писателем Сергеем Егоровичем Михеенковым в научно-исторической книге: «Армия, которую предали»).
— Я тебя, трус, предатель, враг народа, сейчас тут же расстреляю, — кричал лейтенант НКВД на капитана Кузнецова, временно принявшего штаб полка, взамен погибшего начальника штаба, а затем и полк от полковника Кучинева, выбывшего по руководству частью по ранению. — Полк, скотина, в окружение заманил. Да, я тебе… — лейтенант замахнулся для удара и в это время услышал резкое: «Отставить!» — это член военного совета 33-й армии генерал-майор Бабийчук, войдя в дом, в котором боевого офицера с истязанием допрашивал лейтенант НКВД Погребняк, остановил допрос.
— Ты, лейтенант, офицеров, вышедших из окружения, сначала дай осмотреть медикам, многим, уверен, требуется госпитальное лечение, а потом уже и допрашивай.
— Так бежать могут! Им верить нельзя. Каждый по-разному говорит.
Генерал пронзительно посмотрел в глаза следователя НКВД, протяжно и громко вздохнул и твёрдо проговорил:
— А это от того, лейтенант, что каждый и них выполнял свою задачу и не смотрел по сторонам, он смотрел только вперёд, на врага и уничтожал его, грыз зубами, а не сидел… Всё, прекращай допрос!
А в это время своей участи ожидали ещё несколько офицеров 1138 стрелкового полка.
Младшие лейтенанты Алексейцев и Горбунов погибли в начале февраля — в первые дни окружения немцами Юхновской группировки. Из всех выпускников Омского пехотного училища прибывших в полк для прохождения дальнейшей воинской службы в живых остались только младшие лейтенанты Берзин и Трусов. Берзину срочно требовалось госпитальное лечение, — был ранен в голову, Трусов имел легкое ранение в плечо, но и ему требовалась медицинская помощь. Раны у каждого нестерпимо болели и кровоточили, но офицеры были вынуждены ждать допроса, иначе, как предупредил Погребняк, их ждёт расстрел. Лишь после вмешательства члена военного совета армии все офицеры были освобождены от допроса и направлены в медсанбат, кто на лечение, а кто на осмотр и перевязки, — в большей или меньшей степени ранены были все офицеры.
Но объяснения давали не только офицеры. Допросам подверглись старшины, сержанты, солдаты, медики и даже повара. Некоторые из них за трусость были осуждены военным трибуналом и отправлены в штрафные роты.
(05.06.1942 года после формирования и укомплектования 338 стрелковая дивизия была переподчинена 43-й армии и уже 22 июня 1942 года была выдвинута на передовые позиции. 1138 стрелковый полк, понёсший большие потери, был выдвинут во второй эшелон дивизии в район высоты 233,9 — между населёнными пунктами Мусино-Ефаново-Износки. Здесь полк доукомплектовывался и 4 августа был введен в первый эшелон, заняв район Коркодиново-Науменки).
После излечения в прифронтовом госпитале младший лейтенант Берзин возвращался в свой полк. Дорога от госпиталя до штаба полка шла по цветущему разнотравьем полю и пролегала через круглую дубраву, густо поросшую кустарником.
Ни взрыва снарядов, ни свиста пуль, ни оглушительного ора вперемежку с ёмким крепким словом из десятка глоток солдат бегущих в атаку под льющийся на них град пуль — полный покой и тишина.
— Как дома! Так же пряно пахнет трава под тёплыми лучами солнца, тот же пересвист птиц, только нет рядом мамы, сестёр и моей Серафимочки. Где вы сейчас, родные моя, что делаете? — мысленно говорил Филимон и уносился мечтами в родное таёжное село к матери, сёстрам и милой Серафиме.
Упав на вековые дубы с небесной дали, лучи солнца разбились о ветви их и рассыпались тонкими серебристыми нитями по кустарникам и тропе, на которую ступил Филимон. Лёгкое прохладное дуновение ветра принесло из зарослей кустарников, ползущих по правому краю тропы, шёпот листвы и следом резкое:
— Стоять! Руки вверх!
Вздрогнув от неожиданного окрика, Берзин тотчас выбросил из головы приятные воспоминания и, подняв руки, замер с занесённой для нового шага ногой.
Справа затрещали кусты.
Осторожно опустив ногу на землю, Берзин медленно обернулся на шелестящий звук. Из кустов с винтовкой наперевес выходил юноша лет пятнадцати в светло-серой залатанной во многих местах гимнастёрке и землистого цвета штанах. На голове юноши, наполовину скрывая уши, была нахлобучена изрядно потрёпанная пилотка старого образца с неопределённого цвета кантами по верху бортиков и швам колпака, с такого же цвета подкладкой для металлической звезды, но без неё. Ноги юноши были всунуты в рваные калоши, подвязанные верёвками за щиколотки, большие пальцы, покрытые серой пылью, торчали из дыр.
Осторожно перебирая ногами, странный юноша надвигался в сторону Берзина с низко опущенной головой, при этом рывками запускал винтовку в его грудь и издавал гортанные звуки, подобные тем, какими обычно пугают дети, того, кого боятся сами.
— Э-э! Осторожно с винтовкой! Не видишь что ли, свой я! Из госпиталя! — находясь в напряжении, как можно спокойно проговорил Берзин.
Слова не возымели на юношу никакого воздействия. Приближаясь к Филимону, он не только не прекращал пугать его винтовкой и своими гортанными звуками, но и низко опущенной головой как бы давал понять ему, что будет ещё и бодать лбом.
Винтовка упёрлась в грудь Филимона. Юноша остановился, ещё дважды изверг из горла свои пугающие прерывистые звуки: «У-фу-ху-у! У-фу-ху-у!» — и застыл немигающим взглядом на его сапогах.
Прошла минута, юноша молчал, вероятно, что-то прокручивал в своей голове. На второй минуте, не поднимая глаз, заикаясь, произнёс:
— Я т-т-тебя сразу у-у-узнал!
— Больной? — догадался Филимон, — а выстрелить может. Что с него возьмёшь!
Всё ещё держа руки над головой, Берзин проговорил:
— Хочешь, я тебе сапоги свои подарю?
— Х-х-хочу! — загоревшись глазами, проговорил юноша. — И п-п-портянки!
— Как же я всё сниму, если у меня руки подняты?
— Оп-п-пусти. И на тр-р-раву сядь. Так я тебя б-б-бояться не буду.
— А ты боишься?
— Б-б-боюсь! У тебя с-с-сапоги.
Опустившись на траву, Берзин снял правый сапог, размотал с ноги портянку и, аккуратно обмотав её вокруг сапога, поставил справа от себя. Проделав подобное со вторым сапогом, приподнял голову и посмотрел на юношу. Бесцветные глаза юноши были направлены на Берзина, но Филимону они казалось пустыми, мертвыми и смотрели не на него и даже не через него, а за спину, в какую-то таинственную бездну, ведомую только ему.
Холодная дрожь прокатила по телу Филимона. Такого пустого отрешённого взгляда он не видел даже у дурачка Прони, бесцельно вышагивающего в любую погоду по улицам районного центра, где Берзин овладевал рабочей профессией.
— Бери и надевай. Что стоишь? Я теперь не страшный? — справившись с некоторым оцепенением своего тела и разума, проговорил Берзин.
— Угу-у! — с кривой улыбкой гукнул юноша. — Теперь ты б-б-без сапог и не с-с-страшный! Теперь я тебя не б-б-боюсь. Теперь я буду с-с-страшный.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.