
Бесплатный фрагмент - Беги как чёрт
Пролог
Согласно официальной истории, Арстад — второй по возрасту город в Сантории и лишь на три десятка лет уступает столице. Собственно, история четырех старейших городов страны — Санторина, Арстада, Каста и Лоранны, — имеет много общего и уходит корнями в одну и ту же эпоху, когда четверо крупных феодалов, в начале девятого века были пожалованы известным лицом графскими титулами. Однако, Карл I, граф Арстада, и его ближайшие приемники, либо не были одаренными градостроителями, либо развитие собственных владений не входило в число их основных приоритетов, так как до середины десятого столетия город не представлял из себя существенного центра ремесла и торговли. Да и городом назвать его было трудно; скорее, это было всего лишь крупное феодальное поместье. Как город же, с укрепленными крепостными стенами, с несколькими тысячами населения, с развивающимися мануфактурами и торговлей, и, конечно же, с церковью под крылом (правильнее сказать — под крылом церкви), Арстад начинает упоминаться в истории средневековья во времена графа Карла VI.
И хоть события, описанные в данной книге, не имеют отношения к истории, все же будет уместно сказать еще несколько слов о процессе становления Арстада. В общих чертах, графство тихо и мирно развивалось вплоть до 1378-го года, когда особой инвеститурой оно было возвышено в ранг герцогства, опять же, вслед за своим старшим братом — герцогством Санторин. Наверное, самым серьезным препятствием в конкуренции с Санторином, для Арстада была некая пассивность и отчужденность его правителей, среди которых, образно говоря, лишь каждый пятый или шестой, отличался дальновидностью и организационными способностями. Генрих I, начавший отсчет герцогов Арстада, вообще был одним из наиболее странных представителей своей династии. Можно предположить, что он просто-напросто был опьянен своим успехом носить данный титул, и казалось, стремился разделить свою радость со всей Европой, но только не с родными землями, в которых за время своего почти сорокалетнего правления провел максимум лет пять. Кстати говоря, учитывая личностные странности его светлости, для многих остается необъяснимым за какие заслуги, собственно, он стал герцогом. Мечты и стремления Генриха I были столь же далеки и возвышены, сколь и не двигающимися с места были реализации этих стремлений. Разъезжая с бесконечными зарубежными визитами, в Арстад герцог возвращался окрыленный планами использовать опыт более развитых государств на благо своей родины. Но стоило лишь ему вернуться со своими прогрессивными и инновационными сведениями касательно строительства, вооружения или экономического развития, стоило нанять на работу ведущих зарубежных архитекторов, оружейников и финансистов, как до него долетали слухи о том, что в некотором королевстве, герцогстве или графстве было начато строительство нового дворцового комплекса, введена новая система взаиморасчетов или выведена новая порода лошадей для кавалерии. Тут герцог впадал в крайнюю степень апатичной меланхолии. Проклиная судьбу за то, что она постоянно оставляет его на шаг позади, Генрих замораживал все свои начинания, срывался с места и мчал в обозначенные земли, чтобы лично засвидетельствовать очередную прогрессивность и инновационность проводимых там реформ. А убедившись в них, с известной целью возвращался домой. Нетрудно догадаться, что этот замкнутый круг, рожденный неумением герцога отделять семена от плевел продолжался до самой его смерти. Нельзя сказать точно, к чему стремились наследники первого герцога, но по всей видимости, одной из главных их задач было не прослыть среди знати, да и среди простого народа, таким же сумасбродом, как их предок. А потому, они старались придерживаться чисто аристократической практичности, не позволявшей впадать в крайности, и поставили себе задачей номер один не стремление вперед, а сохранение стабильности.
Так, вплоть до начала шестнадцатого века, Арстад продолжал быть заурядной столицей заурядного герцогства, насколько герцогство может быть заурядным. Расцвет же его — торгово-промышленный, и как следствие политический, — начался с 1517-го года, когда титул перешел к двадцатилетнему Филиппу. Тридцатипятилетнее правление Филиппа I и сорокадвухлетнее правление его сына Генриха III, принято считать золотым веком герцогства Арстад. Про этих двух господ еще будет сказано несколько слов, но все же для настоящего рассказа, куда большую ценность представляет Арстад современный.
А современный Арстад — это четвертый по величине город в Сантории, с населением чуть больше двухсот тысяч человек. Расположен он в пятнадцати километрах от западной границы, на южном берегу Ситары и в ущелье гор, в частности между двумя самыми высокими вершинами местности — Большой и Малой Волчицами. В настоящее время Арстад — это, в первую очередь, главный туристический центр страны, как Санторин — финансовый, Каст — культурный, а Мэйвертон — научный. По всему городу, но главным образом в южной его части, разбросано огромное количество отелей, санаториев, профилакториев, туристских и спортивных баз, наряду с кинотеатрами, кафетериями, барами, ресторанами и прочими развлекательными заведениями. Исторический же район — Старый город, — представляет собой территорию, максимально приближенную к той, какую занимал Арстад в шестнадцатом — восемнадцатом столетиях. Как и должно было быть, застраивался город вдоль берега Ситары и дальше к югу, все более сужаясь к западу в прибрежную полосу, и максимально расширяясь на востоке, где находился под защитой восточной крепостной стены. К концу девятнадцатого века городские стены были полностью снесены, но для сохранения границ исторического центра, а также для удобства административного деления, правительство города решило проложить в Арстаде три основных улицы — своего рода внутренние границы. И не прибегая к особой оригинальности назвали их Южная стена, Восточная стена и Новая стена (новая, потому что на самом деле никакой стены на этом месте ранее не существовало). Еще одной особенностью Арстада можно назвать практическое отсутствие прямых улиц, а самой оригинальной в этом плане считается улица Диего Веласкеса, которая почти замыкает саму себя по неправильной окружности.
Ну, а Старый город — это сердце Арстада и истинный памятник архитектуры. Это сеть коротких переулков и мостовых, среди которых подсознательно хочется заблудиться. Это множество невысоких и прекрасно отреставрированных зданий и домов, окрашенных в яркие цвета, с заостренными оранжевыми крышами и шпилями. Это красивейшая набережная, носящая имя герцогини Амалии, возлюбленной супруги Генриха III, это несколько арочных и сводчатых мостов через реку, это площадь герцогов Арстада, с красивейшим фонтанным комплексом в центре, и лежащая прямо напротив Большой Волчицы. Это университет Арстада, основанный в середине девятнадцатого века, у главного входа в который студентов, преподавателей и гостей встречает трехметровая бронзовая статуя богини Афины. Это здание городской ратуши, некогда служившее резиденцией арстадским епископам — настоящий дворец, украшенный скульптурами ангелов, с полукруглым фронтоном и главными часами города на нем. Разумеется, это собор Святого Франциска. Заложенный в конце шестнадцатого века, и с тех пор претерпевший множество реставраций, в нынешнем виде он являет собой внушительное сооружение из двух шестидесятиметровых башен и основного здания чуть меньшей высоты, мраморный фасад которого украшают изваяния всех двенадцати апостолов во главе с Иисусом Христом.
Восточнее площади красуется дворцово-парковый ансамбль, сооруженный по приказу вышеупомянутого Филиппа I. Строительство нового дворца Филипп начал спустя год после того, как принял бразды правления герцогством в свои руки. Как уже упоминалось, именно с Филиппа начался расцвет Арстада, закрепленный его наследниками. Филипп практически не покидал пределов своих владений, и вместо того, чтобы витать в облаках, как его далекий предок, отдавал предпочтение практическим действиям. При нем в Арстаде и его окрестностях было основано несколько деревообрабатывающих фабрик, налажены пути сообщения и внутри герцогства и за его пределы — в первую очередь, это касалось реки, по которой было необходимо организовать масштабный грузопоток древесины. Основной же страстью Филиппа было строительство, и венцом его стараний вполне резонно стал дворец в стиле строгого ренессанса, из белого песчаника, который с годами становится прочнее, и что самое удивительное — белее. Позднее, дворец Филиппа I, как и парк вокруг него, перешел в государственную собственность и стал музеем истории искусств.
Но даже не это строение приходится главной достопримечательностью города. Самым знаменитым объектом Арстада, да и всей Сантории, по праву считается замок, строительство которого в 1562-ом году начал сын Филиппа I — Генрих III. Приняв титул в восемнадцатилетнем возрасте, Генрих III успешно продолжал политику отца, и возможно, добился бы в своем правлении еще более выдающихся результатов, если бы через три года не вздумал жениться на дочери одного очень влиятельного лица в европейской политике тех времен. Брак, заключенный по чисто дипломатическим соображениям, в скором времени перерос в самую искреннюю страсть, во всяком случае, что касается герцога Арстада. Возможно, герцогиня Амалия тоже не была лишена теплых чувств по отношению к супругу, но понять, что скрывается за постоянной меланхолией этой девушки, скорее всего, не мог даже Генрих. Наделенный властью и богатством, и в то же время постоянно занятый ввиду своих обязанностей, герцог старался расположить к себе супругу с помощью бесконечных подарков. Когда же драгоценности и наряды перестали производить нужный эффект, в ход пошли роскошные сады и набережные, где возлюбленная могла коротать свои преисполненные грустью дни. Либо сам герцог не понимал, что нужно его жене, либо страсть к честолюбию в Амалии была уже основательно растравлена, но как бы там ни было, на седьмой год брака, очередь дошла до самого главного подарка — замка в честь герцогини. Замок этот чем-то напоминает знаменитый Шамбор на Луаре, у которого, вероятно, архитекторами Генриха III были заимствованы многие ходы и решения. В то же время, замок Арстад непогрешимо симметричен и — если можно так сказать, — архитектурно более строен своего французского товарища, за счет акцента на вертикали в ущерб горизонтали. Семиэтажный донжон, две башни по его углам, два крыла, огромные окна, изящные балюстрады, арабесковые орнаменты и скульптуры героев из древних мифов и легенд — все это, в отличие от романтического Шамбора, делает замок Арстад куда более консервативным и даже зловещим.
Замок стоит в четырех километрах к западу от города, на южном берегу Ситары и соединен с Арстадом сплошной мостовой, которая в черте Старого города именуется бульваром Генриха III. Строительство замка заняло тридцать лет; разумеется, за столь продолжительное время страсть Генриха III к супруге ослабла под натиском возраста, и известно, что даже по завершении строительства, семья его светлости редко задерживалась в замке дольше, чем на месяц, предпочитая уже привычный дворец Филиппа. А через пять лет после того, как строительство было окончено, Генрих III скоропостижно скончался; через два года за ним последовала и его возлюбленная супруга. Триста шестьдесят пять комнат и торжественных залов — чтобы герцогини Амалии не наскучило здесь в течение года, — так никогда и не были оценены по достоинству этой женщиной. В дальнейшем, замок, на который, возможно, было потрачено денег больше, чем на все остальные объекты в Арстаде, так и продолжал быть кратковременной резиденцией герцогской четы, которая хоть и поддерживала его в должном состоянии, но главным дворцом страны так и не сделала. Изначально замок носил имя герцогини Амалии, но в середине двадцатого века, когда он так же, как и дворец Филиппа I стал собственностью государства, было решено закрепить за ним название «замок герцогов Арстада», или просто замок Арстад. Ныне же в нем нашел приют музей истории страны.
Великий замок, воплощение красоты и могущества, построенный ради утехи, никем никогда искренне не любимый. Камни твоих стен надежно сохранят все тайны, свидетелем которых ты стал, и пронесут их с собой в страну вечного забвения. Тайны прошлого, тайны грядущего. Тайны настоящего. Замок Арстад, способны ли твои призраки проникнуть в самые потайные уголки человеческой души, впитать в себя весь калейдоскоп ужасов, творящихся в ней, и навеки унести свои свидетельства в твои стены? Навеки похоронить горячие откровения стертого сознания, откровения, которым более не суждено быть услышанными. Сколько правды хранится в твоих стенах? Сколько гнева и ненависти было засвидетельствованы тобой?
Да, ты сохранишь тайну истинных терзаний души, которую приметили твои невидимые обитатели одной июньской ночью две тысячи шестнадцатого года. Когда небеса, спокойные воды реки, склоны гор и деревья мрачного леса оказались не единственными свидетелями маленького спектакля, как думал актер, который этот спектакль разыгрывал. Он не подозревал, что за каждым его шагом и даже за каждой его мыслью, не пропуская ни единого движения возбужденной души, внимательно наблюдает стая твоих призраков. Что же? Что творилось в том надломленном сознании, когда твои огни отражались в тех горящих глазах? Когда некий молодой человек, спотыкаясь чуть не на каждом шагу, быстрой, но неуверенной походкой шагал по бульвару Генриха III, оставляя за своей спиной город. Когда он постоянно озирался по сторонам и оглядывался через плечо, и если бы на пути его вдруг возник встречный прохожий, или если бы кто-то действительно шел позади, нет сомнений, что его нервное поведение привлекло бы к себе внимание. А уж если бы кто-то приблизился к нему настолько, чтобы посмотреть в лицо, и увидел эту гремучую смесь из тревоги, страха и отчаяния, то внимание это переросло бы, как минимум, в очень нехорошие подозрения.
Очевидно, что молодой человек убегал. При этом находился в таком возбужденном состоянии, что даже не отдавал себе отчет в столь неосторожном пути к бегству. То, что ему до сих пор никто не повстречался было чистым везением, ведь бульвар Генриха III даже за чертой города — это один из излюбленных горожанами маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. В конце концов, эта догадка постигла и беглеца. Он вдруг резко остановился, в очередной раз нервно огляделся, и тут впервые в его затравленном взгляде мелькнуло что-то похожее на рассудок. Несколько секунд он всматривался в огни замка, дернулся всем телом в каком-то змеином движении, свернул с бульвара и спустя полминуты был уже под укрытием лесных деревьев.
Пройдя шагов сто вглубь леса, продолжая инстинктивно озираться, молодой человек, в конце концов, врезался в ствол ели и замер, словно наткнулся на непреодолимую преграду. Несколько секунд он с истинным непониманием взирал на этот ствол, и, по всей видимости, совершенно не соображал, что ему делать дальше. Пот затекал в глаза, и в итоге он крепко зажмурился и уперся лбом в дерево. Он стоял в этой позе минут пять, пока дыхание его не выровнялось. Тут он провел языком по иссохшим губам, и что-то неслышно прошептал. Сначала один раз, спустя минуту другой, и вскоре шепот его перешел в судорожный и понятный только для него самого монолог. Первым, что молодой человек произнес вслух, был протяжный стон, испустив который, он резко развернулся и с силой ударил затылком о ствол. Медленно сполз на землю, растянулся на животе во весь рост и спрятал лицо в ладонях. Возможно, он провалился в сон, а может и вовсе потерял сознание, но в течение целого получаса он совершенно не двигался. Наконец, медленно перевернулся на спину и взглянул в ночное небо. Выражение холодной пустоты в его взгляде сменило собой отчаяние. Он начинал понимать.
— Что дальше? — прошептал молодой человек.
Он достал из кармана джинсов зажигалку и пачку, в которой оставалось две сигареты. Закурил и треск тлеющего табака был единственным звуком, нарушавшим зловещую тишину ночного леса. Лишь когда он сделал последнюю глубокую затяжку, выпустил облако дыма и тщательно потушил сигарету, глаза его прищурились и обнаружили трезвую мысль.
— Беги! — проговорил парень. — Беги как черт!
Он вскочил на ноги и побежал.
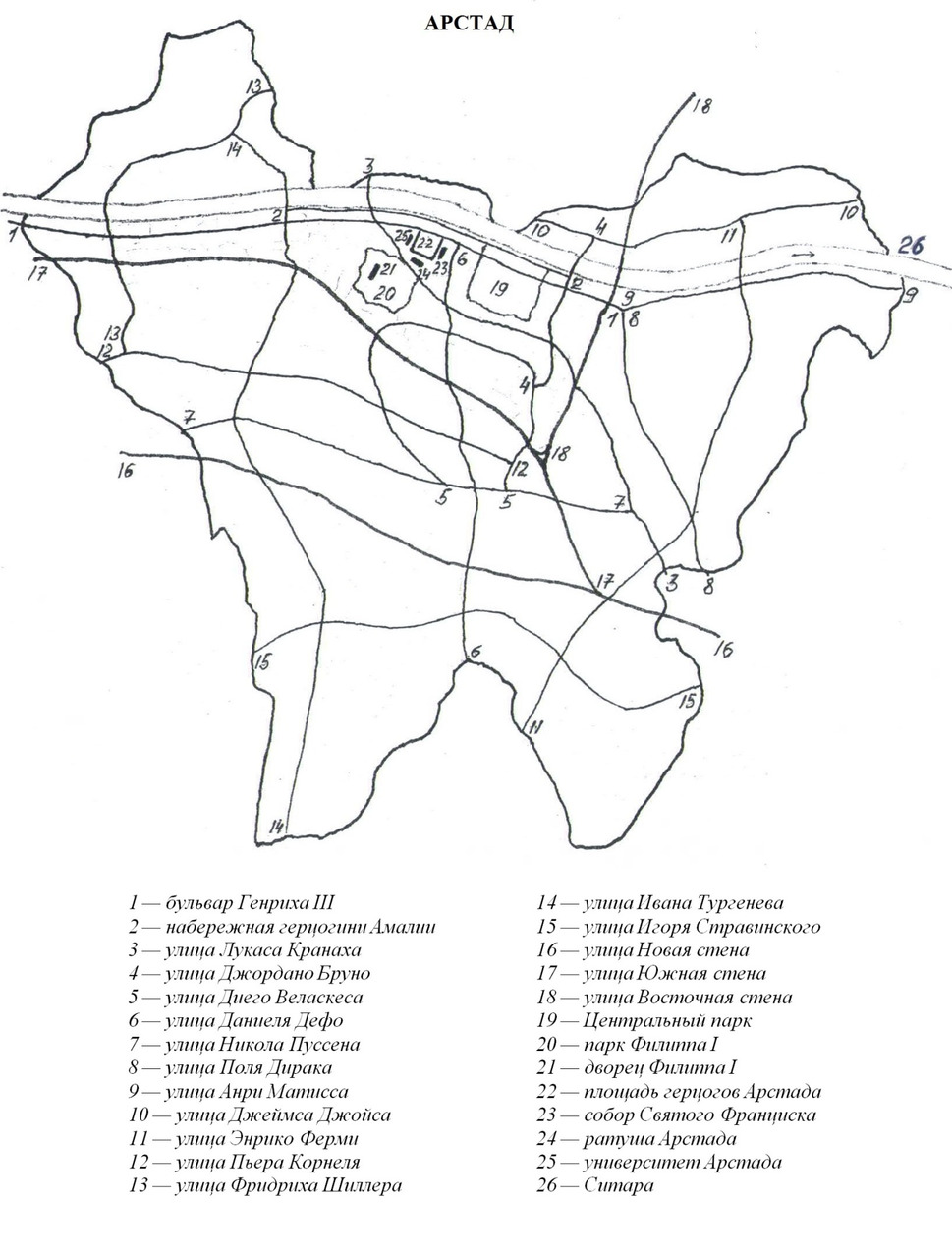
Часть первая
Глава I
07.06.2016 (вторник, ближе к вечеру)
В небольшом саду на заднем дворе одного из коттеджей сидела молодая девушка. Она покачивалась в кресле-качалке и рассеянным взглядом скользила по страницам детской энциклопедии с иллюстрациями животных, машинальными движениями перелистывая страницу за страницей. Периодически она отвлекалась от этих манипуляций и обращала внимание на ребенка, копошившегося рядом. Это был темноволосый мальчик лет шести, с тонкими руками и с непропорционально большой головой. Сидя на траве, он неуверенными и заторможенными движениями раскладывал пластиковые карточки с изображениями чисел от одного до десяти и соответствующим количеством яблок под ними. То, что он их раскладывал, могло показаться только на первый взгляд; на самом же деле, очень скоро становилось ясно, что ребенок совершенно не понимает взаимосвязи между предметами, которые, тем не менее, привлекали его внимание. Подтверждением тому служил и блуждавший, совершенно не выражавший сосредоточенности и процесса мышления взгляд светло-карих глаз, и приоткрытый рот, из уголка которого стекала тонкая струйка слюны. Взяв карточку неуклюжим, угловатым движением, мальчик лишь несколько секунд задерживал на ней взгляд, после чего та просто выпадала из его руки, а на ее место бралась другая. Иногда, правда, карточка не выпадала, а медленным движением откладывалась в сторону, что говорило лишь о том, что ребенок не успел забыть о данном предмете, но вовсе не о систематизации его действий. После очередного вышеупомянутого движения, случилось так, что рядом оказались две карточки, на которых были изображены цифры «1» и «2». В это же время находившаяся вблизи девушка обратила внимание на образовавшуюся последовательность. С живейшим вниманием на лице, около минуты она пристально следила за движениями ребенка, но тот, похоже, потерял интерес к ряду чисел и отказывался замечать тройку, хоть та лежала на самом видном месте.
— Томми, три, — сказала она, глядя на мальчика и показывая ему три пальца правой руки. — Видишь? Три. Нужно найти три яблока.
Мальчик поднял на нее свой напрочь лишенный смысла взгляд, и замер, по-видимому, совершенно не понимая, чего от него требуют.
— Три яблока, — повторила девушка, и еще раз продемонстрировала три пальца. — Три яблока.
Томми же, скорее всего, решил, что его внимание пытаются привлечь именно к руке и, переведя взгляд с лица девушки на ее пальцы, полминуты смотрел на них с истинным непониманием.
— Бэ, — протянул он с глупой улыбкой.
— Ни бэ, а три яблока, — настаивала девушка. Отложив книгу, она подошла к мальчику, присела рядом и указала ему на карточки, которые случайным образом оказались рядом. — Один, — внятно и спокойно проговорила она, демонстрируя ребенку указательный палец и указывая им на единицу. — Два, — показала она уже два пальца, и рука остановилась на карточке с двойкой. — Три, — закончила девушка и внимательно посмотрела в глупое лицо своего подопечного.
Ребенок промычал что-то нечленораздельное, но, тем не менее, потянулся к оставшимся карточкам.
— Нет, — отрицательно качая головой, сказала девушка, когда мальчик коснулся карточки с шестью яблоками. Она медленно перевела взгляд на нужную им тройку, в надежде, что Томми проследит за ней. Тот, однако, не обратил на это внимания, и решил попытать счастья с восьмеркой. — Нет, — вновь покачала головой девушка и аккуратным движением направила его руку в нужную сторону.
Но Томми всем своим видом давал понять, что даже если и видит эту злополучную тройку, то совершенно не связывает с ней свое настоящее. Только когда девушка постучала пальцем по поверхности нужной карточки, он взял ее в руку.
— Отлично, дорогой. А теперь положи ее вон туда, видишь, рядом с двойкой.
Томми, понемногу вникавший в игру, но по-прежнему не понимавший правил, посмотрел туда, где его репетитор видела в будущем числовую последовательность, и неловким движением воткнул карточку перед двумя другими.
— Нет-нет, милый, не сюда. Слышишь, после. После них, а не перед ними, — голос девушки не обнаруживал ни следа раздражения. — Вот сюда, — она указала на нужное место.
В ответ ребенок последовал ее примеру и положил руку на то место, где она хотела видеть тройку. В течение двух минут с помощью жестов и максимально упрощенных фраз девушка старалась заставить мальчика переложить карточку на нужное место, но, не добившись успеха, была вынуждена сделать это сама.
— Вот так, видишь. Один, два, три, а теперь нужно найти четыре.
Томми следил за ней с улыбкой, и справедливости ради, стоит сказать, что она вовсе не украшала его лицо; затем совершенно безучастно огляделся и произнес:
— Бэ.
Девушка внимательно посмотрела в лицо ребенка и утвердительно покачала головой.
— Да. Бэ, — сказала она после короткого молчания и тяжело вздохнула. — Ты совершенно прав, малыш, — она потрепала мальчика по волосам, чем вызвала у него нечто похожее на смех. — Ты даже не подозреваешь, какую неопровержимую истину ты глаголешь.
Тут ребенок, ободренный ласковым жестом, вернулся к своим бесполезным операциям с карточками, а девушка сосредоточенно посмотрела куда-то вдаль. «Вся твоя будущая жизнь, — думала она, — будет определяться этой истиной, заложенной в твоем мычании. Неполноценный. Несчастный умственно отсталый отбросок общества. Ты отбросок, Томми, — тут она с сожалением, близким к презрению, коротко взглянула на ребенка. — По-настоящему ты никому не нужен. Любила тебя та, что произвела на свет? Кто она? Что она думала, когда ты толкался в ее утробе, когда просился в этот мир? Нет, Томми, не любила. Тебя никто никогда не любил, и никогда тебя никто не полюбит. Тебя не за что любить. Ты неполноценный. Хорошо одно: ты никогда не почувствуешь в своей душе того ужаса, который несет в себе слово „неполноценный“. Черт возьми, Томми, ты не осознаешь своих мук. Это поразительно! Ты чистейший образец истинного страдания, и ты никогда не сможешь постигнуть этого. Ты никогда не сможешь выгадать пользу от своих страданий, как умеют делать люди, наделенные интеллектом. Или ты думаешь, что я сейчас лукавлю?»
— Нет, Томми, я говорю правду, — шепотом заговорила девушка, не глядя на ребенка. — Порой страдания — это золотая жила, неиссякаемый источник жизненных сил. Но не в твоем случае. Ты страдаешь ради смерти. Смерть — это единственная награда, которую ты сможешь заслужить в этой жизни. Сладости, неискренние поцелуи и смерть. Прости, малыш. Но ты страдаешь только ради смерти. Знаешь, какой-нибудь философ-самозванец мог бы возразить, что ты чист и светел как ангел. Что вовсе ты не страдаешь, лишенный трезвости восприятия; что ты отделен надежной стеной от ударов и превратностей судьбы. И что твоя жизнь не что иное, как воплощение покоя, к которому тщетно стремится нормальный человек. Хотела бы я хоть во сне протащить этого философа через земной ад, в котором не будет ничего. И самое главное, чтобы в нем самом не было ничего! Ничего, что могло бы пробудить в людях, хоть что-то, кроме жалости. Мерзкой, грязной, презренной жалости. Знаешь, Томми, что люди очень часто ошибаются в любви? Да, серьезно! Очень часто человек начинает путать любовь с жалостью. Лично у меня это вызывает разумный порыв к подростковому протесту; прекрасный и чистый подростковый протест, который ты также никогда не познаешь. Томми, — тут девушка повысила голос и посмотрела на ребенка; тот, в свою очередь, тоже обратил внимание на девушку. — Я не могу любить тебя, Томми. И не хочу жалеть. Я бы хотела начать хотя бы презирать тебя, понимаешь?! Ведь среди здоровых людей нередко презирают странноватых аскетов, которые по своим собственным причинам отстраняются от радостей и удовольствий жизни. Иногда их принято называть чудаками, и как бы оставлять наедине с их мировоззрением. Но боюсь, что это лишь маска приличия, а на самом деле они презираемы. Так вот, не благороднее ли с моей стороны будет презирать и тебя? Я понимаю, что ты не отказываешься от жизни, а просто неспособен ее принять, но ведь мы можем просто создать иллюзию твоей полноценности, а? Ты даже не представляешь, сколько людей принимают иллюзии за истину жизни, за счастье. Ты даже не представляешь, какие это порой иллюзии! Почему бы нам не попытать счастья? Ты станешь нормальным, а я избавлюсь от жалости к тебе в презрении. Что скажешь?
— Бэ, — протянул невольный слушатель, глядя на свою исповедницу, и выражение его лица напоминало нечто отдаленно похожее на заинтересованность.
Девушка замерла, глядя на мальчика широко открытыми глазами, словно она действительно надеялась на нечто более вразумительное. Несколько секунд она смотрела на ребенка в упор, после чего, в знак разочарования, резким движением опустила голову.
— Отлично. На самом деле, лучше и быть не может, — с этими словами она вновь потрепала его волосы и вернулась в кресло. — На самом деле, Томми, ты ведь мой единственный настоящий слушатель, представляешь? Кому еще могла бы я излить всю свою душу? Так что прощай меня, малыш, если тебе достается во время этих покаяний, договорились? Нервы у меня расстроены, Томми, вот и несу всякую чушь. Воздух сотрясаю. Пытаюсь отвлечься от голоса своего рассудка, который все стыдит и стыдит меня. Ты знаешь за что, дружок, я ведь тебе рассказывала. Стыдит и стыдит. Заставляет одуматься, все отменить и повернуть в другую сторону. А я и слушать не хочу. Подскажи мне, Томми, вот что: глупый ли я человек, если понимаю, что я глупый человек? А, Томми? Глупый ли я человек… твою мать, Томми! Да сколько же можно ее жевать?!
Обратив внимание на ребенка, девушка увидела, что тот жует пучок травы. Вскочив с кресла, она бросилась освобождать рот и руки бедолаги от его закуски. Движения ее были при этом максимально аккуратными, а речи, их сопровождавшие, мягкими и беззлобными; очевидно, что девушка имела веские причины не допустить плача или, тем более, истерики.
— Малыш, ну неужели она такая вкусная? А? Ну сколько можно? Неужели ты не чувствуешь горечь? Это плохо, Томми, плохо.
— Похо, — повторил Томми одно из немногих слов, которые умел произносить, хоть о смысле его имел, видимо, весьма смутные представления, потому что зеленый рот был искажен гримасой удовольствия.
— Вот именно, плохо!
Девушка подошла к складному столику, на котором стоял графин с водой и стакан. Наполнив стакан, она сделала глоток, прополоскала рот и выплюнула воду, после чего поднесла стакан к губам Томми. Тот, на удивление безропотно и точно повторил данную процедуру, и по указанию своего надсмотрщика проделал ее еще дважды.
— Малыш, нельзя это есть. Трава — это плохо, очень плохо, — с этими словами она вырвала пучок зелени, брезгливо бросила на землю и растоптала, что должно было послужить примером обращения с травой для ребенка.
Тот, однако, не пришел в восторг от увиденного вандализма, и лицо его приняло выражение замешательства.
— Видимо, ты другого мнения, да? Вкусная трава? — и девушка отвернулась, чтобы вернуть на место стакан.
— Кусна, — произнес ребенок вслед своей няне.
Та резко обернулась.
— Что ты сказал? — спросила она, видимо, не поверив своим ушам.
— Кусна, — повторил Томми.
Искренняя улыбка осветила лицо девушки, и она бросилась обнимать ребенка.
— Пусть будет вкусная, пусть! А ну, скажи это еще раз, — она заглянула в его мутные глаза.
— Кусна, — последовало в ответ.
И когда девушка принялась осыпать его поцелуями, впервые на лице ребенка-инвалида проявилось выражение, не имевшее ничего общего с теми гримасами, которые оно попеременно выражало прежде. Впервые в этот день он улыбался так, как и должен улыбаться ребенок. И чувствуя нечто, отдаленно напоминающее восторг, Томми вымолвил с придыханием:
— Тава.
Это был настоящий триумф. Девушка замерла и прошептала:
— Давай Томми, добей меня.
— Тава, — послушался ребенок.
Молодая няня отстранилась от мальчика и с восторгом посмотрела в его оживленное лицо.
— Так может ты притворяешься, а, чувак? Может ты гений, который ловко разыгрывает комедию? — Она засмеялась и встряхнула ребенка. — Вкусная трава! Давай, Томми! Вкусная трава!
— Кусна тава, — повторил Томми.
— Покажи! Покажи мне эту траву, малыш! Где трава? — возбужденно говорила девушка.
Это, по всей видимости, было уже запредельным для больного ребенка, и он только продолжал с довольным видом повторять два новых слова. Тогда девушка вырвала пучок травы и, размахивая ею перед лицом Томми, восклицала, задыхаясь от восторга:
— Вот она, дорогой! Трава! Вот она — вкусная трава! Вкусная, черт возьми, трава!
— Кусна тава.
— Ха-ха! Золотой ты мой!
Она схватила Томми на руки и, подняв над своей головой, закружила в воздухе, чем вызвала у того не самый приятный на слух, но зато искренний и счастливый смех.
— Ты моя умница! Ты мой молодец! — повторяла она, разделяя с мальчиком его маленький успех. Успех, которому, к счастью, не знают цены девяносто восемь процентов населения нашей планеты; успех, которому не позавидуешь; успех, о котором думаешь с ужасом. Но девушка, которая еще пять минут назад уверяла себя в желании презирать этого маленького несчастного человека, в настоящее время была за него искренне рада. И если в будущем ей придется вспомнить эту сцену, верхом лицемерия с ее стороны будет утверждение, что даже тогда она продолжала жалеть этого ребенка. Нет, сама того не сознавая, она им гордилась. Сама того не сознавая, она приближала его к полноценной жизни, не прибегая к столь пошлому приему, родившемуся в искушенном мозгу, как презрение. Она дарила ему полноценную жизнь своим сердцем, раскрытым для этого малыша. Сердцем, о котором, вполне вероятно, она очень мало знала.
Сад, в котором происходила эта сцена, и, соответственно, двухэтажный коттедж из белоснежного камня принадлежали семье Эспер. Клод Эспер и его супруга Моника, которым на момент описываемых событий было пятьдесят четыре и пятьдесят два года соответственно, владели тремя небольшими отелями в южной части Арстада, и их смело можно было назвать людьми обеспеченными. В городе у них была хорошая репутация, они отличались активной гражданской позицией и не забывали о благотворительности, в первую очередь касавшейся сирот, больных детей и церкви, ибо Эсперы были преданными католиками. Разумеется, одним из самых ответственных предприятий в этом плане являлось оформленное три года назад опекунство Томаса Крампа — ребенка с тяжелой умственной отсталостью. Возможно, на принятие этого решения, кроме чувств сострадания и человеколюбия, повлияло и чувство родительского одиночества, ведь любимый и единственный сын Эдвард покинул отчий дом и отправился получать образование в университете экономики и политических наук Мэйвертона. С тех пор юноша, увлеченный учебой и устройством личной жизни, очень редко жаловал родителей своими визитами, ссылаясь на постоянную занятость и недостаток свободного времени. Клод и Моника огорчались по этому поводу, но лучшим оправданием для Эдварда служила его великолепная успеваемость и статус одного из самых многообещающих студентов университета.
О мотивах же побудивших супругов взять опеку над инвалидом, вместо того, чтобы попытаться завести второго родного ребенка или усыновить здорового, вряд ли можно говорить объективно, потому и делать этого не стоит. Как бы там ни было уже на протяжении трех лет, каждые выходные Томас покидал стены интерната для умственно отсталых детей и проводил их с Клодом и Моникой, а каждое лето, в том числе и нынешнее, жил в их доме на постоянной основе под присмотром няни. В этот раз на данную кандидатуру Эсперы утвердили двадцатичетырехлетнюю Джессику Фэйт, во многом благодаря тому, что у девушки было хоть и неоконченное, но все же образование детского психиатра. Джессика ухаживала за Томми всего три недели, но даже за это короткое время Клод и Моника поняли, что не ошиблись в выборе. Ребенок заметно привязался к девушке, а та в свою очередь не просто исполняла обязанности сиделки, а старалась быть для мальчика, прежде всего, педагогом. Каково же было восхищение супругов и Томасом, и, конечно же, Джессикой, когда вернувшись вечером домой, они узнали, что словарный запас ребенка теперь составляет двенадцать слов вместо десяти.
Внешность Моники создавала приятное впечатление. Невысокая и хрупкого сложения, со светлоокрашенными волосами длиной до плеч, тонкими губами и голубыми глазами, она как будто старалась выразить на своем лице чистый образец невинной наивности. Услышав от Томми выражение «кусна тава», она теперь суетилась вокруг него с неприкрыто переигранным восхищением, снова и снова упрашивала его повторить новые слова, что тот и делал скорее чисто машинально, чем по просьбе. Джессика уже давно заметила в этой женщине склонность к маленьким восторженным спектаклям, даже в ситуациях, где это казалось неуместным, и сейчас тактично попросила Монику быть более сдержанной, чтобы не перевозбудить мальчика.
— Да, конечно, конечно! — спохватилась та, но эмоциональный потенциал в ней был очень высок и требовал реализации. Потому, сделав круг по гостиной, который должен был выразить ее крайнее потрясение, она бросилась обнимать Джессику. — Это невероятно, моя милая! Это просто потрясающе! Тебя нам сам Бог послал, да благословит он твою душу! Два слова за один день, а ты с ним всего три недели! Господи, дай я поцелую твою ручку.
— Ну что вы, Моника, не стоит этого делать, — и девушка аккуратно отстранилась.
— Клод, ну разве она не чудо? — обратилась женщина к мужу.
Клод Эспер выглядел немного растерянным, и казалось, не понимал, как ему правильно реагировать на все происходящее. Неуверенная улыбка сменялась на его лице кратковременной задумчивостью, и чувствуя потребность в каких-либо действиях, он подошел к мини-бару и налил себе немного виски. Красивый мужчина чуть выше среднего роста, с европейским разрезом глаз, высоким лбом, который пересекали две глубокие морщины, и орлиным носом, Клод Эспер мог бы гордиться своей внешностью, если бы потускневший взгляд зеленых глаз не так настойчиво привлекал к себе внимание. Отчужденность и старческий фатализм этого взгляда в значительной степени снижал эффект от видимой силы и здоровья. Вскоре после того, как Джессика стала «своей» в его доме, то заметила одну забавную черту характера Клода: в обществе посторонних людей, в первую очередь равных себе по положению, Клод светился уверенностью, но наедине со своей женой чаще всего имел вид растерянный и даже испуганный от причастности к происходящему. А когда Моника и вовсе пыталась вовлечь его в свои эмоциональные представления, то Клод обычно начинал глупо улыбаться и старался занять себя чем-то посторонним, что он делал и сейчас.
— Да, это очень впечатляюще, — ответил он жене и кашлянул. — Весьма впечатляюще.
— Клод, не спеши пить спиртное, — сказала Моника, выпуская Джессику из объятий, и в голосе ее прозвучала нота укора. — Отвезешь Джессику домой.
— Да-да, конечно, — пролепетал мужчина и, повиновавшись, отставил бокал.
— Нет-нет, — поспешила возразить Джессика. — Не стоит беспокоиться, мне еще нужно зайти в одно место, а это не по дороге домой.
Девушке показалось, что ее слова пробудили во взгляде Моники отблеск неудовольствия, словно ее возражение бросило тень на авторитет жены в глазах мужа, и позволило ему уйти от ответственности. Тем не менее, она поспешила мило улыбнуться и, погладив Джессику по плечу, ласково сказала:
— Ну, как знаешь, милая.
Тут она снова обернулась к Томми, который сидел за своим детским столиком в ожидании ужина, и с умилительными восклицаниями принялась трепать его за щеки, на что ребенок отвечал полным равнодушием.
— Собственно, я хотела обратиться к вам с просьбой, — выдержав небольшую паузу, обратилась к ней Джессика.
— Да, я внимательно слушаю, — ответила Моника. Хоть в данный момент она и находилась спиной к Джессике, но нисколько не сомневалась, что обращаются именно к ней, а не к ее мужу.
— Я хотела попросить у вас два дополнительных выходных — в четверг и пятницу.
Моника резко повернулась и посмотрела с легкой тревогой.
— А что случилось?
— Я хочу съездить в Мэйвертон, навестить родителей. Я не видела их два месяца.
Этот ответ произвел на женщину должное впечатление. Она улыбнулась с искренней нежностью, но в то же время не смогла скрыть разочарования. Оставив ребенка, она вновь подошла к Джессике, взяла ее за руки и заговорила с мольбой:
— Прошу тебя, давай на следующей неделе. У нас сейчас так много работы, но даже не это самое главное.
— Моника…
— Самое главное, — тут же перебила женщина и продолжила, — что в пятницу утром, на выходные, приезжает Эдвард, и я так хочу, чтобы вы с ним познакомились.
Джессике показалось, что эти слова для Моники имеют совершенно особенное значение. Словно после них она должна была почувствовать себя осчастливленной, перечеркнуть все собственные планы и с трепетом ожидать встречи с этим молодым человеком. Это было вдвойне удивительней, учитывая, что незадолго до этих событий, Моника задала девушке вопрос о наличии у той парня и получила утвердительный ответ. Не сдержав снисходительной улыбки, она ответила:
— Моника, в пятницу моему отцу исполняется пятьдесят лет. Как я могу не присутствовать?
Та некоторое время внимательно рассматривала лицо Джессики, и видимо, признав справедливость ее суждений, произнесла:
— Конечно, дитя мое. Да благословит тебя Господь. И передай своим родителям наш низкий поклон за то, что они воспитали такую чудесную дочь. Нашему Эдварду стоило бы взять с тебя пример; он может приехать раз в четыре месяца, и то стремится ретироваться, как можно скорее. Разве не так, Клод?
— Ты совершенно права, дорогая, — ответил мужчина, резко вскинув взгляд в ее сторону. Все это время он прохаживался у бара, пытаясь понять, действует ли еще запрет на спиртное, или же освобожденный от обязанностей личного шофера Джессики, он может себе это позволить.
— Ты, наверное, хочешь, чтобы я оплатила тебе этот месяц чуть раньше условленного времени? — спросила Моника, удовлетворенная ответом мужа.
— Вообще-то да, — улыбнулась Джессика. — Завтра. Завтра среда, и если это возможно…
— Разумеется, возможно, — с материнской нежностью ответила Моника, и все-таки поцеловала руку Джессики.
Подобные выпады не вызывали у девушки ни смущения, ни краски на лице; скорее внутреннюю усмешку, которую во внешнем проявлении она старалась преобразовать в нежную улыбку, по примеру самой госпожи Эспер.
Когда же Джессика уже уходила, то Моника, уже на крыльце, вдруг попросила ее задержаться. Вернувшись в дом, в течение минуты она что-то полушепотом говорила мужу. Джессика, хоть и не видела сейчас мужчину, представляла, как он пожимает плечами на вопросы жены, и одобрительно кивает на ее утверждения. Из ее монолога Джессика уловила последние слова, которые Моника говорила уже на пути к входной двери, забыв понизить тон:
— Она это заслужила. Бедняжка и так постоянно ходит в одной и той же одежде. Что там за парень у нее такой?
Услышав такую оценку, Джессика поморщилась. Она оглядела свои кроссовки, джинсы и футболку и усмехнулась, вынужденная признать справедливость слов Моники.
— Вот, возьми, дорогая, — и женщина протянула ей две купюры по сто франков. — Это не аванс, а премия — будем считать так. А зарплату ты получишь завтра в полном объеме. Бери, не стесняйся.
Джессика была искренне поражена таким широким жестом.
— Моника, это очень много для премии, — растерянно проговорила она, не решаясь взять деньги.
— Ты их заслужила. Он за год в интернате выучил пять слов, а за три недели с тобой — два. На самом деле, я волнуюсь, как Томми переживет столь длительную разлуку с тобой. Он очень к тебе привязался. Бери же! — наигранно возмущенно прикрикнула Моника.
— Спасибо огромное. На самом деле, это очень кстати, — Джессика убрала деньги в карман и впервые сама обняла эту женщину.
— И хватит уже таскать на голове эту бейсболку, — Моника сняла с Джессики головной убор и обнажила ее высокий лоб и собранные в хвост каштановые волосы. — Ты в зеркало смотришь на себя? Ты же красавица! Негоже прятать такую красоту. Да за один взгляд таких изумрудных глаз мужчины раньше на дуэлях дрались!
— Не преувеличивайте, — засмеялась Джессика и добавила: — симпатичная разве что.
— Дай я тебя поцелую.
Моника поцеловала девушку в лоб, благословила, нахлобучила ей на голову злополучную бейсболку, и отпустила с благими напутствиями.
Джессика держала путь вверх по бульвару Генриха III. Она не соврала Монике о том, что ей необходимо сделать значительный крюк на пути к дому, а жила Джессика на улице Фридриха Шиллера, что на северном берегу. Сосредоточенная на своих мыслях и практически не обращая внимания на все вокруг, около получаса она шла умеренным шагом по оживленной улице. Не дойдя сто метров до перекрестка с улицей Лукаса Кранаха, она остановилась у одной из витрин, и довольно улыбнулась.
«Слава богу, — подумала она, — ты еще здесь. Потерпи, пожалуйста, еще совсем немного. Послезавтра утром ты будешь моим. Только не убеги, прошу тебя. Ты уже стало частью этого безумия, так что не вздумай отвертеться. Смотри мне».
Витрина эта была частью салона вечерних платьев, и горящими глазами Джессика смотрела на одну из представленных моделей, красовавшуюся на манекене. Это было светло-зеленое платье длиной в пол, с закрытыми плечами, треугольным неглубоким декольте и открытой спиной; обтягивающее в талии и бедрах и разрезом чуть выше колена под правую ногу. Шестьсот девяносто девять франков — такова была его цена.
«Охренеть, семьсот франков! Семьсот франков за платье на один вечер! Я сумасшедшая! Нет, глупая, — оборвала она саму себя и усмехнулась. — А тридцать тысяч? Что я делаю? Господи, что я делаю? Как все это могло родиться в моей голове? Как это может уже четыре года управлять мной? Как?! И как мне позволяет совесть гордиться этим? Ведь я горжусь! Я не жалею сейчас, и я не пожалею потом. Глупость или все-таки безумство? Черт возьми, неужели меня не выключит в последний момент? Неужели я сделаю это? — она вновь взглянула на витрину, покачала головой и пошла в обратную сторону. — Сделаю. В пятницу вечером я положу всему этому конец».
Было почти восемь часов вечера, и Джессика поспешила забежать в банк, который должен был вот-вот закрыться. Выйдя спустя несколько минут, она достала телефон.
— Привет мам, — говорила она на ходу, — как вы там?
— У меня все в порядке, можешь не волноваться, даже лучше чем в порядке, если быть откровенной.
— Да, очень хорошие люди, мне повезло.
— Тяжело, конечно, но я ведь когда-то мечтала помогать таким детям.
— Ничего.
— Нормально ем.
— И витамины пью.
— Не знаю, мамочка, может через пару недель, может через месяц, посмотрим.
— Я тебе на счет положила двести франков.
— Прекрати, не спорь, я знаю, что вам они нужны.
— Ну, где-нибудь пригодятся.
— Мам, пожалуйста, ты бы порадовалась за меня, что я могу помочь вам.
— Я же от души.
— Мне на все хватает, я ни в чем не нуждаюсь.
— Значит просто целее будут, и если мне они понадобятся, то я тебе скажу.
— Ладно, мамочка, не могу долго разговаривать, батарея сейчас разрядится, папу поцелуй от меня.
— Ага, и ты береги себя, пока дорогая.
— Целую.
«Знала бы ты, что я скоро сделаю, мамочка. Прости меня, пожалуйста. Прости».
После этого Джессика позвонила в салон красоты и забронировала себе время на сеанс в пятницу. Она соврала Монике о поездке к родителям, как соврала и про юбилей отца. Несколько свободных дней были нужны ей, чтобы воплотить в жизнь одну свою мечту, на подготовку к реализации которой она потратила последние четыре года. Джессика намеревалась в один день потратить тридцать тысяч франков — огромные деньги. Намеревалась потратить весьма оригинальным способом.
Глава II
09.06.2016 (четверг, в течение дня)
Винс проснулся в одежде на неприготовленной постели. Узнал знакомый интерьер своей съемной квартиры и с облегчением вздохнул. Но уже через мгновение встрепенулся и принялся обшаривать карманы джинсов. Быстро сообразив, что они совершенно пусты, он взглянул на пол, и, к своей радости, увидел телефон и связку ключей. Радость эта была бы значительно сильней, если бы каким-то чудом нашлись и деньги, но сто франков, бывшие вчера при нем, остались в пабе. Лежа на спине и закрыв лицо руками, он в сердцах проклинал свою дурную пьяную голову. Для него это была довольно привычная утренняя экзекуция, к которой он все никак не мог привыкнуть. А эти черные провалы в памяти! Сколько раз он твердил себе, что все закончится на пятом бокале пива, но вновь и вновь, за пятым шел шестой, потом водка или текила, а потом сплошная тьма без малейших проблесков.
Он горько усмехнулся и заглянул в список последних контактов в телефоне. Отсутствие вызовов и сообщений в период беспамятства значительно приободрило и позволило найти в себе силы, чтобы принять вертикальное положение.
«Твою мать, сто франков спустил. Ну и как теперь еще две недели протянуть?» — думал он и жадно глотал холодную воду прямо из-под крана. Затем он с отвращением посмотрел на себя в зеркало и покачал головой. Каждый раз, видя эти воспаленные похмельные глаза, он испытывал натуральное отвращение.
— Кто ты? — спросил он и прищурился. — Кто ты?
Не удостоив себя ответом, он плюнул в отражение и вернулся в спальню. Взял телефон и сделал звонок.
— Привет.
— Я не выйду сегодня, сможешь подменить?
— Я напился, как скотина.
— Нет, вчера, но меня еще держит.
— Не знаю, я ничего не помню, как обычно.
— Спасибо, можешь рассчитывать на меня.
— Кто бы говорил.
— У меня вообще-то повод был, мне двадцать семь стукнуло.
— Я думал, что ты знал.
— Спасибо, ничего страшного.
— Ладно, может, отосплюсь и зайду.
— Нет-нет, сегодня нет. Да и денег особо нет, чтобы продолжать.
— Нет, хорошего понемногу.
— Ладно, давай, счастливо.
Прекрасно понимая, что стоит выпить одну банку пива, и сегодняшний день безнадежно потерян, Винс одновременно знал, что так оно и будет. И единственное, о чем он молил, принимая душ — это не сорваться вечером с цепи, не натворить глупостей и просто все помнить.
— Черт возьми, просто помнить! — воскликнул он.
То же самое он говорил себе и вчера, в свой двадцать седьмой день рождения — день, который с каждым годом вызывал в его сознании чувство все усиливавшегося отторжения. Нет, во вчерашней пьянке не было ничего похожего на праздник. Звонки от родителей и двух старых товарищей стали единственными вчерашними поздравлениями, и он был этому рад. Так же как был рад главному подарку — ощущению, что до него никому нет дела; ощущению, которое временами доводило его до отчаяния. Ноющая и сверлящая мозг мысль о том, что если не выпить и перетерпеть, то все будет нормально, пугала его еще сильнее, чем мысли о том, что все может кончиться вовсе ненормально. Стоя под теплыми струями воды, он в очередной раз сравнил свои пьянки со структурой романа. День первый — экспозиция: несколько бокалов пива и обманчивая иллюзия, что так теперь будет всегда. День второй — завязка: «всегда» окончено, провалы в памяти, растрачивание денег, омерзение на утро и бескомпромиссное продолжение, чтобы это омерзение заглушить. День третий — кульминация: пробуждение в подъезде, на улице, бывало и в полицейском участке с разбитым лицом, бывало и в больнице под капельницей; если пронесло, то просто дома в мокрых штанах или в луже рвоты, с устойчивым желанием ничего не понимать, ничего не видеть и не слышать. День четвертый — развязка: если не выпить, то мысли о вчерашнем дне могут просто свести с ума; физически едва живой, сердце заходится, все тело колотит. День пятый — эпилог: тьма медленно отступает под натиском проснувшегося здравомыслия, терпеливые муки днем и несколько банок пива перед сном.
— Все будет нормально, — сказал он себе, вылезая из душа, и заметил, что вера в это утверждение отлично уживается рядом с едкими сомнениями. Ведь сегодня был как раз третий день.
Через полчаса Винс Ваин — худощавый парень выше среднего роста, внешность которого можно было бы смело назвать приятной, — вышел из подъезда дома под номером тридцать пять на улице Пьера Корнеля и направился к ближайшему супермаркету. Пока он шел, разум его продолжал пребывать в плену мыслей о вчерашнем вечере, и яростно бился в наглухо закрытую дверь памяти. Он помнил, как пришел уже поддатым в паб «Хмельной лис» — не особо оживленный в вечер среды, — и выпил шесть бокалов пива, перекидываясь фразами с тамошним барменом Джимом. Помнил, как выпил первую рюмку водки, что не сулило ничего хорошего. Помнил, как примерно в десять вечера явилась компания развеселых завсегдатаев. Вслед за ними пришла Лиза. Уже смутно помнил, как после третьей водки он начал терроризировать ее своими театральными комплиментами, объятиями и клятвами отдать жизнь за один ее поцелуй. Так уж повелось, что некогда, перейдя грань один раз, теперь Винс бессовестно позволял себе вызывающее и вольготное поведение по отношению к этой девушке, хоть и понимал, что не имеет на это права. Разыгрывая роль, ему ничего не стоило встать перед ней на колени, поцеловать в шею, раскидываться громкими словами о вечной любви, в то же время прекрасно отдавая себе отчет в том, что его могут или не понять, или понять не правильно. И сейчас — хоть того и не помнил, но был в этом уверен, — он с ужасом представил, как он — совершенно неадекватное и отвратительное животное, — лез к ней со своими объятиями, а бедняжка просто не могла найти в себе смелости, чтобы дать ему пощечину и послать подальше. Хотя Винс знал, что даже это не спасло бы ее. Ему было страшно представить, какое же отвращение к нему испытывает эта девушка и каким презрением дышит. Как и все люди, презирающие самих себя, Винс крайне тяжело переживал презрение других, хоть и не признавался себе в этом.
Уже через полчаса, когда Винс сидел на лавке в сквере, наслаждался прекрасным солнечным утром и допивал первую банку пива из четырех купленных, мысли его постепенно начинали склоняться в более позитивное русло. После второй банки, то, что еще час назад вгоняло его в тоску, сейчас вызывало на его лице усмешку: и Лиза, и ее отвращение, и потерянные деньги, и то, о чем Винс даже не знал и не помнил. Вскоре он заключил, что выйти из затруднительного финансового положения задача вполне выполнимая. Из двухсот оставшихся франков, сто из которых уже пошли в расход, в его распоряжении были только шестьдесят, так как сто сорок являлись неприкосновенными и имели четкое предназначение. Прожить впроголодь на шестьдесят франков дней десять, в принципе, можно, но Винс прекрасно знал, что уже к завтрашнему утру у него в кармане будет не больше пятнадцати. А значит, вновь придется занимать у Стефана, и выслушивать все эти осточертевшие лекции о своей непутевости и безответственности.
Стефан был шефом Винса, и по доброте душевной никогда не отказывал тому в деньгах, чем провоцировал у парня устойчивое убеждение в наличии запасного варианта. Таким образом, стоило Винсу рассчитаться с долгом, как уже через три дня он приходил с аналогичной просьбой, чем вызывал у своего начальника стремление направить молодого человека на путь истины и вдолбить в его голову всю неправильность его бытия. Этот сорокалетний мужчина без труда, и ни разу не повторившись, мог провести двухчасовой семинар на тему загубленной жизни и методов, с помощью которых эту жизнь можно возродить. Но Винс, стоя перед ним с кротким и раскаивающимся видом, ждал лишь, когда тот достанет из кармана бумажник и выдаст ему денег. Винс и Стефан были единственными постоянными работниками в маленьком отеле на юге города. Устроившись туда в январе заместителем управляющего, коим был Стефан, Винс считал эту не самую высокооплачиваемую работу с зарплатой в полторы тысячи франков, чуть не работой своей мечты. Делать там практически ничего не приходилось, только следить за работой обслуживающего персонала. По неизвестным и не интересующим Винса причинам, владелец отеля закрыл его перед самым летним сезоном, хоть и не торопился с продажей. Весь персонал был расформирован, но Стефану и Винсу предложили остаться кем-то вроде сторожей, и поддерживать порядок, если, конечно, их устроит новая зарплата, урезанная на двадцать процентов. Стефан первое время негодовал и пытался найти другую работу, но Винс сразу же воспринял новые условия, как истинный подарок судьбы. Теперь можно было вообще ничего не делать, и при этом получать за это какие-никакие деньги. На выходных в отель приходили нанятые горничные, чтобы навести чистоту, так что даже от этой обязанности он был освобожден. Стефан и Винс формально должны были оба присутствовать в отеле днем, и один из них должен был оставаться на ночь, но на самом деле, чаще всего и днем и ночью работал только один человек, поскольку сам владелец редко удостаивал их своим вниманием.
Итак, приняв решение выслушать в скором времени пламенную речь Стефана в обмен на небольшой кредит, Винс в более-менее нормальном расположении духа поплелся домой. Яркое солнце на безоблачном небе, свежий воздух и ароматы цветущей зелени, утреннее будничное оживление на улицах, алкогольный завтрак и смежные с ним планы на грядущий день — все это в некоторой степени приподняло его настроение. С приятной тяжестью в голове и романтичным настроем в душе, он уже начинал склоняться к своему оправданию. Винс, на самом деле, еще не был алкоголиком, хоть и считал себя таковым, но он неминуемо стремился к этой ужасной болезни. А все дело в том, что он был не в силах противостоять стремлению хоть к жалкой пародии на разудалый праздник жизни; стремлению, которое так ярко проявляется в отдельных натурах и полностью управляет их действиями. Он совершенно не умел копить деньги, питался кое-как, мог довольствоваться в жизни самым малым, но, что касается разгула, тут он просто не находил в себе сил устоять. Винс понимал всю убогость своих пьянок, понимал, что со стороны выглядит смешно, понимал, что его одиночество во многом обязано его ветреному образу жизни, понимал, что ему не стоит пить вообще, если он не умеет себя контролировать. Но он был твердо уверен, что на него пал некий жребий судьбы, который просто не позволит ему жить по-другому. Ему не были чужды страсти и чувства, и как все люди иногда он думал о семье, о стабильности и благополучии. Но как бы ни были эти мечты приятны и пламенны, он понимал, что никогда не сможет так жить. Почему? Он не мог дать ответа. Словно это было вбито в него с рождения и не требовало доказательств. И дело было не в слабости и нерешительности; в иных ситуациях Винс умел проявлять характер и силу воли. Дело было в сверхъестественной природе его убеждения, что нормальная жизнь никогда ему не светит.
Как и у большинства людей, склонных к воображаемой жизни, мечты Винса в его фантазиях напоминали битвы с ветряными мельницами. И он даже допустить не мог, что мечты его в реальной жизни — вполне досягаемая высота. Досягаемые высоты были ему безразличны, они были слишком приземлены для его порывов. Но убедить себя в том, что борьба бесполезна, и, тем не менее, продолжать эту борьбу — вот где была его отрада. И даже сейчас на ближайшее будущее у Винса были четкие планы, которые он старательно обрекал на провал. И в то же время, вполне резонно предположить, что, несмотря на весь свой надуманный фатализм, где-то в глубине души он допускал наличие лазейки, ведь вряд ли человек в здравом уме будет тратить время на попытки выучиться хождению по воде.
Промаявшись полдня и продолжая неспешно выпивать, Винс дождался четырех часов, сунул в карман пятьдесят франков и отправился в паб «Хмельной лис» на Южной стене. Возвращаться на следующий день на место боевой славы всегда было одинаково противно. Прокручивая в голове возможные варианты вчерашних событий, допуская даже самые аморальные из этих вариантов, приходилось переступить порог и с глупой улыбкой задать привычный вопрос: «Что вчера было?» И хоть всякий раз, ожидая чего-то вроде «пошел отсюда к черту», он замечал, что всем, по сути, все равно, легче от этого особо не становилось.
Примерно так все произошло и теперь. Войдя в пустой зал паба, Винс посмотрел на бармена Джима и официантку Эрин и несмело поздоровался. Те не проявили ни малейшего признака неудовольствия своим гостем, и Винсу сразу стало полегче. Он попросил налить ему бокал пива и спросил:
— Что вчера было?
Джим пожал плечами.
— Да ничего особенного. Нет, ну ты напился в хлам, но вроде все нормально. Угощал людей шампанским.
Винс поморщился, поняв, куда делись его деньги, но не стал заострять внимания на деталях этого обстоятельства.
— И что, даже не опозорился никак?
— Только перед Лизой, как обычно, — улыбнулась Эрин.
— А что Лиза? — Винс напрягся.
— Говорю же, как обычно. Целоваться лез к ней. Даже между ног.
Джим засмеялся, а Винс почувствовал что-то похожее не нездоровое удовольствие. Новость об этой отвратительной выходке — а он прекрасно понимал, что она была отвратительной, — наряду со смущением и стыдом принесла ядовитое утешение. Наиграно причитая, про себя Винс думал, что удостоил Лизу весьма оригинальным комплиментом.
— А как я ушел? — закончил свой допрос Винс, мысленным взором замечая, как мир, еще такой серый этим утром, окончательно приобретает все цвета радуги. — Ты такси мне вызвал?
— Нет, ты просто встал и ушел. Не помнишь ничего?
— Совершенно ничего.
— Автопилот значит.
— Он, родной. Но Лиза… черт.
Винс сделал подряд несколько глотков пива.
— Может, зайдет сегодня, — сказала Эрин, и улыбка, не сходившая с ее лица, заставляла Винса думать, что если бы ее попытался поцеловать между ног совершенно неуправляемый придурок, то она была бы на седьмом небе от счастья.
— Откуда ты знаешь? — спросил он как бы с опаской, а внутренне ожидая этой встречи. Ожидая мазохистского удовольствия, когда в ответ на ее презрение он вновь примет свою развязную манеру.
— Денег вчера на карте не хватило. Сказала, что сегодня расплатится.
— Меня не могла попросить? — усмехнулся Винс. — Уж если на шампанское для всех хватило, то и ей бы нашлось.
Винс вовсе не был плохим человеком, но в людях разбираться не умел. Точнее, не умел дать правильную оценку отношению к нему других людей. Совершенно напрасно думал Винс, что Лиза его презирает, и неизвестно чем в своем поведении девушка могла заронить в него эту уверенность. Винс был эгоистичной особой, и чужие чувства воспринимал исходя из собственных соображений, не утруждая себя размышлениями о природе души другого человека. Это он презирал себя глазами Лизы; он сам не мог принять свое лицемерное и хамское отношение к ней. Он сам прекрасно понимал, что ведет себя мерзко и низко, и не мог примириться с этим в глубине души. Ему было стыдно и перед ней, и перед самим собой, но никто не должен был об этом догадаться. Каково же могло быть его удивление, если бы он узнал, что Лиза не то, что не испытывает к нему презрения, а даже наоборот, испытывает к нему некоторую слабость. Возможно, Винс не знал, что в женщине очень часто первое впечатление, которое производит на нее мужчина, устойчиво отражает все последующие. И не испытывая к Лизе ничего, напоминающего влюбленность, он редко вспоминал, как проводил ее домой после их знакомства — по странному совпадению абсолютно трезвый в отличие от нее, — как воспользовался ее приглашением зайти, но лишь для того, чтобы уложить ее в постель, укрыть одеялом и удалиться. Возможно, Лиза и расценила бы это поведение как свою непривлекательность в его глазах, если бы на следующий день, исключительно от скуки, Винс не пригласил ее прогуляться, при этом продолжая вести себя скромно, и даже застенчиво. Возможно, и не воспринимала бы его всерьез (а она была одной из очень немногих личностей, которые воспринимали Винса всерьез), если бы вскоре он, опять же, исключительно от скуки, не начал осыпать ее комплиментами, при каждом удобном случае целовать ее руки, и иронизировать по поводу их будущей совместной жизни. Винс даже не догадывался, что эта девушка — вовсе не глупая — неправильно трактует его поведение, и считает, что под покровом шутки он выказывает ей свои истинные чувства.
К тому времени, когда Лиза вошла в паб, Винс пил свой третий бокал пива. Высокая девушка лет двадцати трех, которую нельзя было отнести к разряду красавиц, она, в то же время, обладала некой магической женственностью, которая своим обаянием может составить жесткую конкуренцию самой изысканной красоте. Немного подозрительный взгляд, тонкая линия рта, густые светлые волосы, пухлые щеки — все это добавляло в ее внешность особую миловидность, которая лишь усиливает женскую сексуальность, и вовсе не ассоциируется с невинностью.
— Любовь моя! — воскликнул Винс, пытаясь обнять девушку за плечи.
Лиза отстранилась, едва взглянув на него со снисходительной улыбкой.
— Привет, ребята, — обратилась она к работникам заведения. — У вас опять театр одного актера?
— Мы уже привыкли, — ответила ей Эрин. — Кофе?
— Нет, спасибо, мне не стоит задерживаться.
Винс воспринял реплики Лизы как выпад в свою сторону.
— Что значит театр одного актера? — сказал он вслух с деланным недовольством. — Почему я не слышу оваций? Почему не вижу цветов?
— Значит, ты неважный актер, Винс, — не глядя в его сторону, ответила Лиза. — Одно и то же гнешь, а это быстро надоедает.
— Неприятно, когда чувства путают с лицедейством, — он коснулся руки девушки.
Лиза поморщилась, но руку не убрала.
— Вчера ты говорил совсем другое.
— Что же?
— Когда поил шампанским весь паб, то уверял меня, что нет ничего приятнее, чем обманывать людей в своих чувствах.
Винс усмехнулся и коротко посмотрел на Лизу. Нет, он совсем не хотел вводить ее в заблуждение относительно его чувств. Но почему же тогда он это делал?
— Извини.
Девушка скептически улыбнулась.
— Да мне-то что?
Она расплатилась и собралась уходить.
— Постой, — Винс схватил ее за руку, и прямо посмотрел ей в глаза. — Мне, правда, очень стыдно перед тобой. И не только из-за вчерашней выходки, а вообще… не знаю… мне жаль, что я такой идиот.
— Что толку? Осталась бы я здесь, и в скором времени ты был бы уже совершенно невменяемый, и вел бы себя опять…
— Как тварь, — закончил парень, признавая истину ее слов.
— Что ты с собой делаешь, Винс?
— Убиваю, наверное, — ответил тот с ироничной усмешкой.
— Ай, брось! — поморщилась Лиза и освободила свою руку. — Хотел бы убить, уже убил бы. Пока, — она хлопнула его по плечу и направилась к выходу, но через пару шагов обернулась и добавила: — Уродуешь. Ты себя уродуешь, Винс.
«Иди-ка ты на хрен со всей своей мудростью» — подумал Винс, провожая ее взглядом.
— Джим, дорогой, я хочу пива, и я хочу водки, — произнес он, поворачиваясь к бармену.
К восьми часам вечера, Винс уже заметно хуже держался на ногах, а душа его уже начинала требовать «великих чувств». Душа просила бесполезной борьбы. Еще через два часа сознание Винса стремилось в столь ненавистную и неизменно манящую тьму. Он полностью погрузился в свои раздумья, его тянуло на авантюры, от которых он зарекался в трезвом состоянии, и на которые сейчас его подталкивало обманчивое чувство пьяного могущества.
«Нет, это будет величайшей глупостью» — думал он, не без труда связывая мысли.
«Плевать, что глупостью, зато настоящей глупостью!»
«Нет, еще не время бросаться козырями, тем более, она никогда не видела меня в таком состоянии. И я действительно не хочу, чтобы она видела меня таким!»
«Она и не увидит, дурак ты пьяный! С чего ты взял, что она приедет? Дело не в этом! Дело в том, чтобы показать насколько ты тупой и неадекватный, и насколько тебе на это наплевать».
«Рано, очень рано. Я подведу сам себя. Она может испугаться, подумает, что я разыгрываю спектакль».
«Хватит чушь нести! Это и есть спектакль!»
«Нет. Я действительно очень много дал бы, чтобы она волновалась обо мне».
«А что ты можешь дать? Что ты можешь ей дать, а? Да и ей тоже нечего тебе предложить. Какого черта тогда тянуть? Что ты теряешь?»
«Преимущество. Одним пьяным поступком я могу все испортить».
«Так испорти и дело с концом. Сделай это. Позвони. Все это такая дрянь, что и тянуть ее не следует. Давай, прямо в грязь лицом, как ты любишь!»
«Думаешь?»
«Уверен».
Винс вышел на улицу и закурил. Затем достал телефон, минуту нерешительно смотрел на дисплей, после чего нажал на вызов.
— Привет, Рене… я, — Винс замялся, не находя слов, после чего усмехнулся и попробовал продолжить: — Я… черт, не знаю…
— Да, случилось, — он чуть не упал, поскользнувшись на ступеньках крыльца. — Случилось, Рене… я хочу тебя увидеть, — он вложил в эти слова всю свою пьяную страсть.
— Нет, я не могу приехать… у меня кончились деньги… — соврал Винс.
— В «Хмельном лисе» на Южной стене.
— Да, я пьяный, но это не так важно.
— Пусть тебе понятно, хотя вряд ли тебе действительно понятно…
— Дома мне точно будет не лучше… сегодня я склонен творить глупости…
— Я же сказал, что хочу увидеть тебя. Это вообще единственное, чего я сейчас хочу. Только ты и можешь меня спасти, Рене.
— Просто приезжай ко мне.
— Нет, я не смеюсь… даже, не знаю, был ли я когда-либо еще так серьезен…
— Завтра? — он крепко стиснул зубы и растоптал окурок ногой.
— Прости меня, Рене. Прости, что я такой дурак. И что побеспокоил. Спокойной ночи.
Телефон полетел в стену здания на противоположной стороне улицы, а сам Винс опустился на бордюр тротуара, закрыл лицо руками и расхохотался.
«Великолепно! Потрясающе! Смейся, Рене, смейся же!»
«Нет, она не смеется, тупой ты идиот! Поверь, она уже забыла о тебе! Вот так действительно лучше! Если бы она сейчас смеялась — это был бы роскошный подарок для тебя. Роскошный, тупица! Но она уже не помнит, Винс! Прошло полминуты, а она уже не помнит!»
Тяжело поднявшись, Винс вернулся в паб.
— Еще водки и еще пива, — крикнул он с порога.
— Винс, дружище, боюсь, что тебе уже хватит, — Джим покачал головой.
— Джим, пожалуйста, без лишних разговоров. Я в норме.
Джим с явным недовольством выполнил заказ.
И наступила тьма.
Глава III
09.06.2016 (четверг, вечер)
Эдвард Эспер сидел на заднем сидении машины такси. Почти с враждебностью поглядывал он на герцогскую площадь, на здания ратуши и университета. Когда же площадь осталась позади, и из собора Святого Франциска раздался первый из восьми ударов колокола, он и вовсе скривился в гримасе отвращения. Вскоре автомобиль миновал Старый город и въехал в ту часть бульвара Генриха III, что была застроена коттеджами. Тут Эдвард глубоко вдохнул, закрыл глаза и затаил дыхание секунд на десять. Процедуру эту он повторил три раза, и призвана она была, чтобы заменить выражение нетерпимости на его лице жизнерадостной улыбкой.
Невысокий и атлетичный, Эдвард обладал тем типом внешности, при котором на лице всегда сквозит легкий оттенок какой-то светской надменности, приобретаемой еще в процессе воспитания. Надменность эта — которую не стоит путать с презрением или чванливостью, и которая всегда была и будет в моде, — сквозила и в его голубых глазах с низко опущенными наружными уголками, и в блуждающей на тонких губах усмешке. Чистая и свежая кожа лица, блестящие светло-русые волосы, уложенные в классическом стиле на левую сторону, четко очерченная линия бровей — все это выдавало в нем человека, заинтересованного в респектабельности, но совсем не воспринималось как излишний нарциссизм.
— Какой номер? — спросил водитель.
— Пятьдесят три, — ответил Эдвард, уже заметив родной дом.
Господи, как же он не хотел переступать его порог.
Но делать было уже нечего. Эдвард расплатился с таксистом, забрал сумку и двинулся к крыльцу. Только он ступил на первую из трех ступенек, как входная дверь открылась, и навстречу сыну вышла сияющая улыбкой Моника Эспер.
— Эдвард, дорогой мой, — приветствовала она молодого человека и раскинула руки для объятий.
— Здравствуй, мама, — стараясь выглядеть как можно счастливее, Эдвард обнял мать и поцеловал в обе щеки.
— Эта та рубашка, которую я отослала тебе месяц назад? — Моника погладила сына по плечам и поправила воротник рубашки из темно-синего шелка.
— Да, мама, та самая. Она мне очень нравится.
— Милый, как же мы соскучились, — вдохновенно произнесла мать, с нежностью заглядывая в глаза сына.
— Я тоже скучал, — ответил Эдвард и вновь обнял Монику, продолжая судорожно клеить улыбку на лицо. — Как там папа? Как он себя чувствует?
— Нормально, дорогой, у нас все нормально. Ну ладно, хватит объятий, пока я не заплакала, и хватит стоять на пороге. Ты, наверное, голоден? — Моника освободилась из объятий сына и повела его в гостиную, куда в то же время спустился Клод Эспер.
Приветствие с отцом было менее официальным — Клод в отличие от Моники не постеснялся пролить слезу, обнимая отпрыска.
— Ну ты чего это придумал? — впервые Эдвард улыбнулся искренне и с нежной фамильярностью хлопнул отца по щеке. — Старик, ты совсем расклеился.
— Это я так, все в порядке… — отвечал Клод и закашлялся, чтобы скрыть свою сентиментальность. — Давно не виделись ведь…
«Ну да, в порядке» — подумал Эдвард, пристально глядя в лицо отца.
Пока старший и младший Эсперы обменивались любезностями и вели шаткий диалог из тех, которые сопровождают подобные встречи, Моника суетилась с приготовлениями к ужину вокруг накрытого в гостиной стола. Было видно, что мать счастлива — это читалось и в ее лице, и в порывистых движениях, некоторые из которых были совершенно ненужными. Однако же каждый раз, когда ее взгляд останавливался на Эдварде, на какую-то долю секунды она замирала и словно вся погружалась в наблюдение, будто пыталась проникнуть в самую его душу.
— Эдди, почему ты не предупредил нас заранее, что приедешь сегодня? Мы ведь ждали тебя завтра.
— Мам, честное слово, я только сегодня узнал, что завтра полностью свободный день. Я ведь говорил тебе по телефону, что в понедельник у меня начинается практика. Три месяца в консульстве Германии — это ведь не шутки. А после нее итоговая на бакалавра. Ты и сама прекрасно понимаешь, что следующие три месяца во многом определят мою дальнейшую судьбу, так что один лишний выходной мне очень кстати, — объяснил Эдвард, попеременно переводя взгляд с матери на отца.
— Дорогой мой, — восхищенно проговорила Моника, — дай я еще раз прижму тебя к себе.
— Э, нет-нет, — Эдвард засмеялся и вскинул руки в предостерегающем жесте. Но увидев, что это не останавливает расчувствовавшуюся мать, схватил свою сумку и отступил к лестнице. — Достаточно, а то и я заплачу.
Моника, ничуть не оскорбленная, а скорее даже польщенная этим театральным бегством, вместо сына прильнула к мужу, и вдохновенно проговорила:
— Наша гордость.
Если бы посторонний человек — хотя бы та же Джессика Фэйт — наблюдал сейчас эту сцену, у него вряд ли возникли бы сомнения в том, что в семье Эсперов царят любовь, гармония и взаимопонимание, и совершенно неважно, кто при этом исполняет роль первой скрипки. Однако же, как часто и бывает, самые важные и самые сокровенные тайны каждой семьи надежно скрыты от чужих глаз, спрятаны в самые глубокие тайники душ, а некоторые из этих тайн и вовсе находятся в плену одного единственного человека. Были такие секреты и у Эдварда, и в данный момент ему стоило немалых усилий скрыть перед родителями то потрясение, которое вызвала в нем последняя фраза Моники; стоило немалых усилий запечатать на своем лице улыбку, которая еще секунду назад была настоящей; стоило немалых усилий не ответить родителям то, что он произнес про себя: «Ваш позор».
— По-другому и быть не могло, — тем временем ответил жене Клод.
Внутри Эдварда все затрепетало от бешенства.
— Я в душ, скоро спущусь, — коротко бросил он и помчался в свою комнату.
— Не шуми наверху, — услышал он вслед голос матери. — Я специально уложила Томми спать пораньше.
Эдвард еще в гостиной заметил, что стол сервируют только на три персоны, чему он был весьма рад. Оказавшись один в своей спальне, он швырнул в угол сумку, не имея намерений разобрать ее, и бросился на кровать лицом вниз. Перед его мысленным взором мелькали различные несвязанные образы и события из недавнего прошлого, и чаще других самое страшное и гнетущее из них: лицо красивой девушки. Его девушки. Окровавленное лицо.
Эдвард принялся наносить быстрые удары обеими руками по своей подушке. Тут же вспомнил, что может разбудить умственно отсталого ребенка, чего он совсем не желал, рухнул на спину и закрыл лицо руками. Как же хотелось очнуться от кошмара или же наоборот забыться любым способом. Эдвард даже не отвергал возможности, что после ужина пойдет и напьется, хоть старался не прибегать к такому методу для бегства от проблем, считая себя выше этой порочной слабости. Но сейчас! Сейчас он был готов забыть о своих принципах, только бы воспоминания о событиях позавчерашнего вечера перестали подобно кислоте разъедать его сознание.
Спустя пять минут он кое-как заставил себя немного успокоиться, взял уже приготовленные матерью полотенце и чистую одежду и отправился в ванную. Теплый душ смог ослабить внутреннее напряжение, и к ужину Эдвард спустился с той же рисованной улыбкой.
— Эдди, — говорила Моника, когда сын сел за стол. — Я ведь правильно понимаю, что ты не будешь вино? — она взглянула на сына широко открытыми глазами. — Я почувствовала от тебя запах спиртного, и решила, что ты воздержишься, не так ли?
Эдвард почувствовал закипающее отвращение. Ни гнев, ни злость, а самое настоящее неприкрашенное отвращение.
«Началось. Как же я ненавижу этот взгляд: два немигающих круглых диска, с кроткой наивностью на лицевой стороне, и безапелляционной претензией на обратной. Господи, дай мне сил пережить этот ужин, умоляю тебя. Дай мне сил не взорваться».
— Да, мама, спасибо. Я выпил в поезде немного пива, чтобы скоротать время. Думаю, мне и в самом деле не стоит больше пить.
Моника улыбнулась преувеличенно умиленно, вполне удовлетворенная таким ответом.
— Твоему отцу не помешало бы хоть немного твоего благоразумия, — с укоризной заговорила она, раскладывая в тарелки спагетти. — Боюсь, что алкоголь сыграл с ним злую шутку, и из безобидного способа расслабиться превратился в злостную привычку.
Клод Эспер, сидевший во главе стола, машинально кашлянул.
— Дорогая, думаю, ты преувеличиваешь, — только и выдавил он.
Моника и Эдвард одновременно усмехнулись, только усмешки эти были вызваны совершенно разными соображениями.
— Как же, преувеличиваю. Эдди, сейчас-то он, конечно, начнет себя немного сдерживать в твоем присутствии, — с тарелки Эдварда она начала второй круг вокруг стола, украшая спагетти куриным соусом, — но поверь, в буквальном смысле, не бывает дня, чтобы твой отец лег в постель в трезвом уме.
— Мама, уверен, ты действительно немного преувеличиваешь, — осмелился возразить Эдвард самым беззаботным тоном.
Моника буквально на одну секунду застыла за спиной мужа с подносом в руках, и метнула в сына взгляд красноречивее любых слов. Эдвард, заметивший этот выстрел глазами, моментально изменился в лице, и добавил:
— Папа, но тебе, в свою очередь, стоит быть осторожнее со спиртным.
«Вот это да! Всего один взгляд, и я вновь чувствую себя овцой. Три минуты, две фразы, один взгляд! Я сижу и смотрю в свою тарелку, на эти чертовы спагетти с этим чертовым соусом — ведь я их так люблю, не правда ли, мама?! — а отец сидит пристыженный за то, что не в силах терпеть тебя на трезвую голову. И никто из нас не смеет даже оправдываться».
— А почему ты приехал на поезде, Эдди? — спросила Моника и тоже села за стол.
— Мне так удобнее, — ответил Эдвард.
— Я надеюсь, с машиной все в порядке?
Фраза эта была сказана ею как что-то несущественное, но Эдвард прекрасно уловил насмешку, прозвучавшую в этом вопросе.
— Разумеется, все в порядке.
— Ну ладно, — снисходительно ответила Моника, и как бы безучастно бросила мужу:
— Клод, вина, пожалуйста.
Клод по привычке прокашлялся и потянулся за бутылкой красного вина. Эдвард краем глаза наблюдал, как отец налил вина матери, а затем медленно наполнил свой бокал наполовину и взглянул на супругу как загнанный зверь. Заметив ее мимолетный и наигранно равнодушный взгляд в свою сторону, Клод пожевал губами и отрывистыми, неуверенными движениями посмел налить себе еще три капли. Во время этой сцены Эдвард несколько раз ловил себя на мысли, что руки его инстинктивно порываются схватиться за голову, а потому взял вилку, и хотел было приняться за еду. Если бы он вовремя заметил ужас в глазах отца, когда тот поставил бутылку и увидел движение своего сына, то, конечно же, вовремя бы осекся. Но Эдвард обратил внимание на Клода, когда тот уже простирал к нему свои руки в предостерегающем жесте, все с тем же немым ужасом на лице, не в силах вымолвить ни слова. Мороз пробежал по коже Эдварда, вилка выпала из его руки, звякнула об стол и полетела на пол, а он инстинктивно взглянул на мать. Моника прожигала его взглядом не просто укоризненным, а как показалось Эдварду, по-настоящему презрительным, в самом обыденном понимании.
Спустя пять секунд, которые Эдварду показались пятью часами, Моника резко встала из-за стола, подняла вилку и вышла из гостиной.
— Осторожнее, Эдди, — прошептал Клод. — Это ее очень сильно оскорбляет.
Эдвард лишь горько усмехнулся в ответ. И когда спустя минуту, его мать вернулась к столу и протянула ему новый прибор, он с таким же обреченным видом, какой только что был у его отца, произнес:
— Прости, мама.
Моника села на прежнее место и попыталась улыбнуться.
— Я правильно понимаю… — она сделала выразительную паузу и продолжила: — что так ты приступаешь к еде всякий раз?
— Нет, мама, — попытался оправдаться Эдвард, чувствуя непреодолимое желание расхохотаться. — Нет, что ты? Я просто растерялся от перемены обстановки, от радости встречи, от… — он запнулся.
— От чего? — Моника прищурилась.
«От отвращения».
— От чувства голода.
Мать еще несколько секунд пристально на него смотрела, потом покачала головой и прошептала:
— Я искренне надеюсь, что ты говоришь правду.
Затем она закрыла глаза, поднесла ладони к губам, и ее примеру последовал Клод. Эдвард не стал делать того же, предпочтя переводить разочарованный взгляд с матери на отца и радуясь, что размеры стола не позволяют взяться за руки. Однако же, как бы ни хотел, он не мог освободить себя от обязанности вторить родителям, когда те начали молиться. Вторить через страх, через отвращение к разыгрываемой комедии, через ненависть к самому себе. Он знал, что молитва не пройдет для него бесследно, что подсознание сыграет свою шутку и в самом реалистичном свете напомнит ему те же недавние события; напомнит так, словно это происходит в реальном времени.
— Благослови, Господи Боже, нас и эти дары (лицо), которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди (кулак) имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего (кровь). Аминь.
Эдвард с силой воткнул вилку в спагетти. Чтобы не выдать своего страха, который яркой белой краской был написан на его лице, он поскорее отправил себе в рот изрядную порцию еды и принялся быстро работать челюстями.
— Эдди, что случилось? — взволнованно произнесла Моника. — Ты и впрямь так проголодался?
Парень кивнул, с трудом проглотил пищу и тут же отправил в рот следующую порцию.
— Да, мам, невероятно. Теперь ты мне веришь? — он вымученно улыбнулся и посмотрел на графин с апельсиновым соком. — Пап, пожалуйста.
— Верю, дорогой, как же может быть иначе, — благосклонно ответила мать и тоже приступила к трапезе. — Наверное, даже к лучшему, что Джессика не смогла сегодня поужинать с нами. Не думаю, что твои манеры за столом произвели бы на нее хорошее впечатление.
Эдварда скрутило от очередной волны бессильного гнева, когда краем глаза он заметил на себе испытующий взгляд матери, что означало лишь одно: она ждала реакции.
«Нет-нет, просто ешь. Продолжай есть, и не обращай внимания. Тебе совершенно наплевать на эту Джессику. Пожалуйста, ты голоден и все твое внимание поглощают спагетти и этот омерзительный куриный соус, приготовленный именно так, как ты любишь с детства. Нет, не реагируй!»
— Кто такая Джессика?
— Джессика — это ангел, посланный нам с небес, — ответила удовлетворенная Моника и вновь принялась за еду.
— Вот как. Чем же она заслужила такую характеристику? — мало того, что он не мог противостоять этому натиску, Эдвард с ужасом заметил, что пытается придать своему голосу выражение заинтересованности, чтобы угодить матери.
— Ну, во-первых, она очень милая, воспитанная и обходительная девушка, — начала рассказывать Моника, приняв отчужденный вид, словно говорила только для того, чтобы заполнить тишину, хоть Эдвард понимал, что это не так. — Надо сказать, очень милая, — Моника приподняла брови. — У нее образование детского психиатра… неоконченное, правда, но это не суть важно. Куда важнее ее благородное стремление помогать детям, и надо сказать, что с этой задачей она справляется превосходно; куда лучше, чем все эти высококвалифицированные педагоги и психиатры приюта, в котором содержится Томас. Не так ли, Клод?
— О да, тут ты совершенно права, — подтвердил старший Эспер и лишь на секунду отвлекся от своих спагетти, предпочитая не принимать активного участия в столь приятной семейной беседе.
— Дети… любые дети, — Моника вновь выразительно повела бровями, — редко обманываются в людях. Если ребенка тянет к человеку, значит, что-то этот человек из себя представляет. Что-то хорошее, о чем сам он подчас может и не догадываться. Я могу не верить сплетням и слухам, но я всегда поверю ребенку, и Томми своей привязанностью к этой девушке убеждает меня в правильности моих суждений. Но главное даже не это, а то, что к шести годам он знал лишь десять слов; но спустя три недели с Джессикой его словарный запас пополнился на два слова; более того, это не просто два слова, а выражение.
— Впечатляюще, — ухмыльнулся Эдвард. — Что же за выражение?
— Вкусная трава, — ответила Моника тоном, предупреждающим любые попытки отыскать в этой фразе хоть долю юмора.
Эдвард все же не смог сдержать улыбку, когда подумал о причине появления этого выражения и переспросил:
— Вкусная трава?
— Да, Эдвард, вкусная трава, — нетерпеливо произнесла Моника, и по ее виду можно было рассудить, что она действительно считает траву вкусной.
— И ты хотела, чтобы она сегодня поужинала с нами? Почему именно сегодня?
— А почему бы и нет?
Эдвард неприятно лязгнул вилкой по тарелке.
— Я уверена, — продолжала Моника, коротко поморщившись от этого звука, — что эта девушка станет другом нашей семьи. Поэтому будет очень даже неплохо, если вы познакомитесь. Или у тебя есть основания избегать этого знакомства? — она вскинула настороженный взгляд на сына.
Эдвард внимательно посмотрел на мать, искренне не понимая причины столь странного вопроса.
— Какие у меня могут быть для этого основания? — удивленно проговорил он. — Я ее даже не знаю. Но, скажу откровенно — я не расстроен, что сегодня она не смогла составить нам компанию. Я рассчитывал на ужин в тесном семейном кругу, и рад, что так оно и вышло.
Моника усмехнулась.
— Интересное совпадение, — вдруг очнулся Клод и бросил короткие взгляды на жену и сына. — Джессика уехала к родителям в Мэйвертон, а Эдвард приехал к родителям из Мэйвертона. Забавно.
— Забавно, — вздохнула его супруга. — Это весьма трогательно: каждые две недели (тут Моника откровенно приврала) она навещает родителей, и я уверена, что она даже помогает им деньгами.
Эдварду захотелось злорадно расхохотаться, так как он прекрасно понял оба намека: на его невнимание и его неблагодарность.
— Она из Мэйвертона? — тут же спросил он во избежание хоть кратковременного молчания, которое его мать могла бы расценить как размышления над ее словами.
— Да, но вряд ли вы пересекались. По крайней мере, она тебя никогда не видела, — Моника кивнула в сторону семейного фото, висевшего на стене рядом с иконой Христа.
— А почему в Арстад переехала?
Эдвард задержал взгляд на лице Иисуса, а мысленно представлял, какой могла быть внешность девушки, о которой шла речь.
«Мать, конечно, любит делать упор на благочестии, благородстве и кротости, но красоту она чувствует и понимает. И сильных людей тоже уважает. Потому, вряд ли там что-то неприметное и приземленное, скорее — гордое, самоуверенное и привлекательное. Неприметное и приземленное мать может пожалеть, но на ужин точно не пригласит. Томми не в счет, конечно».
— Несколько лет назад умерла ее бабушка и оставила ей в наследство квартиру на северном берегу, на улице Фридриха Шиллера. Я, кстати, почему спросила, что у тебя могут быть основания избегать знакомства со столь милой девушкой. Может, у тебя кто-нибудь есть? Ты с кем-то встречаешься? — в очередной раз Моника старательно избежала заинтересованности в тоне.
— Нет, мама, что ты? Я бы тебе сразу сказал. Нет, у меня слишком мало времени для романтизма, все мои мысли сейчас занимает учеба.
Моника поджала губы, и Эдварду показалось, что на лице ее промелькнула тревога.
— Конечно, милый. Учеба сейчас важнее, — сказала она. — Но все-таки, тебе уже двадцать три, ты красив, умен и обеспечен и все же…
— Сынок, обязательно попробуй картофельный салат, — встрепенулся Клод и протянул сыну пиалу с салатом, — он просто восхитителен.
Моника замолчала, казалось, даже довольная тем, что супруг ее перебил. Но Эдвард по реакции отца понял, что данная тема уже не раз поднималась в его отсутствие.
«Интересно… — впервые Эдвард почувствовал удовольствие от этого семейного общения. — Допускаешь ли ты, что я могу скрывать от тебя подробности своей личной жизни? Или же тебе выгоднее считать меня неудачником?»
— У меня еще все впереди, мама, — ответил Эдвард, накладывая себе салат. — Моя судьба никуда от меня не убежит, — он коротко улыбнулся в адрес матери.
— Я знаю, дорогой, — Моника тоже постаралась улыбнуться, но Эдвард видел, что не вполне развеял ее сомнения. Она многозначительно взглянула на мужа, тот нервно поерзал на стуле и вновь попытался разрядить обстановку:
— Ну, а как с учебой, Эдди? Чем ты собственно будешь заниматься в немецком консульстве?
Как и ранее со спагетти, Эдвард теперь проявлял завидное усердие с салатом, чтобы скрыть улыбку, яростно просившуюся на его лицо. Эдварда позабавило, что вообще было упомянуто о его обучении — столь незначительной теме по сравнению с успехами Томаса, прелестями новой воспитательницы и его личной жизнью.
— Все нормально, пап. Практика — это еще не карьера, поэтому буду делать все, что скажут. Опыт для меня сейчас куда важнее, чем преждевременные амбиции. Вообще, я очень рассчитываю на эти три месяца — думаю, именно за это время я окончательно выберу свой путь.
На этом разговор об обучении и светлом перспективном будущем был исчерпан. Спустя две минуты молчания, Эдвард вдруг почувствовал, как в воздухе гостиной витает напряжение. Не отрываясь от салата, он искоса посмотрел на мать, потом на отца и понял, что не ошибся: между ними шел оживленный диалог одними взглядами, и во взглядах этих — особенно в отцовском, — Эдвард прочитал нерешительность, через которую нужно было во что бы ни стало перешагнуть.
«Отлично! Значит, сюрпризы еще не окончены! Самое сладкое осталось на десерт. Сейчас ты соберешь посуду, и уйдешь на кухню. Вернешься через пять минут с чаем и своим долбаным малиновым пирогом — моим любимым, как же еще? — к тому времени, когда папа распишет мне суть дела, а тебе останется лишь поставить жирную точку и попросить меня подписаться».
— Эдвард, твоему аппетиту волк позавидует, — Моника натужно улыбнулась. — Я пойду, приготовлю тебе чай и отрежу кусок твоего любимого пирога.
Она забрала грязную посуду, поцеловала сына в макушку, в чем Эдвард уловил некое предупреждение, и еще раз многозначительно взглянула на мужа. Оставшись наедине, отец и сын некоторое время внимательно смотрели друг на друга.
— Я готов, пап, — через полминуты произнес Эдвард с усмешкой на губах.
Еще несколько секунд Клод продолжал внимательно изучать лицо сына, который был похож на него лишь разрезом глаз; во всем остальном же младший Эспер был копией Моники. Затем Клод тяжело вздохнул и провел руками по лицу. Уже открыл было рот, чтобы начать говорить, но вдруг встал, быстро подошел к бару и налил себе изрядную порцию виски. Выпил и произнес:
— Мы решили усыновить Томаса.
Эдвард был готов к чему угодно, но не к такому. Во второй раз вилка выпала из его руки, так же ударилась об стол и так же полетела на пол. Парень с открытым ртом смотрел в спину отца и пытался осмыслить услышанное. Но чем больше у него это получалось, тем отчаяннее он старался в это не верить.
— Но… зачем? — только и смог выговорить он.
Клод повернулся, и на лице его было написано тихое отчаяние.
— Она… то есть мы, — тут же исправился он, — решили, что этот ребенок, как и все, заслуживает иметь семью. Заслуживает будущего.
— Но… вы и так можете обеспечить его всем необходимым! — с ужасом в глазах прохрипел Эдвард и медленно встал из-за стола. — К чему эти излишества, папа?! Нет, это невозможно!
«Возможно» — говорил ему в ответ взгляд отца.
— Нет, папа! Одно дело — опекунство, а другое — отцовство! Это не игрушки, это какая-никакая судьба! — возмущение не позволило ему говорить дальше, и он рухнул на свое прежнее место.
Через минуту мать поставила перед ним поднос и положила руку ему на плечо.
— Сынок, — ласково говорила Моника, тогда как его выворачивало от ее голоса, — судьба благосклонна не ко всем людям. Это необходимо понимать. Но еще важнее понимать, что как бы ни обделила человека судьба, намного в большей мере продолжаем это делать мы — люди. На фоне всеобщего равнодушия мы забываем о том, что своим благосостоянием, вполне возможно, обязаны чьей-то жертве. Понимаешь мою мысль?
— Какого черта? — процедил Эдвард и обхватил голову руками.
«Господи, я ведь знаю, что она делает! Она просто бронирует себе место в раю!»
— Эдвард, — продолжала Моника, не обратив должного внимания на его высказывание, — этот ребенок глубоко несчастен. Мы должны — может и обязаны, — хоть немного научить его понимать счастье. Мы должны показать ему, что такое чувства. Мы должны показать миру, что все люди открыты для любви и добра. Если все будут переживать о том, что их действия примут за позерство и лицемерие, в этом мире не останется места для примеров, понимаешь, дорогой? В этом мире много боли, и ее очень хорошо видно. Почему бы нам не показать этому миру любовь и счастье?
Эдвард выскочил из-за стола и бросился прочь из гостиной. Но остановился перед лестницей, обернулся, и с горящими гневом глазами обратился к матери:
— Он больной человек, мама. Но человек, а не игрушка! Не разменная монета! И запомни одно: если ты его усыновишь, первым, кого обретет этот ребенок, будут не мать и не отец! А брат, который будет ненавидеть его со всей силой своей души!
Эдвард бросился в свою комнату, но только для того, чтобы взять бумажник и телефон. Через несколько секунд он молча прошел мимо матери, и вышел из дому, хлопнув дверью.
«Куда ты денешься?» — успел он прочесть на ее лице.
Изнемогая от бессильного гнева, Эдвард шел быстрым шагом, не глядя ни по сторонам, ни на прохожих. Буря чувств взрывала его мозг снопом образов и разрозненных мыслей. И все эти мысли вращались вокруг двух людей: его бывшей девушки Вероники и его будущего брата Томаса. Он прошел на запад по бульвару Генриха III, свернул на улицу Фридриха Шиллера, с нее на Пьера Корнеля. Прошагал полтора километра на восток, далее на север по улице Тургенева. Эдвард буквально бродил кругами и почувствовал усталость уже за полночь, когда вышел на Южную стену и оказался напротив паба «Хмельной лис». Долгая прогулка и свежий воздух хоть немного и ослабили его моральное напряжение, но не могли вывести из лабиринта мрачных и сумбурных мыслей.
«Тьфу! Томас Эспер! Нет, нет и еще раз нет! Этого не должно случиться! Мама! Зачем ты заставляешь меня ненавидеть тебя? Ведь ты знаешь, что сейчас творится (лицо) в моей душе! Ты думаешь, что это пройдет?! Что я отойду (кулак) и смирюсь? Нет, я не смирюсь! Я не имею ничего против этого ребенка до тех пор, пока он не станет носить (кровь) фамилию Эспер! Но, если это случится…»
«И что? Что ты сделаешь? Ничего! Захлестываемый гневом, уже сейчас ты знаешь, что ничего не сможешь сделать против Томаса Эспера, и примешь все это как должное».
«Черт возьми, как я мог дойти (лицо) до такого?! Как я мог ее ударить?! И почему мне хотелось (кулак) это сделать? Ведь хотелось? Я просто не могу (кровь) во все это поверить. Нет, нет, не хотелось! О, Господи! Что со мной происходит?»
Эдвард хотел пнуть какой-то попавшийся под ногу предмет. Присмотрелся и понял, что это телефон; тут же валялись крышка батарея от него. Эдвард собрал телефон и попробовал включить. Треснувший экран засиял синим светом, но не более того.
— Какого черта ты делаешь?! — воскликнул Эдвард.
Он швырнул телефон в урну, плюнул и пошел домой.
Глава IV
05.06.2016 (воскресенье, ближе к вечеру) и после
Кофейная чашка была уже чистой, но Рене все держала ее под струей воды.
«Бред. Не получит он моего салата. Он сюда не есть приходит. Хотя, это могло бы заткнуть ему рот хоть на время. С другой стороны, можно просто не вслушиваться — будет похоже на фоновое звучание радио. Пусть себе мелет. Пора уже привыкнуть».
Рене выключила воду и вернулась в спальню.
— Ну что, продолжим? — спросила она.
— Как обычно, нет, — ответил молодой человек на ее кровати.
— Твою мать, Винс! — Рене всплеснула руками. — Сколько можно?! Ты не у себя дома! Что за манера ложиться в постель в одежде?!
— Она чистая, — ответил Винс немного растерянно.
— Вставай! Зачем ты одеваешься, если намерен лечь снова?
— Не знаю, само собой получается, — сказал он с виноватой улыбкой на лице и поднялся.
Рене посмотрела на него с выражением, которое Винс расценил как стопроцентную уверенность в его кретинизме.
— Ну если оделся, то сядь в кресло и сиди там, — уже спокойнее говорила она, поправляя постель. — Раз сказала, два! Сколько можно? — Она обернулась и посмотрела на парня. — Я не хотела на тебя кричать, извини. Но ты…
— Да все нормально, виноват, — перебил Винс и переместился в кресло.
Рене вздохнула и села на кровать.
Минуты три длилось молчание. Рене внимательно рассматривала меню настроек в своем телефоне, делая вид, что что-то читает. Она чувствовала, что Винс сверлит ее взглядом, но не стремилась сама прерывать тишину, да и не знала, что сказать. В то же время она знала, что если Винс долго молчит, то готовит в своей голове порцию очередной бредовой лжи. Она уже хотела предложить ему злополучный салат, но он ее опередил:
— Мне очень нравятся твои шторы, — сказал он и окинул взглядом комнату. — Из-за них все вокруг кроваво-красное, и в жилах кровь прям закипает. Так и выбирала? Знала, что это сработает?
— Нет, — едва слышно ответила девушка и отложила телефон.
— А еще кто-нибудь обращал на них внимание?
— Нет, — еще тише сказала Рене.
Она вспомнила, как купила эти шторы на распродаже лишь из-за низкой цены. Припомнила, что тогда же купила комплект постельного белья черного цвета, захотев проверить, комфортно ли будет на нем спать. Оказалось настолько некомфортно, что Рене сменила его в первую же ночь, после того, как приснилась себе мертвой старухой, лежащей на белом снегу в черном саване.
— Я купила эти шторы вместе с комплектом черного постельного…
— Я просто… — одновременно начал Винс и замолчал.
Рене посмотрела в его сторону.
— Что?
— Да ничего… говори ты.
Девушка поняла, что не ошиблась в своих подозрениях. Она почувствовала, как ее губы растягиваются в улыбку, встряхнула волосами и протянула с досадой:
— Винс… ты опять начинаешь?
— Почему ты смеешься?
Рене тут же перестала улыбаться и внимательно посмотрела в его глаза.
— Потому что ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Скорее всего, даже не понимаешь, о чем думаешь.
— Неужели ты не видишь, что я прихожу сюда не трахать тебя?
— Но ведь трахаешь. И у тебя есть еще пятнадцать минут — успеешь второй раз.
— Но я хочу другого.
— Другого не будет, — Рене говорила спокойно, но отметила, что ее раздражает повышенный тот Винса. — Не увлекайся, не надо этого делать. Все твои слова и твои ласки — все это драма с придыханием, замиранием сердца и слезами на глазах. Кто я тебе такая для этой деланной страсти?! И кто ты мне такой?
— Это я и хотел бы исправить.
— Никуда я с тобой не пойду, Винс! Прекрати.
Рене заметила, как он сразу покраснел от злости.
— Хорошо. Тогда снимай полотенце, — сказал Винс. — Хоть посмотрю еще.
Синее полотенце, в которое Рене обернулась после душа, в настоящее время было единственным элементом ее одежды. Она встала и протянула руку, чтобы освободить его край, но тут же замерла и усмехнулась.
— Раздевайся, тогда и сниму, — парировала она.
Винс вскинул взгляд, и Рене увидела на его лице выражение презрения, которое всегда доставляло ей какое-то тихое удовольствие.
— Ты со всеми своими… гостями, — он сделал ударение на этом слове, — такая смелая, или же только со мной? Знаешь ведь, что я не причиню тебе вреда.
Рене бесило каждое его слово, но еще больше то, что он мог вывести на эмоции ее. Она даже чувствовала жгучее желание дать ему пощечину, но вместо этого сорвала с себя полотенце и швырнула в его сторону.
— Сколько мне так стоять? — спросила она спустя полминуты. — И что ты тут не видел?
— Вот это и есть драма. Комедия. И ломаешь ее именно ты, а не я.
— Ты сказал, я и сняла. В чем проблема?
— Ты знала, что я сказал это впустую.
— Так что я должна была сделать?
— Сидеть, как сидела.
— То есть, сделать вид, что я тебе доверяю?
— Но почему? Почему хотя бы не попытаться?
Рене несколько секунд пристально всматривалась в лицо Винса, после чего покачала головой, вновь обернулась полотенцем и присела на корточки напротив парня.
— Потому что ты обманываешь нас обоих, Винс, — сказала она серьезно. — Ладно меня, но намного страшнее, что ты обманываешь себя, понимаешь?
Винс едва уловимо провел рукой по ее волосам.
— Неужели ты думаешь, что я бы выкидывал по семьдесят франков, если бы действительно не хотел просто быть рядом с тобой?
— Зачем?
— Ты мне очень нравишься.
Рене вздохнула и в смятении отвела взгляд.
Винс вновь погладил ее по голове, и этот жест, при определенных обстоятельствах, должен был красноречивее любых слов свидетельствовать о том, что он не врет. Но Рене не верила ему. Даже в те моменты, когда ей казалось, что она близка к тому, чтобы поверить, она начинала убеждать себя в неверии.
— Нравится эта квадратная челюсть? — Рене провела рукой по лицу. — Этот подбородок, торчащие скулы? А глаза? Посмотри на глаза. Переносица как горный хребет. Я же некрасивая, — она улыбнулась.
— Ты же сама прекрасно знаешь, что очень привлекательна. Или рвешься на комплименты?
— К тому же худая. И грудь первого размера, — она встала, отошла на два шага назад и хлопнула себя по груди. — Я же когда лежу, то реально выгляжу как доска, да?
Винс ответил усталым взглядом.
Рене попятилась к кровати и медленно уползла в дальний ее угол, как будто пыталась найти там убежище. Разумеется, она не боялась, но вдруг почувствовала удивление, словно впервые в жизни видела перед собой что-то диковинное.
— Винс, я не понимаю, — пробормотала она. — Почему ты не найдешь себе нормальную девушку, которая будет любить тебя только за такие вот спектакли?
— Ну… нормальные не любят таких как я, — он улыбнулся.
— То есть, ты считаешь меня не нормальной?
— Я считаю твой образ жизни не нормальным.
Рене насмешливо усмехнулась.
«Вот ты и попался, мой дружок. Выдаешь себя в самых элементарных вещах. Нет в тебе ни хитрости, ни истинного романтизма, лишь юношеский порыв к бесполезному бунту».
Ей вовсе не был противен этот человек, но ей было противно его поведение; в первую очередь, все потому же, что она не допускала правды в его словах. Она могла допустить, что он и сам думает, что говорит правду, но правда эта была не из сердца, а из воображения, или из гордости. Нельзя сказать, чтобы Рене скептически относилась к возвышенным чувствам; она верила в любовь. Но реалии жизни убеждали ее, что действительно сильные и искренние чувства плохо уживаются в пламенных натурах, хоть те сами свято в них верят. А Винс был в ее глазах именно таким. Рене с интересом рассматривала его, пока он блуждал взглядом по стенам комнаты, и видела за его маской великой страсти человека, который без труда и без угрызений совести вытрет ноги об чужую душу.
— Слушай, мне вот интересно, почему именно ты не изменишь свою жизнь? — нарушила она молчание.
— В смысле? — ей показалось, что Винсу стало неловко.
— Ну, ты вот сидишь тут ноешь мне, что у тебя мало денег, — голос и лицо Рене приняли выражение дразнящего пренебрежения, — что половину их тратишь на проститутку, еще четверть на аренду квартиры, а последние пропиваешь, чтобы не видеть и не чувствовать боль и страдания этого мира. Но ведь ты неглупый человек. У тебя высшее образование журналиста, а это престижная, высокооплачиваемая, и — самое главное, — интересная профессия. Но ты предпочитаешь отсиживаться в каком-то полузакрытом и заброшенном отеле и проклинать свою судьбу!
— С чего ты взяла, что я проклинаю свою судьбу? С чего ты взяла, что я несчастлив и недоволен жизнью?
— Ну… — Рене немного замялась и пожала плечами, — почему ты не работаешь журналистом или кем-то еще в этой сфере?
— Не хочу, — ответил Винс с непонятным для Рене удивлением.
Она помолчала в легкой растерянности и вновь пожала плечами.
— Но в любом случае, ты мог бы найти себе хорошую работу по душе!
— Ты не поняла, я вообще не хочу работать, — невозмутимо ответил Винс, что заставило Рене залиться веселым смехом, после того как секунд пять она взирала на него круглыми от изумления глазами.
— Я получал высшее образование не для того, чтобы работать. Чтобы добиться успеха в журналистике, нужно долго и упорно трудиться, как и везде, впрочем. А такой образ жизни не по мне.
— А что тебе дает безделье? — недоумевала Рене.
— Время.
— Бесполезное время. А что дает оно?
Винс злорадно усмехнулся и посмотрел на Рене, как ей показалось, с тайным превосходством. Странное дело: ей не удавалось увидеть в нем неудачника, хоть к тому были все видимые предпосылки. Но Рене склонялась к мысли, что у Винса есть что-то на уме и что время его не так уж бесполезно.
— Ну, например, я встретил тебя, — ответил он и улыбнулся. — Ты, конечно, у нас само неверие, но для меня это кое-что означает.
Он встал с кресла и отвернулся к окну.
«Господи, какой бред. А ведь его ложь не такая уж и сладкая. Его ложь пропитана каким-то зловещим отчаянием».
— Сходи со мной куда-нибудь, — Винс вновь повернулся к ней лицом и сел на подоконник.
— Винс… — протянула девушка и вновь переползла в изножье кровати, ближе к парню. — Ты опять за свое?
— Так сложно что ли?
— Почему с тобой нельзя по-хорошему? Почему ты сразу начинаешь лезть на шею?
— О чем ты? Я просто уже не могу видеть тебя в этой квартире.
Рене выдохнула, не находя слов, но через пару секунд проговорила:
— Тебе пора идти.
Винс шагнул было к ней, и попытался взять за плечи, но девушка вскочила и отпрянула на два шага в сторону.
— Нет! Нет! Винс, нет! — воскликнула она. Волосы растрепались по ее плечам, щеки покраснели, а в глазах запылал огонь.
— Ты чего, Рене? — Винс сам испугался такой реакции.
— Хватит. Уходи, пожалуйста, — взволнованно сказала Рене.
— Тише, милая моя…
— Никакая я тебе не милая, — чуть не прокричала девушка. — И никогда так не называй меня! Я тебе не милая, Винс. Нас ничто не связывает, и не будет связывать никогда! Мне не нужны подобные истории! Не нужны! Прошу тебя, оставь меня в покое и просто уйди.
— Да я просто хочу побыть с тобой снаружи! — воскликнул Винс. — В кафе, в кино, или просто на улице. Я ведь не зову тебя замуж завтра же, в конце концов. Хочу, чтобы тебя, дуру недоверчивую, увидели рядом со мной и позавидовали мне.
От этих слов все в душе Рене перевернулось и ей стоило усилий сдержать себя и не расцарапать ему лицо в кровь. Несколько секунд она молча сверлила Винса ненавистным взглядом, чувствовала, как заходится ее сердце, а затем подошла вплотную, и, тыча в него указательным пальцем, закричала:
— Нет! Слышишь меня, подлец?! Нет! Ты хочешь!.. Ты молишься!.. Чтобы кто-то из моих гостей!.. Гостей! Мать твою! Увидел тебя! Тебя! Рядом со мной! Не меня рядом с тобой, а тебя рядом со мной! Вот, чего ты хочешь! Ты хочешь плевать в лицо всему обществу! Ты хочешь презирать всех вокруг и плевать на всех с высоты своей высокоморальной гребаной души! Ты хочешь доказать себе, что способен изменить меня! Изменить мою жизнь! Ты мечтаешь влюбить меня в себя, чтобы вскарабкаться на свой пьедестал! Но у тебя никогда этого не получится, слышишь! Никогда, тварь! Я тебя ненавижу! Ты хочешь самоутвердиться за мой счет! Вот и все! А я тоже человек! Слышишь меня?! Пусть маленький и ничтожный, но человек! Я тоже чувствую! Да, я проебала свою душу! Но я тебе не игрушка! Я не игрушка, Винс! И душа моя не игрушка! И чувства тоже! Ты гребаный лицемер! Как смеешь ты говорить мне все эти приторные душещипательные мерзости?! Прибереги их для своих милых подружек в твоих долбаных барах! Для тех, которые будут с милой улыбкой цедить дешевые коктейли, заглядывая в твои глаза, и чьи трусы можно будет выжимать после пары таких твоих реверансов! Но не вздумай лезть с этой грязью ко мне, понял?! Не лезь ко мне с грязью, которую ты выдаешь за любовь!
Она резко закрыла рот, почувствовав, что больше не может кричать и готова плюнуть ему в лицо. Винс стоял напротив с высохшими губами и блестящими лихорадочным огнем глазами. И Рене была готова поклясться, что это был черный огонь торжества, разгоревшийся от ее эмоций.
— Послушай, — прошептал он.
— Время, Винс! — рявкнула девушка и стремительно пошла в прихожую.
— Ты не так меня поняла.
— Время! — повторила Рене на пороге спальни и указала парню на входную дверь. — Убирайся из моей квартиры!
Винс еще несколько секунд стоял на месте и глядел на нее то ли с презрением, то ли с разочарованием. Затем покачал головой и ушел.
Спустя час после его ухода Рене лежала на своей кровати, и все ее внимание поглощали две вещи: события на экране телевизора и поглощение последней порции столь любимого ею салата из морепродуктов. Винс ушел из ее мыслей, как только за ним закрылась дверь.
«Почему я не люблю сладкое? Любила бы, не была бы такой худой. Может, и сиськи бы выросли, а? — она отдернула майку и взглянула на свою грудь, словно видела ее впервые. — Я хочу бегать, я хочу ездить на велосипеде. И не могу, потому что последнее высушу. Ветром сносить будет. Как заставить себя полюбить сладкое, черт возьми? Хоть бы пару килограммов набрать».
— Этот кофе просто восхитителен, — прокомментировал на экране агент Дейл Купер.
— Эх, чувак, попробовал бы ты мой салат, — произнесла Рене и облизнула вилку.
* * *
Несколько дней спустя Рене изо всех сил старалась заставить себя уснуть. Она намеренно легла в постель раньше обычного, в надежде обмануть свои биологические часы и скорее приблизить следующий день. Когда у нее случалась бессонница, Рене всегда прибегала к своему излюбленному методу, который практически никогда ее не подводил: восстанавливала в голове какие-нибудь хронологические цепочки. Например, как проходили дни ее рождения в обратном порядке, или старалась вспомнить все фильмы, завоевавшие Оскара в номинации «лучший фильм года» в течение последних двадцати лет. Иногда она засыпала, не успев дойти до конца, а иногда процесс заканчивался успешно и приходилось прибегать к продолжению, вспоминая при каких обстоятельствах она посмотрела каждый из этих фильмов впервые. И рано или поздно, от столь решительных атак на ночь глядя, мозг сдавался, закручивал мысли в медленном круговороте и погружался в сон.
Однако в этот раз даже этот отработанный способ не помогал Рене. Сна не было ни в одном глазу, хоть вспомнить все прочитанные в последние три года книги оказалось не так просто. В очередной раз Рене перевернулась и нашла удобную позу, но вдруг вскочила, испуганная неожиданным сигналом телефона.
«Это еще что за новости? Ты там вконец рехнулся?»
— Винс, ты чего? Ты время видел?
— Ага, привет, что-то случилось?
— Ты хочешь приехать? — спросила она недоверчиво.
— Где ты? Что с тобой?..
— Ты пьяный? — только тут до Рене дошел весь смысл столь позднего звонка.
— Понятно…
— Винс, давай иди домой, там тебе в данный момент будет лучше всего.
По лицу Рене пробежала гримаса нетерпимости.
— Винс, это так глупо, зачем ты мне звонишь?
— Что ты несешь? Каким образом я могу тебя спасти?
— Винс, не начинай, мать твою! Ты смеешься надо мной, а?!
— А мне уже кажется, что смеешься! Вали домой, завтра позвонишь.
— Да, завтра!
Тут Рене осеклась, подумав, что говорит уж слишком резко.
— Подожди. Эй!..
— Да что же это такое?! — воскликнула Рене, глядя на дисплей смартфона, на котором еще светилось «вызов завершен». Следуя моментальному порыву, девушка перезвонила. — Какого черта? — прошептала она, когда услышала, что абонент не может ответить на звонок.
Несмотря на то, что чувствовала негодование, она сделала еще две попытки. Негодовала Рене на то, что сама того не желая, она оказалась участницей чужой игры. Причем тот, кто строил из себя жертву, на самом деле был охотником, а настоящей жертвой оказалась именно она, по крайней мере, сейчас. Ведь, как ни крути, он заставил ее волноваться, и Рене не могла этого отрицать. Другое дело, что волновалась она не потому, что ее уж слишком беспокоила его судьба; в значительно большей мере, к волнению взывала ее совесть. Нельзя было не признать, что Винсу удалось связать ее с собой, пусть даже таким сомнительным способом, как внушенное его наигранной простоватостью чувство ответственности.
«Мы в ответе за тех, кого приручили. Но как? Как я могла позволить этому случиться?»
«Так же, как позволяешь и сейчас: просто думая об этом».
Еще неприятнее ей стало, когда она подумала, что Винс рано или поздно включит телефон и увидит от нее три пропущенных звонка, и его самодовольная улыбка мелькнула перед ее мысленным взором. Нет, она не верила, что этой ночью Винс может нажить себе особых неприятностей, но даже в самых рациональных умозаключениях всегда остается место для «вдруг».
— Не позволяй, — прошептала она сама себе. — Тем более, сегодня. Точно не сегодня. Сегодня надо выспаться.
Рене легла на правый бок и закрыла глаза. Она невольно улыбнулась своей мнительности, когда ей представились похороны Винса, и как все присутствующие перешептываются и указывают друг другу в ее сторону укоризненными взглядами. Она попыталась думать о совершенно посторонних вещах; вспомнила, например, о мальчике лет десяти, которого видела пару дней назад с огромной собакой неизвестной Рене породы, и как подумала, что именно собака выгуливает ребенка на поводке, а не наоборот. Через секунду, в ее воображении, эта самая собака перегрызла Винсу горло. Рене подумала, что ей сейчас неплохо бы выпить, но дома не было ни капли спиртного. Тут же она представила, как Винс выпивает стакан водки — девушке даже показалось, что она ощутила ее привкус во рту, — как тащится домой, засыпает в какой-нибудь подворотне и захлебывается собственной рвотой. Рене подумала было сходить умыться, но Винс ее опередил, поскользнулся в ее ванной и опрокинул на себя стеклянную полку. Осколки торчат у него в груди и лице, один в сантиметре от глаза, кровь смешивается с водой и стекает в сливное отверстие, а он — совершенно невменяемый — пытается подняться, стонет от боли и разрезает себе руки, вновь падает и остается истекать кровью. Эта сцена представилась Рене настолько ярко, что даже мороз по коже пробежал. Она открыла глаза и перевернулась на спину.
— Сука, я тебя ненавижу, — процедила она.
«Все ведь было нормально, я уже спать легла. Нет, мать твою, именно сегодня ты решил мне палку в колеса засунуть. Какой же ты мне друг, Винс? А самое мерзкое, что мы оба осознаем весь абсурд происходящего. Но ты в этом, похоже, как сыр в масле, а я нет. Я-то чувствую себя обманутой. „Хмельной лис“ — я ведь знаю, где он находится. А еще я знаю, что ты напьешься, проспишься, и все с тобой будет нормально. Сучонок, я тебе этого никогда не прощу. Почему ты не можешь понять, что ты мне не нужен, Винс?! Не нужен. Я даже не уверена, что ты хороший человек. Я хочу покоя, а ты заставляешь меня нервничать. Мне нужно спать, а ты мне не позволяешь даже такой мелочи!»
Рене перевернулась на левый бок и вновь закрыла глаза. А через десять минут она уже одевалась и ждала ответа от оператора службы заказа такси.
Глава V
09.06.2016 (четверг, день)
Уже трижды Джессика говорила себе, что смотрится в зеркало последний раз и после этого снимает платье, но не тут-то было. Как магнитом ее вновь тянуло к зеркальной двери шкафа-купе, и вновь она принималась дефилировать по своей спальне, не сводя глаз с отражения. Еще никогда в жизни она не казалась себе такой стройной и, самое главное, грациозной. До покупки платья, более всего она волновалась, что подведет ее именно походка — Джессика очень редко носила обувь на каблуках. Не то, чтобы она не умела ходить на высокой обуви, но сейчас ее требовательность к себе была завышена, и походку свою она хотела видеть не просто ровной, а очень ровной и уверенной. Купив еще месяц назад лакированные туфли кремового цвета на невысокой шпильке, она упорно тренировала свою поступь — при этом воспользовавшись большим количеством соответствующих тренингов, найденных ею в интернете, — и теперь была вполне спокойна: добиться желаемого результата у нее получилось. На груди ее красовалось золотое ожерелье с изумрудом размером с ноготь мизинца, инкрустированным в кулон в виде капли — фамильная драгоценность, в числе прочего наследства, доставшаяся Джессике от ее, ныне покойной, бабушки.
Джессика слабо представляла, какими критериями пользуются светские люди при выборе вечерних нарядов, и не исключала возможности, что в чужих глазах она будет выглядеть не столь эффектно, как ей хотелось бы. Но все же ей казалось, что зеленые глаза, зеленый изумруд на груди и светло-зеленое платье отлично гармонируют, сочетаясь в мягком, ненавязчивом контрасте с нежно-темными оттенками ее каштановых волос, вышеназванных туфель и небольшой сумочки на плече того же кремового цвета. Единственным, что на данном этапе не вполне удовлетворяло Джессику, были ее волосы, прямыми прядями спадающие на плечи. Но уже завтра эта проблема тоже будет решена, и, глядя в зеркало, Джессика старалась видеть, как ее локоны легкими волнами будут обрамлять лицо, побывавшее в умелых руках визажиста.
Девушка улыбнулась и прошептала:
— Подруга, ты восхитительна.
Ей потребовалось еще долгих полчаса, чтобы, наконец, снять свой наряд и надеть привычные джинсы и футболку.
— Да я и так ничего, — сказала она и послала своему отражению воздушный поцелуй.
Как и должно было быть, с приближением вечера пятницы, до которого оставалось чуть больше суток, из подсознания ее все сильнее и сильнее пробивалось чувство беспокойства. Джессика знала, что завтра, в течение всего дня, это беспокойство будет не просто пробиваться, а ломать все редуты и кордоны в ее душе. Сейчас же, ей казалось самым оптимальным вариантом просто отсидеться дома, но еще никогда на нее так не давили собственные стены. Она могла найти себе массу занятий, чтобы скоротать время — можно было приготовить ужин, или убрать в квартире, или помыть окна. Можно было почитать книгу, посмотреть фильм или просто полежать в ванне и еще раз в мельчайших подробностях представить себе события завтрашнего вечера, как она делала сотню раз прежде. Но любая целенаправленная активность — физическая или умственная — только возбудила бы ее еще сильнее, но никак не отвлекла. Не горела она желанием и видеть сейчас людей, к тому же опасалась, что при каких-нибудь обстоятельствах может встретить Клода или Монику — а ей совсем не хотелось компрометировать себя в их глазах, — но сидеть дома было невыносимо. К тому же, Джессика знала, что в таких случаях активное одиночество спасает очень хорошо; нужно просто быть среди людей, но не входить в тесный контакт: погулять в парке, посидеть в кафе или баре, подслушивая чужой разговор, бесцельно пройтись по магазинам.
«Черт возьми, а если я ногу подверну, пока буду шляться? Просто споткнусь и подверну; да так, что не смогу ходить пару дней. Тогда что? Отложим все еще на неделю? Нет, я не вынесу еще неделю, это должно произойти завтра; я не выдержу еще неделю в обществе этих проклятых тридцати тысяч. Я должна избавиться от них завтра же! Завтра! А то, чего доброго, взбредет в голову купить машину, а то и две. На эти деньги, в принципе, можно купить три более-менее нормальных машины. Я бы вполне могла поехать в Штаты и прожить там полгода. Черт возьми, похоже, у меня рождается новая мечта; новая американская мечта. А что, если я даже не дойду до автобуса? Что если меня собьют на светофоре? Или дойду, но автобус взорвет террорист? Да, это кажется абсурдными сказками, но ведь каждый день и каждую минуту людей насмерть сбивают и взрывают, и почему такой жертвой не могу стать я? Могу. Вполне даже могу. Или еще что-нибудь; кирпич, например, упадет с какой-нибудь крыши. Но это вряд ли, на самом деле. А вот подвернуть ногу или попасть под машину — это более чем вероятно. Или вдруг дождь, гроза и меня убивает молнией. Нет, это тоже не пройдет — погода не та. Сто процентов, я подверну ногу. Как пить дать. Может и под машину попаду, и поминай как звали; а если и не насмерть, то с ногой точно что-то будет».
Несмотря на столь пессимистичные настроения, спустя пятнадцать минут, когда в Арстаде было три часа дня, Джессика Фэйт вышла из подъезда своего дома и взяла курс к автобусной остановке. Она прошла метров пятьдесят и вдруг услышала за своей спиной жалобный кошачий плач. Джессика обернулась и увидела, как из-за живой изгороди, росшей вдоль тротуара, вылез серый облезлый котенок — худой и с огромными, торчащими над вытянутой мордой, ушами. Скуля, он подошел прямо к девушке и, выгибая тощую спину, принялся тереться о ее ноги.
— Ты чего, приятель? И откуда?
Она неуверенно погладила кота по голове, а тот встал на задние лапы и попытался добиться еще большего расположения.
— Бедняга, есть хочешь? На обратном пути куплю тебе молока и пару сосисок, пойдет?
Джессика тронулась с места, но котенок поплелся вслед за ней, оглашая улицу своими стенаниями. Девушке стало неловко.
— Слушай, друг, — вновь обратилась она к животному, — я хотела с тобой договориться, но ты, видимо, туговат немного. Так что, извини, но пути наши расходятся, — она нагнулась и без лишней нежности развернула кота в обратном направлении.
Тот, однако, и не думал сдаваться. Держась от Джессики на расстоянии нескольких шагов, он продолжал семенить и выкрикивать ей вслед свои кошачьи жалобы. Или проклятья, как сейчас слышалось ей самой.
«Сука, у тебя куча денег и тебе нечем заняться. Жадная тварь, накорми меня! Или ты не видишь, что у меня одни кости торчат из-под шкуры? Бессовестная сволочь, ты живешь одна, как сыр в масле, а я подыхаю у тебя под носом, и ты кормишь меня обещаниями про свой обратный путь. Чтоб тебе, суке, прочувствовать хоть толику тех страданий, что выношу я! Чтоб тебе, суке, узнать, что такое голод и всеобщее равнодушие. Чтоб тебе, суке, узнать, что такое носок сапога!»
Джессика едва не побежала, желая избавить себя от этих выдуманных упреков. На остановке она вошла в первый автобус, который мог довести ее до центра города и села у окна.
Нужно сказать, что Джессика не была нелюдимой, и ее нельзя было обвинить в излишней замкнутости; она легко шла на контакт, и не любила, когда люди думали о ней плохо; еще сильнее она не любила, когда люди думали о ней неправильно. Она любила детей, и была терпимой к чужим недостаткам, умела соблюдать правильную дистанцию в общении и знала, кого не стоит подпускать слишком близко, а кого отпускать слишком далеко. Но сейчас, когда автобус проезжал по западному мосту над мутной речной водой, ей вдруг ярко представилось, что она вообще не имеет права претендовать на какое-нибудь место среди людей. Джессика вдруг почувствовала себя не просто одинокой, а словно вырванной из общей картины мира, и к ее совести это не имело никакого отношения. Нет, совесть ее была спокойна, и это обстоятельство расстраивало Джессику еще сильнее. Ощущение было такое, что она просто другая, что чем-то отличается от всех остальных людей, какой-то одной-единственной чертой; но отличается не в хорошем смысле, и даже не в плохом, а в категорически естественном смысле, не имеющем отношения к критериям добра и зла. Словно Джессика только сейчас появилась в этом мире, а все ее прошлое лишь иллюзия, внушенная кем-то или чем-то, перед тем, как отправить ее на Землю. Пытаясь более тщательно проанализировать это внезапное душевное смятение, Джессика наткнулась на мысль о том, что совсем не боится лишиться способности чувствовать эмоции — любовь, страсть, желания, злость, радость… С усмешкой она подумала, что, вероятно, достигла просветления, даже не задумываясь о нем. Любовь вдруг показалась ей чем-то таким ненужным и суетным, что она даже удивилась, как это вся планета только и живет, что мечтами об этой любви. А вот она — Джессика — сейчас сидит и не понимает, зачем она даже своих родителей любит, а они ее. Не почему, а именно зачем? Что, по сути, несет в себе ощущение любви в душе? Бесконечное волнение, чтобы чего не случилось, чтобы только все было ровно и стабильно; постоянный скрытый страх, ехидно выглядывающий из-за спины счастья — даже в наиболее восторженные минуты, — и показывающий свой звериный оскал; опасения, что ты делаешь все неправильно и не справляешься со своими задачами. Тогда зачем? Зачем терпеть это, и более того, стремиться к этому? Еще утром, Джессика бы ответила на эти вопросы, а сейчас не могла; сейчас она была где-то далеко и в полном одиночестве. Сейчас она не знала практически ничего о природе человека в целом, и о любви в частности.
Тут Джессика уловила диалог двух женщин. Они сидели позади и полушепотом обсуждали судьбу больной дочери их общей знакомой. В какой-то момент Джессика даже хотела заткнуть уши, только бы не слышать о том, как одиннадцатилетняя девочка борется с раком, говорит матери, что без волос похожа на мальчика и готовится к очередному сеансу химиотерапии. Странное дело, в этом состоянии первородного одиночества, когда, казалось, ей не должно было быть дела до всего живого вокруг нее, чужая боль вдруг резанула так сильно, что Джессика просто не нашла в себе сил терпеть ее. Она встала и пересела на другое место.
«Что такое эта жизнь? Что такое эта любовь? Что такое эта война? Где первопричина? Смерть — вот что такое жизнь. Почему вообще принято говорить „живу“; „умираю“ — почему нет? Сколько ты уже умираешь? Я умираю двадцать четыре года. Мы собираемся переехать умирать в Санторин. Я устала так умирать! Забавно. А что, если эта так называемая жизнь — вовсе не испытание? Что если, наоборот, это передышка? Что если мы испытываемся на протяжении вечности? Испытываемся так, как нам и не снилось в этом мире? И иногда нам дают отпуск на несколько десятков лет, а то и меньше? Что если смерть не избавление, а возврат к тому самому источнику истины? И истина эта в том, что все только начинается? Почему животные так боятся смерти? Потому что там нет ничего хорошего. Так что такое эта жизнь? Дамоклов меч — вот что».
Когда Джессика вышла из автобуса и пошла в сторону парка Филиппа I, ее вдруг посетила такая догадка: возможно, ее обостренная восприимчивость и одновременная отчужденность, сменяющие друг друга беспокойство и апатия, проистекают из определенного порога восприятия? Существуют же инфразвук и ультразвук, и никто не подвергает сомнению их наличие. Может быть, и ее чувствительность сейчас настолько обострена, что часть эмоций просто перешагивает порог этого восприятия, и непрочувствованные, они растворяются где-то глубоко в подсознании? В любом случае, нервы ее были на пределе, и Джессика отдавала себе в этом отчет. По своему примеру, она уже давно прекрасно знала: человек, очень долгое время живущий ожиданием одного события, находится в его власти, но, скорее всего, даже не подозревает, насколько. Цель становится религией, а объект стремлений — божеством. При этом совсем неважно, какова цель — захватить мир или купить велосипед; главное, чтобы эта цель въелась в сознание и определяла собой образ жизни. День же, который приближает воплощение цели в жизнь, становится поистине судным днем. Вроде бы и ждешь его, но тайком не прочь и отдалить еще хоть ненадолго.
«Нет, пришествия никому не нужны. Основу любой религии составляют крестовые походы».
Еще по дороге внимание Джессики привлекла симфоническая музыка, звучавшая из парка. Сначала она подумала, что музыка эта, по какому-то торжественному поводу играет в музее искусств, то есть в бывшем дворце Филиппа I, но подойдя ближе, она увидела толпу людей — человек двести, может больше, — окружившую современного трубадура с электроскрипкой. Это был невысокий и худощавый мужчина или молодой человек — трудно было судить из-за длинных черных волос, скрывавших его лицо; рядом с ним стояли два усилителя, и как заметила Джессика, один из них служил для фонограммы, а второй, к которому и был подключен его инструмент, для партии первой скрипки. Джессика постояла рядом, пока не закончил звучать какой-то совершенно незнакомый ей отрывок то ли из симфонии, то ли из концерта.
Публика принялась аплодировать, и Джессика тоже несколько раз соприкоснула ладони. Музыкант тем временем раздавал поклоны, по-прежнему не показывая своего лица. Это показалось Джессике немного зловещим элементом шоу; впечатление усиливало и одеяние скрипача, вызвавшее у девушки невольную ассоциацию с вампиром: черные обтягивающие джинсы, белая шелковая рубашка с широкими манжетами и черные высокие кожаные ботинки. Джессика не имела намерения задерживаться на этом импровизированном концерте и пошла дальше, краем глаза обратив внимание на содержимое сумки, что стояла в двух метрах перед артистом. Денег там было достаточно, хоть и купюрами мелкого номинала.
«Неплохо. Да там франков сто. У меня с собой двадцать, и если я дам ему пять, то не обеднею. Но и он не обеднеет, если я ему их не дам, так ведь?»
Она отошла шагов на десять, и вдруг замерла, парализованная первыми же звуками следующей композиции. А через несколько секунд, когда из усилителей вырвались ноты основной темы, Джессика вновь почувствовала, что чувства ее зашкаливают и рвутся за придуманный ею порог. Она слышала эту музыку ранее, и, возможно не единожды, и знала, что это творение Моцарта. Но никогда! Еще никогда в жизни музыка не действовала на нее подобным образом, не проходила сквозь душу подобно электрическому току, не разбивала ее на тысячи осколков, чтобы склеить их заново. Она буквально вошла в транс и была убеждена, что в данный момент касается чего-то запретного, чего-то столь возвышенного и непозволительного, что там — после смерти, — от нее обязательно потребуют отчета об этих минутах, проведенных ею за границами владений, очерченных для человеческого разума. Она была уверена, что даже сам музыкант, чьи пальцы извлекали ноты, не чувствовал эту музыку так остро; даже оркестр, делавший запись фонограммы, во всей своей совокупности не смог шагнуть так далеко, как она — невольная заложница внезапного восторга. Вдохновение захватило ее сознание целиком, вдребезги разбило все иные чувства и мысли и загнало их в самый дальний угол ее души, а само взошло на узурпированный трон. И Джессика знала, что использовать это вдохновение в этом мире ей не удастся. Нет! Такое вдохновение не для мирской суеты. Но только прозвучали последние ноты, Джессика сразу вышла из оцепенения и ощутила, как стремительно покидает ее это вдохновение, и как стремительно возвращают себе утраченные позиции все ее низкие и презренные эмоции. Ей так хотелось побыть хоть минуту в полной тишине, хотя бы в воспоминаниях об этих мелодиях, но тут же толпа разразилась громкими аплодисментами. Джессика повернулась и с высокомерной насмешкой посмотрела на людей, окруживших музыканта. Тот наконец смахнул с лица волосы и Джессика увидела симпатичного парня лет двадцати трех, очень бледного, отчего глаза его особенно ярко сверкали черным огнем.
— Знаю, что Моцарт, но что за композиция? — обратилась Джессика к мужчине, который аплодировал особо неистово.
Тот посмотрел с таким видом, словно Джессика присвоила Моцарту его славу и ответил:
— Первая часть двадцать пятой симфонии.
Уходя, Джессика посмотрела в глаза музыканту и еще раз скользнула взглядом по сумке для вознаграждения.
«Нет, молодой человек, прости, но это было бесценно».
Еще некоторое время она бесцельно прогуливалась по парку. Наблюдала за одинокими людьми и строила в своей голове теории о перипетиях их судеб, хоть прекрасно понимала бесполезность этого занятия, основанного на обманчивости внешности. После вышла на улицу Лукаса Кранаха, где наткнулась на маленькое неприметное кафе. Когда Джессика входила в это кафе с мыслью выпить чашку кофе, внутреннее ее состояние вновь было подчинено флегматичному равнодушию, и вновь ей казалось, что везде она чужая и ни до чего ей нет дела. В зале было мрачно и душно, пахло жареным мясом, картофелем и пивом, и хоть над входом было написано «Кафе», Джессике это заведение больше напомнило либо дешевую закусочную, либо бар «для своих». Посетителей было человек пять, в том числе мужчина лет сорока за узкой барной стойкой, полностью поглощенный своим бургером, и не обративший на Джессику никакого внимания, когда она устроилась рядом. Через минуту из-за двери, на которой было написано «кухня», появился толстый парень с живым и добродушным лицом и поинтересовался, чем может быть полезен. Джессика попросила чашку эспрессо, и вместе с ней получила кусочек шоколадного пирога.
— Я этого не заказывала, — сказала она.
— Правильно, — ответил обаятельный толстяк. — Это за счет заведения. Очень вкусный, не пренебрегайте, пожалуйста.
Джессика поблагодарила и заставила себя улыбнуться. Вскоре, по его разговору с приятелем за стойкой, она узнала, что парня зовут Рауль и заведение принадлежит ему. Пирог хоть и был недурен, но ела девушка через силу и только с целью немного польстить этому самому Раулю. Вообще, Джессика чувствовала себя вполне комфортно в этом маленьком душном заведении. Она взглянула на экран телевизора, что висел в углу зала и в настоящее время транслировал выпуск новостей по федеральному каналу, но вскоре безучастно отвернулась, не приняв приглашения ведущего прогуляться в мир убийств, терактов, войн, коррупции и предвыборной лжи. Не найдя извне ничего, за что могло бы зацепиться ее внимание, Джессика погрузилась в мысли о своих тридцати тысячах, которые завтра она рассчитывала пустить по ветру.
«Где же ты теперь, голос рассудка?! Где же ты, так неистово взывавший ко мне, и клеймивший мой замысел глупостью?! Почему ты молчишь?! Ты сдался? Рассудок не пасует перед глупостью, он пасует только перед безумием! Или собираешь силы для последней атаки? Постарайся уж, потому что я намерена стоять до конца».
В этот момент двери кафе отворились и взгляду местной публики — в том числе и Джессики, которая невольно отвлеклась от своих мыслей, — предстали новые посетители. Это оказались две девочки, старшей из которых было с виду лет десять, а младшей лет шесть. Они держались за руки и тревожно оглянулись по сторонам, словно боялись встретить здесь какого-нибудь нежелательного знакомого. Но Джессика сразу поняла, кого именно эти дети не хотели здесь видеть. Ее. И всех остальных. Как только их увидела, Джессика почувствовала какой-то удар в грудь, словно ее с силой что-то толкнуло изнутри. Как будто она сама себя ударила неким совершенно незнакомым до этого способом.
Платья, в которые были одеты девочки — красное на старшей, и зеленое в белый горошек на младшей, — были хоть и чисты, но невероятно застираны и заношены. Босоножки их тоже пребывали в плачевном состоянии — у младшей девочки они были совсем разбиты, и, вероятно, предварительно успели отслужить ее сестре. Бедность, отчаянная бедность читалась в их нарядах, но еще выразительнее в кротких взглядах. Нет, ни одному взрослому человеку, угодившему в нищету, никогда не понять тех мук, которые переживает детское сердце, вынужденное мириться с нуждой. Ни один взрослый человек, готовый на все от голода, никогда не поймет, как калечит детскую душу раннее осознание нищеты в себе и на себе. Стыд. В глазах этих несчастных детей, которым не за что винить себя, Джессика с порога прочитала стыд. И он будет только усиливаться, если жизнь их не изменится; а даже если изменится, оттенок этого стыда уже до самой смерти не покинет их лиц, а порой будет сиять так же ярко, как и сейчас. Как и мольба не видеть никого, кто мог бы стать свидетелем их удручающего положения. Но даже не взгляды этих детей поразили Джессику больше всего, а платки. Подвязанные под подбородками, на их головах были надеты красные платочки, из-под которых выбивались светлые волосы. И было в этих платках что-то такое надрывное, настолько болезненно вопиющее и рвущееся из глубины судьбы всего человечества, что Джессика во второй раз за сегодняшний день почувствовала, что касается чего-то, чего ей касаться категорически нельзя. Нельзя!
Только увидев детей, Рауль сразу рванул в кухню, и через полминуты вышел с двумя большими пакетами, набитыми, по всей видимости, продуктами. Он погладил младшую девочку по голове, и поинтересовался у старшей, как здоровье матери.
— Не очень хорошо, — нерешительно ответила она и потупилась.
Рауль вздохнул.
— Не сильно тяжело? — спросил он, когда девочка приняла из его рук пакеты.
Та отрицательно покачала головой.
— Спасибо, — проговорила она и легонько тронула ногой свою сестру.
— Спасибо, — пролепетала бедняжка и сильнее вцепилась в сестринский локоть.
— Ступайте, — сказал Рауль, стараясь избавить и себя, и детей, и своих гостей от этой драмы.
Дети потащились к двери — старшая едва волоча пакеты, а младшая не отпуская ее локоть, — не в силах смотреть вокруг, не в силах противостоять стыду, природу которого они не должны были бы знать! Не имели права знать.
— Кто это? — спросил у Рауля его приятель.
Тот махнул рукой и рассказал, что мать девочек была последовательницей некоего строгого христианского учения, которое запрещало пользоваться услугами врачей, и даже в самой страшной болезни предписывало уповать лишь на силу молитвы. Молитва, впрочем, помогала ей теперь не очень хорошо, когда она уже второй месяц лежала с парализованными ногами — в нищете и на глазах у маленьких детей. Муж был более чем достоин такой жены и тремя годами ранее отдал душу при открывшейся язве желудка. Рауль жил с этой несчастной семьей на одной улице и рассказывал, что в ответ на все просьбы и угрозы государственных служб, помешавшаяся женщина уверяла, что не сегодня так завтра она встанет на ноги и вновь выйдет на работу. Но, Господи! Сколько же в течение этих двух месяцев уже вынесли эти несчастные дети, сколько они вынесли и прежде, и что им еще только предстояло вынести — обсуждать такое не хватило сил ни у Рауля, ни у его приятеля.
— Платки, — вдруг вырвалось у Джессики, и мужчины взглянули на нее. — Господи, как же они ужасны — эти платки.
В тот день Джессика ставила себе целью гулять, пока не почувствует сильную усталость, но затея эта оказалась трудновыполнимой. Она вышла из кафе в половине шестого, прошла до набережной герцогини Амалии, и два часа ходила по ней то в одном, то в другом направлении, едва ли не как лунатик. Иногда она останавливалась у самого парапета и пыталась рассмотреть свое мутное отражение.
«Вот так выглядит Дамоклов меч. А вот так выгляжу я!» — Джессика оглянулась по всем четырем сторонам и задержала взгляд на вершине Большой Волчицы.
Покинув набережную, она миновала короткий переулок и вышла на бульвар Генриха III, прямо напротив герцогской площади. Тут она поймала себя на мысли, что ей хочется войти в собор Святого Франциска. Джессика была в нем лишь один раз, вскоре после того как переехала в Арстад, но сейчас почувствовала острое желание — даже потребность — оказаться в тех стенах и попробовать помолиться, хоть и не знала толком, о чем именно. Ноги сами подвели ее к собору, и минут пять она рассматривала его белые стены и статуи апостолов, разместившихся в три ряда на его фасаде. Только она подняла глаза на изваяние Христа, возвышавшегося над своими учениками, как раздался первый удар колокола, возвестивший о наступлении восьми часов вечера. Джессика вздрогнула, и непонятный страх вдруг объял ее душу. Резко развернувшись, она пошла прочь с площади, быстрым шагом достигла автобусной остановки и, к своему счастью, успела запрыгнуть в уже отъезжавший автобус. Страх отступил так же быстро, как и вдохновенный восторг, испытанный в парке Филиппа I, и впечатление от него было настолько же сильным.
«Не только восторг бывает возвышенным. Так неужели, такой мерзости, как страх, тоже есть место там, на вершине?»
Когда возвращалась домой, Джессика вспомнила о котенке, которого обещала покормить, и с облегчением вздохнула, не наблюдая его присутствия.
— Дай франк! — рявкнул вдруг мужской хриплый голос.
От неожиданности и испуга Джессика отпрянула, после чего замерла на месте и увидела пожилого мужчину отнюдь нереспектабельной внешности. Он возник по другую сторону живой изгороди, тянувшейся вдоль тротуара. Грязное его лицо было искажено в насмешливой гримасе, а зловонный запах перегара Джессика почувствовала даже на расстоянии двух метров. Придя в себя через несколько мгновений, она нервно покачала головой.
— Нет. У меня нет денег, — соврала она прежде, чем сама это поняла.
— Врешь, — процедил старик и оскалился. — Врешь, сука. Есть у тебя деньги. Дай франк! — пролаял он снова.
Джессика отвернулась и быстро зашагала к дому.
— Сука! — кричал ей вслед старик. — Проклятая лживая сука! Чтоб тебе ноги переломало!
«Домой. Хватит с меня на сегодня».
— Проклятая лживая сука! Чтоб тебя скрутило! Чтоб тебе ноги переломало!
«Убежать, скрыться, забыться».
Глава VI
10.06.2016 (пятница, утро)
«Похоронен заживо!»
Таковой была первая мысль Винса, когда он пришел в сознание. Кругом стояла полнейшая тьма и отвратительная вонь, которую он тут же принял за запах разложения. Похмельный мозг подсказал, что его труп обнаружили в какой-нибудь яме или каком-нибудь колодце, и не найдя при нем документов и не дождавшись заявления об исчезновении дурака с похожей внешностью, приняли его за бездомного и похоронили в общей могиле. В каком-нибудь отстойнике на десять человек, в компании бродяг, чей конец выдался столь же бесславным, как и его. Ледяная волна прокатилась в душе Винса, когда он понял, что полулежит-полусидит на чем-то мягком. На трупе.
Все эти мысли единовременно пронеслись в его голове за какую-то долю секунды, и сопровождались панической атакой. Винс даже не успел сообразить в каком состоянии он проснулся, а его уже сковал животный ужас и холодный пот прошиб все тело. Страх умеет убеждать, и спустя пять секунд сумбурных видений, он был окончательно убежден в своей догадке. Ужас парализовал в прямом смысле; Винс хотел было коснуться рукой стены, в которую упирался его затылок, но не смог пошевелить даже пальцами. Хотел закричать, но не смог даже сглотнуть тот колючий комок, что стоял поперек его горла. Все, что он мог — это судорожно вдыхать зловонный воздух. Тут же Винс понял, что дышит так часто не только от страха, но и от того, что уже заканчивается кислород. Понял, что умрет в мучениях, в общей могиле для бездомных нищих, и никто никогда не узнает, где он лежит, и никто никогда не принесет на его могилу цветов. А он вот-вот покинет этот мир! Через какой-то час он уже будет в аду! И никогда ему больше не увидеть солнца и неба, не услышать голос матери, не влюбиться и не мечтать. Никогда больше не напиться. Понял, что нет никаких шансов успокоиться и взять себя в руки и через секунду он лишится чувств и, вполне вероятно, уже никогда не придет в себя.
Потерять сознание не позволил ему шум мотора, прорезавший тишину снаружи его могилы. В тот же момент ярким пламенем вспыхнула надежда. Если он услышал звук проехавшего автомобиля, значит, закопан не слишком глубоко, и его могут услышать! Полчаса у него точно есть! Шанс на спасение вернул Винсу способность двигаться, и он встрепенулся всем телом. Руки и ноги его уперлись в стены, и он понял, что гроб его имеет не более полутора метров в ширину и длину. И, кроме того, глухой звук, раздавшийся при ударе, подсказывал, что саркофаг этот сделан из пластика. И вовсе это не запах трупного разложения. Это…
Страшная догадка мелькнула в его голове, и если эта догадка была верна, то Винс предпочел бы действительно быть похороненным заживо. Он поднял правую руку, нащупал крышку своего гроба и, не прилагая особых усилий, смог ее приподнять. В тот же момент он увидел полоску солнечного света. Да! Так и есть.
— Господи, только не это, — прошептал Винс.
Затем прислушался и через секунду распахнул мусорный контейнер. Устоять на ногах с первой попытки у него не получилось, и, поскользнувшись на мешках с мусором, он вновь приземлился на свое ночное ложе. Изрыгнув проклятье, он откинул три мешка, чтобы иметь под ногами твердую ровную поверхность, встал во весь рост и осмотрелся. Было раннее утро. Винс прекрасно знал, где находится: буквально в трех кварталах от своего дома. В мусорном контейнере, прямо напротив проезжей части. Прямо на виду у немногочисленных ранних пешеходов, которые видят на его взъерошенных волосах картофельную кожуру, видят помятое лицо, блуждающий взгляд, перепачканную помоями футболку.
Секунд десять Винс просто стоял и глазел по сторонам, пытался поверить в то, что он действительно провел ночь в мусорном контейнере. Он взглянул вниз: некоторые мешки были порваны, и их содержимое служило ему простыней. Консервные банки, упаковки от майонеза, молока и сметаны, пачки сигарет, картофельная кожура, использованная женская прокладка, и много чего еще. Голова пошла кругом и Винс оперся руками о края контейнера, как опираются о перила балкона.
Две молодых девушки как раз в этот момент проходили мимо, разглядывая его как диковинный вид живой природы. Винс поднял на них потерянный взгляд и сказал:
— Доброе утро, миледи.
— Доброе, милорд. Как вы себя чувствуете?
— Вполне даже ничего, благодарю и не смею задерживать.
Он выпрыгнул из контейнера и пошел в противоположную сторону, провожаемый звонким девичьим смехом.
Через двадцать шагов он вдруг резко остановился от желания провалиться сквозь землю. Как? Как он мог очутиться в мусорном контейнере? Первым делом он проверил карманы джинсов и обнаружил в них пятнадцать франков, пачку сигарет, зажигалку, и самое главное — отчего на одну секунду ощутил снизошедшую благодать, — связку с ключами от квартиры и отеля. «Телефон?!» — про себя прокричал он, и тут же вспомнил, что швырнул его вчера об стену.
— О, тупой кретин, — простонал Винс и медленно побрел дальше.
На ходу он подкурил сигарету и почувствовал во рту омерзительный привкус, отчего его едва не стошнило. Никотин ударил в голову, и только сейчас Винс ощутил всю тяжесть своего физического состояния: тошнота в совокупности с отвращением даже к мыслям о еде, головная боль, которую он сначала не заметил, страшная слабость, озноб и отсутствие четкой координации движений. Все, что нужно — плюс вонь от грязной одежды и пожирающее чувство стыда, — чтобы хотеть либо сдохнуть, либо вновь напиться до потери сознания.
И вновь сплошной туман, заволакивающий доступ к памяти. Последним, что Винс помнил, был разговор с Рене, телефон, полетевший в стену и рюмка водки. Дальше темнота. Учитывая, что может вести себя совершенно неадекватно и без труда вломиться с претензиями к любому типу личностей, Винс попытался объяснить свое пробуждение в помойке тем, что стал жертвой нападения, после которого его и отправили приходить в себя в контейнер. Но отсутствие хоть каких-либо следов побоев такую возможность не подтверждало. Он подумал было, что мог вырубиться прямо посреди улицы, кто-то пытался привести его в себя, и, потерпев неудачу, решил спрятать парня от посторонних глаз; но опять же, любой человек с гуманными настроениями скорее бы вызвал скорую помощь, чем отправил бессознательного пьяницу в контейнер. Тогда как? Как?! Винс был в шаге от бешенства. Он ведь обещал себе, что все будет в порядке, что он не потеряет контроль!
А ведь сегодня ему нужно в любом состоянии явиться в отель. И это притом, что остановиться не было возможности. Совсем скоро начнется детоксикация, и тогда, если не выпить, единственное, на что он будет способен — это лежать под тремя одеялами, дрожать от холода и мечтать о смерти.
Наверное, основной проблемой Винса было наличие интеллекта, который совершенно справедливо отказывается уживаться с подобным образом жизни, но, как известно, очень часто поддается насильственным способам такого рода примирения со стороны его обладателя. Винс прекрасно понимал, почему не может и не хочет изменить свой образ жизни. Дело было в том, что он дошел до самого отвратительного вида самопрезрения: он уже не мог найти в себе сил, чтобы не лезть в грязь. И как все люди, попадающие в эту страшную западню, которая поджидает в закоулках собственной души, он не просто хотел — нет! — он требовал любви. Сознавая, что он ее не заслуживает, испытывая ненависть к себе каждый раз, когда позволял себе мечтать о земной любви и действовать в ее интересах, он с удивлением — даже с ошеломлением, — признавался себе, что вменяет людям в обязанность любить себя. Иногда ему становилось это непонятно: почему он, презирая и ненавидя себя, не может смириться с чужим равнодушием, с чужим пренебрежением? Ответ был прост: он презирал весь мир еще больше, чем себя. Тогда Винс впадал в безумие от мысли, что выбраться из этой грязи у него нет никаких шансов, потому что она окружает его со всех сторон. И что же дальше? Конечно, только одно: вновь вступить в бой с новой ветряной мельницей. С Рене, например.
Когда отпирал дверь квартиры, Винс не обратил внимания на сложенную листовку с рекламой телевизионных услуг, выпавшую из щели дверного проема. Он сразу скинул с себя одежду и засунул ее в стиральную машину, еще не решив — постирать ее раза три или сразу выбросить. После этого он минут сорок провел под душем, вновь и вновь натирая себя шампунем и мылом с головы до ног, смывая, в первую очередь, грязь ментальную. Выйдя из душа, он заглянул в холодильник и с отвращением пропихнул в себя яблоко и сосиску. Быстро проглотил чашку кофе и решил поспешить на работу, а по дороге и в супермаркет, чтобы поскорее пустить по крови алкоголь. Перед выходом Винс заглянул в трагедии Шекспира, где лежали его деньги: одна купюра в сто франков и четыре по десять, оставленные им вчера перед уходом.
«Пошла ты к черту» — подумал он в адрес Рене и взял сорок франков. На пороге он поднял ту самую листовку, и, не глядя, засунул ее в задний карман джинсов.
Винс решил не заниматься самообманом и взял сразу бутылку коньяка, а к ней пачку яблочного сока, а также копченое мясо, чипсы, сигареты и банку пива, которую выпил за углом, в ожидании автобуса. В девять часов утра, как и положено, он прибыл на свое, как бы рабочее, место, в более-менее приемлемом состоянии. Отель, в котором он работал, представлял собой одноэтажное здание с небольшим светлым холлом, семью номерами и несколькими служебными помещениями. И Винсу, и Стефану строго не рекомендовалось использовать жилые номера в своих интересах, то есть спать там, принимать душ или приводить туда подруг. Поначалу Винс и Стефан исполняли эти правила, но вскоре убедились, что высшее начальство не испытывает особой заинтересованности в исполнении ими предписанных норм и в некоторой степени расслабились. И если бы Стефан не был уравновешенным семейным человеком, а Винс одиноким алкоголиком, отель этот, при других работниках, рисковал превратиться в настоящий притон. Хотя, можно предположить, что владелец этого отеля отлично разбирался в людях и вполне полагался на порядочность своих подчиненных. По большому счету, парни это доверие оправдывали, за исключением того, что могли принять в номере ванну или вздремнуть полчаса. Ну, Винс еще грешил выпивкой, но здесь он особо себя не отпускал и держал в пределах нормы.
Со Стефаном он столкнулся прямо в дверях; тот очень спешил домой, что Винса порадовало: скрывать запах перегара и общее похмелье он был просто не в силах.
«День четвертый, пора тормозить» — думал Винс спустя полчаса, когда закатывал в третий номер передвижной стол. На столе этом выстроились все его покупки рядом с ноутбуком, стаканом и пепельницей. Несмотря на видимые удобства, чувствовал Винс себя уничтоженным, шагнувшим в неведомую черноту. Он пустил воду в ванну и налил себе коньяка.
«Конченое ничтожество. Проснуться в помоях — это уже последняя черта».
«А чего ты теперь ноешь, мой дорогой друг? Разве не этого ты хотел от жизни? Ну, ответь же мне! Разве ты не мечтал стать посмешищем в глазах тех, кого презираешь? Винс, дорогой, это ведь была мечта твоей жизни, что же ты теперь так невесел? Вот оно — достижение цели, успех! А, я знаю в чем дело! Ты красиво орудуешь мыслями только в состоянии покоя, не так ли? Но реальность куда страшнее иллюзий. Ты и представить себе не мог, что воистину быть посмешищем — это муки ада; не думал, что целенаправленное унижение — это так больно. А знаешь, почему больно? Потому что ты ничем не жертвуешь, Винс. Ты в принципе не способен жертвовать. Ты способен только красиво размышлять за бокалом коньяка, вот и все».
Винс по опыту прекрасно знал, что стоит протрезветь и навести порядок в голове, и все, что случилось, вскоре будет казаться чем-то несущественным и давно пережитым. Знал, что в трезвом состоянии сможет парировать все собственные обвинения, и найти обоснования своей пользы, сможет доказать, что он не ничтожество. Но это будет потом, а что делать сейчас?
Перед тем, как лечь в горячую ванну, Винс написал бармену Джиму, в надежде, что тот прояснит хотя бы детали его ухода из «Хмельного лиса». Джима не было в сети, а Винс включил Лед Зеппелин и залез в воду. Только тут, потягивая коньяк под чарующие звуки гитары Джимми Пейджа, он смог немного успокоиться и обратить свои мысли к рациональности. Он вспомнил, как полгода назад проснулся в шкафу в собственной квартире, еще ранее абсолютно голым на двери, которую он умудрился снять с петель и положить в центре комнаты — зачем и как это было сделано, так и осталось загадкой. Тогда Винс не придавал значения этим занятным пробуждениям, так как главным фактом было то, что он проснулся дома. Но сейчас он уже не мог отрицать, что в нем присутствует страсть к загадочным ночлегам. А учитывая, что мусорный контейнер пришелся на его маршруте к дому, резонно предположить, что в эту ночь эта страсть дала о себе знать с новой силой, и Винс почувствовал острую необходимость опробовать в качестве постели мусорный контейнер. Чем дальше Винс думал об этом, тем сильнее был склонен в это поверить; к тому же он был в нервном возбуждении после разговора с Рене, мог просто психануть, мог ненароком сравнить себя и свою жизнь с кучей помоев, а увидев на пути так удачно попавшийся контейнер, подтвердить это на практике. Вот и все. К тому же, Винс хоть и не был атлетом, но постоять за себя умел, и догадка, что даже будучи в совершенно невменяемом состоянии, он мог позволить кому-то так поступить с собой, казалась ему абсурдом. Логическое обоснование ночных приключений не сняло чувства отвращения, но значительно его ослабило. В любом случае, можно было кое-как жить дальше.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.