От редактора-составителя

Добро пожаловать в мир 14 лекций о будущем. Это мир субъективный, честный, местами неожиданный и очень личный. Он по кусочкам соткан из мыслей и действий людей, чье мнение нам было очень важно и интересно. Они все — ведущие эксперты в своем, таком разном, деле, но тут важно другое. Ни по формату, ни по содержанию нам не хотелось повторять дискуссии о российской технологической или любой другой повестке, оторванные от собственно personal stories. Мы сделали ставку на коллективный разум, умение слушать другого, способность к рефлексии и глубокое понимание нашими спикерами происходящих процессов в образовании, промышленности, государственном управлении, сфере коммуникаций и технологического предпринимательства через призму собственного опыта.
Поэтому я советую вам начать читать этот том именно с 13-й, коллективной, лекции, чтобы потом, вернувшись к личным историям (а они очень личные, хотя и отражают контуры будущего той или иной сферы деятельности), понять основания заявленных позиций.
А перед тем как прочитать 14-ю лекцию, задумайтесь о своей истории. Чтобы вы рассказали про свой 1999 год, а еще важнее про свой 2017-й из 2035-го. Какова была, в далеком 2017-м, ваша позиция, ваша ставка, ключевые принципы и онтология? С какой командой вы в это путешествие на машине времени отправились, что имели в арсенале?
Нам важны ваши основания так же, как и нашего коллективного спикера. Потому что то, каким в реальности окажется 2035 год, зависит от нас с вами всех вместе.
Форсайт образования 2030
ЛЕКЦИЯ 01 27/12/2013

В России полноценных форсайтов практически нет. Форсайт — это процесс выработки позиции по отношению к будущему. Процесс, в котором ключевые стейкхолдеры, те, которые способны на будущее влиять, договариваются по его поводу. И этот процесс включает в себя этапы создания образа будущего, создания дорожной карты, решения, как к этому образу можно перейти, и, собственно говоря, политические или экономические договоренности стейкхолдеров по поводу того, как это можно организовывать. Все является частью форсайта, поэтому любая активность, которая называется форсайтом, но которая не содержит в себе этих ключевых элементов, форсайтом, в правильном, хорошем, мировом значении этого слова, не является.
В этом смысле метод Rapid Foresight, который мы в России развиваем, сам по себе полноценным форсайтом не является. Он является разовой сессией, в ходе которой стейкхолдеры создают общий образ будущего. Иногда внутри происходит договоренность, иногда — не происходит.
Форсайт может быть в этом смысле трех разных типов. Первый — учебно-образовательный, когда ваша задача, если вы его ведете, — просто погрузить людей в будущее, заставить прожить там. В принципе неважно, что потом произойдет, важно, как вы измените человека, чтобы он в это будущее пошел. Научился мыслить не из прошлого или настоящего, а из будущего.
Второй — форсайт как процесс определения позиций стейкхолдеров. И третий — форсайт, в котором вы делаете прогнозы по поводу того, как выглядит будущее, которого вы собираетесь достичь. Это три разных типа форсайта.
Форсайтов как процессов в России практически нет. Форсайт как процесс предшествует, дополняет и развивает любую стратегию. Стратегия должна проистекать из форсайта, является его неким результатом.
То, о чем мы с вами будем сегодня говорить, — это как раз уникальный случай и, наверное, единственный хоть сколько-нибудь претендующий на полноту форсайтный процесс, который идет в России. Почему? У него есть отличительные признаки. Первое — он начался в 2010 году, и он не заканчивается. То есть это деятельность, которую мы регулярно ведем. У этой деятельности есть преемственность, постоянное уточнение позиций стейкхолдеров, включение новых игроков. В рамках этой деятельности принимаются решения нескольких типов. Первый тип — это решение, когда внутри форсайта создаются новые бизнесы или происходят инвестиции в существующие проекты стандартного типа. Это означает, что люди, которые участвуют в процессе, инвестируют в достижение тех целей, которые они поставили, деньгами. Это какие-либо акторы или стейкхолдеры государственные, которые в рамках форсайт-процесса принимают соответствующие решения. Тогда это подлинная штука. Если это не происходит, тогда это определенный вид либо какой-то маленькой активности, либо симулякр.
То, о чем мы сегодня с вами будем говорить, родилось как сугубо российский форсайт, в котором принимали участие в основном российские участники, хотя некоторые его выводы тестировали сразу на ведущих мировых лидерах в области образования, таких как Эстер Дайсон, лидер компании Cisco. Здесь я в зале вижу некоторых участников форсайта 2010 года. Мы пошли дальше, и в течение 2012 года у нас появилась некая заявка на большее. Мы начали задавать себе честные вопросы, это очень важно. Имеет ли смысл любой процесс, который локализован внутри только одного государства? Может ли быть полноценным форсайт какой-либо отрасли, если он рассматривает только национальную рамку? Если вы себе этот вопрос честно задаете, то ответ всегда будет «нет». Вы обязаны всегда иметь глобальную рамку и относиться к ней.
Поэтому мы решили, что сделаем глобальный доклад о будущем образования. Такую амбицию на себя возьмем и скажем, что мы как минимум не хуже остальных ведущих групп, которые работают в мире с будущим, и мы понимаем, что будет с будущим мировой системы образования. И то, о чем мы сегодня будем с вами говорить — это как раз некоторый продукт этой амбиции, которую мы сегодня начинаем не просто тестировать, а начинаем верифицировать с ведущими мировыми стейкхолдерами в области образования. У нас прошли первые сессии, а основной соавтор нашего доклада, Павел Лукша, буквально вчера улетел в США готовить первую глобальную сессию. И мы в течение следующего, 2014 года три глобальные сессии проведем. Под них уже подписался ряд ведущих, собственно говоря, «топ 5», мировых университетов, крупных корпораций. Кроме того, из «топ 5 мировых» мы соберем пул из ведущих мировых стартапов в области образования. Тех, у которых а) уже есть достаточно большая капитализация;
б) тех, у кого есть большие планы по «захвату» образовательного рынка. Это некоторый наш вызов на следующий год. Сохранится российская активность, мы будем максима льно привлекать российские университеты к этой работе, но основной вызов для нас — это «взятие» той самой мировой рамки. Для этого готовится и готов уже целый ряд продуктов.
У нас выйдет на английском языке доклад о будущем глобальной системы образования. Представленная схема (рис. 1) уже подготовлена на английском языке, в приложении Арр Store, также подготовлен специальный сайт, и мы планируем провести сессию. Это, нам кажется, дает достаточные основания для того, чтобы о будущем этого образования говорить с достаточной степенью уверенности.
Теперь, собственно говоря, о том, что с этим образованием будет происходить. Я попробую работать отсюда, глядя, в первую очередь, на эволюцию системы образования. Мы видим, что в мире есть три одновременно существующих разных типа образовательных систем, и они тотально разные. Первый уровень — это раннеиндустриальное образование: базовое школьное образование, приходские школы, технические училища, навыки, высшее образование, в основном, для элиты. Сегодня это примерно 40% населения Земли — Африка, Латинская Америка, Средняя Азия. Есть, собственно, индустриальная система образования, которую мы с вами прошли за то время, когда часть из нас жила в эпоху Советского Союза. Значительная часть мира, больше 45%, живет до сих пор в этой логике индустриальной системы образования. Это массовое школьное образование; спецшколы для талантливых; массовое высшее образование; большие университеты; ориентация на знания и на квалификацию как способ подтверждения этих знаний. Сегодня в этой модели живут Китай, Индия, арабский мир, Юго-Восточная Азия. Советский Союз этот этап прошел где-то к 70-м годам прошлого века, то есть достаточно давно. И есть страны ОЭСР, позднеиндустриальные, постиндустриальные. Это то, что мы называем ранней постиндустриальной логикой — новые методики обучения, массовое использование онлайн-обучения, компетенции, а не квалификации, проектная деятельность, переход даже в метакомпетенцию, то есть способность готовить управленцев самого высокого уровня.
Вот этот разрыв между индустриальным и постиндустриальным находится в первую очередь на уровне мышления. Барьер мышления настолько яркий и выраженный, что его практически невозможно преодолеть. Приведу самый яркий пример такого мышления. На одном из форумов в Томске в прошлом году выступал в сессии про инженерное образование ректор одного очень хорошего большого инженерного вуза Китая. Я вел эту сессию как модератор, и его не было в списках. Ко мне подошли организаторы и сказали: «А можно его включить?». Я им сказал, что в принципе нельзя, у нас план сформирован. Они ну очень просили, коллеги из Китая, ну очень надо. Хорошо, но давайте договоримся, что у него будет 10 минут, он сможет за 10 минут выступить? Подходит ко мне этот уважаемый китайский коллега вместе со своей переводчицей, я ему объясняю задачу, он говорит: «Да, да, смогу». Я ему говорю: «Вы понимаете, что если вы не сможете, то мне придется вас перебить?». Китаец побледнел и сказал: «Нет, я успею». Я сказал: «Хорошо, но вот у вас есть презентация, в Вашей презентации 70 слайдов. 70 слайдов за 10 минут рассказать невозможно. Вы понимаете?». Он сказал: «Да, я понимаю». Я говорю: «Давайте, я Вас подведу, мы вырежем у Вас вот в середине кусок из 10 слайдов или из 15 самых интересных, и Вы их расскажете. Тогда Вы уложитесь в 10 минут». Коллега сказал: «Нет, это невозможно», — и еще больше побелел. Переводчица побелела вообще, и я понял, что если он не сможет рассказать все слайды, то ему лучше в Китай не возвращаться. И дальше было прекрасное зрелище, когда у него все это было написано на бумаге, и он ничего со слов не говорил. Каждый слайд у него был описан, он его быстро-быстро проговаривал по-китайски. У переводчицы тоже был перевод, который она точно так же, в таком же темпе, говорила уже по-русски. Сократить они его не могли, они были обязаны это пройти с дикой скоростью, примерно к пятой минуте никто в зале не понимал ни китайца, ни даже переводчицу. Он проходил эту презентацию. И когда оставалось две минуты, я показал: «Коллега, у вас две минуты». В этот момент китаец взвинтил темп еще больше, хотя казалось, что это невозможно, а переводчица, было такое впечатление, что она сейчас выиграет Олимпийские игры. В этот момент я понял, как Китай выиграл последние Олимпийские игры, на каком подвиге. Как она это делала, как у нее работала гортань — это была физика, понимаете, в которой они это делали, с тем, чтобы максимальное количество букв, слов, иероглифов произнести за отведенное время. В этот момент один из коллег наших в зале мне присылает смс-ку: «Мы, говорит, тут спорим сейчас, что раньше закончится, слайды, китайский язык или русский язык». И они не уложились. И это была такая катастрофа, они ушли с потерянными лицами, с потерянной позицией. Вот почему, несмотря на все успехи Китая, они находятся в индустриальной логике, а страны, которые придумали Power Point, которым они пользовались, находятся уже в постиндустриальной логике. Вот этот разрыв, он именно вот здесь, именно в мышлении, в неспособности его преодолеть. И наш доклад, то, что мы будем с вами обсуждать, он не про вообще мировую систему образования, а про вот эту красную точку, «Точку кипения». Про проблемы первого мира мы будем говорить, не про остальное. Россия сегодня там, где точка синяя, и базовый тренд, который мы сегодня наблюдаем, это тренд возвращения в индустриальную систему образования. То есть мы, с одной стороны, создаем школы, а с другой — создаем массовые федеральные университеты. Массовые университеты на 50 тысяч человек — это признак вот этого этапа. Например, создать новые вещи, которые в агентстве пытаемся продвигать (примерно как история прошлого года с федеральным онлайновым университетом) — а именно логику, которая относится к тому, что находится в «Точке кипения» и за ней.
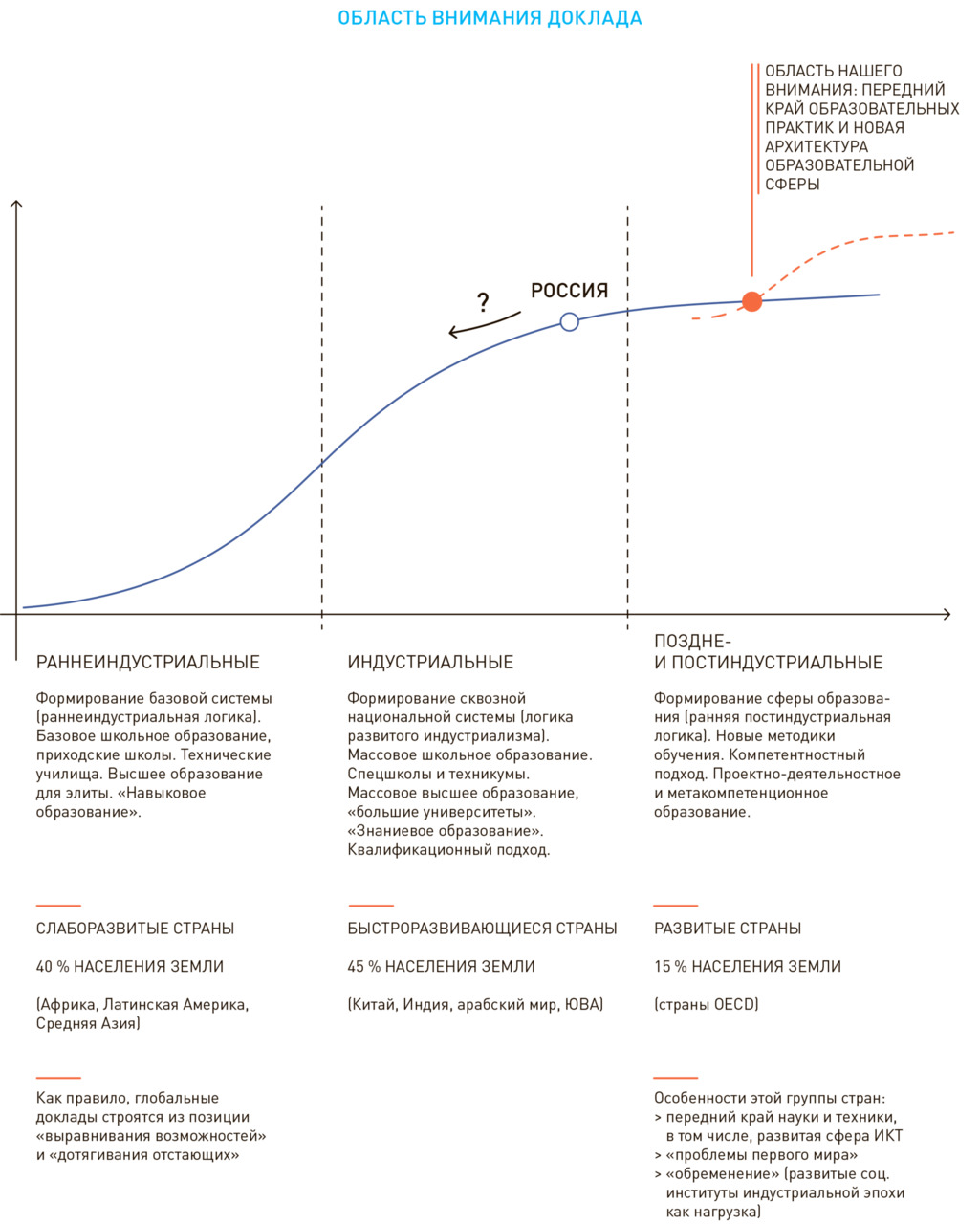
Образование изменится драматически. Почему? Есть минимум пять вызовов, которые мы группируем, которые мы выделяем, которые требуют этой новой модели. Первое — интернет и цифровые технологии. Это смена модели создания, сохранения, транзакции знаний. Это смена процесса оценки фиксации достижений. Это смена процесса управления собственной траекторией. Смена самого процесса управления учебной деятельностью. Мы понимаем, куда эволюционирует общество, куда эволюционирует интернет и куда эволюционирует образование. Мы это понимаем достаточно четко для того, чтобы делать прогнозы, которые сбываются. То есть некоторая точка в будущем, она понятна — понятно, как мы к ней придем, понятно, в чем она заключается, и мы можем, обратно отталкиваясь от нее, планировать свое развитие в будущем. Интернет — это всего лишь один из таких вызовов, но он, безусловно, ключевой, он меняет все. Если вы говорите про университетскую модель — он меняет процесс приема, процесс обучения, процесс выдачи дипломов, уничтожает сами дипломы и многое другое.
Второй вызов — это технологические стартапы в образовании. Ближайшие 20 лет — их время. Попытки построить новую инфраструктуру, которая заменяет все прежние институты. Примерно 2,5 года назад, придя в агентство, первое, что я предложил сделать, — это создать специализированный фонд, который мог бы инвестировать в образовательные стартапы. Мы проговорили, стало понятно, что сходу это не делается. Мы частично решили эту задачу — появился фонд, который инвестирует в интернет-стартапы, в том числе образовательные. Примерно 1,5 года назад я подошел к руководителю одного из российских институтов развития и сказал ему: «Давайте попробуем создать фонд, который будет инвестировать именно в образование». Руководитель сказал мне: «Это слишком рано. В ближайшие несколько лет это не произойдет, это не нужно». Примерно через три дня после нашего разговора в России появился первый частный венчурный фонд, который инвестирует в рынок труда и рынок образования. Дальше эти фонды стали вырастать, как грибы. Сегодня стало понятно, что на венчурном рынке это один из основных претендентов на звание большой истории вообще в мире, а общий рынок капитализации стартапов уже превысил триллион долларов.
Третий вызов, который влияет принципиально, — это гиперконкуренция и быстрое развитие отраслей.
То, что мы переживаем в экономике, описывается достаточно просто — старые отрасли умирают, новые появляются. Новые отрасли, как правило, минимум в 10 раз эффективнее старых. Например, вы купили нашу любимую Tesla Motors, модель S. Полгода назад она стоила 70 тысяч долларов США, и чтобы ее привезти в Москву, надо было заплатить 200 тысяч. Сейчас правительство отменило пошлины на ввоз любых электромобилей, соответственно, цена ввоза Tesla упала до приемлемого в России уровня. И если у вас есть гараж или закрытая стоянка, то вы можете дотянуть туда розетку. И заправка Tesla до классического пробега в 500 километров будет вам стоить меньше 50 рублей. То есть в цикле владения стоимость самого владения падает примерно в 40 раз. Это не будущее, это реальность. Примерно три года назад мы проводили стратегическую сессию для компании МРСК. Прекрасно помню момент, когда я им сказал: «Ваш конкурент в будущем — это заправочные станции. И ваш бизнес — это строить заправки». Коллеги из МРСК посмотрели на меня как на сумасшедшего. Через полгода компания МРСК построила первую в России тестовую сеть заправки электромобилей в Москве. Изменения на самом деле происходят. Вторую она построила в Лобне, обе, насколько я понимаю, не очень работают, но это уже издержки и специфика российского рынка инноваций. Важно, что все эти новые отрасли, если у вас в 10 раз больше эффективность, требуют такой же эффективности от подготовки кадров.
Они не могут прийти в традиционные университеты и получить то, что им нужно. Есть гигантский заказ на пересборку всей образовательной модели. Традиционное образование этот заказ удовлетворить не может, новое образование пока тоже не может. Такой вот кризис.
Четвертый вызов — образование как актив. Есть такое практически ругательное выражение в России — «образование как услуга», и все на него кидаются. С ним можно спорить, его можно не принимать. С точки зрения мира я про Россию не говорю — это абсолютно понятная вещь, образование становится предметом для инвестиций. Появляются формы, когда вы можете инвестировать в образование так же, как, например, в металлургию. И появляются финансовые инструменты, которые позволяют это делать.
И, наконец, пятый вызов — это вызов потребительского общества. То есть развиваются два разных, практически противонаправленных, тренда. С одной стороны, потребительское общество требует простоты, изящества и «недумания». Вы хотите, чтобы следующий смартфон был куплен вашими потребителями? У смартфона сначала было 50 кнопок, потом было пять, потом три, сейчас одна, и то, скорее всего, исчезнет (либо через один цикл, либо на следующем). То есть вам вообще не надо думать, чтобы пользоваться этой услугой. Еще один пример: картографический сервис. Делают ровно то же самое — чтобы попасть из точки А в точку Б, думать не надо. У меня был прекрасный случай летом этого года, когда мне пришлось сначала приехать из Прибалтики в Калининград, потом из Калининграда улететь в Москву, этим же днем вернуться в Калининград, а дальше мне нужно было приехать в некоторое место в Литве, которое называется Друскининкай. Я очень устал от перелетов. Вышел в аэропорту — шел дождь, ночь, темно. Я взял смартфон, открыл Google Maps, набрал в нем «Друскининкай», и поехал. Через какое-то время я подъехал к границе, прошел российскую часть границы, подошел к пограничнице, которая была както подозрительно одета — в зеленое, в какой-то кепке, и там были какие-то буквы незнакомые вокруг. Она на меня посмотрела, в мои документы, спросила: «Дмитрий, а куда вы именно в Польшу едете?». Я ехал в Литву. Я честно сказал, что не понимаю, где я нахожусь: «В Друскининкай». «Куда именно в Польшу вы едете?». «В Друскининкай». Меня пропустили, я с приключениями поехал дальше через Беловежскую пущу, с трудом проехал и приехал. Но важно, что я приехал в страну, в которой никогда до этого времени не был и куда никогда не собирался ехать. То есть сервисы дошли до такого уровня, что мне не надо было даже понимать, в какую страну я еду — есть точка А, есть точка Б, все, больше ничего вам не надо знать. И общая тенденция, конечно, ведет к общему оглуплению достаточно большой массы людей, потому что думать не надо, надо выполнять функцию, и все.
Это создает риск на следующем этапе, потому что если думать не надо, то лучше робота взять, а не человека. Это то, что сегодня происходит, и об этом мы поговорим дальше. Одновременно, конечно, появляется все большее количество людей, которые, наоборот, способны свой путь планировать. И вот для них нужны компьютеры, им нужны онлайновые сервисы. Но, коллеги, это принципиально две разные аудитории.

Первая аудитория — аудитория одной кнопки, никогда не будет пользоваться сервисами, где надо что-то выбирать. Упаси господи! Им сказали, посадили, а еще лучше, заставили. Принуждение становится очень важным мотиватором. Когда мы говорим об образовании, мы, как группа людей, которые этот форсайт делает, — мы рассматриваем образование как социально оформленный процесс поддержки развития на цикле человеческой жизни. И это наша работа, это наше волевое решение. Мы работаем с образованием именно так. И если вы на эту работу смотрите, то оказывается, что формальное образование, о котором мы обычно говорим, университет — это относительно небольшой квадратик здесь, на рисунке. И сегодня государство, и общество как его основная масса, воспринимает образование вот так. Все остальное — оно оттуда.
На каждом из этих этапов образование разное.
Следующее: мы говорим, что образование для нас — это образование, которое работает на полном жизненном цикле. Здесь я хотел бы ввести очень важное понятие для всей работы, которую мы ведем. Если вы читаете наши тексты, смотрите наши решения, то внутри у нас есть понятие трех циклов. Каждый последующий включает в себя предыдущий. И если вы анализируете будущее, нельзя анализировать будущее просто так. Вы обязаны смотреть на него через какую-то картину мира. Самый простой способ анализа — это брать три этих круга, три этих цикла. Первый цикл самый короткий — это дневной цикл, 24 часа. То есть когда вы, например, смотрите на какую-то инновацию, или новацию, изменение, она становится системной тогда, когда она проявляется в вашем маленьком жизненном цикле, то есть в течение дня. Например, вы новые лекции слушаете каждый день, вы знаете, что у вас есть время после чистки зубов, вы открываете смартфон (планшет, компьютер) или даете голосовой приказ. Вы выполняете какие-то упражнения, что-то еще. Это означает, что оно в вас внедрилось, оно глубоко внутри в вас, оно никуда не денется.
Второй цикл — это годичный цикл. Это когда вы точно знаете, что в течение года вы пройдете соответствующее повышение квалификации. Пойдете куда-то на курсы или как минимум говорите: «Я посмотрю 10 роликов с „Тэда“ в течение года». Это уже компромисс — не каждый день, но хотя бы какая-то цель.
А третий цикл — это, собственно говоря, цикл вашей жизни. Вы говорите: «Я буду слушать лекции с 18 до 22 лет. А потом зачем? Я уже умный, мне уже учиться не надо». Как правило, инновации в образовании появляются сначала в большом круге, потом в среднем, а потом только в малом. Когда они дошли до малого, это значит, что они есть. И надо понимать, что заказчики тоже совершенно разные. Одно дело, образование, которого требует сам человек. Второе — семья. Третье — сообщество. Четвертое — государство. Пятое — бизнес. Интересы этих заказчиков разные. Образования самого в себе не бывает.
Следующий большой блок — это спорный тезис, на нем обычно начинают возмущаться ректоры, если мы с ними по этому поводу разговариваем. Тезис наш примерно следующий: «Образование не является источником изменения в образовании». Уже несколько десятков лет. То есть изменения в образовании, если вы посмотрите, что поменялось, они не рождаются изнутри системы. Они рождаются как запросы других частей общества, других отраслей, к системе образования. И новые образовательные модели появляются не внутри модели образования. То есть сами университеты готовы существовать как замкнутые экосистемы сколь угодно долго — еще 10 тысяч лет. Если у них не будет необходимости меняться, они меняться не будут.
Школа — то же самое — изменения, как правило, там происходят на уровне флуктуации. Что такое «флуктуация»? Например, есть талантливый педагог, и он говорит: «Я буду работать с детьми по-другому», — и работает, в рамках своей логики. Но у него нет возможности взять и распространить это на весь мир. Он работает с ними в той зоне коммуникации, которая ему доступна, — в зоне одного класса. А изменения, если посмотреть на то, откуда они приходят, они приходят, с нашей точки зрения, из трех отраслей. При этом основное изменение приходит из одной отрасли, то есть новые технологии в IT. Все, что вы видите в образовании за последние годы, оно рождается там. Мультимедийные учебники, компетентностный подход, новые образовательные формы, новые виды университетов. Если вы посмотрите, классический пример — самый современный сегодня университет, Singularity University, создан не вузами, а двумя компаниями — NASA и Google (одна сугубо айтишная, вторая по факту айтишная). И так во всем. Серьезных изменений, которые бы сама система внутри себя родила, практически не происходит. Иногда эти изменения происходят не напрямую через IT, а через другие формы. Например, через развитие сферы финансов и страхования. Новые финансовые модели, например, дают возможность появиться таким формам, как лайфолуклеринг. Оно же само по себе не устойчиво, оно должно иметь некоторые инструменты, которые позволяют ему существовать. Они сначала складываются в этих сферах, а потом транслируются через трансформацию традиционных институтов в образование.
И третий источник — это развитие сферы фитнеса и медицины. Это то, что до сих пор было малозаметно, но, с нашей точки зрения, в ближайшие 20 лет это один из основных источников. В первую очередь — те возможности в сфере фитнеса и медицины, которые обеспечивают трекинг. То, что позволяет мониторить ваши достижения, то, что позволяет давать вам обратную связь, то, что позволяет вам работать со сферой мотивации и самомотивации. Тоже об этом поговорим. Ключевые технологии — когнитивный фитнес. Сегодня огромный, большой рынок развивается дикими темпами и с каждым разом учится решать все более сложные задачи. Лидер — компания Lomoste.com. А дальше — тотальность интернета, массовые виртуальные миры. Сегодня надо понимать, что для России виртуальные миры — экзотика до сих пор, и мы их не видим примерно так же, как пять лет назад мы не видели интернета: как государство, как лица, принимающие решения, как университеты. Вспомним один из форумов. У нас тоже была дискуссия с коллегами из Министерства образования, с ректорами, с аналитиками. Я в дискуссии задал вопрос: «Скажите, а какой, по вашему мнению, самый массовый образовательный процесс в России?». Коллеги-ректоры в основном отвечали: «Все знают, школа». На самом деле, если посмотреть по количеству участников, то самый массовый образовательный процесс в России — это обучение внуками и внучками своих дедушек и бабушек с использованием информационных технологий. То есть то, как они учат их пользоваться «ВКонтакте», «Одноклассниками», «Скайпом» и всем остальным. То есть это базовые коммуникативные навыки, без которых невозможно социальное взаимодействие в современном мире, через которые происходит огромное количество социальных феноменов нового поколения, которые в принципе были невозможны раньше. Через которые происходит, например, пересборка модели семьи и возвращение к определенным феноменам, которых не существовало в индустриальную эпоху, но которые существовали в доиндустриальную эпоху. То есть через IT, например, можно создать понятие большой семьи или рода. Это то, что влияет на социальное благополучие сильнейшим образом. Например, если раньше молодая семья в конфликте с родителями могла уехать от родителей — поднапрячься, занять денег, снять квартиру и жить спокойно. У некоторых моих знакомых, у них проблемы, например. Потому что, как только они обучили тещу работать со скайпом и у них появился айпад, то теща требует, чтобы айпад стоял на кухне, и она с ними общается каждый вечер по несколько часов. У моих знакомых две проблемы. Первая — это уложить маленького ребенка, а вторая — объяснить маме, что пора выключить айпад. Она с ними. Ведь ужас-то в том, что она-то не одна, есть еще вторая мама, которая тоже хочет пообщаться. И она требует купить второй айпад. Мы понимаем, что через какое-то время на нашей кухне появится иконостас из айпадов, и в них будут висеть родственники, которые удаленно, но частью этой семьи являются. Из самых добрых побуждений.
Следующая история — тотальность интернета, массовые виртуальные миры, цифровая копия мира, масса интернет-вещей. В эту коммуникацию, помимо тещи, начинают включаться вещи. Еще бóльшая проблема, потому что вещь может быть не меньшей проблемой, чем теща. Классический пример, он есть у всех футурологов, они его используют. У вас есть кроссовки, которые измеряют, сколько вы пробежали, у вас есть браслет, на который можно положить определенную сумму денег, который общается с вашими кроссовками, у вас есть холодильник, который умеет заказывать товары через интернет по штрих-кодам. И банальная ситуация, когда вы проснулись ночью, вам хочется есть, вы подходите к холодильнику, а он не открывается. И вы говорите: «Что ж ты, сволочь, делаешь!». А он говорит: «Понимаешь, кроссовки сказали, что положенную норму ты сегодня не пробежал. Давай все-таки сначала 2000 шагов, а потом уже я откроюсь. А так, пожалуйста, вот маленький тебе лючок открывается — вода, кашка, морковка. А высококалорийные продукты — сначала нужно выполнить норму». Представляете, еще теща в эту коммуникацию встрянет, в кроссовки с холодильником. Но некоторые пойдут на это, понимаете.
Точно так же, как история про новую честность здесь появляется. Например, появилось большое количество людей, которые научились обманывать полиграф. Стало понятно, что новое поколение обмануть практически невозможно, потому что если у вас идет сканирование коры головного мозга, то оно точно показывает, какой частью мозга вы лжете в этот момент. Происходит возбуждение этих частей мозга до того, как вы соврете. Вы еще не сказали, до речевой активности, а зона, ответственная за вранье, уже возбудилась. И этот механизм, он в определенном смысле безусловный, там даже обратная связь-то не возникает. Понятно, что с распространением мира интерфейса стало появляться огромное количество вариантов, когда вы можете это использовать. В банальном варианте, у японцев, которые продают эти ушки, которые вы на голову надеваете, и если вам собеседник нравится, они начинают вибрировать. Вы можете также сделать что-то типа татуировки, которая будет точно показывать, когда вы врете. Когда мы это обсуждали еще три года назад (даже больше), первое возражение было, что никто никогда себе такую татуировку не поставит. И мы сначала сказали, что да, наверное, никто не поставит. А потом взяли и протестировали эту модель, а возможна ли ситуация, когда поставят. И нашли сотни, тысячи ситуаций, когда это будет происходить. Банальные ситуации, когда жених и невеста обмениваются кольцами, а кольца могут выполнять функцию такой татуировки, когда тяжело, ты же на эмоциях, отказать. И до, собственно говоря, работы в силовых структурах, где нужна верификация того, что вы делаете. Это такой триггер, то, что может коренным образом весь фундамент образования поменять. То есть, представляете, вы приходите сдавать экзамен, если он останется к тому времени, преподаватель смотрит и говорит: «Не выучили занятие — свободны» — вы еще даже отвечать не начали, но он уже знает. И огромный, большой блок — это автоматизация рутинных интеллектуальных операций. То есть все, что может быть передано роботу, будет передано роботу. Вот этот тезис нужно запомнить, он уже не про далекое будущее, он про настоящее. Если, например, вам необходимо получить диагноз, и у вас есть вариант, что вы идете к обычному врачу, который занимается подозрениями, который ставит диагнозы в области рака, например, или к роботу. Вот сегодня у вас есть возможность пойти либо к роботу, либо к человеку. Поднимите руки, кто пойдет к человеку? Примерно половина. А кто к роботу? Чуть больше. А теперь смотрите — робот Уотсон медицинской компании IBM в США сегодня ставит диагнозы в этой области, а средний процент ошибки диагноза, который делает квалифицированный американский диагност (высочайшей квалификации), составляет около 50%. Примерно в половине случаев диагноз неверный. Это высокий процент. Уотсон ставит диагноз примерно с вероятностью 90%. Почему? Потому что ему одновременно доступно несколько миллионов диагнозов, которые сделаны людьми в разных ситуациях, он знает, к чему эти диагнозы приводят, он может проанализировать не 20 признаков, а 20 000 признаков в отличие от человека. Поднимите руки, кто по-прежнему пойдет к человеку. Спасибо, я переубедил примерно четверть, половину, кто до этого не собирался идти к роботу. По-моему, достаточно 10 человек, которые будут программировать этого робота. То есть 10 000 человек выходят на рынок труда, они квалифицированные, но их квалификация более не нужна. У нас целый ряд профессий, которые подпадают под ненужность.
Критики этого подхода говорят, что есть психологические факторы, и человек всегда будет больше доверять человеку, чем роботу, который везет его в машине по улицам города. Ничего подобного. Две-три аварии и две-три пиар-компании, которые покажут, что у робота есть одно принципиальное отличие от человека. Есть много практик, которые были раньше, но есть одно принципиальное, которого раньше не было — роботу не нужно смотреть в Facebook и отвечать на смс-ки во время движения. И когда я задал сам себе вопрос, если у меня есть роботизированный автомобиль и автомобиль, который я веду сам, я честно себе дал ответ. Я бы поехал в робоавтомобиле, потому что я сам за рулем постоянно пишу посты в Facebook и отвечаю на смс-ки. И это постоянно приводит к проблемам в дорожном движении, которые я сам стараюсь избегать, но я понимаю, что реакция существенно запаздывает, и это правда. А требование быть connected в современном мире, оно никуда не девается. И так можно пройтись по большому количеству отраслей. У нас практически выпущен Атлас новых профессий. Мы видим, что огромное количество сугубо традиционных отраслей за счет автоматизации операций вымирает. Большие экономические, политические, социальные предпосылки. Первое — это попытка создать новый технологический уклад. Мы видим, что сегодня снова, и это происходит впервые за последние лет 30, в мире появился технологический лидер, и им снова стали США. Если 10 лет назад (15, 20 лет назад) можно было говорить, что есть центры силы, центры, которые претендуют на переход в новый технологический уклад. Говорили, что есть Япония, есть Европа, есть Азиатские тигры, есть США, некоторые еще ради смеха произносили Китай и Россию. То сегодня, кажется, технологический барьер преодолевает только одна страна, и она является абсолютным лидером. Это тема другой лекции, каким образом это случилось, но вот этот барьер увеличения эффективности в 10 и более раз преодолели сегодня только США. Это больно признавать, но я считаю, что принципиально необходимо это признать. Пока мы этого не признаем, мы считаем ситуацию иллюзией. Об этом лучше всего говорить на примере космоса. Опять же с коллегами генералами мы несколько раз спорили (я выиграл все эти споры). Посмотрите на все стратегии космические, которые в России были написаны, в том числе на те, которые были написаны великими людьми (безусловно великими людьми, которые создали советскую космическую промышленность), которых можно уважать и преклоняться перед ними, — они все ошибались. Потому что быть великими — это не значит быть правыми. У них у всех частная космонавтика во всей этой модели из тысячи страниц текста занимала одну страницу в лучшем случае. Они говорили: «Ну, там, наверное, будет постепенно, вплоть до 21-го века, возрастать роль частной космонавтики». Тем временем — США. Как только произошла эффективность в 10 и более раз, где она произошла? Она произошла за счет инвестиционного пузыря, который был надут в США в области IT на рубеже 2000 года. Там возникло огромное количество свободных денег, которые были проинвестированы в новые отрасли. В какие? В биотех, в альтернативную энергетику и в космос. И люди, которые научились делать сложные большие IT-системы, они с этим же подходом пошли к старой традиционной области. И научились делать космические аппараты в 10 раз или в 100 раз дешевле, чем делаем мы. И дальше они пошли уже последовательно, с опережением графика…
Наши как думали: «Ну, мы там до 30-го года будем собирать Ангару, строить космодром Восточный, когда-нибудь в 40-х годах мы с ними поконкурируем, а пока…». США были вынуждены пользоваться нашими кораблями, чтобы доставлять астронавтов на МКС, и мы-то в шоколаде, мы же монополисты. Но это оказалась самая короткая монополия в истории космических исследований. Потому что немедленно появились первые частные космические аппараты, которые что начали делать, — доставлять этих самых астронавтов куда надо за цену, в разы меньше нашей.
Да, сейчас продлили контракт до 2017 года, потому что к 2017 году они их построят достаточно для того, чтобы таскать космонавтов и грузы туда постоянно. А дальше известно, что будет происходить. Есть такой конкурс XPrize, где они конкурируют. Сначала они конкурировали (несколько частных компаний) за вывод на околоземную орбиту, потом за доставку космонавтов, потом за космические отели и космическую станцию орбитальную, потом за полет к Луне. И каждый раз это делается в разы дешевле. Следующую вещь вы увидите — это будет тогда, когда Грассхоппер, «Кузнечик», полетит, уже дойдет до массы габаритов, которые сегодня будут конкурентны на рынке. А значит, в этот момент закончится рынок тяжелых космических аппаратов по доставке на околоземную орбиту. Потому что Грассхоппер умеет это делать, судя по всему, тоже в разы дешевле (или как минимум в два раза) — этого более чем достаточно, чтобы взять весь рынок. У нас останется только область обороноспособности. Это то, что новый технологический уклад создает.
Следующее — смена модели организации бизнеса и управления в отраслях. Как построить сегодня качественную образовательную организацию? Как, кстати, если вы хотите построить качественный завод или еще что-нибудь? Есть несколько понятных моделей управления этими структурами. Где они существуют? Правильно, в IT. Где в IT? У лидеров рынка. Смотрите сегодня, как это делают лидеры рынка в сфере IT. Вы точно знаете, что через пять лет так будут работать консалтинговые компании, через 10 лет — будут работать все крупные управленческие компании, и через 20 лет это дойдет до университетов. В странах индустриального образа жизни. Поэтому, если вы сегодня хотите построить качественную корпоративную культуру, вы берете презентацию компании Netfl ix и используете ее. Если вы хотите построить модель корпоративной лояльности, берете модель лояльности Twitter и используете ее. Если хотите построить процесс организации помещений, берете модель Facebook и используете ее. Они — лидеры в этих отраслях. Когда мы проектировали здесь «Точку кипения», исходя из имеющихся ресурсов, мы смотрели на эти модели и на модели организаций взаимодействия. Просто забываете все это, перечеркиваете, рисуете заново, ориентируясь на лидеров. У вас эффективность, я вас уверяю, возрастает в разы.
Смена структуры занятости и образа жизни — понятно. Новая финансовая архитектура — понятно. Реализация ценностей на основе новых технологий — принципиально важная штука, и большой рынок, которого сейчас нет, но который появится после 2016 года. А как вы вообще ценности можете учитывать во всей этой огромной модели будущего образования? Как вы с ними работаете, какие ценности, как они учитываются, как вы их переводите в деньги или наоборот, и можно ли это, где, как? Открытый вопрос, огромное количество моделей по этому поводу и бизнес возможностей.
Наконец, смена модели детства. Тоже понятно. Мы понимаем, что дети, которые вырастают сейчас, совсем не похожи на нас. Они будут умнее, быстрее, они будут по-другому видеть мир. Очень важно, что их определенная зрелость наступает уже к 12 годам. Скорее всего, этот цикл уменьшится до 10 лет. У них появляются модели миров, к которым нет допуска взрослым, и соответствующие модели отношений внутри этих миров. А это то, что мы сегодня даже не очень хорошо можем себе представить. Но важно, что эта модель детства полностью опирается на верхний тренд, на новый технологический уклад. Она является его наследником, с одной стороны, с другой стороны — носителем. То есть дети становятся евангелистами этого нового мира. Причем это происходит очень смешным образом. Консервативные родители, которые в жизни демонстрируют максимальную консервативную позицию в социальных, политических, экономических вопросах, в любых других вопросах, по отношению к детям эту консервативную позицию транслируют с большим трудом, вообще не способны ее удержать. Да, конечно, вы можете до определенного времени не давать ребенку айпад, но я вас уверяю, что к 10 годам (или раньше значительно) это приведет к дикому раздраю, скандалу в семье, и вы станете главным врагом для своего ребенка. Но родители, которые категорически не приемлют все новое, но хотят, чтобы их дети были успешными в этом новом мире, покупают ребенку роботов. Саморазвитие. Все равно мы вынуждены пускать их в эти самые виртуальные миры, где они общаются с другими детьми, потому что удержать от этого невозможно. У них есть вход в эту реальность, он будет неизбежен. Вы можете запереть их в ванной. В любом случае они придут в школу, и в рамках социума, который возникает в школе, внутри класса, получат все это. Но получат на волне этического отрицания тех моделей, которые им предлагают родители.
Дальше — большая история о том, что происходит сегодня. Назовем это «время мук». Те самые МООС (massive open online courses), о которых сегодня все кричат как о главной угрозе образования. Мы согласны, мы начали кричать одними из первых. Вот что меня больше всего забавляет в этой истории. Мы знаем примеры все этих «муков», Coursera, Udacity, EduMe, edX и некоторых других. Наши коллеги, которые занимаются, казалось бы, аналогичными вещами, демонстрируют во взаимодействии с МООС классические признаки «карго-культа». Они видят внешние признаки и не понимают, что находятся внутри. Меня потрясла реакция очень уважаемого человека, который делал один российский онлайн-образовательный ресурс, Интуит. Многие его знают, это один из лидеров рынка, большое количество бесплатного образовательного контента. «Ну, посмотрел я вашу Курсеру, у меня все то же самое». То есть вы заходите и видите там какие-то видеоролики и какие-то тестовые вопросы, и все. «Да мы это делали еще в 98-м году», — мне говорят. Я задаю вопрос: «Скажите, а в 98-м году вы это откуда импортировали? Случайно не из США и Великобритании?». — «Да, из США и Великобритании». — «А как вы думаете, почему США и Великобритания считают, что это новая эпоха, а вы так не считаете?». Здесь происходит ступор, потому что ответа на этот вопрос нет. Потому что люди — в этом карго-культе, и никто не составил себе труда в этом МООС хорошенько поучиться.
Опять же принципиально важно: процессы, о которых сейчас я говорю, это не значит, что они сегодня же произошли. Это значит, что они сегодня происходят, это значит, что так будут выстраиваться новые образовательные модели в течение ближайших нескольких десятков лет. Те модели, которых не было раньше. Модель №1 — один учитель может персонально учить один миллион человек. Настаиваю, персонально учить. Обычно говорят: «Невозможно. Как один человек может персонально подходить к обучению одного миллиона человек других?». Действительно, если мозги ограничены, то невозможно. А если вы понимаете, что такое новый технологический уклад, то оказывается, что возможно. Некая такая вот, как говорил русский философ, органопроекция — достройка своих органов взаимодействия с окружающей действительностью, позволяет такому преподавателю становиться «Шивой тысячеруким». За счет каких инструментов? Несколько простых решений, которые показывают, что сегодня хороший МООС по инженерной сложности сравним с атомной станцией или МКС. По времени и по количеству человеко-лет, которые потрачены на создание кода, который там внутри зашит. В чем этот код, и почему становится возможной эта миллионорукость? Пункт №1 заключается в следующем. Понятно, что там есть видео, его человек посмотрел, порешал какие-то задачки, а дальше он всего лишь выполняет тесты. В классическом варианте в подавляющем большинстве тестов, которые мы видим, что вы получаете — «ответ не верен» — и подсвечивается красным. Правильно? Или вы сдали на 78 из 100 баллов, до свидания. Никакой персонализации не происходит. Для того чтобы получить персонализацию, вам что нужно — вам нужен репетитор, который сядет с вами рядом и объяснит, где вы ошиблись. Это в обычной экономике, в индустриальной, доиндустриальной. А что происходит в модели МООС? Всего лишь простейшее мыслительное упражнение. Правильный ответ, как правило, один, или их совсем не много. Прелесть ситуации заключается в том, что неправильных ответов тоже всегда бывает ограниченное количество. То есть ошибки, которые делает человек, они типичны. И вот здесь, почему я говорю про миллион человек, здесь ключевая штука, которую надо понимать всем, кто пойдет в эту гонку и начнет делать свои МООС. На 10 человеках у вас модель персонализации ошибок не получится, а на миллионе получится. То есть вам необходимо иметь (никто не знает сколько) как минимум тысячи, много тысяч учеников для того, чтобы иметь персонализацию, противоречие. На 100 человеках не получится, а на 10 тысячах получится. Почему? Потому что 10 тысяч неправильных ответов вы сможете типизировать. Если вы эту типизацию с помощью IT произведете, классификацию тех ошибок, то выясняется, что они тоже укладываются в некоторую глиссаду. То есть 80% ответов неправильных будут одинаковыми. И, один раз задав этот вопрос, вы можете проанализировать неправильные ответы, и для подавляющего большинства неправильных ответов вы можете дать типовой персональный анализ. Он персональный, потому что он дает вам анализ вашей персональной ошибки, которую может дать только тьютор. Но он типовой, потому что таких, как вы, еще 88 тысяч. А как насчет стоимости этого анализа? Первый раз, когда вы нанимаете человека, вы нанимаете самого классного специалиста в мире по этой теме. И он анализирует 20 самых типичных ошибок. Это может быть дорого, но зато, когда вы анализ этих 20 типичных ошибок отдаете двум миллионам людей, то стоимость этого вашего тьютора стремится к нулю. И вот это МООС делать может. А обычные системы образовательные делать этого, в принципе, не могут. Но для того чтобы это сделать, у вас должна быть сложная система анализа этих ошибок. И поэтому, если вы просто возьмете программиста с рынка и без образования, он вам это никогда не сделает. И поэтому в России это пока невозможно. Вы должны взять человека, который умеет анализировать массовые ошибки. А где у нас происходит анализ массовых ошибок? В сложных инженерных системах. То есть вы берете человека, который, например, проектировал SIP. И он вам эту систему анализа сделать может, а просто человек с рынка не может. А так как таких людей тоже очень мало, а вам нужны самые лучшие — они тоже концентрируются вдали и в начале 2000-х годов заработали много денег.
Следующая вещь, которую МООС позволяет сделать. Вам дали эту персональную ошибку, но у вас ведь могут быть эссе, а вам нужно дать персональный анализ и на них. Каким образом это происходит? Тоже простой метод, который нельзя сделать на небольшом масштабе людей. Вам предлагается возможность оценить работу другого студента, и другой студент получает оценку, которую вы ему поставили. Он может сказать: «Да какой-то идиот меня оценивал» — и дать оценку на вашу оценку. Такая вот, почти по Лефевру, у нас появляется некая рефлексивная петля. И дальше у вас опять же есть инженерные системы, которые различают миллион человек. Вы сравниваете миллион оценок и тех, кто получил максимальные ответные оценки. То есть тех, кто написал хороший отзыв, отзыв, который первоначальный студент принял и оценил, вы выводите во второй круг и повторяете это упражнение с ними. Следующее задание в течение курса, второе задание вы отдаете на анализ тому, кто уже получил наибольшие оценки в первом круге, и делаете то же самое. И дальше, настраивая систему — 5, 7, 8 повторений, такое сито, — вы получаете нужное вам количество людей, которые готовы быть тьюторами на вашем курсе.
Интересно здесь, что первый раз, когда вы это делаете, вы получите плохие оценки и большое количество раздражения со стороны участников — это нужно понимать. А второй уже будет гораздо более качественным, потому что у вас есть качественные тьюторы. Вы один, у вас миллион студентов, но вы подобрали себе 20 тьюторов лучших, которые: а) не хуже вас понимают предмет, б) умеют объяснять его другим. У каждого из этих тьюторов есть 20 своих, чуть ниже уровнем, с которыми он может взаимодействовать. У вас появляется немедленная автоматическая пирамида управления. Она складывается, естественно, инженерным способом — еще одно противоречие. Инженерный способ, но естественный, эволюционный, если хотите. Это вторая вещь, которая там возникает.
И третья вещь — самая главная. Это вещь, которая убивает или ослабляет вообще подход к компетенции. То есть модель, при которой оцениваются компетенции их детальности. Это та модель, которую наша страна безуспешно попыталась применить 10 лет назад и погрузить в нее всю вузовскую систему. Вузовская система систему компетенции отторгла. Сказала: «Мы, конечно, отлично простимулируем эту деятельность, но использовать не будем, потому что не подходит она под наше классно-урочное мышление». Даже компетенции в этот момент устаревают или как минимум существенно ослабевают. Почему? Потому что компетенция, это когда вы приходите в какую-то точку, где вы демонстрируете какой-то результат. Это остается важным, безусловно, но появляется вещь, которая более важна — это то, как вы к этому результату шли. Раньше для вас государство было вынуждено держать большое количество преподавателей, которых вы слушали на лекциях, которые работали с вами на семинарах и которые вам через полгода ставили какую-то отметку в зачетке. Сейчас в МООС что происходит? Например, у вас есть модель компетенции, как у преподавателя. Вы говорите: «Мне интересны те, кто вовремя, все 10 раз, сдал зачет. Мне интересны те, кто получил самые высокие оценки как тьютор. Мне интересны те, кто держал таймер. Мне интересны те, кто продемонстрировал лидерство во время форумных обсуждений». И вы по каждому студенту можете получить трек не того, какие результаты он получил, а его когнитивного стиля. То, как он вообще учится, как он решает проблемы, как он взаимодействует с обществом. Для потенциального работодателя, конечно, гораздо интересней даже не результаты, а вообще способность учиться, способность к лидерству, то есть метапредметные навыки. Вот эти три вещи, которые не может сделать традиционная система образования. И никогда не сможет. Потому что издержки слишком высоки — слишком дорого или нет людей в каждом кусочке этой цепи. Очень дорого, очень неудобно, очень плохо работает. Цепочка будет постепенно механизироваться и роботизироваться. И будет это первое появление межнациональных моделей МОСС-образования, закрепление ситуации образовательного империализма, когда есть одна, две, три стороны, которые забирают с мира лучших. Это также приведет к реакции некоторых государств в форме образовательного суверенитета. То есть в какой-то момент страны, которые грабят больше всего, скажут: «Мы имеем права на наших граждан. Забирайте, но сначала отдайте 100 тысяч». Дальше там тупик и знак вопроса. Почему? Потому что сегодня, чтобы такого человека оценить, не нужно ждать, когда он в университет поступит. Потому что сегодня у нас уже есть кейсы, когда за счет демонстрации когнитивного стиля и решения задач в той же Coursera, какой-нибудь Facebook выкупает 12-летнего талантливого мальчика откуда-нибудь из Монголии. Он еще даже школу не закончил, но он демонстрирует в своей деятельности паттерные признаки обучения и результаты, которые им кажутся важными.
А дальше оказывается, что существует гипотеза. В том числе в России есть известный стартап, который пошел даже дальше и сказал: «Но ведь этот же трэкшн можно делать и по тому, как он ведет себя в Facebook, например, или ВКонтакте». Если он читает книжки по физике, если у него там регулярно появляется: «Папа купил мне телескоп, а я, оказывается, открыл новую галактику», — с доказательными результатами этого тестирования и всех остальных, то такого человека можно еще раньше достать? Происходит индивидуализация. Принципиально, что запрос на индивидуализацию идет от бизнеса. Бизнес сначала хочет видеть достижения и умения — электронный диплом в портфолио, личный паспорт компетенции, конституционные дипломы. Это то, что сегодня хотят работодатели. Бизнес как инвестор хочет так называемого «узаконенного рабства». Это было в Новосибирске, в 2011 году, на форсайте Академгородка. В шутку мы сказали, что единственный выход для Академгородка — это узаконить рабство. Коллеги-академики не очень поняли, о чем мы говорим. А мы говорили, что, мол, вы воспитали талантливого физика, взяли и отдали его бесплатно. А представьте себе, что у вас действует та же модель, которая действует в футболе или хоккее. Воспитали талантливого — пожалуйста, есть цикл продаж, конкуренция. Выставляете его на торги, за него будут конкурировать. Один заплатит 20 миллионов долларов, другие 50 миллионов долларов. Возможны ли такие цены? Да, возможны. Например, однажды я познакомился в Кембридже с уже пожилым советским физиком, который работает в компании, производящей большую часть жидкокристаллических дисплеев для мобильных телефонов и смартфонов. Вы знаете, что там сборку делает тайваньская компания Foxconn. Это тоже тайваньская компания, но которая занимается не внутренностями, а дисплеями. И у этого физика смешная позиция — он там Chief science offi cer. То есть он обычно там не работает, он путешествует по миру, отдыхает, все остальное. Но когда компания упирается в переход на следующее поколение, то местные решить ее не могут (ни китайцы, ни корейцы, ни американцы). Тогда они вызывают нашего советского физика, он им объясняет и уезжает. И дальше, до следующего приезда, он ведет жизнь вот этого Chief science offi cer. Я думаю, что если его продавать, то на 50 миллионов он вполне бы потянул. Потому что компании он каждый год приносит гораздо больше. И сегодня в мире появились первые стартапы, которые с удовольствием начали использовать эту модель, — когда у квалифицированного инвестора, человека, у которого есть минимум два миллиона долларов на счету, есть возможность протестировать через стартап человека по простой модели. Вы талантливый молодой специалист, вы хотите поступить в World School of Business. Вас готовы взять, но вам для оплаты обучения нужно 100 тысяч долларов. У вас их нет. И вам по каким-то причинам не дают кредит. Вы выставляете себя на эту биржу и говорите: «Вот я такой талантливый, вот мои результаты с IT, вот мой IELTS, вот мои достижения в олимпиадах». Мы вложите 100 тысяч долларов — в ответ я через три года в течение 10 лет буду отдавать инвестору 20% своего годового дохода. У инвестора есть модель, что средний выпускник World School of Business в течение года зарабатывает 200 тысяч долларов. Он считает — 200 тысяч, 20% в течение 10 лет — 40 тысяч долларов в год при начальных инвестициях в 100 тысяч. Рентабельность — не слабая. И он инвестирует в этого человека. Они заключают договор, он идет учиться в World School of Business, а инвестор, проинвестировав несколько таких людей, получает пакет инвестиций в будущих сотрудников. И возникает такой очень интересный момент — оказывается, что инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но и из акций людей. И, например, для инвестиционных фондов это может быть вполне интересно, потому что никто не знает, что будет с валютой и с этими акциями через 20 лет, но люди-то будут, и самые талантливые точно будут хорошо зарабатывать. И поэтому один из наших прогнозов — это появление первых, как мы их называем, «людарде», то есть богатых людей, у которых есть капитал, сформированный в пакетах владения людьми. И это реальность, это работает.
Следующий большой блок — это запрос и управляемость, то есть содержание и образование. Тоже все понятно. Библиотеки контента, траектория под заказ, менторские сети, виртуальные учителя. Об этом много написано всякой литературы, включая фантастику, поэтому даже рассказывать не буду, вы сами знаете. И некий спрос на аутентичность. Индивидуализированный лайф-нуклеринг как часть жизненного пути, когда вы не просто учитесь, а обучение подстраивается под семейные кризисы, депрессию или еще что-нибудь. Специализированное образование под определенный тип заболевания.
Большой блок — это кооперативность. Тоже понятно. Заказ на команды. Команды — это то, чего сегодня больше всего не хватает. Производство команд из сетей, биржи возможностей, семья как большой новый заказчик, новые университеты как холдинги студентов, когда студенты возвращаются к средневековой модели университета и оказываются способны предъявить запрос на тип и организацию учебного процесса. Если вы помните модель, когда университеты зарождались, декан был выборной позицией со стороны студентов, он организовывал образовательные курсы. И студенты платили преподавателю. Если им не нравился преподаватель, они снимались с места и мигрировали в другой город, другой университет. К некоторым аллюзиям к этой модели мы приходим и сегодня.
Тотальность игры. Здесь у нас внутри группы есть споры, но большинство считает сегодня, что игровая логика, в том числе через фитнес, внедряется в нашу жизнь практически всюду. Почему? Потому что игровая логика позволяет преодолевать лень, когда вы делаете ставки. Например, есть прекрасная бизнес-модель, где обучение проводится в хорошей онлайновой программе, оно бесплатно, но вам необходимо оставить залог в тысячу долларов за курс. Если вы курс успешно заканчиваете, вам тысяча долларов возвращается. На чем зарабатывают создатели этой модели — на понятной логике того, что человек ленив. И большинство людей, даже заплатив тысячу долларов, эти курсы не закончат. Это не гипотеза, это правда, потому что на этом построен бизнес в другой параллельной реальности — это бизнес фитнес-клубов. Фитнес-клубы знают, что из купивших 10 тысяч карточек на посещение, ходить регулярно будет тысяча человек, еще 3 тысячи будут ходить не регулярно, а остальным будет жаль денег, которые они заплатили за годовую карточку, но все равно больше 3–5 раз они не сходят. К сожалению, мир таков. Хочу только одно здесь сказать. Что новая модель науки отрицает практически все основные черты той науки, которая сложилась в Советском Союзе, это культивируется в РАН. Более того, она отрицает и те стандарты, которые сегодня приняты, на которые мы ориентируемся как на будущее. Очевидно, что индекс цитирования как основной инструмент оценки научной деятельности безнадежно устарел и в ближайшие несколько лет будет изменен. Его последовательно научились «хакать» на национальном уровне. Сначала научились «хакать» китайцы. За китайцами начали «хакать» и остальные страны. Например, есть прекрасная история, которая разворачивалась на наших глазах в этом году, у меня в Facebook, об Уральском федеральном университете. В УрФУ есть лидер по цитируемости, который пишет прекрасные статьи. Что-то там про математический алгоритм управления роботами. Прекрасный человек, у него соавтор есть. Они выиграли президентские стипендии, все конкурсы национальные выиграли и все остальное. Все бы хорошо, но до того момента, как только вы открываете эти статьи. Я ничего не понимаю в математических алгоритмах, но когда у вас монографии напечатаны в известном немецком издательстве, которое специализируется на том, что печатает две копии монографии — одну оставляет у себя, а вторую отсылает вам. Это позволяет вам говорить, что у вас иностранная публикация в издательстве «Ламбертсон» и вы иностранный публикант. А все статьи — они в издании, в котором авторы являются членами редколлегии, или содержат самоцитирование. Берется, например, некий труд на 10 страниц, разбивается на пять публикаций по две страницы. Все эти пять публикаций — в одном номере журнала, и все ссылаются друг на друга.
Раз — и вы лидер по индексу Хирша в Российской Федерации, лауреат всех возможных премий. Там такой скандал был! Пришли ко мне проректоры УрФУ, сказали, что я уничтожаю российскую науку. Натравили на меня какого-то типа, который начал копаться в моей биографии, искать в ней компромат. Он нашел, что я, оказывается, провожу форсайты. Разгромил все наши форсайты, сказал, что все это полная ерунда, что я ничего не понимаю в математике. Коллеги, не надо ничего понимать в математике — открываете, и все видно. Но вот эта модель, значит, и на глобальном уровне принципиально устарела, в том числе и в промышленности, и в работе научных лабораторий.
Про нейронет даже говорить ничего не буду, там более компетентные специалисты в этом вопросе, чем я. Мы об этом, наверное, сделаем в рамках цикла одну из лекций. Единственное, что вы должны знать, — это слово, которое всем придется выучить, и явление, которое сначала дополняет, потом замещает интернет в значительной степени. Просто запомнить, что это такое будущее, в котором нам всем придется жить, даже если мы этого не захотим.
Итак, что происходит с новым образованием? В ближайшие годы — траектории и МООС. Появление паспортов компетенции, модели инвестиции в таланты. Все. Пока даже на мировом уровне ничего более. Пока эта инфраструктура только начинает разворачиваться. 7–10 лет. Университет для миллиарда — это уже разборки с участием мировой политики. Появление глобальных организаций, которые отвечают за разборку между государствами по поводу образования. То есть смотрите на модель Люка То и на Ай Кэн. Две структуры, из которых будут рождаться новые модели для глобальной образовательной политики. Появление полноценных возможностей для внесистемного образования. Это означает, что дети, которые будут жить в начале 2020-х годов, в принципе, смогут прожить жизнь, ни разу не зайдя в школу и в университет. Это не значит, что все туда не будут ходить, но те, кто не захочет, уже могут не пойти. Игровые среды дополнят реальность, которая выплеснется в города, на улицы, в университеты, на заводы. В этом смысле школа будет сращиваться с городом, с его понятием, университет — с производством. Функции сливаются. И происходит объективация процессов учения через устройство биологической обратной связи. когда вы сразу будете понимать, что у вас получилось, что не получилось. 15–20 лет — игра и командная работа как доминирующая форма образования. Искусственный интеллект — как наставник. Живые модели знания, обучение в нейрогруппах. Будем считать, что это область фантастики, этого никогда не случится, я вам этого не рассказывал.
Далее. Смерть форматов. Первое — учитель-репродуктор, с нашей точки зрения, умирает очевидно и быстро. Почему? Потому что это прямые издержки для экономической эффективности. Если есть даже в России региональный вуз, и ему Министерство образования сказало, что у вас зарплата учителей должна составлять не меньше средней по региону, то вуз может в большинстве случаев сделать это одним путем — сократив некоторое количество преподавателей. Понятны всем издержки, как это происходит в России — криво, косо, в обратную сторону, но логика, которая здесь закладывается сама по себе, она простая. Я знаю вузы, которые успешно заменили большое количество преподавателей слабых дисциплин — в основном тех, которые есть на первых курсах — история, философия, экономическая теория. Заменили обучением в виртуальной среде, где в 10, 20, 30 раз дешевле. Результаты потом проверили, сделали контроль остаточных знаний, и оказалось, что контроль остаточных знаний в модели виртуальных сред гораздо выше, и результаты гораздо выше, чем когда слушали лекции. Первую эту модель, насколько я понимаю, сделал 10 лет назад Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, за счет чего сразу получил на 40% экономию по фонду оплаты труда. Инвестировал эти деньги в хороших, качественных преподавателей и получил резкий подъем качества образовательного процесса.
Что еще будет исчезать? К 2025 году — диплом об окончании вуза, я думаю, что, может быть, и раньше, система научных журналов в нынешнем виде, управлен ие интеллектуальной собственностью, понятие авторского учебника.
Теперь самый главный слайд нашей лекции — о том, как выглядит образование через 15 лет. Если вы сегодня делаете стартапы или проектируете образовательные системы, вы должны исходить уже из этой матрицы.
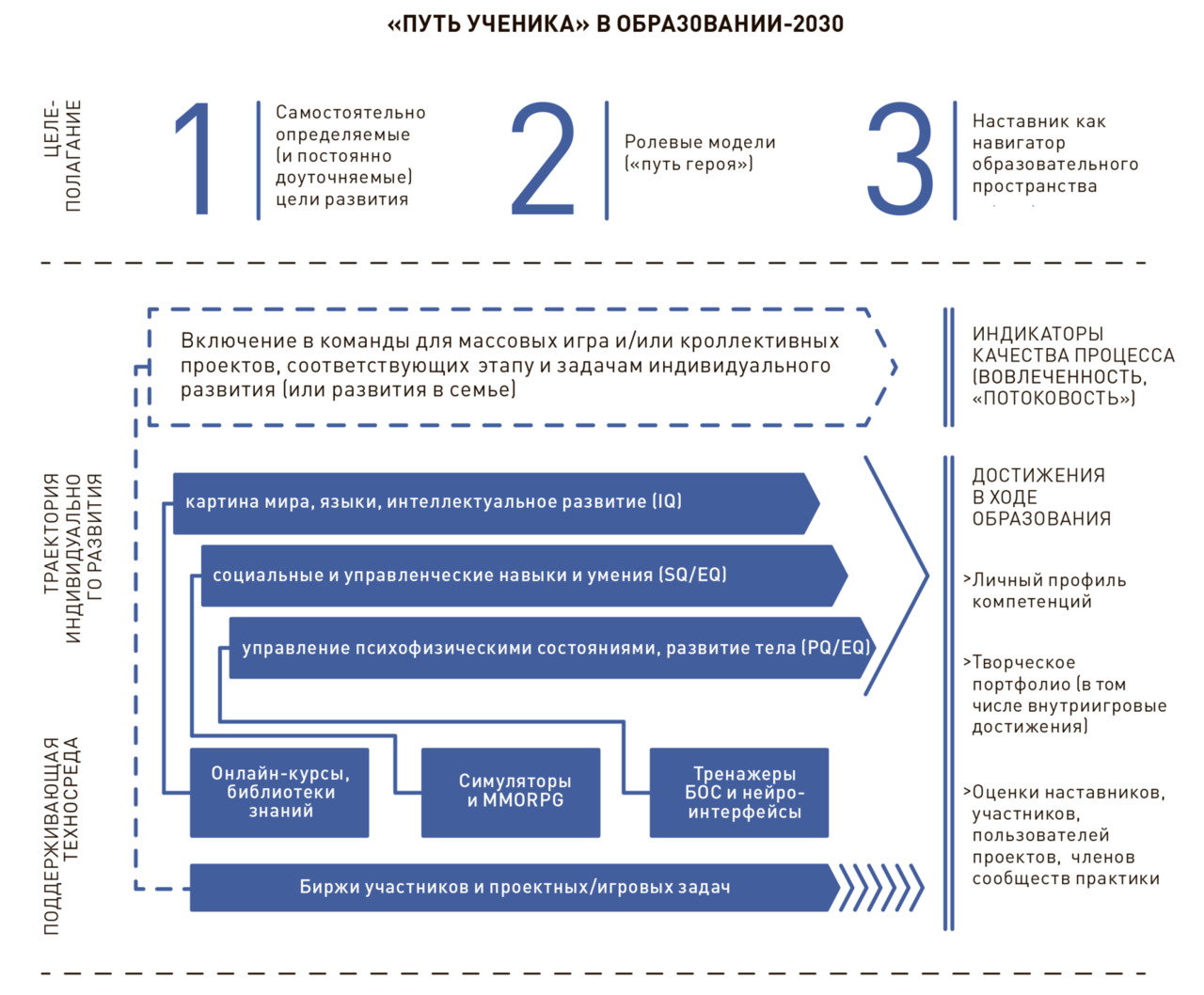
Первый уровень — целеполагание. Мы разделяем три разные категории, а может быть, даже четыре, учеников, для которых должны быть разные модели, которые нельзя, вредно смешивать. Первые — это те, кто способен самостоятельно доуточнять целеразвитие. Это те, кому особенно преподаватели не нужны. Достаточно тьюторов и какой-то помощи в каких-то конкретных местах и моделях. Второй тип — это те, кому нужны ролевые модели. То, что мы называем «путь героя». Я хочу быть похожим на такого-то, мне не хватает таких-то компетенций, я их набираю. И третий тип — помните, в самом начале мы говорили про «облупление», возвращаясь к 1968 году, к одномерному человеку. Там как раз появляются наставники образовательного пространства, те, кто говорит: «Копаешь от забора и до рассвета». Почему? Потому что так надо. Пошли копать. Для них нужны разные модели.
Из чего складывается траектория индивидуального развития? Три траектории, подобно ДНК, друг с другом переплетаются. Первая — это формирование картины мира. Это классическое знание в образовании — как вообще устроен мир, какие есть иерархии, какие есть классификации, из чего состоит химия, физика, математика и все остальное. Знание языков и в целом интеллектуальное развитие IQ. Базовый уровень — для того, чтобы его поддерживать на уровне техносреды, достаточно библиотек знаний, онлайновых курсов. В принципе это то, что можно делать на существующем фундаменте. Вторая — это социальные и управленческие навыки и умения. То, что называется мягкими компетенциями — все понятно. Третья — то, что сегодня практически отсутствует в образовании или существует в совершенно извращенном толковании и называется «физкультура». Это управление психофизическими состояниями и развитие тела. Например, вы должны уметь управлять темпом вашего обучения. Точно так же, как спортсмен подводит себя к пику формы, вы должны подводить себя к пику когнитивной формы, например, перед условным выпуском или условным экзаменом, или защитой проекта. Управление темпом, управление циклами — в какие моменты дня, где, когда, подстраиваясь под вас — вы это делаете. Как вы это делаете телесно, как вы с этим взаимодействуете. Вот здесь у нас огромные потенциальные инвесторы — это, собственно говоря, практики, которые приходят к нам из йоги, из других дисциплин, которые позволяют этими процессами управлять. Но они поддерживаются биологической обратной связью. У вас нет денег на индивидуального тренера в йоге, а вместо этого у вас есть тренер виртуальный, который утренние упражнения с вами будет делать. Это не реальность 2030 года, это реальность 2011 года.
Для социальных и управленческих навыков нужны симуляторы и многопользовательские онлайновые игры. Опять же, это реальность не 2030 года, а уже 2010-го. Сегодня есть несколько стран, которые сделали на многопользовательские онлайновые игры ключевую ставку в образовании. Если вы посмотрите на модель Южной Кореи, то это основа ее образовательной стратегии на национальном уровне. Образование в основном происходит в подобного рода средах. И для психофизических состояний, как я уже сказал — нейроинтерфейсы и тренажеры биологической обратной связи.
Теперь — как вы все это дело измеряете. Никому не нужны оценки, упаси боже вас вспомнить про «общественно государственную аккредитацию» или «профессиональную сертификацию», или зачетки, или стобалльную какую-нибудь систему. Ключевые индикаторы — это вовлеченность и потоковость. Сегодня лидерами в этом процессе являются британские университеты. Если вы посмотрите на требования, которые предъявляют британские регулирующие органы к британским же университетам, — там измеряется вовлеченность. То, как студенты вовлечены, то, как профессура вовлечена в стремление к достижению общих результатов, и то, как управленческий состав вовлечен в достижение общих целей. И что делают правильные глобальные стартапы в этой области? Они проектируют информационные системы, которые умеют измерять вовлеченность.
Поэтому первый из известных мне стартапов был полгода назад как проинвестирован.
И, собственно, достижения в ходе образования, которые складываются из трех типов. Первый — личный профиль компетенции. Второй — творческое портфолио, в том числе внутриигровые достижения, то есть насколько вы себя проявляли в различных играх и как это можно засчитать в другие типы оценок наставников, участников, пользователей проектов, членов сообществ практики. В модели, в которой все друг друга быстро и постоянно оценивают. Фактически еще раз смотрите классы оценок, которые вокруг вас формируются. Первый класс — проектные достижения. Вот вы это сделали. Это ваш, говоря языком средних веков, шедевр. То, что является вашим допуском в профессию. Третий тип — это ваш когнитивный стиль. То, как вы к этому достижению шли. Четвертый — это то, как вас оценивают другие в среде. Условно говоря, как в HR есть оценка — 360 градусов, только разверните ее во все стороны, сделайте ее не плоской, а объемной. То есть ситуация, где все оценивают всех. И вот здесь возникает очень интересный, огромный, большой рынок, который еще не сложился, но все равно будет предопределяющим многие вещи в образовании, где появятся новые, очевидно, глобальные стандарты.
И почему, например, сегодня невозможен полноценный переход на модель компетенции? Почему нельзя отказаться от диплома и перейти на модель компетенции? Потому что диплом — простая система. Что есть в дипломе? Название областей. Я — историк, я — инженер-технолог. Их мало. И цифры от 1 до S. И набор дисциплин, которые ты проходил, — их несколько десятков. Теперь представьте — если вы говорите, что нужно перейти на модель компетенции, то вам необходимо иметь стандарты компетенции (как минимум отраслевые или региональные) — их сегодня нет. И они не появятся в ближайшее время. Почему? Потому что существует модель зрелости жизненного цикла.
Почему в ближайшее время модели компетенции не появятся? Невыгодно, не понятно кто несет издержки за переход с одной модели компетенции на другую. Поэтому сначала этот рынок будет усложняться, усложняться, усложняться, конкуренция увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Потом все это вскипит, и регуляторы задавят. Когда регуляторы задавят, все это придет к неким блокам стандартов. Но до этого, на мой взгляд, — минимум еще лет 15. И вот здесь возникают биржи участников проектных игровых задач. То есть выясняется, что ценностью являются задачи, которые легко оценить и в которые верят работодатели. Собственно говоря, это тоже не новость. Это произошло впервые примерно около 107 лет назад, когда в Гарварде появились кейсы. Как вы знаете, гарвардский кейс является как раз формой проектной задачи и имеет очень высокую стоимость. И люди со всего мира гарвардские кейсы покупают, а работодатели с удовольствием берут людей, которые способны гарвардские кейсы решать. А через 100 лет, за счет развития IT, мы сейчас, кажется, подходим к ситуации, когда возможен взрыв этого рынка и появление большого класса задач, подобных гарвардским. Мы знаем, что появились крупные операторы. Если вы хотите получить стандарт на РМР (Project Management Profy), вы берете PM-book. В PM-book есть стандартные пакеты задач, они тоже обладают некоторой стоимостью. Вы их решаете, сдаете экзамен и получаете свой сертификат РМР. И дальше вы обязаны, я не помню, каждый год или через несколько лет, его поддерживать. Три года. То есть каждые три года вы должны еще внести деньги, подтвердить свою квалификацию. Это тоже оффлайновая модель. В онлайне будет происходить быстрее. Стоимость появляется у оценок, и стоимость появляется в огромном количестве у задач. Сейчас поймем, почему.
Что такое протезирование индустриального образования? Когда что-то не работает, вы протез вставляете. В рейтинги попасть никак не можете, тогда говорите: «Давайте мы начнем у себя внутри университета курсы Coursera признавать внутри диплома». От этого сама суть у вас по-прежнему не меняется. Несчастные студенты ходят, вынуждены посещаемость показывать. Будете ходить в аудитории, но параллельно с этим можете Coursera заимствовать. Эффективно ли это? Нет. Особенно когда вы пытаетесь образовательный стартап запихать в большую индустриальную модель образования университета. Это как сидит человек, ему надо стометровку бежать, а у него нога не двигается. А вы спортивный врач, вы к нему подбегаете, у вас шприц, в шприце — допинг. Вы ему «бац!» допинг в ногу, а нога деревянная. То, как сегодня затаскиваются образовательные стартапы в индустриальную модель образования, мне напоминает инъекцию допинга в протез. Ну, конечно, процесс захватывающий, но, по-моему, абсолютно неэффективный.
Теперь смотрите, что произойдет. Так как рынок образования стандартный, такой же, как рынки новых отраслей, мы считаем, что для него будет характерна модель «двойного горба», которая характерна для всех остальных инновационных циклов. Пока исключений не было, мы думаем, что с образованием произойдет то же самое. Это означает, что до 2017 года основные продукты, которые делают на рынке, — это протезы и костыли для индустриальной системы. На основе современного IT — локальный финансовый пузырь. Вы знаете, что деньги в образовании гигантские. Долги американских студентов сегодня превышают один триллион долларов в области образования, и по размерам финансовый пузырь на рынке американского образования уступает только пузырю ипотечного рынка и жилищного строительства. То есть это гигантские деньги, которые, судя по всему, никогда (эти кредиты и займы) не будут отданы. В 2017, 2019 году (в зависимости от разных сценариев) произойдет схлопывание рынка типовых замещающих решений — примерно 80% стартапов и новых раскрученных моделей умрет либо предельно сузится.
Лидеры начнут в момент кризиса инвестировать. Так происходит всегда — те, кто инвестирует на дне, забирают потом весь рынок. В этот момент возникнут новые стандарты. И дальше это будет на уровне уже базовых инфраструктур. Примерно наше желание такое. Но принципиально важно, что индустриальная система в это время никуда не девается, и упаси господи сказать, что школа или вуз куда-то исчезнет. Эти десятилетия никуда не исчезают. Индустриальная система как обеспечение базового уровня нужна еще как минимум 15–20 лет. Пока не будет сформирована эффективная замена. На графике это достаточно хорошо видно. То есть снижение стоимости в новом образовании и увеличение времени. В какой момент оно умеет замещать традиционные решения? Пока не умеет. Уже пытается, но пока не умеет. И самое главное — возврата инвестиций в индустриальную систему не будет. Индустриальные системы национальных государств будут терять качества, таланты будут уезжать к лидерам, государства будут вынуждены поддерживать образование, как социальную систему, а не как образовательную систему. Но как только у них будет возможность от них отказываться, от этих систем, они будут от них отказываться.
Что делать регуляторам сегодня? В индустриальном образовании упадет уровень качества. Инвестировать в лидеров, пытаться строить решения для лишних людей — тех, кого будут вымывать с рынка автоматизации рутинных операций. Например, в России несколько миллионов бухгалтеров, 99% из этих бухгалтеров можно будет болезненно уволить за счет внедрения массовых IТ-решений, все это знают. Бухгалтеров держат по ряду других причин, в том числе исходя из социальной нагрузки. Фактически ведение бухгалтерии является дополнительным налогом на развитие бизнеса в Российской Федерации, при этом довольно серьезным, сравнимым с рядом выплат социального характера. Это делает нашу экономику неэффективной. Как только государство найдет способ относительно безболезненно убрать этот налог, этот налог будет убран. Относительно безболезненно — это значит, чтобы люди не пострадали, а могли переучиться на какие-то другие нужные стране профессии. В новом образовании важно не вмешиваться. И не надо браться государству координировать этот процесс. Государство делает это плохо, коряво и все испортит. Поддерживать образовательные стартапы. Давать плечо, но не инвестировать самим — очень важно. Поддерживать экспорт образования у лидеров этого рынка. То есть сегодня, например, для Австралии рынок образования является третьим по размеру рынком после добывающей промышленности и сельского хозяйства. Собственно вкладывать, инвестировать в рискованные технологии. Смелее это делать.
Понятно, что вокруг всего этого будет большая разборка. Есть игроки «за» — IT-сфера, крупный бизнес, прогрессивные университеты, страны-лидеры, сознательные родители. Есть игроки «против» — они будут играть против этого сценария. Есть те, кто не определился, самые лишние люди — работодатели. Вот примерно сегмент того, что мы видим, будет происходить в системе образования не внутри, а то, что на нее будет влиять снаружи. Мы сейчас не говорим про новую педагогику, хотя она здесь автоматически возникает, исходя из этих принципов. Но вот сферы влияния оказываются примерно такими. Есть основные типы трендов, технологии форматов, угроз, которые будут происходить. Они сгруппированы по нескольким уровням. Внутри каждой карточки есть кейс, то есть описание этого формата, этой технологии.
В ближайшее время мы доделаем с нашими технологическими партнерами (к сожалению, в России это очень долго и сложно) айпад-версию для управления всей этой системой, которая будет позволять вам делать следующее — вы сможете собрать собственную презентацию из тех трендов, технологий или форматов, которые вам нужны. Их здесь около 200 всего, этих карт. Если, например, вы являетесь специалистом по игровым технологиям в образовании, вы выбираете те карточки, которые вам нужны, буквально одним кликом и собираете из них свою историю, которую хотите рассказать, и система вам их сохраняет в формате pdf. Соответственно, вы можете из нее просто строить себе лекцию. Прошли, собрали себе 22 истории, сформировали презентацию, отослали себе на почту этот файл pdf, и все заработало. Система сложная. Это тоже некоторый уровень инженерного решения, требующий некоторого изучения. И мы рассчитываем на вас, как на определенных евангелистов, активистов этой системы образования. Что вы протестируете эту систему, дадите нам обратную связь, показывающую, как она работает, попробуете ее использовать в вашей деятельности. Мы ее соберем, эту обратную связь, доработаем систему. Совсем такой, на одномерного потребителя, она не будет рассчитана никогда — это сложная, серьезная инженерная система, которая требует управления этой сложностью, от этого никуда не деться. Но мы надеемся, что для тех людей, которые управляют образованием и готовы управлять им в новом смысле, который мы предлагаем, она станет понятным и действенным управленческим механизмом. И мы сможем к этой теме постоянно возвращаться и пересобирать таким образом тот форсайт, о котором я вам сказал в самом начале. Форсайт — это не проект и не сессия, это процесс. И мы надеемся, что сегодня вы с нами станете не зрителями лекции, а участник ами этого форсайта. И все следующие этапы мы будем делать уже вместе с вами. Большое спасибо.
Прогноз развития производственных технологий на период до 2030 года
ЛЕКЦИЯ 02 26/01/2014

Последние 13 лет «Центр стратегических разработок» занимается проблемами инновационного развития и технологического прогнозирования. То, что я сегодня буду рассказывать, укладывается в те работы, которые мы выполняли с Министерством промышленности и торговли. Мы провели большой цикл обсуждений с инженерным сообществом страны, опираясь на определенный класс проектировщиков, инженеров и управленцев, связанных с отдельными видами производства. В большей степени мы основывались на том, что называется «дискретное производство» — массовое производство продукции промышленным способом — использующее большой объем промышленных разработок и инженерного труда.
То, о чем я сегодня буду рассказывать, немцы называют «индустриальная социология». Социология, описывающая то, как индустриальные процессы разворачиваются и как они включены в социальную структуру.
Из чего мы исходили, когда запускали соответствующую работу в 2012 году с Минпромторгом? Мы исходили из того, что на сегодняшний момент большинство секторов авиационной индустрии вышли на так называемую технологическую планку. Огромный объем задействованных технологий обеспечивает производительность сложившимся экономическим системам, но кардинального рывка не продуцирует. В связи с этим возникает запрос на так называемые передовые производственные технологии. При этом большинство индустриально развитых стран пережили этап, когда они могли расти за счет быстрого увеличения численности населения. Если помните, то один из первых демографических переходов был связан во всех странах с индустриальной революцией. И с переселением большой массы людей из деревень в города резко падал социальный контроль за поведением молодежи, и это всегда во всех странах (впервые было зафиксировано в Британии) приводило к взрыву роста населения. Рост населения обеспечивал, подпитывал промышленность. Это добавляло рабочие руки, которые приносили добавленную стоимость и рост ВВП. Это обеспечивало экстенсивный рост. Для индустриальных стран эпоха экстенсивного роста закончилась. Не до конца еще исчерпался рост за счет аутсорсинга, но в целом мы уже фиксируем, что решение о переносе бизнеса в другую страну бизнесмены принимают в том случае, если разница между доходом, который они получают в своей стране, и тем доходом, который они получат в другой точке локализации своего производства, превышает 20–25%, может быть, даже 30%. В ситуации, когда эта разница становится меньше 20%, но еще пока больше 15%, предприниматель принимает решение о другой географической локализации. Скажем, с побережья Китая производства могут быть перемещены на внутреннюю территорию Китая. А если разница 15%, то производство возвращается.
В 1990–2000 годы рост шел на определенной технологической базе. Рост шел за счет того, что производство начинало дробиться, и хотя аутсорсинг — не бесспорная стратегия для развития бизнеса — он развивался. В одной исторической точке аутсорсинг был чуть ли не официально «канонизирован» в качестве основной рыночной стратегии. Но к концу 2010 года ситуация сложилась. В начале 2010-х годов уже стало понятно, что нам требуется запуск следующего технологического рывка и вовлечение в экономическое использование того, что обычно мы называем передовыми производственными технологиями или продвинутыми производственными технологиями. Рост должен идти не за счет рабочих рук и не за счет капитала, а за счет использования новых масштабированных инновационных технологических решений.
Что в сложившейся ситуации могло обеспечить такой рост? Революция в проектировании и организации производственных процессов, переход к новым материалам. В общем, другая физика самого производства должна была появиться. И, наконец, революция в инфраструктурах.
Три связанных скачка, которые характеризуют каждый цикл инновационного технологического развития, должны были быть запущены в начале 2010-х годов. Надо при этом еще учитывать разные экономические циклы. Помните о них. Когда те или иные инвестиции были сделаны в промышленное производство. Вы помните, циклы в запасах три года.
Алан Гринспен описывает свою историю, если читали его книжку о том, как он стал председателем Федеральной резервной системы США. Он сидел в обществе металлургов Соединенных Штатов Америки и вел статистику, как копятся запасы. Как только у него происходил разрыв — он видел по статистике, что происходит разрыв с накопленными запасами и используемым металлом, — он приходил к своему руководству и говорил: «Будет кризис». Цикл запасов — три года. Если кто-то сбивает цикл, значит, мы близимся к кризису. Цикл основных фондов, если кто-то инвестирует в основные фонды, он должен это хорошо знать, обычно в традиционных отраслях — 8–10 лет, а в автопроме он чуть больше — 15, 20, 25 лет. И даже иногда доходит — я не буду рассказывать, как и почему автопром нашел возможность продлить цикл использования основных фондов, — до 80 лет. Цикл в недвижимости, стройке — это обычно 20 лет. Через 20 лет, если только это не крупные инфраструктурные процессы, сама по себе недвижимость должна окупаться, и эти инвестиции должны производиться заново. Цикл в сложных инфраструктурах типа энергетики — это лет 60, ну, 40 точно. А 60–80 лет возможно, если это совсем инертная старая индустриальная структура.
С начала 2000-х годов многие циклы сошлись. То есть точка для перехода к следующему этапу технологического цикла сложилась.
Что мы фиксировали в тот момент? Промышленность должна справляться с растущей сложностью технологических процессов, с растущей сложностью продукции, а инструменты, при которых эта промышленность справляется с технологической сложностью, относящиеся в большей степени к проектированию, конструированию и управлению производством, достаточно слабые. Представленная схема построена достаточно известными исследователями, которые были не только учеными, но в большей степени были практиками, внедрявшими в скандинавских странах модульные конструкции, проанализировав при этом опыт «Скании» — грузовики. Смотрите, как растет сложность, как копится в производстве сложность. Взрыв после 1970–1980-х годов во многом связан с тем, что была задействована компьютерная техника, которая позволяла копить сложность технологических процессов не в бумажной документации, не в головах людей, которые этими процессами управляли, а в виде записей числовых и цифровых моделей с использованием компьютеров. Были по-разному использованы разные технологии борьбы с растущей сложностью. А вы знаете, что как только критическую точку сложность переходит — управлять ею становится практически невозможно.
Вот здесь было перепроектирование бизнес-процессов, платформы продуктов, модульные конструкции платформ. И примерно в этой же ситуации стал использоваться аутсорсинг, про который я вам сегодня уже говорил. Когда я не могу управлять сверхсложными процессами внутри производства, я их фактически делегирую вовне: внутреннюю сложность перевожу во внешнюю сложность. Я поручаю заниматься кому-то другому, у меня не должна болеть голова о том, кто купит станки, кто возьмет кредит под стройку следующего цеха, каким образом решатся логистические вопросы — это все будут делать другие участники. Я должен управлять своим базовым процессом, все остальное должен делегировать вовне. Это очень сложная конструкция, но и она была использована для того, чтобы сохранить экономический рост и обеспечивать промышленное развитие. Тем не менее точка, в которой сложность становится почти неуправляемой, — всегда есть. Я в свое время видел похожие схемы, которые построил «Лукойл» при забуривании новых нефтяных полей. Риски были очень велики для них, они решали каждый раз такую сложную задачу по поиску следующих месторождений. Обшивка стоила многих миллионов. Они вовлекали все более совершенные технологические процессы и строили такие же кривые, показывая, каким образом они борются со сложностью. «Эриксон», поскольку продает модульные конструкции, заявил, что в последних модульных конструкциях сложность можно будет сделать управляемой, чуть понизить.
Итак, 1990-е годы. Объем инжиниринга. Объем инжиниринга — это немецкие графики. На 10-й год они оценивали ситуацию, что происходит с инжинирингом во время кризиса. У них был спад в девятом, потом ситуация выправилась. Сейчас объем инжиниринга растет очень оптимистично. Они считают, что объем инжиниринга вырастет, и за счет инжиниринга они вытащат промышленную ситуацию и обеспечат свое производственно-экономическое лидерство в мире.
Итак, рост сложности рынков, ассортимент выпускаемой продукции, а также меры, принятые в промышленности для управления растущей сложностью в этот момент по сути перестали обеспечивать совершенную конкуренцию. Выходили более дешевые производители, выходили в копеисты, те же самые китайцы, и выдавливали вас с вашей выросшей сложностью, с организацией, дорогой рабочей силой. Как говорят наши французские коллеги, раньше был разрыв в пять лет между продукцией, выпущенной нами и китайцами, а сейчас два года. Разница — выигрыш. А что, играть в игру «у кого меньше издержки»? Попробуйте, сожмите издержки во Франции, в социалистической Франции. Попробуйте, сожмите, за счет чего вы будете экономить?
Но то же самое у китайцев. Сейчас они реализуют проект — выделили 10 миллиардов долларов на робототехнику в зоне Гуанчжоу. На строительство роботизированных заводов — 10 миллиардов долларов. Один промышленный робот, чтобы вы понимали, обычный манипулятор, стоит от 30 до 50 тысяч долларов. А тут 10 миллиардов. Это было связано с тем, что выросшая зона агломерации Гуанчжоу — Шеньчжень — Гонконг в целом уже приближалась к 100 миллионам человек. Огромный объем все время зачерпываемых ресурсов в виде мигрантов. Мигранты работают ровно год, потом садятся в поезда или на самолеты и летят на историческую родину. Они вынуждены делать огромный, длинный Новый год, чтобы вся эта масса людей выехала. Люди, которые выезжают, приезжают на свою родину и решают не возвращаться на производство, где они целый год батрачили. Катастрофа. Фактически фабрики на следующий год вынуждены нанимать новых людей, учить их, готовить производство, обеспечивать контроль качества и так далее. Катастрофа. Промышленность столкнулась с чрезвычайно сложной проблемой, решить которую было очень тяжело.
Второе обстоятельство, которое проявилось в 2010-е годы. При существующей ресурсной базе дальше производить практически нереально. Есть такая знаменитая фраза, приписываемая одному из ведущих современных экономистов. Он говорит, что в бесконечное развитие мира верят только две категории людей: это сумасшедшие и экономисты, потому что ресурсное ограничение очевидно. Если сохраняется производственная база, то ресурсное ограничение очевидно. В начале 2000-х годов стали понятны ограничения по нефти. И все графики, которые публикуют, показывают, что 15% извлекли, а 85% не изучено, что мы открываем новые месторождения. Каждое открытое месторождение хуже, чем те, которые были открыты. Каждый извлеченный баррель дороже, чем тот, который не был извлечен. Мы можем вложиться в технологии — гидроразрыв и все, что с ним связано. Это, конечно, большой рывок вперед, но самое доступное и дешевое мы уже добыли. Можем продлить еще на 10 лет, еще на 20 лет, но в целом даже самые большие технооптимисты говорят: «Ну, 2050–2070-е… Еще после этого 10 лет мы будем добычу производить, еще 10 лет мы будем удерживать определенный объем добычи, потом катастрофическое падение». И те, кто занимается нефтью, они так сценарий строят. Они смотрят, успеют подготовиться или не успеют. Не успеют подготовиться — катастрофа. Особенность заключается в том, что пик добычи — это как смерть сорокалетнего мужчины, особенно спортсмена. Сами знаете, как умирают сорокалетние спортсмены. У него сердце тренированное, кажется, он бежит без усталости. Он бежит 20 метров — это называется «синдром пустого бензобака», — он бежит без усталости, и в этот момент у него, бац, а бензин-то в баке кончился, и он тут же умирает во время бега, этот тренированный спортсмен со своими хрустящими мышцами в 45 лет.
Такое же свинство у нас по углю. Нам всегда говорят, что ресурсов бесконечно много. Уголь — не нефть, он-то всегда доступен будет, и на многие столетия вперед.

Это, наверное, правда, если считать в целом по планете. Свинство заключается в следующем: уголь — старый ресурс, хорошо разведанный. Нефть можно найти и обрадоваться нежданной находке, как обрадовались бразильцы. С углем как-то сложнее. Уголь доступный. Когда я еще учился, те, кто учил меня экономике, говорили, что уголь — всегда локальный ресурс, его нельзя возить на далекое расстояние. Сейчас возят, но, тем не менее, говорили, что уголь — локальный ресурс. И в этом смысле он должен быть близок к основным центрам производства.
Пики добычи угля по Китаю, который в год перемалывать должен пять миллиардов тонн угля… Вдумайтесь, пять миллиардов тонн угля. Какие железные дороги должны быть, какие порты должны быть, чтобы это все принять? Пик добычи угля, доступного, дешевого и качественного. был в районе 1930-х годов. Нет, в России угля много. Мы с Америкой — одни из стран, которых эти ресурсы обеспечат на столетия вперед. Только нужен уголь будет в Китае. В этом смысле при существующих видах производства многие ресурсы посчитаны. Аналогичная ситуация по целому комплексу ресурсных источников. Соответствующие доклады были опубликованы в США, в Европе, построены схемы в начале 2000-х годов по обеспеченности ресурсами. Вычленены ключевые, с точки зрения этих стран, ресурсы, необходимые для промышленного развития. Если вы читали доклады разного рода аналитических агентств — самый популярный вид докладов в 2000-е годы, все консалтинговые агентства первого десятка на этом отметились, — они говорят о том, что происходит политизация основных ресурсов. Они переходят в зону ведения национальных компаний. Для развитых стран они будут доступны ограниченно или не будут доступны совсем. Ну, помните истерику, которая была в мире, связанную с тем, что Китай ограничил поставку на внешний рынок редкоземельных металлов. Даже мы оживились и сказали, что у нас есть свои месторождения редкоземельных металлов, и мы сейчас постараемся их использовать.
Итак, первое — у нас фактически организационный задел исчерпан. При неизменных производственных технологиях у нас есть проблемы большие с экономическим ростом, мы попадаем в зону конкуренции по издержкам, это в общем будет. Второе — при существующей технологической промышленной базе мы имеем сильное ограничение по ресурсам. И все разговоры, которые сейчас ведутся по поводу того, что этих ресурсов много или «нашли же сланцевый газ» и прочее, — это разговоры для бедных, как те разговоры начала 2000-х, которые гнали производители нефти, рассказывая, что нефть закончится не в 2050 или 2070 году, как подозревали, а прямо закончится. Пик будет пройден в 2015 или 2020 году. Сейчас они вокруг бегают и кричат: «Да ладно, ну что вы? Мы просто попугать вас хотели, ну покупайте нашу нефть, не переходите на электромобили! Что ж вы глупости-то делаете? Нефть-то хорошая. На бензине ездить приятно». Третья ситуация, с которой мы сталкиваемся в 2000-е годы, — это понимание того, что под каждой структурой лежит инфраструктура. Под каждой экономикой лежит пакет инфраструктур. Для того чтобы мы прокачали все производственные активы, обеспечили связность этой экономики, мы должны выстроить определенный тип инфраструктур. Пока экономики были замкнуты в национальных масштабах, были во многом защищены национальным регулированием, централизованные, унаследованные от 1960–1970-х годов инфраструктуры были хороши. Ну, начали приватизировать железные дороги, потому что этап государственных инвестиций в 1960–1970-х прошел, — надо было обеспечить конкуренцию и как-то оживить существующую, так некоторые страны начали приватизировать железные дороги. Примерно 100 стран по британскому образцу разделили по видам деятельности и начали либерализовывать рынок электроэнергии. Мы в их числе, мы в эту сотню стран попали. Но что оказалась? Что есть одна особенность: разбитые на части централизованные инфраструктуры, сформированные как единый инженерный механизм, плохо управляются. Конкуренция совершенно не получается. А закачать в них деньги, как закачивали в 1960–1970-е годы все страны (не только социалистический лагерь, но и тот, который мы называем капиталистическим), из бюджета невозможно. Мы же схему управления поменяли, собственность поменяли. Выход только один: допустить нового инвестора, но не в старой идеологии централизованных инфраструктур. Встал вопрос, как сделать децентрализованные инфраструктуры, допустив в них новые инвестиции.
Вот исследования Berkley Lab (национальная лаборатория Министерства энергетики США в Беркли, штат Калифорния) о том, как строились инфраструктуры в энергетике. Например, Вестингауз и Эдисон. Каждый свою систему энергетическую растягивает по городам, на разных основаниях, но потом задача оставалась только одна — довести эту энергосистему до того, чтобы она охватила большой ареал, города. Отсюда появляется потом понятие публичных монополий. В какой-то момент города столкнулись. Если вы видели старые американские фотографии или старые американские дома, которые еще стоят на улицах, на старых американских фотографиях огромное количество проводов, почти навес над улицей. Потому что многие пытались поставить свою инфраструктурную услугу и протягивали это по пространству улицы. А на фронтонах многих очень красивых зданий была отведена специальная полоса, по которой эти провода опоясывали это здание. В общем, украшали их, потому что тянулись каждым производителем. В какой-то момент городам надоело, они сказали: «Нет, это зона публичной монополии. Только через нас, только по нашему разрешению», и централизовали все эти инфраструктуры.
С начала 1900-х вплоть до 1960-х годов это централизованная национальная инфраструктура. В некоторых государствах это «сшито» было достаточно хорошо еще в 1930-е годы, в некоторых государствах сшивается до сих пор. Ну, например, есть особенности у самих американцев, поскольку у них по штатам идет деление, а штаты имеют высокую степень независимости. Сейчас энергосистемы, будучи относительно сбалансированными и связанными, в то же время не охватывают всю страну в целом.
Вот что рисует Berkley Lab. Если мы хотим привлечь новые капиталы, если мы хотим делать более гибкие инфраструктуры, способные реагировать на экономические флуктуации, — бизнес приходит на одно место, потом снимается, уходит, бросает нас с вырытыми траншеями, подстанциями. Забавно, как сейчас российские энергетики друг другу глаза выкалывают, потому что постоянно находятся подстанции, которые не загружены. Кто-то это придумывал, кто-то лоббировал процесс стройки. Потом спрашивают: «Кто придумал это свинство?». Потому что есть закрытые инвестиции, их надо обслуживать, а они не работают, и ничем загрузить это невозможно. Катастрофой будет, если мы сейчас потеряем алюминиевую промышленность, потому что мы были вынуждены субсидировать, делать льготные тарифы на электроэнергетику, потому что надо было что-то делать с ГЭС, построенными в Сибири, обеспечить им нагрузку. Это почти невозможное дело. Так вот, чтобы это не произошло, мы должны подойти под другие инфраструктуры, способные реагировать на стохастический спрос. Хорошо было в Советском Союзе: все планово и заранее известно. Плохо в Российской Федерации: кто же знает, что эти люди произвольно включают телевизор, когда идет, например, еврокубок. Ну, кто знал, что наша команда попадет в еврокубок? Все в одно время. В точку времени, когда никакой промышленной нагрузки уже не должно быть, нагрузка не планируется, а не дай бог — свинство, что это попадет на рабочее время. Потому что кто же знал, что этот кубок мира, чемпионат мира будет проведен в стране с таким разрывом в часовых поясах и попадет точно в точку в зоне наивысшего потребления. Что делать с этими инфраструктурами? Жесткие инфраструктуры не способны реагировать на либерализированный стохастический рынок. Как только было принято решение, что инфраструктуры в стране надо делать более локальными, похожими на сотовую связь, смарт-гриды, на умную сеть, то тут же встал вопрос — в какой конфигурации, поскольку это разные деньги, из разных источников собранные и по-разному вложенные.
Первый вариант — мы собираем инфраструктуру по принципу «включил и забыл». Какой гибкости интерфейс должен быть сделан, чтобы «включил и забыл». Вот, например, в АСИ есть вайфай. Я вошел сюда, включил и забыл. Если мы, сто человек, сейчас войдем, какой мощности резервирования должна быть система, чтобы она потянула. И еще, не дай бог, кто-нибудь из нас вставит наушник и будет смотреть фильм какой-то, хорошее потоковое видео или как-то повиснет на узле вайфая, и ничего сделать с этим невозможно. Мы не в социалистической плановой экономике.
Здесь я вынужден провести с вами не очень дружественную операцию: я должен буду рассказать вам о зубодробительной, с моей точки зрения, по сложности вещи. Зубодробительной не в том отношении, что ее не знают системные инженеры или инженеры-архитекторы, они ее, конечно, знают. Но для человека неподготовленного ситуация чрезвычайная. Даже мы, когда занимаемся индустриальной социологией, встречаемся с огромным количеством людей. В целом за последние три года я могу сказать, что мы посетили все ключевые точки, за исключением США, где так или иначе идет развитие передовых промышленных технологий и обеспечивается этот самый технический прогресс. Даже для нас в общем ситуация для понимания очень сложная. Во многом, кстати, объяснение я вижу в том, что за период последних 20 с лишним лет мы потеряли в значительной степени те самые дискретные производства.
Есть три обстоятельства, с которыми мы (жители и члены индустриального общества или общества индустриального потребления, потребления индустриальных продуктов) столкнемся или столкнулись сейчас, когда понимаем, что надо поменять организацию производства, надо сменить технологическую базу, надо выйти на новые материалы и все это еще посадить на новую инфраструктуру.
Первая проблема — большое количество и сложность, возникающая в проектировании. Как это спроектировать? В 1970-х годах инженерные сообщества большинства индустриально развитых стран провели дебаты по одному вопросу. Дизайн — как узкое горлышко. Соответствующий термин есть в немецком языке. Проектирование как узкое место, как горлышко бутылки. Проблема заключалась в том, что они увеличивали объем занятых в проектировании, в расчетах, в технологической привязке инженеров. Те выполняли работу, которая дробилась на узкие части, в общем не очень интересные и осмысленные. Люди вынуждены были выполнять большой объем расчетов почти механически. При этом конструкция определялась интуицией генерального конструктора. А если он ошибется? Я работал с точкой, где располагается один из лидеров аэрокосмического комплекса Российской Федерации. Без всяких дураков и ограничений, без всяких кавычек — один из лидеров в мире по технологическому развитию, уровню подготовки кадров, проектированию и так далее. Но они все время рассказывают ту же историю, как интуиция генерального конструктора создала конструкцию, которая до сих пор летает. Нам постоянно рассказывают истории о том, что 100 двигателей, не порезанных замечательным генеральным конструктором, лежали на складах, потом были извлечены… Через 30 лет с них сдули пыль, достали со склада, продали американцам, и сейчас доставка грузов на орбиту осуществляется на этих двигателях. Генеральный конструктор проявил гениальную интуицию. 30 лет они валялись на складах. Он, конечно, имел гениальную интуицию, но 30 лет, 100 двигателей… Серию бы произвели. Загрузили на склад… В экономике, которая считает деньги, это недопустимо.
Второе обстоятельство — каков должен быть объем инжинирингового труда и какова гибкость производства, когда мы вступили в эпоху так называемых кастомизированных продуктов. Продуктов, производимых по заказу. А самое удивительное, что при соучастии в проектировании потребителя. Каков объем проектирования фактически был «засажен» — вот это узкое горлышко. А не производить кастомизированные продукты — все время китайцы у ворот. Если вы производите не кастомизированные продукты — у вас все время китайцы у ворот, потому что, с точки зрения массового производства, они все копируют. Это знаменитая история о том, как «Хонда» вошла в Китай и стала размещать мотоциклетные заводы. В какой-то момент китайцы стали выкатывать такую же «Хонду». Сначала они выкатили через восемь месяцев, потом сократили до трех. Шок был у «Фольксвагена», потому что «Фольксваген» считал, что мотоциклы-то — ерунда, а автомобили попробуйте скопировать. Шок был у «Фольксвагена», когда китайцы через восемь месяцев выкатили модель.
Это то, что называется реверсивный инжиниринг. Обратным ходом вы разматываете принцип конструкции, создаете соответствующее изделие у себя. Китайцы это открыли, когда реализовывали советскую программу помощи. Я не помню, как она называлась, «проект 998» или что-то такое. Это был проект строительства Советским Союзом промышленной базы в Китае. Было несколько таких проектов, был еще проект сотрудничества научных исследовательских учреждений, 400 с чем-то было таких проектов, поэтому он назывался «проект 400» какой-то. Китайцы открыли эту историю, когда они стали брать советскую документацию. В момент строительства завода показывалось, что документация не обеспечивает запуск производственного процесса, потому что многое не написано в чертежах, они начинали их исправлять, и в конечном итоге у них выходил завод намного лучше, чем советский. То же самое они сделали при каких-то обстоятельствах, мы можем их ругать сколько угодно, но они сделали реверсивный инжиниринг — это путь к тому, чтобы вы освоили и зацепили принцип производства. И часто тот, кто занимается этим копированием, он не просто копирует, он все же развивает продукт, поэтому экономисты придумали замечательное слово для того, чтобы обозначить это все: эмуляция. Я эмулирую чужой опыт. Тот, кто в своей жизни что-то производит, тот, кто даже оказывает услуги, он знает, что либо это систематически поставлено в виде бенчмаркинга, либо происходит не систематически, но мы всегда эмулируем самые передовые производства. Эмулируем, воспроизводим, обратным ходом через реверсивный инжиниринг достаем его, разбираем и делаем.
Дальше они смогут сделать, не только скопировать, но и улучшить. Дмитрия Пескова сегодня нет, а вот я ему однажды рассказал историю из центрального института металлургии в Китае, где нас встретил отвечающий за международные связи вице-президент. Он рассказал, как в 1999 году они начали реформу, которую сейчас наша Академия наук пытается провести, начали реформировать эти институты. И он нахально, с гордостью показал все, что делается в Российской Федерации, назвал имена людей или предприятия, которые делают это в Российской Федерации, и сказал, что делается сегодня у них. А вот про какой-то там сплав он сказал, что это чудесный материал, сделал какой-то профессор из Москвы, а почему он получает его в таких маленьких объемах — непонятно, потому что в Китае его 42 тонны получили в прошлом году. И я, вернувшись, тут же рассказал Дмитрию Пескову эту историю. Он оживился: «Да, да. Мы этого профессора в прошлом году свозили на какую-то конференцию. Он выступил с презентацией, он не передал документацию, он рассказал, в чем смысл их работы». Через год китайцы это все произвели. И у нашего профессора были серьезные проблемы, потому что его приходилось спасать. Песков в этой операции спасения принял некоторое участие, доказывая, что ничего не было передано. Смысл заключается в том, что все, что задумано и сделано человеком, может быть задумано и сделано другим.
Вопрос в организации процесса. Есть знаменитая схема Оттербека, которая показывает, как строится инновационный технологический процесс. По вертикали — число компаний, по горизонтали — время. Внизу вертикали — инноваторы, выше — изобретатели, еще выше — ранние последователи, наверху — поздние последователи. В определенный момент процесс проходит точку перегиба, или «точку дизайна». Отсюда начинается сокращение количества участников. При заданных ресурсах, при стабильной технологии этот путь неизбежен. В какой-то момент происходит консолидация.
Первый признак того, что рынки стали стационарные, превратились в войну пузатых мужиков, которые животами объемными толкают друг друга, — это то, что развитие из области технологического перешло в «точку дизайна». В начале процесса важность имеет R&D, а потом — оптимизация и рационализация. Схема Оттербека была бы верна во всех случаях, но потом Оттербек, вспоминая то, что сделали «азиатские драконы», вынужден был нарисовать еще одну кривую. Она показывает путь так называемых оптимизаторов. Они выходят на рынок в ситуации, когда вы уже все разработали, вы уже все сделали, вы много чего понастроили и организовали, при этом груз организационный на вас висит. Если при этом оптимизатор знает, что какие-то ресурсы ему доступны и они дешевле, он может в определенный момент выйти на рынок. Единственное требование, когда выходят оптимизаторы — это масштаб, он должен быть большой, и они могут снести старых чемпионов.
Я хотел потом еще вернуться к модульной конструкции, но попозже, наверное, это уже сделаю. Пока считаю, что вот этого объяснения из ссылки на схему Оттербека должно быть достаточно. Итак, изобретатели — это те, кто жрут ресурсы и, как правило, живут на всякого рода странные деньги. Инноваторы — часть из них — реализуют все это на деньги дураков и государства. Ну, может быть, уже какие-то другие деньги. Как говорится, если вы хотите уничтожить деньги, сделайте из них венчурный фонд и отдайте кому-нибудь в стартап. Ранние последователи — это уже те, кто входит в фазу коммерциализации. Здесь уже в поздних последователях — масштабирование и коммерциализация, а здесь — консолидация рынка. Зона, когда рынок становится инертным, показывает очень тяжелый вход на рынок, высокий барьер снести могут только те, кто в больших масштабах будет работать.
Говорят, что эту технологию открыли вовсе не китайцы и японцы. За ними внимательно следили корейцы, у корейцев была специальная программа изучения японского опыта промышленно-технологического развития. Они поставили то, что называется «технологическая разведка». Не в смысле воровство, а в смысле технологическая разведка как упреждение и оповещение о том, что такие разработки ведутся. И они собрали схему, по которой выводить на рынок нужно даже не продукт, а целую сборку из больших компаний, ключевой для них способ взлома западного рынка.
Самая знаменитая история относится к 1970-м годам, когда Япония и США заключили соглашение по рынку чипов. Они считали, что японцы копировали и догоняли американцев, американцы считали, что это их разработки. Были дипломатические войны, чуть ли не «развод и девичья фамилия» в отношениях. В конечном итоге они договорились, подписали соглашение, разделили рынок, зоны компетенций и сочли, что они в этой зоне оптимизации. И тут на рынок вышел «Самсунг» и провалил его. Он сделал все по цене песка. Японцы с американцами, которые считали, что они имели этот рынок, они просто посыпались. «Самсунг» при этом двигался по ступенькам. Сначала выпустил массовую самую дешевую продукцию, затем среднеценовую, а потом пошел и в дорогие сегменты. И все, корейцы были там.
Китайцы запускали свою программу в 1978 году. Китай помнит голод, когда умерло больше 20 миллионов человек, умерли от голода, представьте себе. Это живая история. Когда культурная революция уничтожила интеллигенцию, Дэн Сяопин отправляет делегацию в Европу. Это были годы, когда китайцы больше всего ездили в Европу. Есть отчеты этих делегаций, они оценивают технологическое развитие, оценивают возможности этой операции, оценивают их как очень благоприятные и говорят, что если мы введем в политику реформы открытости, то мы зачеркнем все эти технологии. В ссылках этих документов есть оценка, сколько технологий забрал Советский Союз таким образом в 1930–1950-е годы. Подсчитано до одной технологии. В конце там 3357 технологий, то есть до единицы посчитано, сколько, когда и каких технологий забрал с Запада Советский Союз. Китайцы ведут дебаты многомесячные на уровне высшего политического руководства, обсуждают все эти отчеты, сводят их и принимают решение: международная кооперация, политика реформ открытости, создание свободных экономических зон. Чуть позже они открыли свободные торговые зоны в портах, а потом пробили несколько коридоров по долинам рек, расширяя это все. И решение: они создают режим эксперимента, если эксперимент в этих зонах оправдывается, они распространяют режим на всю страну. Прямая кооперация — они создают толлинговые зоны, фактически поставляют людей и по западным технологиям все производят. Прорыв происходит тогда, когда они смогли законтрактовать «Фольксваген». Когда к ним пришел «Фольксваген» в Шанхай, Китай начал осваивать очень быстро и забирать эту технологию. Впрочем, это предмет другого разговора про реверсивный инжиниринг. Я не хотел его затевать, но вы меня в него втащили, и я с радостью поддался, потому что я испытываю некоторое смущение перед переходом к сложной тематике.
Третье обстоятельство, с которым мы имеем дело сейчас, — точность и скорость. Мы должны повысить скорость и гибкость проектирования так, чтобы обслуживать этот колеблющийся, быстро меняющийся рынок. Какой пример привести? Я приведу хрестоматийный пример с фирмой «Зара», когда они сидят и отслеживают на всех показах мод модели. И у них есть требование — через две недели модель должна быть во всех магазинах. Они не знают ткань, они не знают цвет, они не знают фурнитуру. Если бы у них были мощности, способные за две недели ткань, цвет, материал, фурнитуру, раскрой обеспечить, они бы были молодцы. Они все время держат открытыми 300 производственных линий. Не загруженными, открытыми. У них отработана система работы с 300 поставщиками. И логистически при любой комбинации они смогут сделать любую производственную схему. Представьте себе, какова должна быть скорость и управленческого, и инженерного труда, чтобы это все сделать, чтобы это все сложилось.
И с чем мы еще сталкиваемся — станки с числовым программным управлением, высокопроизводительные производственные комплексы, роботы не могут управляться человеком непосредственно. Только цифровое управление. Непосредственно человек не способен реагировать на скорость производственных процессов. Человек не способен реагировать на точность выполняемых производственных операций. Соответственно, что происходит? Запускается процесс реинжиниринга. В 1960–1970-е годы они обсуждают дизайн и проектирование как узкое горлышко. Решают — это были специальные решения, в дискуссии участвовали тысячи инженеров по всей стране — оптимизировать и изменить характер проектирования, автоматизировать и повысить его интеллектуальную емкость, используют для этого компьютерную технику и возможности, которые она представляет, чтобы обеспечить шаблонное проектирование сложных технологических изделий. Добившись выгрузки из компьютеров одних и тех же моделей и производимой продукции, одних и тех же моделей производственной деятельности, они решили было разделить эту деятельность по разным производителям, осуществить ее передачу на сторону, в том числе и через аутсорсинг. Обеспечить связку через логистику, потом выйти на направление жизненным циклом — компьютерная техника все это позволяет. Собственно говоря, получить новую экономику. Исходная точка — дискуссия 1960–1970-х годов. Прорыв наступает в тот момент, когда на рынок выходят сначала рабочие станции, а потом персональные компьютеры. Движение идет по наращиванию объема компьютерных программ, обеспечивающих скорость, точность, воспроизводимость, архивирование знаний — высокую производительность.
Было еще одно решение, которое я тоже считаю ключевым. Это переход к модульным конструкциям. Когда фактически компонент привязывается к функции. Одна функция — один компонент изделия. Архитектура изделия разрабатывается таким образом, что через стандартный интерфейс все эти компоненты собираются в целостное изделие. В момент, когда передо мной возникает задача инсталлировать эту функцию в другое изделие, я беру готовый модуль. Модульная конструкция обеспечивала экономию человеческого труда, поскольку её не требовалось проверять после этого заново, сертификацию производить. Вот сейчас американцы обсуждают, перейдут ли они с сертификационной системы на европейскую.
Европейская система построена следующим образом: если я сертифицировал отдельный элемент, потом я должен сертифицировать только одно изделие. Это делается на основании компьютерных расчетов. У американцев экспертные расчеты. Эта система все равно лучше нашей. И американцы признают, что если они дверь поставили на один «Боинг», на другом «Боинге» они могут ее не испытывать, она уже проверена. То есть мы системы сертификации продукции после этого сжимаем с многолетних сложных испытаний до относительно простых кратковременных и дешевых.
Что произошло в этот момент? Интеллектуализация производства, автоматизация производства. В основании лежит компьютерная технология. Ключевой выигрыш в том, что у меня развивается компьютерный инжиниринг, обеспечивающий управление сложной техникой на скоростях, превышающих реакцию человека. И за пределами интуиции генерального конструктора.
Я покажу вам, как по годам движутся те или иные отрасли к переходу на модульные конструкции. При этом делается открытая архитектура, закрытая архитектура. Разница заключается в том, что при открытой архитектуре я могу использовать любой модуль при сборке того или иного изделия, лишь бы интерфейс это позволял и все соответствовало стандартам. При закрытой архитектуре у меня модули связаны с остальным видом выпускаемой продукции или же с конкретным продуктом. И интегрированная архитектура. Когда мы делаем не по модулям — у меня разные элементы могут выполнять разные функции. И модульная архитектура, когда компонент привязан к функции.
Вот зона эффективного аутсорсинга, когда я могу из этих модулей собрать, распределив производство модулей между разными производителями, общую конструкцию. Так движется авиапром сейчас, а автопром начал движение в 1990-е годы. Но он еще не близок к открытой модульной архитектуре, движется в этом направлении. И на базе одной платформы собираются разные машины. И, кстати, когда дебатировался вопрос, кто приведет своих поставщиков компонентов в Санкт-Петербург, часть поставщиков компонентов обслуживает все заводы, работающие в Санкт-Петербурге, поставляя одну и ту же деталь, один и тот же модуль. Помните эту историю, когда цунами обрушилось на Японию и все автомобильные заводы мира встали в какой-то момент, потому что оказалось, что японцы частью модулей обеспечивали все марки автомобилей в мире.
Вот мотоциклы уже давно ушли в открытую модульную архитектуру. И тот, кто покупал или покупает современный мотоцикл, он знает, что покупает конструктор. Когда он кастомизированно участвует в проектировании, ему часто разные модули добрасывают от разных производителей. У меня дети так скейтборд собирают, он весь от разных производителей.
Это то, как устроено программное обеспечение автоматизированного и интеллектуализированного проектирования. Группы программ, которые обеспечивают объемное проектирование, твердотельное моделирование, управление производственным процессом, движение денег, привязанное к выполняемым задачам, и так далее. И обеспечивают все это в режиме общего жизненного цикла. Они примерно так и достраиваются. А вот как они выглядят в зависимости от того, на какой стадии производственного процесса занято это компьютерное моделирование и программирование. У нас идет концептуальный дизайн. У нас идет рабочая документация вплоть до детального дизайна, производства и развития продукта. И здесь, соответственно, должна быть утилизация происходящего. А верх — это уровень абстракции. Что сейчас происходит? Компьютерные вещи, которые обычно в трехслойке — конструирование, расчет, технологическая привязка и технологические карты — ползут в зону концептуального проектирования. Часто, например, здесь помечают, что фактически уже нашу систему ТРИЗ, в которой пока еще хранится теория решения изобретательских задач, которая пока еще хранится в головах последователей Альтшуллера, те, кто делает сейчас компьютерные программы, интегрирует как часть своих пакетов, продаваемых покупателям. Если вы купили определенную базу, оказывается, мощностей достаточно. Помните, я вам показывал модульную архитектуру, которая обеспечивает верифицированный отклик или квалификацию любого компонента. Используя эти инжиниринговые инструменты, расчетные инструменты, вы можете выйти в зону концептуального проектирования. И, соответственно, то же самое здесь: само проектирование растет, стадия производства растет, с точки зрения того, какой блок задач решается проектировщиком.
Рынок поставщиков и потребителей. Могу сказать, что у Российской Федерации практически ни одного поставщика. Есть несколько компаний, которые поставляют отдельного рода программы. Интегрированные проектные программы — нет. Большая часть разработчиков остановила свои работы в конце 1990-х годов, когда поняла, что проигранный рынок вступил уже в фазу зрелости и наши разработчики проигрывают ключевым компаниям на этом рынке. Но для нас в этом нет никакой трагедии, не только мы это покупаем, покупают практически все страны мира. Вопрос — когда, в каких объемах и кто сделает нам переход на цифровое проектирование, а потом на цифровое управление производственными процессами.
Если брать такие символические моменты, я могу сказать следующее: 1979 год, «Боинг» принимает решение о разработке своей программной платформы для цифрового проектирования и потом управления производством на базе цифровых моделей. Тогда же, в 1979-м году, он составляет альянс с «Дженерал электрик» и рядом других крупных американских компаний, с американским институтом стандартов, продавливает сначала внутренний, а потом и международный стандарт цифрового проектирования. Это первая точка отсечки, после этого за «Боингом» побежали все производители сложной техники. Был период, когда они начали разрабатывать свои программы. Потом «Боинг» в какой-то момент понимает, что он сам не может обеспечить мощь и масштабность разработки. Ему требуется более подвижные программы. Он останавливает свои разработки, переходит на разработки Dassault systemes, своих конкурентов французских. При этом говорит, что это будет одна программа всех автопроизводителей, всех производителей авиационной техники. Все производители любой сложной техники мгновенно реагируют на произошедшее, бросают это раздробленное программное обеспечение и выходят на единую интегрированную платформу. И в 1990–1995-е годы выкатывается модель «777». Это первый самолет, разработанный в безбумажном варианте. То есть выгрузки бумажных чертежей не производилось, 3D-модель. А 6D-модель, или мультиуровневая модель, — это когда проектируются не только объемные и функциональные характеристики изделия, но и проектируются деньги и вся деятельность по изготовлению вплоть до утилизации этого изделия. Она сразу вшита в проект. Например, «Росатом» у нас сейчас перешел (там есть лидер — Нижегородская АЭС) к такому проектированию.
История лежит в финнах. Финны в какой-то момент, когда замучились со стройкой, которую у них вели французы, объявили, что следующие заказы на строительство энергоблоков они разместят только у тех, кто обеспечит выгрузку всей документации к началу строительства в 6D-формате, спроектирует весь жизненный цикл, компьютерную модель. Особенность этой модели заключается в том, что она не является неизменной в течение всей стройки или всего производственного процесса, но автоматически, когда вы вводите новые параметры, ее можно пересчитать, избегая огромного объема внутренних согласований, ошибок, выверения.
Итак, первый шаг — это уход в интеллектуальное и автоматизированное производство. База — это компьютерная инженерия. Второй шаг — это выход в новые материалы. При заданных материалах — все конструкции известны. Выигрыш будет минимален. В основном выигрыш будет за счет маркетинга и рыночной организации. При новых материалах у вас есть шансы осуществить выигрыш в производстве в технологическом развитии.
Ход заключается в том, что цифровое проектирование стало осуществляться не на микроуровне, а на наноуровне. Начали проектироваться материалы вплоть до толщины в несколько атомов. И ситуация пошла таким образом, что если раньше в проектировании, а потом и в производстве, не участвовали проектировщики или дизайнеры, механики, те, кто осуществляет механическую обработку материала, химики, то теперь… Само проектирование новых материалов поменялось. Никому не нужен материал сам по себе, чтобы я потом думал, как я его буду использовать. Какую конструкцию, геометрию заложу, какие прочностные характеристики он мне обеспечит, как я могу его чем-то заменить. Проектирование осуществляется сразу на нано-, мезо-, макроуровнях. Проектируется сразу конструкция, сразу крыло. Мне не нужен композиционный материал, мне нужно крыло из композитов, отличающееся другими характеристиками. Это сравнение удельной прочности сплавов, металлов и композитов. То есть композиты дали мне, например, другой выход, но мне не нужно, чтобы я сам взвесил килограмм или растянул при испытании и порвал какой-то кусок этого материала. Мне нужна конструкция из композитного материала. Она может обеспечить мне выигрыш по цене, деньгам, использованию. Если я жизненный цикл просчитаю и утилизацию включу туда по жизненному циклу эксплуатации всего изделия. Собственно говоря, сдвижка, которая происходит сейчас, 97% роста технологического в большинстве отраслей, которые мы относим к промышленности, обеспечивается не только за счет того, что меняется технология обработки. В первую очередь за счет того, что внедряются другие материалы. После этого я могу сказать, что это проблема, потому что производитель оборудования говорит, что сверлить нельзя так, как ты сверлил металл, требуются специальные методы обработки. Ну, например, те, кто всю жизнь занимался сваркой, вынуждены склеивать конструкции.

Мы сейчас живем в эпоху смены физической, материальной основы производства. Кстати, я могу сказать, как забавно учат дизайнеров в связи с этим. Дизайнеров, работающих отнюдь не с самыми сложными вещами. Не дизайнеров в смысле проектировщиков, а дизайнеров в смысле художественного функционального проектирования. Их учат уже технологиям, раздаются материалы, а потом просят принести новый материал. Призы, которые сейчас вручаются за новые материалы на международных конкурсах, регулярно достаются дизайнерам, потому что они начинают делать многофункциональные материалы. Сложные материалы, с запакованными функциями материалы. Материалы, которые обеспечивают особое поведение в тех или иных условиях.
Конструкция выходит как сублимированный продукт. Потом, чтобы его поставить на место, конструкцию вставляют в сложный геометрический объем, заполняют водой. Конструкция разбухает и приобретает определенную геометрическую форму, выполняя свою функцию в изделии. Спроектированный материа в сублимированном виде вообще не напоминает ничего ни объемно, ни функционально то, что будет из него получено при небольшой обработке.
Третья сдвижка, которая происходит прямо на наших глазах. Итак, первая сдвижка — движение в сторону киберсредств, на цифровые объекты, оперирование цифровыми объектами, перевод цифровых объектов в производственные процессы. Второе — выход цифровых материалов. Когда у нас моделирование начинается с самого материала, и он уже моделируется как часть конструкции. Моделируется конструкция, имеющая внутреннюю развертку вплоть до атома, а не материал.
И третье — мы получили эти цифровые объекты, что нам осталось сделать? Мы получили программы, описывающие жизненный цикл поведения того или иного изделия, что нам осталось сделать? Логично перемкнуть это в рамках единых сред и инфраструктур. Если мы знаем, как оно себя ведет, если у нас есть цифровые модели, мы гипотетически можем составить программы, как эти цифровые модели между собой стыкуются, сцепляются и как они себя ведут. И здесь у нас происходит выход так называемой инфраструктуры следующего поколения. Цифровые среды. Это огромный объем разного рода механизмов связывания цифрового и материального объектов. Задача нетривиальная. Задача для философов. Как связать цифровой объект — модель-то мы его получили — и реальный объект, который в физике ведет себя совсем по-другому, насколько должен быть зазор между цифровой моделью и реальной моделью.
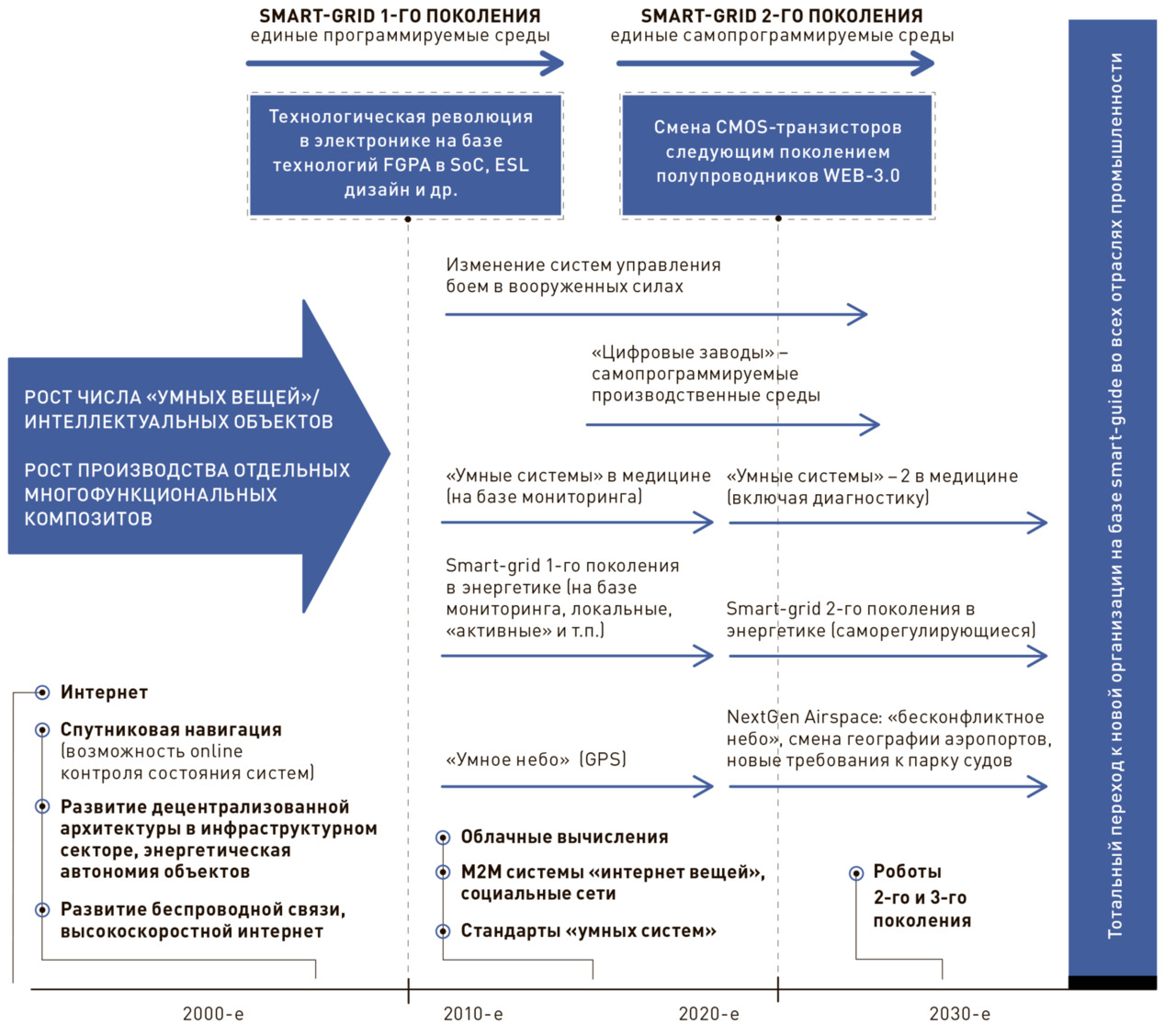
Вот Алексей Иванович Боровков, который в питерском Политехе считает краш-тесты для крупнейших автопроизводителей мира и все время гордится, что у него количество посчитанных краш-тестов растет и он обслуживает практически всех, кроме корейцев, производителей, говорит следующим образом: если разбивается автомобиль на краш-тесте реальном и разбивается по компьютерному мультфильму, построенному на основе его матмодели, и человеческий глаз не замечает отличий, это означает, что расхождение — менее 5%. Человеческий взгляд начинает замечать отличие в визуальной форме, когда расхождение менее 5%. Это означает, что он фактически собрал деятельность в таком виде, что она себя ведет как в реальности. Вещь собрал и осуществил операцию с ней таким образом, что точно так же можно спрогнозировать и поведение этой вещи в реальной жизни. Что нам нужно сделать? Нам нужно поставить сетку координат, снабдить сенсорами и датчиками каждый объект, перевести его в цифровую форму и выставить алгоритм использования этих вещей и изделий. При этом алгоритмы достаточно гибкие, в условиях, когда у меня, например, на дороге куча водителей, и кто-то решит сделать левый поворот из правого ряда. Я же должен это все учесть. Система ведет себя как мультиагентная, когда агенты принимают решения, влияющие на всю сеть системы. Соответственно нужно создать умную среду в датчиках и оцифровать всех действующих агентов в этой среде. Кстати, после этого возникает ситуация, когда фактическими действующими агентами в этих средах и системах выступают отнюдь не люди, не субъекты, а цифровые некоторые вещи. Вот я сидел сейчас в кафе, зашел в интернет, и мне одна из антивирусных систем предложила защиту от отслеживания. То есть если я небольшую денежку заплачу, я буду невидим никому, а прежде всего — злобным американцам, которые спят и видят, как меня там одного из 140 с лишним миллионов россиян внести в свои базы данных и отслеживать все мои перемещения. Смысл заключается в том, что, судя по всему, неоцифрованные среды прекращают свое существование. Объекты, которые не имеют цифрового образа и не снабжены системами и датчиками, попадут в зону дискриминации. Ну, например, управление полетами самолетов по одной американской программе, навигация должна быть построена по системе GPS. Не пилот будет маневрировать самолетом на поле, а будет либо автомат, либо навигатор. И уже посчитаны, проведены опыты — минус 10% расхода топлива при авиаперевозках. Ничего себе. А еще говорят, что так можно повысить плотность неба. Плотность неба можно повысить и строить новые аэропорты, не брать новых диспетчеров. А если ваш самолет не обеспечен системой GPS, что это значит? Что на нем можно передвигаться, только перевозя мешки где-нибудь из Таджикистана, главное при этом — не попасть к пограничникам. То же самое произойдет и с каждым из нас. Уже произошло.
Бывший премьер-министр Финляндии и бывший глава «Нокиа» сказал, что к 2020 году они получат минус 50% рабочих мест в Финляндии из ныне занятых, если не развернут новые производства.
Минус 50% рабочих мест в Финляндии!
Кто выстреливает сейчас? Прежде всего, все, что имеет отношение к обороне: система умного боя, истребители пятого поколения. Канзас, который делает у нас рубку корабля, обеспечивающую замыкание функций управления судном и участия в войне.
Также медицина. Здесь первые — американцы, потому что огромный объем ВВП. Это единственная страна, которая тратит такие сумасшедшие деньги на медицину.
Также все, что относится к энергетике, к транспорту. И в этом смысле переход к смарт-гридам. Сложность заключается в том, что в энергетические инфраструктуры инвестиции пришли достаточно давно. И они построены вовсе не на цифровых коммуникациях, а на аналоговых связях. Вложить огромные деньги, чтобы сейчас это перевести в цифру, очень тяжело. Многие страны, например, Италия вложилась пока в систему сенсоров и мониторинга. А немцы вложились в систему общих алгоритмов и программ управления смарт-гридами. Поляки вкладывают только в систему мониторинга. Судя по всему, они рассчитывают забрать все программы у немцев, когда те их сделают.
В пределах 2020 года — мы увидим цифровые города. Кстати, есть уже цифровые модели городов в 3D и 6D. Некоторые софтверные компании уже начинают продвигать эти модели на рынок, потихонечку тесня и традиционных старых проектировщиков, потому что тот продукт, который они предлагают, интегрируем с цифровой моделью здания и предполагает другую сшивку объектов, которые должны быть построены. Сейчас мы имеем дело со смарт-гридами первого поколения — это так называемые регулируемые умные сети. СКАДА-системы четвертого поколения сейчас ставятся на базе умных датчиков и сенсоров. В локальном масштабе. Потому что федерация СКАДА-систем — это следующий шаг, который промышленности придется пережить в ближайшие 10– 15 лет. В 2020–2025 году мы получим смарт-гриды следующего поколения — так называемые самоуправляемые или мультиагентные смарт-гриды. Когда мы обсуждаем зону цифровой дискриминации, обычно мы обсуждаем, кому доступен интернет, а кому недоступен, кому доступны такого рода цифровые коммуникации, а кому недоступны. Зона дискриминации будет заключаться в том, что будет развернут пакет инфраструктур под следующий эволюционный шаг развития всех вещей, под следующий тип человеческого поведения. И если вы хотите жить в пещерном виде — вы останетесь здесь, а если в современном — то придется двигаться туда, где соответствующая инфраструктура будет существовать.
Переход от одной системы к другой, как правило, чтобы он окупился и был масштабным, требуется во всем объеме. Вот то, что говорят те же корейцы, они не могли перейти на 3G, пока у них сохранялась аналоговая связь. Они вынуждены были запретить аналоговую связь, и мгновенно 3G стала самоокупаемой. Всю сдвижку произвели, разом выдвинули эту ситуацию. Соответственно, как только мы выходим на сдвижку больших систем, нам требуется государственное участие. За счет действий отдельного человека, отдельной компании это осуществить сложно.
У государства три поколения поддержки передовых производственных технологий. В 90-е годы программа, которая была запущена, она ориентировалась на оборону и отдельные технологические объекты: роботы, цифровые контроллеры, сенсоры, которые устанавливаются на конкретный технологический объект, и тому подобное. В 2000-е годы они вышли на процессы, и система инженерного труда, проектирования и управления производственными процессами дотянулась до того, что замкнула целые процессы. То есть они начали моделировать целые процессы, а не только конкретные модели, конкретные объекты. И 2010-е годы — это, собственно говоря, производственные технологические системы.
Что нас ждет в ближайшее время? По той веточке, которую я показывал в проектировании, это изменение типов проектирования. Из того, что я говорил, например, переход в федерацию PLM (Product Lifecycle Management — управление жизненным циклом). Появление интегрированных проектных платформ. Ход на так называемое параллельное проектирование. Сначала были параллельные расчеты, потом параллельное программирование, сейчас параллельное проектирование. По второй линейке — это выход конструируемых специально, функциональных, а главное, еще и умных материалов, обладающих специальными свойствами (самотестирование, самовосстановление, генерация информационных сигналов о состоянии материалов) и так далее. То есть умных материалов, ведущих себя как отдельное изделие в случае, если они попадают в определенные условия. И объем использования новых материалов у нас будет возрастать.

Сейчас что происходит? Те, кто занимался объемным проектированием и конструированием, кто поставлял цифровые программы, которые я уже называл и показывал, они начинают докупать компании, которые оцифровывали отдельные материалы, перешивая проектирование верхнего уровня конструкции с проектированием материалов. В частности, Siemens PLM в 2012 году купил бельгийскую LMS. LMS проектировала материалы. Высчитывали, как они себя ведут, шумовые нагрузки, термические нагрузки, физические деформации. A Siemens PLM в основном конструкторские решения определял, как с объемно-функциональным это все соотносится. А потом все-таки купил, взял себе целый блок. И сейчас идет целая серия слияний и поглощений, когда эти программисты верхнего уровня дозабирают фирмы по работе с материалами.
Забавно, как это происходит в биотехе. В 2008 году собирается на очередной свой всемирный конгресс всемирная ассоциация инженеров и делает прогноз — форсайт до 2028 года — что будет с машиностроительными технологиями до 2028 года. Это те, кого называют mechanical engineering. И один из выводов у них — они говорят, что биологи дошли до состояния, когда они начинают работать с отдельными кусками или биологическими молекулами точно так же, как мы работаем с модулями. Следующий шаг, который сделают биологи, — они перенесут всю методику и методологию нашего инжиниринга на свою биологическую поляну и начнут конструировать и работать с мельчайшими биологическими объектами точно так же, как мы работаем с частями, подвергаемыми механической или другой обработке изделий.
Химики. Вы знаете, что у химиков сейчас есть теория химии, близкая к модульной конструкции: как соединение разных элементов обеспечивает поведение того или иного материала. А фармацевты как это используют? Их пугали, что биотех снесет их с рынка, — благо, эпоха блокбастеров закончилась. Они говорят, что решение найдено, они начинают комбинировать из уже испытанных элементов новые молекулы, изменив идеологию проектирования самих этих молекул, изменив идеологию мышления.
Смарт-гриды. Пока мы не дозамкунули ни одного смарт-грида в полном объеме. Может быть, кроме цифровой связи. В ближайшие 10–15 лет нам придется все это делать. Сейчас огромный объем работ выполняется по сведению стандартов. Все готово. Технологии готовы. Грубо говоря, друг у двери. Осталось только научить его правильно позвонить, и дверь откроется. Основной упор государственных программ по поддержке производственных технологий сделан на то, что сейчас они, конечно, занимаются и оборудованием, и процессами. Но главное внимание обращается уже на инфраструктуры.
Что в Российской Федерации? Вся система инжиниринга и проектирования сейчас импортируется. Мы задержались. В какой-то период безвременья жили на сверхогромном запасе, который у нас был, теперь вынуждены все это импортировать. Вынуждены по двум основаниям. Первое — это скорость и стоимость. У нас нет больше демпфирующих факторов, которые нам обеспечивали даже при низкой интеллектуализации и автоматизации конкурентоспособность. Все факторы производства практически равны и даже дороже, чем у наших конкурентов. И мы вынуждены сейчас дозабирать, импортировать. Рынки поставщиков специализированного инженерного ПО устойчиво растут, и есть компании, которые демонстрируют вполне понятный рост.
Я думаю, что примерно 5–7 лет нам еще потребуется. Огромный объем софта инженерного уже инсталлирован на рабочих местах наших проектировщиков и инженеров. Вопрос сейчас для многих компаний — как выйти на единую информационную платформу и как обеспечить ее жизнеспособность и эффективность.
По новым материалам. Уже есть цифровые каталоги глобальные, когда вы можете получить доступ к цифровому образу и описанию новых материалов. У нас, насколько мне известно, ни одного такого цифрового каталога нет, хотя огромный объем новых разработок ведется. Проблема заключается в том, что нам придется соединять разработанные материалы и конструкции. И проблема также в том, что если мы не ведем каких-то цифровых каталогов, это означает, что мы не имеем общего представления и вариативности инструментов использования этих новых материалов.
Но здесь пока ничего трагического не происходит. Потому что до конца эта система не доделана во всем мире. Мы должны вступать в кооперацию, надо выбрать, с кем и до конца это доделывать, дотаскивать. У нас есть часть, например, во ВНИИЭФ в Сарове, есть огромный объем оценки термических, шумовых, механических нагрузок на те или иные материалы. В этом смысле есть свой задел достаточно большой.
Есть, куда стремиться.
Думаю, что в 2025–2030-х годах мы получим сильную замену вещественной основы производства во
всем мире, и, конечно же, поведение всех материалов должно будет посчитано в пределах того самого жизненного цикла. В связи с этим мы сможем оценить и экологическую нагрузку, и нагрузку по утилизации материалов на экономику.
Смарт-гриды. Мы не первые, но мы не последние. Поскольку смарт-гриды в зоне коммерциализации пока еще в основном в лучшем случае находятся в зоне демонстрационных проектов, мы сможем в этом поучаствовать. Это вопрос принятия стандартов, вопрос распространения соответствующей практики на работу российских компаний. Во Франции есть такая программа, на нее выделяется 20 миллионов евро в год. И задача в том, чтобы каждый год они выводили 100 новых продуктов, куда инсталлирован процессор или микропроцессор. То есть эти 100 новых продуктов они выбирают из числа тех, которые сам бизнес, само производство мозгами не снабжает. Через пять лет они получат 500 видов, снабженных какими-то мозгами и какой-то интеллектуальной составляющей, продукта. Со смарт-гридами здесь ситуация понятна, поскольку смарт-гриды второго поколения или третьего будут в 2025– 2030-х годах, у нас некоторая передышка есть. Но тот, кто занимается производством, мог бы уже запустить обратный счет.
Немцы: 2020 год — умные заводы, в 2020 году все технологические узлы снабжены «мозгами». Немцы в программе своей под названием «Индустрия 4.0» специальное место отводят России. США и Китай — конкуренты, а Россия — один из основных покупателей. Они говорят, что криптокодами должны быть защищены все поставляемые в Россию продукты. В целом, конечно, немцы, утверждая эту концепцию, выходят на то, что называется «киберфизические системы», когда каждый объект существует два раза: в цифровом действии и в форме реального действия. В цифровой системе и в форме реальной системы. Я не стал вам рассказывать про то, что в основании этого переворота в производстве лежит так называемая постклассическая наука. Замена ньютоновской и декартовской науки и методологии исследования постньютоновской и постдекартовской. Выход на нечеткую логику, сбор данных, мгновенную обработку. За этим переходом — первенство индукции над дедукцией. Я не стал вам рассказывать про скорость реакции, которая должна быть обеспечена в системе. Про то, какие вопросы безопасности при этом встают.
Сейчас в метро поезда без машинистов, машины останутся без водителя.
Проблема только в одном: а как же нам? А как мы будем развлекаться? Вот вы спрашивали, а чем будут заниматься оставшиеся 50%? Я же хочу удовольствие от вождения получить.
С моей точки зрения, перед нами открываются бесконечные возможности для России. Постклассическая наука запустилась в 1960–1970-е годы, еще очень молода, она только в состоянии становления. То, что там сейчас делается, поражает своей масштабностью и массивностью. Инженерия, поддерживающая в разных формах эту постклассическую науку, в разных формах, в разных отраслях, позволяет вовлечь в этот процесс производства людей с разными компетенциями и разными способностями, обеспечив им в этой ситуации самоутверждение. Я ничего не рассказал вам про то, что происходит с системами подготовки. Потому что одно из следствий этого — то, что нас ждет в ближайшие 5, 10, 20 лет, а смысл технологического прогнозирования в том, что мы не вообще рассказываем о возможном. Наука задел создала не на 10–15 лет, наука задел создала на будущие 50 лет. Но технологически масштабировано и переведено будет в производство ограниченное количество вещей.
Что происходит с подготовкой кадров? Я смотрю на наших коллег, которые сейчас всех научат ровно варить просто какую-то линию. При этом, если вы поговорите с KUKA Robotics, они вам скажут, что сейчас работают над легким роботом. Уже реализован проект, когда легкий робот стоит рядом с человеком на конвейере. Я толкнул этого робота на бедного немецкого инженера, у него глаза были квадратные. Он сказал, что это легкий робот, у него сенсоры, каждый сустав снабжен этими сенсорами, я решил проверить. Взял и одним пальцем толкнул. И вдруг этот робот полетел на этого немца, он просто полетел. Он настолько легко и быстро двигался, это страшная скорость. Я похолодел. Я проверил, толкнул робота на человека пальцем. Я представляю, если бы ему прилетело по лбу. Но робот стоит. Когда мы спрашиваем, в чем задача, задумка в том, чтобы он стоял рядом с человеком в автомастерской. 30 тысяч евро. Это не человекоподобный, это многосуставный манипулятор. В автомастерской. Плюс туда же сразу ставится система, не только сварку осуществляющая, он сразу осуществляет и тестирование поверхности на дефекты в этой конструкции.
В этом смысле вопрос подготовки кадров. Какие кадры будут нужны? Кто будет нужен из этих кадров? Я про это ничего не рассказал. Коллеги из Michelin осуществляют сейчас инженерный сервис, они поставляют не шину, а километры пробега. Они отвечают, чтобы эта шина служила или вообще не шина, а машина должна осуществить километры пробега. Они осуществляют, соответственно тот, кто эксплуатирует, больше не занимается шиной. А что делает, например, «Боинг». За счет того, что все снабжено датчиками, сенсорами, можно верифицировать любую операцию, у них перестали работать сверхквалифицированные бригады ремонта. Технику обслуживают специалисты средней квалификации, имея алгоритмизированные вещи сразу перед собой. Та же методика используется индусами, когда они обслуживают свои системы цифровой мобильной связи. У человека каска на голове, фонарик, камера. Он обвешан своими инструментами и выполняет операции, а оператор сидит где-то в Бомбее и смотрит за тем, как он выполняет операции.
И это изменение принципиальное в подготовке. Соответственно цифровое моделирование и математика становятся ключевыми. Требования к участию в программировании и проектировании для стандартного социала меняются. Автоматизация, роботизация и способность просчитать алгоритмы движения становятся чрезвычайно важными. Я не знаю, осуществил ли я интервенцию в ваши головы, сформировался ли у вас образ промышленности, которая будет в ближайшие 10–15 лет. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что не говорил и не старался говорить о научных исследованиях. Они гораздо круче. Последнее, что мы обсуждали на совещании по развитию технологического прогнозирования, — это целая партия сторонников оптогенетики. Оптогенетика строится на том, что луч света подается на клетку головного мозга, то есть на нейрон, он становится прозрачным, как оптоволокно, и способен передавать информацию. И есть паренек, который имеет все шансы на то, чтобы получить Нобелевскую премию до 30 лет. Он смог инсталлировать воспоминания. Ничего из этого я не рассказываю. Это из области того, что будет масштабировано, коммерционализировано за пределами моей жизни. Я вам говорю только про то, что произойдет в ближайшие 10–15 лет: сверхточность, сверхскорость, сверхсложность на базе автоматизации и интеллектуализации, на базе формирования новых комплексных информационных сред и инфраструктур. Плюс огромный объем цифрового моделирования. На самых мельчайших уровнях, то есть на всех уровнях. Микро- или наноуровни, мезоуровень или макроуровень.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Означает ли появление умных средств и киберфизических систем резкий скачок в прогнозируемости? Причем в прогнозировании не только технических систем, но и социального поведения. И второй вопрос — какие технологии форсайта можно ожидать в ближайшее время в связи с появлением умных средств?
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Первое — неизвестно, что произойдет с прогнозированием вообще в целом. Прогнозирование — это способ хеджировать риски. Все, что не прогнозируется, мы страхуем, делаем сверхзапас. Смысл постклассической науки заключается в том, что мы имеем дело с открытой системой, где огромное количество связей и отношений. Каждый из элементов этой системы имеет дело с тем, что расположено за ее пределами. И обеспечить прогнозирование в этой ситуации очень сложно, потому что действует то, что называется эффектом бабочки. Маленькое действие может оказать самое непредвиденное влияние. И самые умные люди, обладающие всеми инструментами прогнозирования, не могут себе позволить ничего точно спрогнозировать. Отсюда этот кризис в менеджменте, потому что линейный менеджмент не действует, менеджеры признались, что они ничем не управляют. Представьте себе, они вынуждены были сказать, что они ничем не управляют.
СЛУШАТЕЛЬ 1: То есть прогнозируемость снизится?
В. К.: Она, судя по всему, заменится. Система должна быть собрана таким образом, что она сохранила устойчивость, даже если внутри нее будут разного рода возмущения. Суть перехода на смарт-гриды и мультиагентные системы заключается в том, что сеть должна выжить. Это изменение принципиальное. В саму деятельность вшивается другая идеология. Старого прогнозирования будет все меньше. Судя по всему, я должен буду получить систему подачи данных и их обработки в режиме постоянного доступа. Это означает, что ряд видов деятельности исчезнет. Я бы сказал совсем трагично в этом смысле, поскольку у нас уже появилась антропология вещей, у нас есть антропология киборгов, это не шутка. Это целое большое стволовое направление в социологии. Что-то я вам начинаю рассказывать про научную часть, не совсем про технологическую, они между собой связаны, но не совпадают в полном объеме. Собственно говоря, большой объем этих мультиагентных систем и средств приведет к тому, что мы получим другие форматы репрезентации знаний, она будет по другому нам представлена. Позавчера в Британской школе дизайна была лекция «Дизайн как мышление». Смысл заключается в том, что визуализация — это не старое стандартное изображение. Это сбор, обработка и репрезентация данных. Когда сбор и аналитика данных происходят практически одномоментно.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Данный технологический прогноз, очевидно, исходит из неизменности существующей экономической модели и социального устройства. Я правильно понимаю, что вы предполагаете неизменность этой модели, которая имеет очевидные системные ошибки в ближайшие 20–30 лет?
В. К.: Я даже не знаю, что ответить на ваш вопрос. Можно сказать неправильно, а можно сказать правильно. А какие ошибки вы имеете в виду? Ошибки-то точно есть, в этом я должен с вами согласиться. Осуществится ли этот прогноз? Я должен сказать, что в большей части предсказывать технологию, а не науку очень легко. Я же вам про цифры специально рассказал. То, что у материала есть своя специфика запущенная, она будет некоторое время трепыхаться, и в этом смысле предсказание науки, вот мои коллеги из высшей школы экономики занимаются форсайтом науки и все время сносят технологию, почему? Потому что с технологией все безболезненно. Ты видишь, что делают, и понимаешь производственный цикл, инвестиционный цикл, когда они деньги мобилизуют. И можешь сказать, что завтра что-то произойдет. А с наукой — извините.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Системные проблемы отечественной экономической модели: она основана на постоянном углублении и разделении труда, что, в свою очередь, требует расширенного воспроизводства рынка. Рынки закончились, и вот эта модель сегодня работать перестала. Пытаются ее как-то подкорректировать, применяют разные квазифинансовые инструменты, но эта модель смитовская работать перестала.
В. К.: Ну, отчасти это связано с вопросом, куда денутся те 50% финнов, которые будут уволены с наступлением будущего. Во-первых, чтобы вы все представляли, это предмет моего постоянного полемического диалога с моим товарищем Петром Щедровицким, который говорит, что да, разделение труда рулит. А с моей стороны получается следующее: а что и с кем делить, ведь мы вступаем в ситуацию, когда у нас граница деятельности поплыла. У нас нет PLM. Жизненный цикл мы расписали на части, а потом раздали эти блоки. Конструкцию с открытой архитектурой, когда я модули по-разному комплектую и собираю, я кому и что раздавал? Это тоже разделение труда, как и все разделение труда? Организованность человеческая становится нерегулярной, ненаблюдаемой, неранжированной. Это разводы на воде масляные. Я перед вами выступаю, количество мест в аудитории посчитано, можно посчитать количество мест на этих пуфиках. Или можно сделать по-другому: эти стулья сюда поставить, а эти туда, в общем, много комбинаций, по которым можно все расставить. И аудитория, которая меня слушает, она в общем прогнозируема. Теперь представьте себе то же самое в интернете — включился, выключился. Есть же социологические опросы, которые показывают, сколько людей смотрит новогоднее обращение Президента. Показывает, что смотрело столько-то, среднее время просмотра составляло 15 секунд. Разводы на воде, нет ничего регулярного, и в этом смысле с разделением труда большая проблема. Я не говорю о том, что у нас будет та же самая социальная структура. Вчера мне задавали вопрос, что произойдет с этикой отношений. А ответ был очень простой. Представьте себе прозрачный в цифровом отношении мир.
В действительности, это возможно только в гипертолерантных обществах. И в этом смысле, извините, социальнаую структуру, если мы собираемся осуществить технологический переход, придется долго и сильно разбирать. В обществах с плохой социальной структурой, с непроницаемой, с двойными смыслами, с двойными кодами — все это безобразие обнажится в одну секунду. А еще если будет доступ к данным, а еще — если можно будет спрогнозировать это все. Кто-то пробовал покупать билет по интернету? Первый ход — вы заходите, смотрите цены, идете посоветоваться с друзьями. Второй ход, возвращаетесь, робот говорит — второй раз попался — плюс 10 долларов. Вы говорите, пойду к другу, быстро скажу, чтобы брал, идете к другу — третий вход +15 долларов. Вы говорите: ну, черт возьми. Не купил, уже разобрали, покупаю. Купили. А если бы купили через два дня? И так часто бывает, когда спрашиваешь товарища: «Ты когда билет купил?». Он говорит, что через месяц после тебя и по цене на 20 долларов меньше, чем ты. Или американские интернет-магазины, когда они определяют вашу точку географического положения, из которой вы осуществили заказ в интернет-магазине, и выставляют вам цену, исходя из той точки географической локации, где вы находитесь.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Как будет измеряться экономика создания продукта и экономика создания целых заводов? Например, вкладываем 10 миллиардов на закупку роботов под создание эксклюзивного продукта. Технология меняется через пять лет. Что будем делать с этими роботами, которые уже не смогут делать этот продукт? Списывать и закупать других? Это заводы для массовых дешевых продуктов или узконишевых вещей?
В. К.: Есть такое направление, которое называется «перестраиваемый цех». Конструкция, которую сделала KUKA Systems, заключается в том, что они сделали этот гибкий производственный цех. Смысл в том, что это не конвейер, но и не стапельная сборка. Роботы на платформах с изменением конфигурации и зон обслуживания. И это не фантастика, это работающий завод. Нас ждет сверхгибкое производство. И эффект этой гибкости достижим только в случае, если мы выводим целое производство. Поэтому европейцы в качестве кванта, зашивающего передовые производственные технологии, сейчас так делают и американцы, и китайцы, они делают умную фабрику. Вообще у них три деления: digital factory — цифровая фабрика, virtual factory — это когда я собираю продукт, не выстраивая одну линию производства, как это делает «Зара». Я же не покупаю эти заводы, я даже ими не управляю, но у меня единая конструкция, производящая продукт, существует. И smart factory — когда я посчитал, сколько мне это будет стоить. Проблема для всех, кто не попадет в эти зоны, — большая. И то, что китайцы покупают роботов, не значит, что у них закончились мигранты, мигрантов еще достаточно. Американцы начали возвращать заводы. Вот в чем беда. И что в этой ситуации делать, если они вернут заводы и производство окажется эффективным? А цеха эти спроектированы. И что потом китайцам с цехами этими делать? Поэтому они и покупают роботов. Они, имея тучу еще свободных рук, устремились в эту зону нового. Сейчас можно сказать: вы еще умные заводы у себя не ставите? Тогда мы о вас начинаем беспокоиться. Вы не объявили в Минпромторге программу Factory of Future? Тогда мы о вас точно начинаем беспокоиться. А после этого сварщиков будем готовить по всей стране. А потом сварщики, даже не знаю, что будут делать.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Если финны беспокоятся о том, что могут потерять 50% рабочих мест, что тогда нас ждет?
В. К.: Для нас первый вопрос — осуществление того самого реверсивного инжиниринга, но уже не на старой индустриальной основе. В том смысле, что размотать генетический код современного производства. Второе — это включение во все вещи, которые связаны с глобальными стандартами, потому что нет никакого национального рынка, он очень маленький. Третья ситуация — это концептуальная сборка в голове. Технологий много, и все рассыпается. Вот коллеги мне рассказывали, что они страшно обрадовались, когда получили заказ на госпиталь будущего. У них было море технологий, связанных с индустрией здоровья, но когда они начинали их примерять, они рассыпались в руках. И все время не понимаешь, что ты делаешь. Как только они получили заказ на госпиталь будущего, они смогли отсортировать, отселектировать те технологии, которые на 100% пойдут, те, которые не пойдут никогда, те, которые пойдут, может быть. И в голове концептуально мы должны получить коробку, в которую можем все сложить. Может быть, то, что делает сейчас технологическая платформа как сложная технологическая система, которую курирует Минэкономразвития. Они в какой-то момент замучились, махнули рукой. Сказали: «Да провались оно все!». И подписались под европейскую платформу. Может быть, так делает «Аэрофлот». И вошел в европейский консорциум, где система контроля проектируется прямо сейчас. Но ситуация такая, что знания — то, что передается легче всего. А то, что мы предлагали Минобрнауки, я считаю, придется доделывать — это школы передовых технологий. Это единственный способ, как можно забирать технологии, обучая людей сразу конкретным технологическим решениям. И в общем, конечно, это единственный способ — делать такие школы для наших корпораций, каким-то образом двигаться и забирать передовые технологические решения. У нас есть ресурсы, это наше богатство, мы не останемся совсем на улице. У нас должно быть понимание, чтобы мы не принимали глупых решений, которые придется потом отменять, в том числе и в социальной среде. Надо подходить с умом, а не с задним умом, то есть не из прошлого, а из будущего. Нам придется переучиваться и включаться во все международные альянсы. Было бы желание. Опасность в другом. Люди обладают повышенной мобильностью. Никаких границ уже установить нельзя. Люди не будут ждать, когда им создадут условия для самореализации здесь, если есть условия в другом месте. Вот настоящая драматическая проблема.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Я представляю WorldSkills. У нас идет такой тренд, что количество компетенций, уровень квалификации рабочего все время стремится вверх, но получается такая история, что у очень большой части населения нет возможности так быстро обучаться. Не все такие умные, как в этой аудитории. Потребует ли это какого-то изменения самого человека?
В. К.: Произойдут ли антропологические изменения? Ждите, происходят. Они происходят, это факт. В этом смысле уже не зубы вставляют, а вставляют суставы. Американским солдатам слабым током голову обрабатывают, чтобы они эти мины видели. Что делать? Google Glass, который нам китайцы показали в Гонконге, который стоит в четыре раза дешевле, чуть побольше и весит чуть побольше. Антропологические изменения будут происходить, я про них, слава богу, уже не узнаю, поскольку это после моей жизни завершится. Ситуация с WorldSkills в другом: для выполнения сложной работы, благодаря тому, что у нас теперь есть интеллектуальные процессы в виде цифрового моделирования и автоматизации, нам больше не требуются сверхтонкие специалисты. Проблема заключается в том, что больше не требуется филигранной точности человеческих действий и движений. Более того, система уже не требует филигранной точности нашего мышления, поскольку она встроена в систему многократной проверки и многократного дублирования этой проверки. Происходит следующее: средний уровень требуется, но я согласен с вами в одном, что этот уровень должен быть массовым. Вот в чем ситуация: нам не требуются какие-то сверхтокари, нам нужно оперировать определенным оборудованием по определенному регламенту. Завершаю такой байкой, ваш вопрос навеял. Когда «Тойота» пришла к нам в Санкт-Петербург, она дала объявление во всех газетах, кто ей требуется. Там было описание, возраст. Было написано — только те, кто не имеет опыт работы в российском автопроме. «Тойоте» было все равно кого брать. Она точно знала, что на симуляторы и тренинговые машины она поставит людей, отличающихся уровнем интеллекта, не идиотов, но проверялась при этом аккуратность выполнения задач. Ведь что делал человек в советском автопроме? Все время улучшал процесс. И если датчик не влезает в ракету, что надо сделать с этим датчиком? Забить его молотком. Только дураки думают, что кто-то расстроится и заплачет. Он-то твердо знает, что датчик должен стоять в ракете.
Спасибо всем огромное, что пришли.
Контуры образования будущего. Социальный аспект
ЛЕКЦИЯ 03 21/02/2014

Вы знаете, я на самом деле хотел бы воспользоваться своим пребыванием в таком интеллектуально напряженном месте, чтобы не столько вам о чемто рассказать, а пообсуждать все-таки то, о чем я сам думаю сейчас. А думаю я в последние несколько дней, к сожалению, об Украине. Я родился в Западной Украине, а вырос в Восточной. Вырос в прямом смысле, потому что, несмотря на то что мои родители переехали, когда я был в бессознательном возрасте, с Украины в Сибирь, каждое лето меня отправляли к бабушкам на поправку. Я проводил два месяца на Восточной Украине в маленьком таком местечке, а два месяца — в городе Черновцы, это самая что ни на есть Западная Украина, бывшая Австро-Венгрия. И, честно говоря, я всегда наблюдал за тем, что происходит на моей исторической родине, и мне было интересно сравнивать, я бывал там довольно часто. Последний раз был как раз на Западной Украине довольно долго в мае прошлого года. Точнее в мае 2013-го, то есть меньше года назад. И, скажу откровенно, у меня даже был такой момент год назад примерно, когда мне предложили очень хорошую работу на Украине, потому что они искали человека, имеющего международный опыт. Нужно было, чтобы он имел хоть какое-то отношение к Украине. И тогда я посмотрел, что происходит там с образованием. Я даже говорил с министром образования, рассказывал ему про нашу программу университетов мирового класса, и он мне говорит, что, к сожалению, у нас государство слабое, у нас трудно создавать университеты мирового класса, потому что никто не хочет в это вкладывать деньги. Но зато мы не мешаем нашим университетам. И как раз в этом году мы планировали весной поехать с группой студентов в Одессу, побывать там в разных университетах, посмотреть, как они функционируют.
Почему я заговорил об Украине сегодня? Еще раз повторю: потому что я думаю над этим, я думаю, естественно, в контексте тех событий, которые происходили, не только происходят сейчас на Украине, но и происходили в других странах. То, что получило название «цветные революции», в этих странах в значительной степени связывалось, инициировалось образованной частью населения. Часто студентами. Захватом администрации в моем родном городе Черновцах руководил доцент факультета истории местного университета, в котором как раз мои родители учились. О будущем образования с Павлом Лукшей и Дмитрием Песковым мы уже не раз спорили, и они соглашаются со мной, мне это очень нравится, но продолжают своими делами заниматься. Потому что их интересует, что будет происходить с технолого-антропологическим материалом этой системы, что будет происходить с самим процессом трансляции знаний в условиях новых технологий и так далее. И это очень интересно.
Я совершенно уверен, что в ближайшие 20 лет достижения генетики окажут колоссальное воздействие на отбор, поиск методов обучения. И как понятно из названия, я буду говорить также про социальный аспект, социальную сторону будущего и про ряд вопросов, которые туда же относятся, которые изменят ситуацию, связанную с тем, как люди учатся. Я меньше верю в компьютерные технологии, даже в идею чипа, который куда-то вставят, потому что там очень медленно все двигается. Сейчас, наконец, в Москве завелся специалист мирового класса Вася Кучеров, который в Высшей школе экономики создает первую лабораторию когнитивных исследований мирового уровня. Будут там сканер ставить. Но у него сканер будет 2 Тл, а я был в Маастрихте, где сканер 7 Тл, но я могу соврать, может быть, 5. И они говорят, что, кроме работ Лурии для определения чувствительности с помощью простого фонарика в темноте, который моргал, когда человек должен был ловить лучик, сегодня наука, имея огромное количество публикаций, всерьез дальше не прошла. Поэтому я мало верю в то, что будет какое-то существенное превращение в индивидуализации нашего обучения от технологий. Мне кажется, что нас ждут совсем другие, как Блок, кажется, писал, «неслыханные перемены, невиданные мятежи», связанные не с технологическим обновлением, а с колоссальными социальными трансформациями, в которых образование играет огромную роль.
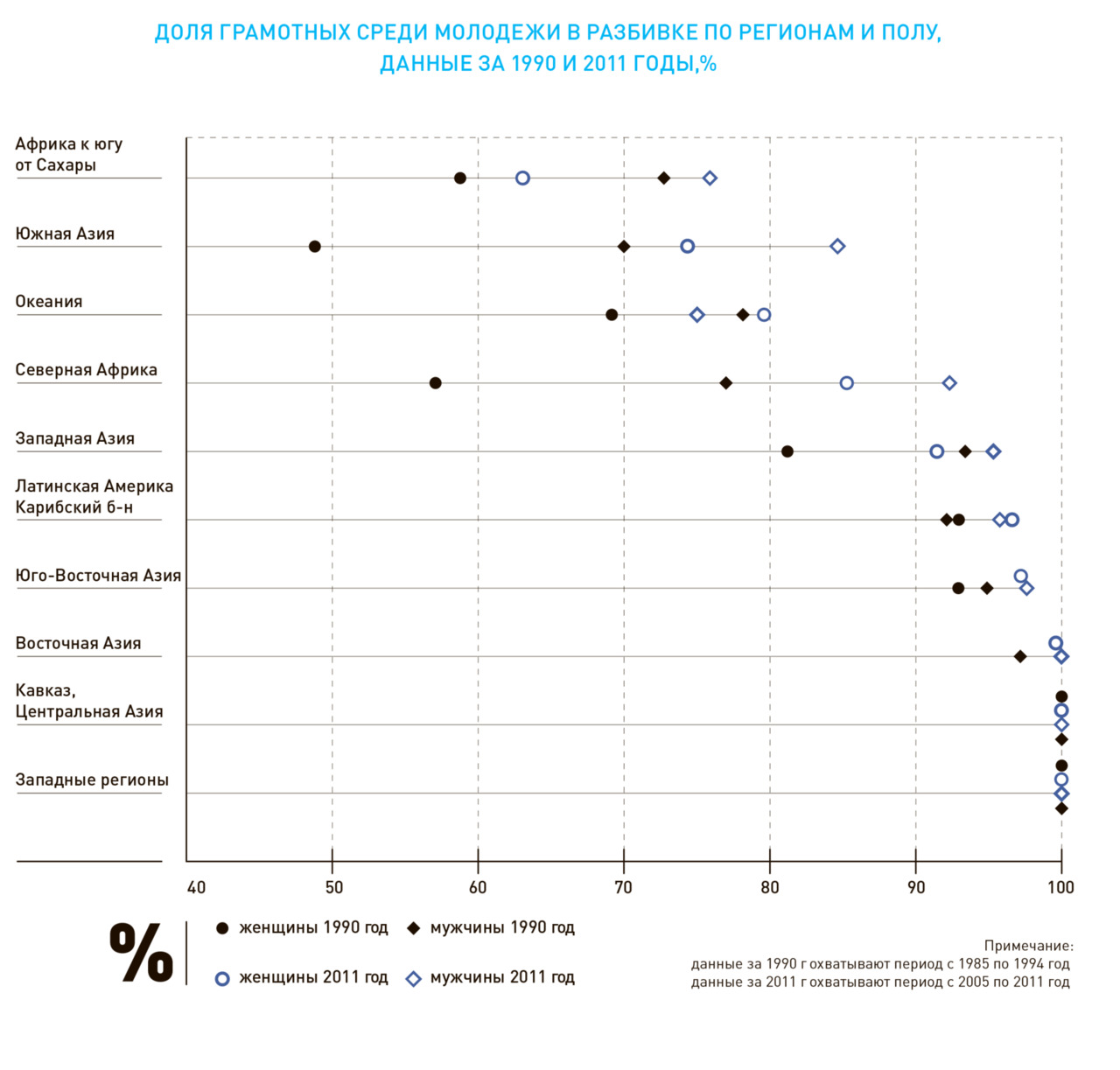
Я потом поясню, как я связываю то, о чем сейчас говорю, с событиями на Украине. Я про это начал думать только вчера, не могу сказать, что мне удалось собрать хорошую презентацию по этому поводу, но несколько слайдов будут иллюстрировать мои основные вопросы. Я хочу подчеркнуть: даже не тезисы, а именно вопросы про будущее.
Здесь представлена связь ВВП и вовлеченности населения в образование, где значение ВВП совсем не важно. Я просто искал любой слайд, любой график, который бы показал, что было всего 113 лет назад. Это участие людей в школьном образовании. Даже начальном. Посмотрите, максимум, в начале XX века — 20%. Соединенные Штаты и Канада: в среднем ожидаемая продолжительность обучения человека составляла 1,5 года. Эти данные надо проверять, я их нашел в одной статье. Неважно, 1,5–2 года, но мы видим, что фактически уже в современной цивилизации мы имеем дело с населением вот с таким участием в школьном образовании. При этом, если бы у меня были данные про мальчиков и девочек, то мы бы увидели, что мальчиков было там чуть-чуть больше, а у девочек в некоторых странах участие в школьном образовании было меньше 5%. Даже если мы возьмем последние 20 лет, к сожалению, вот здесь (еще раз повторяю, я обязательно этим займусь, есть такие работы, я их просто не успел найти, которые бы показывали вот эту длинную, вековую как минимум перспективу), 100% вы можете видеть. Кружки — это женщины. Прозрачный кружок — это женщины в 1990 году, закрашенный — в 2011-м. Соответственно квадратики — это мужчины. Пустой — в 1990-м, другой — в 2011-м. Посмотрите на Южную Азию, за 21 год больше, чем на 20% возрастает доля грамотных. Южная Азия: если вы были когда-то в Бангладеш, Индонезии, Пакистане, Индии, то вы представляете, что речь идет не о тысячах людей, а о сотнях миллионов. Ну, я могу сейчас ошибиться в этой цифре, но за 20 лет количество грамотных увеличилось по всему миру на 700 миллионов человек. Мои сегодняшние студенты и я сам, мы с трудом себе можем представить мир, в котором много неграмотных людей. И когда мне говорят про какую-то там компьютерную революцию или революцию в средствах передвижения, то, конечно, вот она подлинная революция в Северной Африке, где десятки миллионов людей становятся грамотными. Френсис Бекон говорил, что знание есть сила. Эти люди получают силу, какую? Что происходит с обществом, в котором все больше и больше людей становятся грамотными? С обществом? Что происходит с политикой? На этот вопрос у нас были банальные ответы, связанные с медленным периодом развития. Кстати, посмотрите на Северную Африку. Мне только сейчас эта мысль пришла в голову. Вот она, Северная Африка: Тунис, Египет, Ливия. Еще раз повторяю, это абсолютная моя спекуляция, родившаяся здесь экспромтом, потому что я действительно обратил внимание на то, что самый большой рост идет в Северной Африке за последний 21 год. Бедный Каддафи, возможно, не подозревал, к чему это приведет, и очень много сделал, чтобы женщины получили доступ к массовому образованию, но не исключено, что именно с этим связаны все те потрясения и мятежи, которые мы там наблюдали.
Это данные до 2000 года. Надо сказать, что в последние годы были приняты цели тысячелетия, и количество неграмотных стало резко сокращаться, но меня здесь больше интересует количество грамотных. Сегодня 3,5 миллиарда людей — грамотные. Для сравнения: 50 лет назад их был всего 1 миллиард. Что это означает? Когда я сегодня готовился, я разговаривал с экономистами. Что они говорят? Это как минимум совершенно новые рынки. Это как минимум другой уровень потребления. И это, конечно, другой возраст выхода на работу. Другой тип работы фактически. Очень интересным, мне кажется, посмотреть теперь на отрасль образования. Обратите внимание: всего за 22 года в мире количество учителей удвоилось. Учитель становится сверхмассовой профессией из элитной. И, мне кажется, что эта революция в образовании существенно более важная, чем появление компьютеров или, возможно, даже шариковой ручки. Потому что, если посмотрим на 1970-е годы и попробуем экстраполировать ретроэкстраполяцию, то увидим, что даже в США еще в 1950-х годах профессия учителя была элитной. Пожалуй, до Второй мировой войны. Сегодня она становится одной из массовых. Помните цитату Александра Сергеевича: «Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш пламень, Поставлен им краеугольный камень…»? Это про учителя Куницына. Этот учитель был действительным статским советником, человеком, закончившим Марбургский университет, и он воспитывал 11 лицеистов. У него было шесть уроков в неделю, и жил он в Царском Селе. Сегодня мы знаем, еще раз повторяю, что это массовая профессия.
Обратите внимание на динамику по количеству детей, не посещающих школу. Это очень позитивная динамика. Обратите внимание на то, как резко сокращается, особенно в Западной и Южной Азии, количество детей, не посещающих школу вообще. Одна из моих бабушек не посещала школу. Она была грамотная, но абсолютно не образованная. Ее детство пришлось на время Гражданской войны. Второй день ее попыток посещения школы закончился тем, что на школу напали петлюровцы. Скоро людей, которые не посещали школу, в мире не останется. Мы начинаем иметь дело с поколением, для которого обучение является колоссальным куском жизни. Еще в 1958 году только 50% восьмиклассников в Советском Союзе переходили учиться в 9-й класс. А сегодня в России 13,5 лет — ожидаемая продолжительность обучения первоклассника. Для меня форсайт образования скорее здесь. То есть если тренды линейно продолжить, я попытался сегодня грубо прикинуть, что к 2060 году средняя продолжительность обучения должна составлять в России 20 лет, а в США — 25.
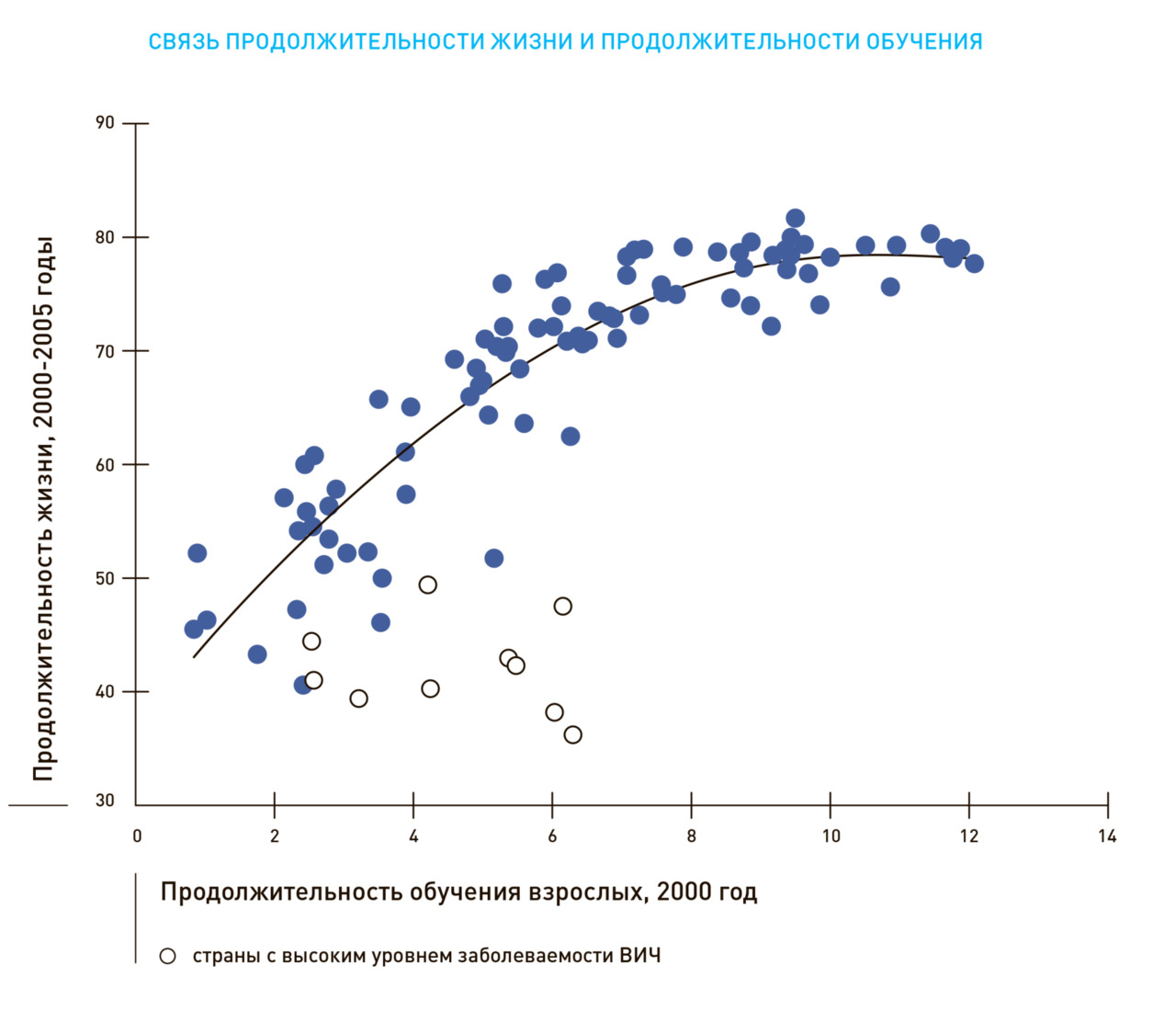
Но обратите внимание на то, что там происходит. Мы слушали с одним из моих коллег доклад одного канадского реформатора, он сказал: все, ребята, с трех лет у нас школа, то есть обязательное образование. То, что они там играют, сидят вот на таких мягких подушечках, — это для нас неважно. Важно, что человек попадает в систему организованного образования на колоссальный период времени.
Насколько я понимаю, и сегодня в развивающихся странах ВВП на образование — около 5%, в России, если не ошибаюсь — 4% с чем-то. Это можно не цитировать и не записывать, это можно проверить. Поэтому для меня возник вопрос, я готов его и вам адресовать и уже написал паре своих знакомых экономистов: как же так получается, что мы имеем дело со взрывным ростом школьного образования, а доля ВВП остается такой же? Что, образование становится настолько эффективным? То есть мы учим больше и дольше, а тратим примерно столько же. Причем, хочу обратить внимание, вы можете подумать, что это бюджет. Нет, это не бюджет, это все вместе. Почему? Этот пункт для меня остается не очень понятным. А вот это опять средняя продолжительность обучения, про которую я говорил, но здесь есть некоторая хитрость. У нас средняя продолжительность обучения населения теперь достигает 17 лет, вы это видите на примерах стран с высоким подушевым ВВП. Средняя. Это значит, что там есть экземпляры, которые учатся лет по 25. Про Россию можно отдельно поговорить, если будут потом вопросы. Россия — совершенно уникальный паттерн представляет собой, потому что у нас ВВП ниже 15 тысяч долларов, но на всех программах за счет не очного обучения у нас существенное превышение, то есть мы выглядим почти как страны с высоким, не самым высшим, но высоким подушевым ВВП. Как мне кажется, как раз Россия представляет собой некий интересный тренд, который состоит в том, что если страна бедная, но почему-то там есть спрос на образование, то вода находит лазейку, и люди начинают получать образование в дешевых формах.
Для меня это означает, что рост образования носит почти органический характер, поскольку оно становится социальной нормой. Кстати, интересно, что когда психологи наши великие (Эльконин, Давыдов) в 1960-х годах строили детскую периодизацию взросления, они дошли в поиске универсальных периодов до 14 лет. А дальше они стали друг с другом ругаться и спорить, что же является особенностью возраста, скажем, от 14 до 16. То есть натурально возраст существует, но поймать общие признаки не представляется возможным. И вот сохранились дневниковые записи Даниила Борисовича Эльконина, ссылаться на них не надо, они не опубликованы. Но там примерно так: что все-таки Вася (имеется в виду Василий Васильевич Давыдов) не понимает (и дальше очень интересно), что у нас в 15 лет возраст заканчивается, поскольку исчезает общая норма. Это очень интересное суждение, которое говорит о том, что само пребывание всего поколения, всей когорты возрастной в одном и том же институте фактически является социальной нормой. И как только вы добились того, что у вас 80% там учатся, чем-то занимаются, они начинают все этим заниматься не потому, что есть для этого какие-то рациональные основания, а потому что такова возрастная норма. С этим, по-моему, связан рост высшего образования.
Чем дольше человек учится, тем выше у него ожидаемая продолжительность жизни. А вот это очень важный слайд, который показывает рост высшего образования. Вот посмотрите, по вертикальной оси — количество студентов университетов высшего образования на 10 тысяч населения. И вот мы видим относительно спокойный рост до 1940-х годов и потом несколько периодов совершенно фантастического роста. Этот график продолжается почти линейно, то есть почти как прямое продолжение этой линии. И когда мы говорим про 14–17 ожидаемых лет обучения, речь идет уже не о школьном обучении. Ну и мы знаем, что в России большая часть населения соответствующего возраста сегодня поступает в высшее учебное заведение. Еще раз, мы можем говорить, что они заочные, плохие, такие и сякие. Факт состоит в том, что мы имеем дело с ситуацией взрывного роста не только общего образования, он уже закончился для нашей части планеты, а со взрывным ростом высшего образования. И, как я уже сказал, если этот тренд будет продолжаться, нам нужно обсуждать, не что делать, когда у каждого будет компьютер или мы будем разговаривать друг с другом, как будто эта аудитория есть, а на самом деле ее нет. Нам надо обсуждать, как жить, как воспитывать детей в обществе, в котором люди фактически инфантильны, вот этот вопрос мне кажется наиболее интересным. И как управлять таким обществом. И в этом смысле каковы тогда сегодня функции университетов, например, в таком обществе, поскольку здесь, и я уже фактически перехожу к обсуждению, здесь надо задать себе вопрос, какими были функции тех или иных образовательных институтов всего 20 или 30 лет назад в условиях, когда это не было массовым и столь длительным и какими они становятся сегодня? Вот это то же самое: рост количества студентов в различных регионах. Мы видим, например, как медленно это развивалось в Африке ниже Сахары, но на самом деле, например, в интернет-газете University World News вы найдете сейчас целые секции, посвященные тому, как африканские университеты набирают преподавателей. И мы иногда после очередного выступления какого-нибудь деятеля про то, что не надо публиковаться за рубежом, поскольку спецслужбы могут этим воспользоваться, начинаем смотреть, а что предлагает русским профессорам университет в Африке, а почему бы и нет.
На этом слайде сюжет с мужчинами и женщинами, он не столь драматичен, кстати, я думал, что он будет более драматичен с 1950 года. Мы видим, что впервые в 1990-е годы доля женщин среди студентов увеличилась, но опять же, если мы продолжим эти тренды, мы получим ситуацию, которая от ситуации 70-летней, скажем, давности отличается просто радикально. И когда сегодня мы видим, что в российских университетах среди ректорского состава женщин по-прежнему меньше 2%, то это ничего не означает, потому что вот этот график означает, что через 10 лет, можем поспорить, их будет 20–30%.
Вот это все данные, о которых я хотел сказать. А теперь я хочу завершить и попросить вас высказаться. Еще раз хочу объяснить, почему эти мысли у меня родились в связи с Украиной, потому что то, что происходит, произошло в Украине или, скажем, произошло в Северной Африке, Тунисе, Египте, — это некие особые процессы, которые, казалось бы, связаны. Некоторые их объясняют распространением сетевых технологий, интернета и так далее. Но, может быть, дело совсем не в интернете. Знаю, что высшее образование не дает ни ума, ни нравственных ценностей. Высшее образование, например, дает определенные стандарты потребления, формирует определенные ожидания от работы, формирует определенные ожидания социального положения как более высокого. Кстати, в России, например, очень высока премия за высшее образование — 60%. Когда мне говорят, что у нас много плохих вузов, я всегда говорю: друзья, у нас данные по премии на высшее образование не различают, хороший вуз человек закончил или плохой. Средний выпускник вуза получает на 60% больше, чем средний выпускник школы. Конкретные контрпримеры можно не приводить. Это статистика. И в этом смысле общество, в котором люди имеют вот этот спектр ожиданий, возможно, должно развиваться как-то иначе. Возможно, какие-то конструкции порождают то, что произошло на Украине. Есть здесь еще один очень сложный для меня вопрос, который не имеет отношения к слайдам, которые я показывал. Университеты со времен появления того, что в западной политологической литературе называется Nation State, национальное государство, были частью формирования национального государства, формирования элиты. Петр I создавал навигацкую школу вовсе не потому, что не мог закупить навигаторов за рубежом. Он формировал национальную элиту, которая определяла идентичность своей страны.
Не случайно и славянофилы, и западники были университетскими профессорами. Они все по-разному искали идентичность. Сегодня, когда перекраивается геополитическое устройство мира, какую роль играют те идентичности, которые формируются национальными образовательными системами в этом процессе, непонятно. Из-за того, что мир перестраивается, мы имеем дело с колоссальным запросом на национальную элиту, раньше я бы говорил «национальную интеллигенцию», которая обеспечивает идентичность. Это просто поразительно, я разговаривал с белорусскими студентами, которые плохо говорили по-белорусски, но они хотели говорить по-белорусски в университете. Они считали, что белорусский университет должен учить по-белорусски. И поэтому они уехали в Литву. Это были люди из белорусского университета в изгнании. А на Украине, кстати, возможно, это сыграло роль. Университеты не стали местом формирования новой национальной элиты. Фактически ни один университет на Украине не самоопределился за исключением Киево-Могилянской академии. Но вопрос мой не в этом состоит. Мы живем не в мире, где каждое государство может жить отдельно. Мы живем в глобальном мире, и как соединить два тренда, когда все больший запрос национальным системам образования предъявляется на строительство государственной идентичности? А с другой стороны, закрытость гибельна. Это является колоссальным вопросом, на который будущее должно ответить.
Итак, первая группа вопросов связана с тем, что основным трендом для меня в образовании является усиление его продолжительности и массовизации. И вопросом для меня является, как будет меняться общество в этой связи. А вторым очень серьезным вопросом для меня является соединение того, что, с одной стороны, образование является инструментом и частью глобализации, а с другой стороны, оно должно являться инструментом формирования национальной идентичности, национальной элиты. Сегодня я неслучайно уже процитировал господина Никонова, руководителя нашего думского комитета по образованию, он заявил тут на днях, что те, кто публикуются по-английски, облегчают работу спецслужбам. Поэтому индекс цитирования надо рассматривать как вредный. У меня был приятель, он работал на заводе, который выпускал черно-белые телевизоры в Красноярске. Когда я купил только появившиеся корейские телевизоры, он пришел и говорит: ты все-таки не патриот, вместо нашего красноярского черно-белого ты купил корейский. Ну, оставим господина Никонова в этой компании, но вопрос, который стоит за его переживанием, вполне серьезный. Не знаю, оправдал ли я ваши надежды, но я поделился тем, что меня самого интересует. Спасибо.
СЛУШАТЕЛЬ 1: То, что вы прописываете наблюдения за системой образования, очень ценно, но, или я так понял, или оно так и есть, вы рассматриваете образование как некоторый естественный социальный слой общества, который формируется, развивается по некоторым гармоничным сочетаниям, гармонично отвечает на собственные запросы общества. Мне кажется, что к 2060 году или гораздо раньше возникнет вопрос, что нужно искать новый формат, но где? Возможно, это родится не из самой мысли о продолжительности обучения, а с точки зрения изменения действительной динамики. Потому что система образования достаточно консервативна, а динамика жизни нарастает колоссальными темпами. И можем ли мы рассуждать, продляя этот тренд, или нам нужно смотреть снаружи системы образования? То есть, как вы считаете, будет ли система образования становиться открытой системой? Как я это вижу, 80% системы образования лежит вне самого образования. На мой взгляд, к 2060 году система образования будет опираться на ресурсы, на 80% ей не принадлежащие. Верите ли вы в такой сценарий? Или вам кажется, что это будет сценарий продленного настоящего?
ИСАК ФРУМИН: Спасибо, это очень интересный вопрос. Он действительно методологический в прямом смысле, потому что вопрос в прямом смысле об искусственных и естественных процессах в социуме довольно развернуто обсуждал один из моих пожизненных учителей Георгий Петрович Здоровецкий. Можно, конечно, представить себе все как проект, как искусственное действие. Сталин и Ленин придумали массовую грамотность. Есть такой взгляд. Здоровецкий всегда говорил: надо начинать с того, что искать субъекты, надо искать какие-то внутренние естественные органические движущие силы этого процесса. Хорошо, что вы мне задали этот вопрос. Я смогу эту точку зрения хотя бы нетривиально сформулировать. Она будет звучать парадоксально, но образование развивается так, и государство себя так ведет по отношению к образованию, потому что не может себя вести иначе.
Допустим, у государства есть какой-то проект, например, вот слишком много у нас учится менеджеров, экономистов и юристов, поэтому давайте мы их «утрамбуем». И вот я наблюдаю собственными глазами. У меня друзья работают в Министерстве образования, я к ним иногда хожу и вижу с ужасом, как они сокращают контрольные цифры приема, что-то они там режут, тратят жизнь свою, потом на 1% уменьшилось экономистов и юристов, а инженеров подросло на 0,5%. Почему-то не работает. Мы долго с моим товарищем из Стэндфордского университета спорили, откуда идет взрывной рост высшего образования в Индии и Китае. И я как раз говорил, ну, Индия, у них вообще плановая была экономика. Он говорит, понимаешь, Индия, как государство, вынуждена так себя вести, потому что она себя легитимизирует в ответ на ожидания населения.
В конце XX века было два чудных примера попыток уничтожить образование. Очень интересных. Один — это Камбоджа, это красные кхмеры, но это вообще дизастер полный, какая-то тупиковая ветвь эволюции, даже про нее неинтересно говорить. В итоге соседи не стали их терпеть и сняли. Но есть другой пример рядом с нами: Туркмения. После смерти Туркменбаши мы смогли туда поехать и провели там неделю, как раз изучая, что у них с образованием. Очень интересно. Что он сделал? Во-первых, он закрыл аспирантуру, как ненужную, потому что высококвалифицированных людей можно покупать за границей. Во-вторых, он продолжительность обучения в университетах сократил до трех лет и превратил их практически в ПТУ. В-третьих, он сократил число университетов так, что поступать в университеты могло примерно 5% соответствующего возраста, для сравнения — в России 65%. Самое смешное он натворил в школе, он сократил 11-летнюю школу до 9-летней, при этом 60% школьной программы убрал, в том числе иностранные языки, географию, и сократил биологию, физику и информатику. Но зато он ввел предмет, который в русском переводе называется «духовно-нравственное воспитание». Сам книжку написал. Я был в музее, где видел одну страницу, написанную его рукой. И они учились. Бедные учительницы английского языка, представляете? В одночасье все учителя английского языка и географии оказались безработными, некоторые из них пошли куда попало, а некоторые родители стали собираться и уезжать, а денег у них мало, они бедные были, потому что он строил очень красивые дворцы в Ашхабаде. Поэтому по вечерам учительницы английского языка собирали дома школьников и учили их за еду. И так сохранилось преподавание английского языка и географии. Однажды Туркменбаши узнал, что ни один из детей его ближайшего окружения не учится в туркменской школе. Половина учится за границей, а половина — в школе при российском посольстве. Он им сказал, чтобы через неделю все, кто за границей, вернулись, а те, которые в российской школе, пошли в обычную школу. Но через пять дней с ним случился инфаркт.
Понимаете, я еще раз повторяю, это некоторая история, но для меня она метафорично показывает, что образование — это почти органическая вещь. Другой вопрос: вот вы говорите, а какой у него будет дальше органический рост. У нас выступал недавно выдающийся мыслитель, социальный практик Майкл Барбер, реформатор. Он обнаружил очень простую вещь. Когда он стал изучать ситуацию с онлайн-курсами, он обнаружил, что целый ряд традиционных университетских функций аутсорсится другими конторами. Что такое Coursera? Это же не университет. А что такое Кембриджский экзаменационный сертификат, которому университеты делегируют право оценивать знания? Вот у нас есть программа, мы с моим товарищем Сашей Сидоркиным боремся, чтобы наши аспиранты, у которых есть Кембриджский экзаменационный сертификат, не сдавали дурацкий экзамен по английскому языку в аспирантуре. То есть мы хотим аутсорсить. Появляются курсы повышения квалификации, бизнес-консультанты и так далее. Это означает, что система образования изменится, конечно. И интересно, как она изменится институционально. Может быть, Барбер прав, и она развалится, то есть университетов может и не быть, но для меня очень важно, что останется сам процесс образования. По крайней мере для дискуссии я бы сказал, что да, образование развивается не потому, что это проект, а потому, что это некая такая органическая штука, которая растет.
СЛУШАТЕЛЬ 2: У меня два коротких вопроса. Первый касается того, что вы только что сказали про экономическую бессмысленность подготовки физиков, которые потом будут работать бухгалтерами. Насколько видно из графиков, которые вы показывали, из других вещей, которые я читал, при получении образования изменение места жизни и ВВП не связано с тем, работает ли человек по профессии. Соответственно это первый вопрос. Второй вопрос: вот я ожидал, честно говоря, немножко больше услышать про ваши взгляды на будущее образования и развития, нежели чем анализ прошлого. Мне интересен ваш взгляд на следующий вопрос: у нас сейчас введена система рейтинга в вузах, проводится большое количество государственных проектов, которые ставят своей целью создание элитарной системы образования, укрупнение и создание кампусов, в которые свозятся люди, и так далее. В то время как многие другие исследователи наблюдают глобальные тренды в том, что все, наоборот, уходит от этого, что образование от науки отделяется. О том, что Кембридж теряет свой смысл, образование из элитарного становится массовым, и прочее. Мне очень интересен ваш взгляд с этой стороны на будущее образования, в том числе высшего.
И. Ф.: Упрощенный взгляд на образование как на подготовку кадров не работает, требуется более тонкое понимание ситуации. И я не вижу ничего катастрофического в том, что эти ребята не работают по специальности. Более того, вот этот пятый, который пошел работать по специальности, он через 20 лет, скорее всего, не будет этим заниматься. В этом смысле вы совершенно точно заметили, есть другие экстерналии экономические. Совершенно очевидно, что если зарплата этих людей на 60% больше, то они платят на 60% больше налогов. Есть такая известная штука, называется «социальная премия на образование». Мне жаль, что я, может быть, не очень внятно выразился относительно будущего, но, по крайней мере, я честно задал вопросы относительно него. Понимаете, я про будущее точно могу сказать, что длительность образования в ближайшие 10–20 лет будет увеличиваться и дальше. Когда президент подписывает указ о том, что с трех до семи лет у нас должен быть универсальный доступ к дошкольному образованию, фактически это означает, что у нас универсальное образование начинается с трех лет. Вот это я вижу как момент будущего. Как это влияет на институциональное устройство? Есть несколько сценариев с институциональным устройством, один радикальный, который я привел в ответе первому спрашивающему, который Майкл Барбер описывает, это, грубо говоря, раскрутка комплексов таких, мегамашин образовательных на много функций, которые будут выполняться разными игроками. От этого антропологическая сущность образования изменится или нет? Не уверен. Вот в Южной Корее почти все старшеклассники учатся по времени больше у репетиторов, чем в обычной школе. Система очень изменилась, усложнилась. Нас ожидает серьезная институциональная перестройка, а вы говорите про более простую вещь, которую мы тоже наблюдаем и называем ее дифференциацией системы высшего образования, потому что мы сейчас называем университетами как минимум три или четыре совершенно разные организации. И у нас на этот счет есть довольно много работ, если кому-то интересно посмотреть специально, то эволюция описана в нашей статье недавней в отечественных записках, мы пытались понять эволюцию в российских университетах в условиях массовизации. И там начинаются очень опасные вещи. Если у нас будут элитарные вузы и вузы массовые, при этом будет обеспечиваться переход социальных групп между ними, я не вижу в этом никакой проблемы, по крайней мере в короткой перспективе. Если эти институты станут институтами сегрегации, а тренд всегда такой есть, у нас выступала недавно одна девушка, которая открывала свой частный университет, она говорит — у меня в моем частном университете кавказцев не будет. Это уже в хороших гимназиях тебе говорят: «У нас тут без кухаркиных детей», используя выражение Владимира Ильича. Такие сюжеты уже опасны. До какого времени и как образование будет воспроизводить классовую, этническую и другую структуру общества, непонятно.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Ну так и что же тогда является внутренним драйвером развития образования?
И. Ф.: Ничего. Ну, смотрите, это все очень просто. Если у вас есть ребенок, и вы учились 12 лет, то вы хотите, чтобы он учился 15. Образование, как процесс более продолжительного удержания детей в такой организованной системе с целью передачи культуры, передачи опыта, в значительной степени формируется тем, что каждое следующее поколение учится дольше, чем предыдущее. Такой вот ответ, но правдоподобный.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Вопрос на пояснение. Когда вы говорите об изменении образования, речь идет о какой-то системе образования? Я, например, считаю, что в эту секунду я учусь. И если меня спросят, чем ты занимался с пяти до семи, я отвечу, что я учился.
Потому что я самоопределяюсь таким образом, моя вот эта деятельность самоопределена как учеба. Таким образом, я эти шесть лет занимаюсь учебой. Начав учиться с трех лет, я учусь уже больше 30. Или же речь идет о системном образовании?
И. Ф.: Графики, конечно, про системное образование. Если бы я вам показал графики про так называемое образование в течение жизни, то вы бы ахнули. Там такая ситуация, например, для Северной Европы, мне в это не верится, но написано, что у них как минимум 70% взрослого населения четыре часа в неделю где-то учатся. Мне трудно это представить.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Вы начали про уровень потребления, и вот тут получается такая цепочка. Нам дают некий уровень потребления, который дает новое целеполагание. А новое целеполагание дает новые ориентиры и новые ценности. И в продолжение про Украину: либо мы сами себе определим ценности, либо нам их кто-то навяжет извне…
И. Ф.: Это вопрос хороший, кстати: формирует ли образование универсальные потребительские ценности? Скорее всего, да. Они универсальные, поэтому их никто не навязывает. Ну да, есть люди, которые сжигают «Макдоналдсы». Есть такая позиция. На этот счет есть статьи, которые показывают, что рост национального самосознания и возвращение гаэльского языка в Уэльсе (Великобритания) связан с ростом высшего образования. На английском языке, заметьте, а не на гаэльском. Мне кажется, ничего не навязывается. Если ты получаешь высшее образование, то у тебя появляются потребности, схожие с потребностями людей, которые получили высшее образование в других странах, вот и все. Можно здесь, наверное, поспорить, поискать следы Фонда Сороса, например. Но, по-моему, здесь нет проблемы. Еще раз хочу подчеркнуть: во всех странах именно национальная интеллигенция, люди, получившие высшее образование, как правило, не у себя в стране, являются источником национального возрождения.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Скажите, пожалуйста, вы говорили, что сейчас намечается тренд увеличения продолжительности образования, в связи с этим одно из последствий — сохранение в более длительный период состояния инфантильности. И возможны проблемы с точки зрения управления обществом и государственного управления. Какие новые риски в перспективе 10–15 лет, возможно, проявятся, на ваш взгляд, с точки зрения управления этим обществом, качество которого меняется в связи с увеличением периода продолжительности обучения?
И. Ф.: В 2000 году в журнале American Psychologist была опубликована статья, в которой был открыт фактически новый возраст. Очень обидно, потому что в 1993 году Борис Даниилович Эльконин написал на русском языке статью, в которой почти предвосхитил открытие американцев. Что обнаружил автор статьи из американского журнала? Он стал смотреть на то, в каком возрасте в среднем американцы начинают работать на одной работе дольше, чем один год. И выяснилось, что за последние 40 лет этот возраст увеличился в среднем, если не ошибаюсь, с 19 до 27 лет. И появился большой кусок жизни, когда человек может поучиться на каких-то курсах. Ведь в США довольно гибкая система: ты можешь учиться, ты можешь не полную программу брать, а четверть программы, и работать. Он обнаружил, что это становится социальной нормой, и назвал это «возникающая взрослость», я бы перевел это как «недовзрослость». Потом на это он наложил пробные браки. Вот, кстати, очень интересный сюжет, когда подросток пробует, он пробует абсолютно безответственно, его папа с мамой всегда поддержат. Это люди уже относительно самостоятельные. Что-то где-то заработал, потом попутешествовал, потом не работает. Государство не умеет с такими людьми работать. Надо сказать, что мы очень быстро в этот образ перешли, у нас, по нашим данным, начала формироваться эта группа. И во многом это объясняет колоссальный рост «неформальности» на рынке труда. Эти люди, как правило, не работают по специальности, а если работают, то не связывают с этим всю свою жизнь. Нередко они работают фрилансерами. Значит, это колоссальный вызов для традиционной экономики социального государства. Ну, понятно, не буду развивать, потому что там пенсия, налоги, все дела. Но вообще их не поймаешь. Телевизор они не смотрят. Когда я говорю об увеличении продолжительности обучения, то я не говорю о том, что у нас увеличится количество традиционных студентов, ну, таких вот, знаете, первокурсников, а у нас увеличится количество людей, которые на вопрос: «Чем ты занимаешься по жизни?», — ответят: «Учусь». Хотя на самом деле он еще работает где-то и так далее, но себя идентифицирует как студента магистратуры или чего-то еще.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Поскольку вы все-таки про высшую школу говорили, а не про среднюю и не про начальную, я тут провел параллели. Мне попалась как раз статья ваша — 92 года, где вы ставите вопрос так, что надо исходить не из наличия школы, а поставить вопрос о ее необходимости. То есть о той задачи, которую вне организма школы решить невозможно. А вот здесь, рассуждая о высшей школе, я, например, вашу позицию не услышал, а вспомнил анекдот, как лучший в Одессе портной шьет для мадам подвенечное платье, измеряет ее: метр, метр, метр… Где талию будем делать? В этом смысле с точки зрения вас как субъекта, где бы вы сделали талию на высшем образовании? Куда мы идем управлять?
И. Ф.: Если вспомнить эту статью, там, собственно, мы использовали методологический прием связи естественного и искусственного. Так вот, мы говорили, что надо найти естественный процесс, который школа обустраивает, если угодно, на него садится и «обискусствляет». Мы тогда такое слово вводили. В этом смысле у меня нет ответа, к сожалению, на ваш вопрос. Что сегодня должен «обискусствить» университет. Вот мы, например, сейчас проектируем новую магистерскую программу «Доказательный анализ образовательной политики». Мы хотим попробовать туда интегрировать онлайн-курсы, которые студенты сами находят. Они и так на них выходят, раз выходят, давайте мы на них сядем. Зачем тратить деньги и время и сопротивление студентов провоцировать? Мы пытаемся это найти, ну и, конечно, это то, что студенты хотят получать. Грубо говоря, мне кажется, что надо посмотреть внимательно, куда их толкает. Не в смысле «секс, драгз и рок-н-ролл». Это, конечно, вузы должны тоже учитывать, а есть ли еще какие-то у них тренды, их собственное движение, которому мы могли бы помочь? Мне кажется, что одно из таких движений — это работа, желание получить реальный опыт разного рода.
Зачем высшая школа? Для отбора и формирования той самой элиты. Работают два процесса, о которых вы сказали: с одной стороны это национальная, а может быть, и профессиональная самоидентификация, это вот некоторый дифференциальный процесс. А с другой стороны это междисциплинарность и глобализация. И тогда элита имеет некое ядро самоидентификации, но и имеет все, чтобы не закуклиться, не превратиться в элитарность в плохом смысле слова. Тогда короткий ответ. Высшая школа для того, чтобы отбирать и формировать элиту.
К сожалению, если меня можно так интерпретировать, значит, я что-то не договорил. Завершая уже совсем, скажу следующее. Первое: высшая школа сегодня становится частью общей школы. Нет сегодня высшей школы отдельно. Функцию высшей школы сейчас в значительной степени будут играть магистратура и аспирантура, это мой прогноз. А высшее образование является абсолютно всеобщим, массовым. В том-то и проблема Украины в большей степени, что никому не нужны были вузы, которые формируют элиту. У меня есть одна гипотеза, что там произошло в значительной степени. У меня есть одна аспирантка, она училась в Одесском университете. Она говорит: вы себе не представляете, какого уровня достигла коррупция. То есть там кончилось всякое образование. Уничтожили естественное минимальное желание молодых людей взрослеть, получать опыт и так далее. И в этом смысле они выморочили полностью свое высшее образование. Но, безусловно, его основной функцией является просто сохранение молодых людей там, где они находятся.
Коллеги, большое спасибо, мне было очень полезно с вами поговорить.
О взаимосвязи между образами будущего и технологическими средствами их достижения
ЛЕКЦИЯ 04 21/03/2014

Тема сегодняшнего выступления будет посвящена синтезу тех представлений о возможностях прогнозирования и понимания будущего, которые у нас есть, и созданию инструментов по встраиванию в это будущее с использованием широкого класса инструментов, в том числе образовательных, но и не только. Плюс я бы хотел поговорить о теме, которая мне самому близка и интересна, а именно — некоторые, скажем так, социальные и исторические законы, которые формируют в широком смысле такую ткань времени и нашего развития и накладывают на нас очень серьезные ограничения.
Занятной иллюстрацией существования таких странных законов может стать даже тот факт, что у меня за последнее время вторая публичная лекция. Первая публичная лекция была в ту неделю, когда уехал Гуриев. И я вот прихожу на лекцию с таким тяжелым чувством, что надо о будущем говорить, а тут что-то вот такое происходит, что невозможно вообще голову поднять. И сейчас происходят события, от которых просто невозможно отвлечься, то есть история меняется на глазах. Это какое-то забавное совпадение, а в принципе совпадений в истории практически не бывает. Всегда речь идет о том, что есть какой-то системный процесс, развивающийся иногда в явной, а иногда в скрытой форме. И как в «Матрице», если есть дежавю, значит, есть сбой, значит, есть какой-то процесс, который ты не видишь. Точно так же в истории, если что-то происходит синхронно, то, как правило, речь идет о том, что есть какой-то скрытый процесс, который ты не замечаешь. Когда появился в свое время Фоменко — совсем не глупый математик, очень авторитетный, и начал всерьез рассказы-
вать о том, что история закольцована, что, на взгляд историка, это шарлатанство, естественно. Человеку, скажем так, с системным подходом, это говорит о том, что действительно есть какие-то аналогичные истории, действительно есть какие-то синхронные вещи в сценарии развития событий, в сценарии хода истории, в каком-то сценарии последовательности движений. И они действительно взгляду человека, который анализирует процесс не как набор фактов, не как набор обстоятельств, а как набор системно связанных между собой процессов, видны. И действительно, в истории периодически в развитии событий возникают ситуации, когда можно увидеть аналогии между процессами. Вот сейчас этим все злоупотребляют, как раз в ходе последнего кризиса пытаются найти аналогии Крыма и Судет и так далее. Есть другие попытки найти аналогии. У каждой исторической аналогии свои плюсы и минусы, но в каком-то смысле исторические процессы происходят синхронно. Почему это важно? Потому что иногда этот синхронизм является чрезвычайно глубоким. Вот здесь я, пожалуй, приведу первую иллюстрацию, которая для нас, как для страны, находящейся в определенной турбулентной фазе, крайне важна.

В истории много раз случались ситуации, когда достаточно высокоразвитые страны достигали какого-то потолка развития и исчезали. Причем это происходило, как правило, если раскручивать эту историю, не под воздействием внешних сил. Нельзя сказать, что точку в развитии Рима поставили варвары. Варваров существовало до Рима примерно столько же, и вот эти варварские нашествия происходили с завидной регулярностью. Тем не менее в определенный момент что-то перестало существовать. До этого был еще один такой же знаменитый исторический обмен, как крах бронзового века. Когда одновременно три великие цивилизации — хеттская, египетская и в тот момент жившая тоже в районе Вавилона — прекратили существование под воздействием серьезных исторических причин. Связали это с нашествием каких-то племен. Это была одна из видимых причин. Но опять же нашествий племен до этого было много. То есть существуют определенные сходные процессы, когда некая цивилизация достигает пика развития, и в этот момент может наступить событие, когда она этот пик не переламывает. Не менее знаменитая история, когда Китай, бывший в свое время, в общем, долгое время, много сотен, даже тысяч лет, второй экономикой мира, достиг действительно очень высокого технологического развития; тем не менее довольно быстро «сложился» под монгольским нашествием.
Вот этот момент, когда цивилизация останавливается в развитии, в истории повторялся неоднократно. И практически всегда присутствовал ряд факторов, как внутренних, так и внешних, но мне интересен прежде всего технологический аспект их истории, который предопределял как бы необходимость делать следующий шаг, но этот шаг не происходил. Вот мы в каком-то смысле сейчас находимся в похожем цивилизационном шаге, когда происходит очень существенный технологический сдвиг. В известной ситуации краха бронзового века одной из важнейших причин называют именно такую радикальную смену бронзового оружия железным, но это только один из аспектов, на самом деле там было много других обстоятельств. Но практически в каждый вот такой исторический эпизод, когда происходил перелом, это было связано с той или иной сменой технологической парадигмы, которая крупными государствами не улавливалась.
Поэтому когда мы начинаем смотреть в будущее, то полезно вообще сразу уйти от мысли, что оно является каким-то комплексом уникальных обстоятельств. Оно практически всегда воспроизводится по определенным законам. В этом смысле какая-то точка зрения на некую цикличность процессов или на сходство сценариев имеет место быть. Другое дело, что не так просто эти сценарии вычленять и не так просто эти циклы выявлять. Это довольно сложная историческая задача, и ни одна из моделей, которая кем-либо когда-либо предлагалась, на данный момент не является официально мейнстримом. Это все разного рода такие паратеории, которые в общем не сведены еще ни в одну четкую конструкцию. Тем не менее они имеют место быть.
Есть еще один заход; я его тоже хотел бы, предваряя некоторое развитие дискуссии, предложить. Недавно я обратил внимание на забавное совпадение. Есть такой знаменитый литературный памятник — Лапута, «Путешествия» Свифта. Если смотреть на то, как устроена Лапута, то в ней неожиданно обнаруживается масса вещей, которые тогда были абсолютно необъяснимыми, но с нашей точки зрения сейчас являются совершенно естественными. Начнем с того, что сама Лапута описывалась как центр власти, который существовал поверх мира и осуществлял власть путем периодического такого проникновения в реальность, то есть она появлялась над городом и применяла методы воздействия. Если город соглашался, то платил дань, если не соглашался, то с ним происходили разные очень неприятные вещи, не было никакой возможности сопротивляться. Фактически это система контроля, которая сейчас в мире развернулась, только это не Лапута, а это авианосные ударные группы, то есть примерно та же самая конструкция. Есть отдельные точки силы, есть некая абсолютно подавляющая мощь, и она существует немножко в другом мире, она существует в мире, который вообще устроен по-другому, люди не могут понять, что там происходит.
Очень смешная аналогия — там знатный лапутянин описывается как человек, который большее время существует в каком-то другом мире, то есть нужен специальный человек — хлопальщик, который выводит его из какого-то состояния, чтобы с ним можно было вступить в коммуникацию. Человеку времен Свифта это казалось дикостью. Для человека с гаджетом, а еще с Google Glass или с ноутбуком это уже реально никакой сложностью не является. Вот сидит человек в другой реальности; чтобы вывести его к коммуникации, надо подойти, похлопать его по плечу и сказать: «Вася!», и так далее. То есть, наше существование сейчас в какой-то параллельной информационной реальности — это абсолютно свершившийся факт. Для Свифта, очевидно, в то время это было совершенно непонятно.
У меня, знаете, иногда возникают аналогии, что действительно это интересно, это какой-то случай, как машины времени, или реально есть какие-то процессы, которые можно определенным образом экстраполировать, посмотреть, предугадать, увидеть их зародившимися в том, что у тебя уже есть сейчас. То есть я не вижу никаких технических аналогий, которые могли бы подсказать вот эту историю с существующими в астрале высшими людьми, хотя, возможно, это какая-то аналогия с мистическими практиками того времени. Но та технология, которая сейчас строится, во многом строится по образцу каких-то сказочных сюжетов, по образцу реализации наших представлений. Мечта говорить с другим человеком, не ограничиваясь расстоянием, мечта полета — она существовала всегда. То есть существуют какие-то образы в человеческом сознании, есть какие-то образы, существующие в коллективном сознании, которые человек постоянно пытается выхватить и положить их на материал. Вот что-то подсказывает, что таких образов достаточно много, и человек постоянно пытается их реализовать. Он пытается угадать, осуществить какую-то невозможную вещь и реализовать ее в своем мире. Вот мы сейчас переживаем такой момент, когда очень многие невозможные вещи становятся технически возможными. И вот это умение или такая интуиция, позволяющая эту невозможную вещь превратить в технологию, — это на самом деле то, что всегда создавало так называемые breakthrough innovation, то есть создавало какие-то поворотные моменты.
Не могу сказать, что я как-то долго готовился к лекции; у меня, к сожалению, не было такого времени. Но, тем не менее, размышляя по дороге, я вспомнил классическую историю о том, что по большому счету существенному техническому, технологическому прорыву в современной космонавтике предшествовала определенная стадия появления, скажем так, некоей космической философии. И цикл фантастических романов, и Циолковский. В Германии это были свои философы. Те, кто формулировал определенный запрос, определенный вызов, определенную картину мира, которую технически тогда реализовать было невозможно. Техническая ее реализация шла потом. И похоже, что при наличии ясно сформулированной задачи, ясно сформулированного образа техническая картина мира находится значительно более быстрыми темпами, чем происходит какой-то рутинный технологический поиск. Причем нельзя сказать, чтобы существовала какая-то четко поставленная задача. Вот я об этом скажу дальше, что механизм четкой постановки задач и планирования достижения результата в попытках достичь будущего никогда не срабатывает практически, а всегда срабатывает совершенно другой механизм, а именно — механизм попыток попасть в новое окно возможностей, но это окно возможностей должно быть сначала описано.
Так вот, похоже, что взаимодействие человека и будущего, взаимодействие человека и той технологической среды, которая формируется, социальной среды — это цепь такого взаимного обмена между образами будущего и представлениями о будущем, таких красивых идей, которые люди формулируют, и тех возможностей, которые под них формируются, исходя из практического технологического материала. То есть идея и мечта иметь с людьми персональный контакт и общение вне зависимости от расстояния существовала практически всегда, но технологически она развивалась всегда из тех возможностей, которые были. И, кстати говоря, практически всегда появление какой-то новой системной инфраструктуры давало мощный рывок. Это очень важный момент. И вот этот взаимообмен какой-то идеей, сверхидеей и ее технической реализацией — это, пожалуй, в истории самое интересное.
Попробую здесь нарисовать несколько таких конкретных моделей, как это происходит. В принципе можно было бы, наверное, попытаться сделать это системно. Это, наверное, отдельная интересная работа. Если бы какая-то футурология существовала в виде регулярной науки, наверное, это можно было бы сделать. Но, похоже, что есть некий конкретный набор метатехнологий, мегатехнологий, реализация которых позволяет совершить качественный рывок.
Вот связь, распространение информации — это практически всегда такая вот breakthrough innovation на всем протяжении человеческой истории. Были очень знаменитые примеры, например, персидская конная связь, которая позволила удерживать государство в том объеме, в том размере, который не существовал никогда до этого. То есть это была, пожалуй, одна из самых крупных империй с самым лучшим управлением на тот момент. Это была чисто технология связи. Использовались кони перекладные со специальной станцией, и скорость прохода приказа от столицы до метрополии осуществлялась в совершенно феноменальные по тем временам периоды, то есть армия шла недели, месяцы, а всадник мог проскакать за дни или полторы недели максимум. Совершеннейшая вот такая breakthrough история.
Довольно долгое время технологическая рамка ограничивала возможности передачи информации, но каждый раз, когда появлялась новая технология, происходил качественный скачок. Объем и скорость передачи информации всегда предопределяли, полностью меняли социальное, в том числе, устройство. В каком-то смысле даже размеры империй, размеры исторических ареалов прямо сопоставлялись со скоростью и объемом возможностей передачи информации. Широкое географическое освоение началось только с появления понятия карты и с появления понятия возможности передачи информации о расположении какого-то места. До появления четких карт физически эти процессы не осуществлялись. Например, знаменитая история про то, что Китай не смог выйти за свою территорию, во многом была связана именно с отсутствием возможности создания карт, возможности представить себе ту реальность, в которой ты находишься.
Скорость и объем передачи информации прямо влияли практически на все более понятные нам процессы, появление книг радикально расширило количество людей, вовлеченных в передачу информации, систематизировало, унифицировало информацию. Сразу из этого примерно в одно историческое время возникло представление о национальных языках, это прямо повлияло на политический процесс, потому что до этого в свитках и в рукописях все существовало на одном языке. Вслед за этим появилась возможность быстрого распространения информации, появились газеты. Первоначальные газеты были довольно дорогим элитарным удовольствием, но как только появились массовые газеты, это резко подтолкнуло политический процесс. Началось очень быстрое развитие событий.
В каком-то смысле каждую историческую эпоху можно прямо сопоставить с типом информационного фундамента. С массовыми газетами появился современный национализм, современная демократия; с радио и кино появились все формы XX века, в частности, я подвожу к мысли, что ни одна тоталитарная идеология, крупная такая, наднациональная, невозможна без чисто технологического аспекта. Если бы не было радио — не было бы ни Гитлера, ни других таких крупных государственных пространств в то время, не было бы феномена США и так далее. Это чисто эффект возможности, информационного охвата, формирования картины мира у множества людей определенным технологическим способом. И без появления телевизора не возникла бы более современная форма той же самой либеральной демократии. Это, кстати, хорошо известный пример, когда с появлением телевизионных дебатов менялась политическая культура. Сама возможность проведения дебатов между двумя политиками формировала новый тип культуры, в том числе выборной культуры. Это прямо связанные вещи.
Сейчас мы все дожили до момента, когда появились социальные сети и само появление социальных сетей полностью начинает менять и социально-политические процессы. Недаром «арабскую весну» и другие революции, произошедшие в последнем десятилетии, прямо связывают с возможностями интернета, социальных сетей. Вот не знаю, правда или нет, — Эрдоган вчера запретил Twitter, чтобы не допустить такого распространения и так далее. Потому что сама технологическая среда позволяет воплощать социальные процессы, которые раньше не были возможны. Это такая очень четко прослеживаемая линия. И мы можем быть абсолютно уверены, что любой новый поворот в области развития информации, управления и передачи больших объемов данных неизбежно приведет к полному изменению нашей жизни, начиная от ее социально-политического устройства и заканчивая каким-то технологическим уровнем.
Если немного забежать вперед, то мы сейчас приближаемся к ситуации, когда объектом передачи и объектом взаимодействия уже является не столько информация и не столько текстовая информация, и не только уже видеоинформация, и не только звук, сколько то, что является в каком-то смысле более первичным по отношению к этому, то есть эмоции, какие-то когнитивные объекты, смыслы и так далее. И вот сейчас даже на материалах соцсетей хорошо видно, что объектом трансляции является уже не сама по себе информация.
Тут я воспользуюсь горячей политической аналогией. В ходе развития ситуации «Россия — Украина — мир» четко видно, что в мире сформировалось несколько абсолютно самодостаточных информационных пространств, которые между собой практически не отождествляются. Возникло несколько разных реальностей. Одни и те же факты, одни и те же обстоятельства, одни и те же люди, одни и те же процессы вообще кардинально по-разному воспринимаются. Это на самом деле очень интересный феномен, он заслуживает отдельного изучения, но в его основе, на мой взгляд, лежит сбой в чисто коммуникационных параметрах. Первое — это скорость распространения информации, а второе — это возможность прямой передачи эмоций безотносительно привязки их к ходу событий. То есть первая история — это классическая история про соцмедиа, когда все ведущие медиа соревновались в скорости выдачи информации, чтобы собрать максимум лайков, поэтому первое время количество фейков и дезинформации, вбрасываемых самыми сильными брендами, просто зашкаливало. Это чисто коммуникационный аспект был. Люди торопились. В итоге был сформирован абсолютно избыточный объем информации, люди в нем начали теряться, перестали понимать, откуда идет правда, и выяснилось, что на восприятие информации прямо влияют какие-то более глубинные установки, связанные скорее с такими в глубине сформированными ценностными блоками, то есть как некое кредо. Люди во что-то верят, люди как-то воспринимают эту информацию, и вот они откатились в восприятии информации от фактического рассмотрения событий к вот этому первичному. Произошел естественный возврат восприятия ситуации действительно к мифам — мифам холодной войны, мифам каким-то 20–30-летней давности. Это случилось естественным образом, потому что люди не смогли разобраться в потоке информации, произошел откат.
Так вот, этот откат был вызван, прежде всего, тем, что вместо информации мы начали потреблять эмоции. И эмоции стали основным контентом информационных сообщений. Эмоции как основной контент политических коммуникаций периодически возникал. На самом деле эта технология была впервые как раз опробована в революционной истории, ведь навешивались маркеры — «революция роз», например, или еще что-то, то есть навешивались эмоциональные маркеры, которые использовались. Но раньше всегда эмоциональные маркеры использовались не более чем как инструменты консолидации. А сейчас этот неимоверный объем эмоций был использован для того, чтобы вывести человека из рационального состояния в состояние иррациональное, такое дорациональное, когда работают более глубинные мифы, вызревшие на базе культуры. И это очень интересный месседж, потому что интересная ситуация. Похоже, что мы, благодаря новым коммуникационным технологиям, можем переходить к прямой передаче эмоций рано или поздно, минуя информацию. И вот это будет очень интересно. Сейчас огромные прорывы происходят вообще в нейробиологии, есть возможность понять, как устроен человеческий мозг как объект управления. Сейчас реализуются сразу два мегапроекта в этом направлении — американский и европейский, это вы наверняка знаете, и вот их результатами может стать именно понимание, как существует наша когнитивная рамка, как существует наша эмоциональная рамка и как на нее прямо воздействовать. В принципе уже сейчас есть такие эксперименты (я не знаю, может, потом все-таки получится показать, если надо будет) по прямой передаче мыслей, навыков. Это уже реализованные истории, по крайней мере на лабораторном уровне с животными. То есть эта штука работает.
Значит, если мы делаем, очевидно, следующий шаг к тому, что прямой передачей уже может быть не только объект информации, но и, например, эмоция или какая-то простая, для начала, когнитивная функция, то мы сразу получаем совсем другое человечество, совсем другую социальную ткань, совсем другое общество. И возникают вопросы действительно вызова, а что с этим делать, как этим управлять, кто и что здесь является объектом управления. Можно привести пример, что когда человечество добегает слишком быстро в техническом плане до какого-то рубежа, но не способно им управлять, то возможен откат. Это как раз случай Римской империи, которая почти добежала до индустриализации, но не смогла выдержать такого объема процессов и в общем немножко умерла. И совершенно не факт, что сейчас мы сможем легко перевалить через вот этот технологический рубеж, потому что та раскачка, которая пошла сейчас в информационном плане, очень быстро вернула нас на пятьдесят лет назад в плане представлений о мире и международном взаимодействии, и еще неизвестно, чем это все кончится. Это такой классический сюжет, который все время возникает. Еще раз повторяю: его можно смело отнести к одному из таких воспроизводящихся сюжетов о превышении возможности, такой сюжет об Икаре, когда технологические возможности есть, а взлетаешь слишком высоко — и происходит падение.
Итак, я взялся перечислить некоторые рамки, в которых можно наблюдать их развитие.
Первый параметр — это скорость и объем передачи информации. Скорость и объем передачи информации — довольно четко исчисляемые величины сейчас. Они в экспоненциальном параметре сейчас растут, удвоение происходит довольно быстро, причем в последнее время удвоение и скорость передачи информации (это один из вариантов закона Мура) еще больше ускоряются. Рубеж, когда объем передаваемой информации будет превышать все, что мы знаем уже в процессе коммуникации, тоже просматривается в определенном горизонте, и что с этим делать, как это будет происходить — это, на самом деле, очень большой вопрос. Потому что один из феноменов, который мы все время наблюдаем, если, опять же, посмотреть на всю историю (вот я ее так бегло набросал пунктирно) развития социальных структур в параллели с развитием информационных структур, то в ней все время происходил очень интересный момент. С одной стороны, человек становился все больше и больше индивидуальностью и личностью, а с другой стороны, унификация поведения и мышления была все более и более массовой.
Один из самых простых примеров: как раз во времена распространения книг, даже после книг — газет, произошла практически полная унификация европейских языков внутри языковых групп. Та же самая Франция, которую мы знаем сейчас как страну, довольно монолитно говорящую на одном языке, еще в начале XIX века была страной с очень сильным различием в диалектах. Марсельский выговор и парижский были очень разными. Тем не менее произошла унификация. И вот каждый раз, когда появляется технология, которая увеличивает объем передаваемой информации, унификации становится все больше и больше. Если поставить вопрос: увеличилась или уменьшилась за время развития цивилизации сложность объекта, то, похоже, можно предположить, что она сохранилась, но с учетом увеличения количества людей на несколько порядков. То есть различий осталось столько же, но если раньше различие было в рамках нескольких деревень, то сейчас это различие между странами.
Сейчас единомыслия в масштабах государств нет, зато возникают среды единомыслия. То есть люди, объединенные ценностями, объединяются в рамках какой-то сети контактов. Это вы все, наверное, по своим «Фейсбукам» видите, особенно сейчас. Я не знаю, как у вас, а вот у меня «Фейсбук» состоит из двух типов людей, одни — за, другие — против. Между ними — пропасть. Внутри них — высокий уровень единомыслия. Вроде бы все — здравые люди, можно сесть, поговорить. А вот такая редукция смыслов — она происходит очень быстро. Если говорить о том, как технологические рамки определяют нашу историю, то, похоже, мы сейчас можем перейти к ситуации, когда благодаря объему и скорости передачи информации и благодаря гигантскому росту количества людей будут взламываться традиционные различия, например, национальные или языковые, но зато при этом формироваться совершенно новые уникальные общности — трансграничные, транскультурные, транснациональные, но при этом базирующиеся на одной системе принципов. Вот эти целостные системы принципов, на базе которых будут формироваться такие глобальные общности, — это, конечно, вызывает очень большой интерес, как это будет происходить. Явно они не будут строиться на каких-то устаревших вещах вроде национальных принципов. Это явно будут какие-то новые принципы. Но не факт, что они будут строиться на тех принципах, которые сейчас сформированы, — например, на ценностях демократии, условно говоря. Ценности демократии — это все классно, но это идеологическая конструкция пятидесятилетней давности, и она где-то работает, а где-то не работает. То есть попытка ее привнести в традиционалистское общество и применить приводит к тому, что там все превращается в хаос. Это мы видим по тем же арабским странам, которые были отформатированы. Значит, там нужна какая-то другая, а какая? Новая не изобретена.
Попытка ответа на процесс унификации смыслов, унификации представлений, образования мегасетей — некое такое вот новое культурное строительство, строительство принципов, которое является в чистом виде образовательным проектом, я бы сказал — культурным проектом. Потому что то, на что мы все сейчас откатились в ситуации информационного хаоса, — это были те принципы, которые были сформированы в нас, в каждом из нас, вообще говоря, в детстве, в ранней молодости и так далее, то есть когда мы были достаточно гибкими и пластичными. И вот хорошо видно, что люди с разной личной историей по-разному реагируют на события. То есть их восприятие происходящих процессов зависит не от того, как они анализируют факты, а от того, как у них была в свое время сформирована картина мира. И вот этот дизайн картины мира (это чисто культурный проект) — он сейчас, похоже, становится такой ключевой метатехнологией. Такое вот современное мифотворчество. Вот как это выстроено, как это сформировать, как обеспечить связность, целостность, жизнеспособность этого пантеона, как сделать его достаточно полным, гибким, чтобы он впитывал реальность — это сейчас действительно очень интересный момент. И я смутно подозреваю, что ближайшие двадцать лет турбулентности (а это точно не на год, это, действительно, на десять — двадцать лет) — это выстраивание нового пантеона, нового такого мегапантеона, новой культурной рамки. Если брать какую-то аналогию, то это скорее аналогия к временам Французской революции и борьбы за независимость США, когда была создана культурная рамка современного общества. Возникло понятие демократии, свободы, национальной независимости. Мы сейчас переживаем примерно схожий момент в масштабах истории, и на самом деле сейчас мы только вступаем в эту стадию турбулентности, мы не можем сказать, чем это кончится, как кто-нибудь в конце XVIII века не мог сказать, чем закончатся истории, начавшиеся тогда.
Это первая рамка — скорость, объем информации, возможность перейти к передаче других первичных информационных объектов, когнитивных функций, эмоций и так далее.
Вторая рамка, которая мне лично всегда была очень интересна и которая сейчас в каком-то смысле немножко забыта, — это пространственная рамка. Практически всю историю человечества можно поделить на шаги, когда некая сфера достижимого (я люблю этот термин), сфера возможного для людей и сообществ была четко технологически ограничена. Сначала сфера достижимого — это куда ты можешь дойти за день-два. Если куда-то надо идти месяц, то это, скорее всего, где-то очень далеко, скорее всего, там живут совершенно по-другому. Потом появились различные технологии. Например, взрыв той же самой греческой цивилизации был связан именно с тем, что они успешно освоили каботаж и расселились на достаточно большом расстоянии.
Мне в свое время показалось достаточно любопытным наблюдение, я не могу его назвать какой-то доказанной закономерностью, но я его вижу достаточно непротиворечивым: каждый раз, когда сфера достижимого радикально расширяется, происходит взрыв глубины осознанности. Я это наблюдал даже на людях, на стадиях взросления детей. Всякий раз, когда сфера достижимого человека резко увеличивается, его глубина понимания мира и качество понимания мира резко улучшаются. И всякий раз, когда человек упирается в определенную границу ойкумены, в определенную границу достижимого, его развитие останавливается.
В этом смысле технологическое, социальное, психологическое, культурное развитие в истории человечества всегда связано с экспансией. Не было практически ни одного случая, чтобы этого не происходило. Каждый раз, когда страна ограничивается определенными барьерами, ее развитие останавливается. Тот же самый пример Китая знаменитый. И другой пример — Европа. Европа на момент начала освоения мирового океана в культурном, экономическом смысле по уровню жизни была довольно периферийной областью. Она проигрывала и арабскому миру, и Китаю, и Индии того времени. То есть это было довольно бедное захолустье. С момента начала освоения Мирового океана и плавания ее развитие перешло на качественно новый уровень. Здесь можно найти много прагматичных узких причин: более выгодная торговля, возможность добывать ресурсы у совсем малоразвитых племен и так далее. Это все объясняет, понятно. Но можно найти много других таких примеров, и в них будут другие обстоятельства, а правило будет работать. То есть чем больше сфера достижимого — тем более сложное, высокоразвитое общество, и тем быстрее оно движется вперед. Довольно странный закон, но он, на мой взгляд, работает.
Если его попробовать приложить к настоящему, то мы сейчас переживаем очень интересный момент, когда сферой достижимого человечества является Земля целиком. При помощи самолета мы можем долететь до любой части света меньше чем за сутки. При помощи информации мы можем визуально контактировать и общаться с любым человеком в мире в режиме реального времени. Мы, может быть, не освоили вершины гор и дно морей, но по большому счету там ничего интересного. Все, что нам было бы интересно, мы освоили. В каком-то смысле это рубеж. Его надо как-то переходить. Опять же в истории человечества, когда ты достигаешь рубежа, то либо развитие заканчивается и приходит какой-то молодой горячий варвар, либо делается переход.
Куда делать переход? Вот тут возникает развилка.
Одна развилка — это, скажем так, реально пространственная, речь идет о космосе, о возможности освоения других каких-то пространств, планет, всего прочего, и сейчас появляется все больше фактов того, что чего-чего, а пригодных для жизни планет в космосе вагон; другое дело, как долететь — непонятно. А с другой стороны, появилась полностью готовая технология создания пространств под свои пожелания. Ну, хорошо, понятно, история про виртуальные пространства, виртуальные миры и прочее. Сейчас виртуальная реальность — это один из самых мощных мегатрендов. Он бурно развивается, появляется все больше и больше виртуальных сред, виртуальных миров, в них сейчас пока погружаешься только визуально и аудиально, хотя уже сейчас с Oculus и с другими вещами это погружение достаточно правдоподобное. Но поскольку нам осталось лет пять-десять до, наверное, полного управления базовыми органами чувств через импланты или через какие-то наведенные эффекты, шапочки из фольги и так далее, то, похоже, что полное погружение в другую реальность — это вопрос очень короткой техники.
Это один из знаков вопроса, который лично я себе поставил, наверное, году в 1994-м. А как мы пойдем развиваться? Дело в том, что у обоих этих вариантов развития есть совершенно разные особенности. Как развиваются люди в виртуальных средах, мы сейчас на самом деле хорошо видим. Люди туда уходят с головой, там создаются какие-то замкнутые пространства, и люди там себя комфортно чувствуют. Но при этом не происходит никакого возврата, никакой отдачи, то есть на общее развитие это прямо не влияет, только опосредованно. Не знаю, знакомы ли вам такие примеры, но для очень большого количества людей (еще не миллиардов — миллионов, десятков тысяч, сотен тысяч) виртуальные среды уже являются полностью самодостаточными в экономическом плане, то есть люди в них могут жить. Зарабатывать там деньги и так далее. Слышали, наверное, все эти истории про китайские тюрьмы, в которых заставляют играть в World of Warcraft? Есть другие примеры кроме World of Warcraft. Есть EVE Online, где есть абсолютно самодостаточные экономические, так скажем, сообщества, там люди, кто плотно играет, зарабатывают деньги, сопоставимые с деньгами, которые можно зарабатывать в реальной жизни, и просто живет там по восемь, да какие по восемь — по двенадцать — шестнадцать часов в день. Тут он только ест и спит.
У меня даже в свое время сформулировался такой довольно жесткий тезис, что виртуальные миры и компьютерные игры сейчас становятся способом утилизации ненужных людей. То есть появляется много людей, им надо чем-то заниматься, реальной потребности в них экономика не испытывает — вот, пожалуйста, есть виртуальные среды, ты можешь туда уйти и там, в принципе, можешь жить. Или, по крайней мере, у тебя так меняется система ценностей, что те ценности приобретают для тебя большее значение. Соответственно, тебе уже нужно меньше денег, меньше каких-то других историй, ты там существуешь, а здесь как-то поддерживаешь существование многими способами. И вот этот утилизационный инструмент, мне кажется, очень опасен. И это очень серьезный вызов, потому что реально (сейчас я не помню цифру) количество людей, активно использующих мультимедиа-пространство, измеряется сотнями миллионов. По-моему, четыреста миллионов игроков, сто восемьдесят миллионов кастомеров, то есть кто еще за это платит. Это уже крупные цифры. Еще немножко — и счет пойдет на миллиарды. Из этого миллиарда какая-то доля уже действительно будет полностью утилизироваться виртуальными средами, будет там жить.
Хорошо, возможна ли какая-то отдача? Вот здесь возникает вопрос: а можно ли приспособить виртуальные среды для чего-то полезного, кроме как для того, чтобы люди себя в них утилизировали и получали там какое-то развлечение?
Было несколько попыток (вы наверняка о них слышали) использовать виртуальные среды для решения задач. Например, это знаменитая история про игры. Это не виртуальная среда, скорее прокомбинаторная игра, когда надо было геном белки моделировать; это известный кейс. Но это был такой частный случай. Предпринималось много попыток прикрутить виртуальные миры к образованию, но не скажу, что это реализовано до конца, хотя это очень благодатная почва. Потому что, действительно, если мы переходим к задаче культурного, мировоззренческого дизайна, причем гибкого и быстрого, то виртуальные среды для этого очень подходят. Ну, например, классический мир компьютерной игры начинается с того, что убийство — это доблесть. Там же счет идет по количеству убитых. Уже — бах! — и базовую ценность у тебя выключили, ты уже молодец не тогда, когда ты ведешь себя как приличный человек, а наоборот, когда ты как можно больше убил. Вот такая простенькая вещь. Вроде бы это всего лишь игра, вроде бы доказано, что компьютерные игры не влияют на поведение, и Брейвик перестрелял детей не потому, что он в шутере настрелялся, а просто потому, что он псих. Да, это, с одной стороны, доказано. С другой стороны, если у человека на какое-то время выключается базовая этическая ценность, то в течение длительного периода его система ценностей может трансформироваться. Это сейчас предмет широкого круга исследований, и это пока вопрос, на который нет ответа.
Могут ли быть вот эти виртуальные среды таким источником технологий для глубокого перепрограммирования поведения, глубокого изменения системы ценностей, такого сильного изменения стереотипов человеческого поведения? Скорее всего, да. Насколько глубокого, насколько сильного — это вопрос, но я думаю, что в ближайшее время мы увидим ответ на это. Но это не отвечает на наш базовый вопрос: а что делать со сферой достижимого.
Вполне возможно, у меня была в свое время такого рода гипотеза, что может сработать, так скажем, технология виртуализации функций. Это уже сейчас работает, на самом деле, в полный рост, например, в технике управления военными дронами, то есть фактически это же компьютерная игра. То есть сидит оператор в Аризоне, у него экран, он по этому экрану там джойстиком управляет. То, что этот дрон летает где-то и там живые люди, — это понятно в общем-то, но в принципе это неотличимо, то есть по картинке это одно и то же. Сейчас современные техники управления поведением пехотинцев в бою тоже на самом деле очень близки к этому, и даже движки для этих планшетов офицерских во многом брались от компьютерных игр, например, движок Counter Strike использовался для одной из версий системы управления боем, которую применяют, разрабатывают, насколько я знаю, в Штатах. Уже в каком-то смысле грань стирается, и вот эта виртуализация и эти виртуальные пространства становятся как бы элементом переноса технологий. Тебе не надо быть пилотом самолета, летать, чему-то учиться. Ты можешь сидеть у себя в уютном бункере и играть в компьютерную игру фактически.
Это хороший такой понятный тренд, но есть, похоже, еще более глубокий тренд, а именно — как бы перевод в систему виртуальных отношений прямых технологических процессов с тем, чтобы переквалифицировать их в нечто значительно более интересное. Например, человек без большого интереса занимается добычей ресурсов в реальной жизни, зато с большим энтузиазмом занимается этим в компьютерных играх. Просто потому, что там все это так выстроено определенным образом. Это такие очень простые правила, которые используют все создатели игр. Очень четкие правила, как заставить человека постоянно себя принуждать к чему-то. В реальной жизни они плохо работают. Ну, работают по-другому. В компьютерных играх работают хорошо. Вполне возможно, что уже в ближайшее время начнутся попытки перевода социально неинтересных функций в виртуальные функции. То есть человек будет, как пилот джойстика, играть в игру, а на самом деле это будет превращаться в управление технологическими процессами, какими-нибудь экскаваторами где-нибудь на руднике, но это будет делаться из Москвы, из квартиры, уютной и удобной.
Это довольно интересный вариант развития событий, но он тоже пока не отвечает на вопрос: а что со сферой достижимого, где новые миры, где новые пространства? Пока на данный момент ситуация немножко застопорилась, темп роста числа компьютерных игроков виртуальных миров чуть-чуть подзастрял. Самые глубоко интегрированные, с глубоким погружением компьютерные игры пока не взлетели, но, похоже, мы здесь просто ждем такого небольшого технологического пакета в виде упомянутых мной гаджетов, датчиков и всего прочего, которые позволят человеку полностью уходить в виртуальную реальность и полностью в ней существовать. И вот тут откроется совершенно гигантская ниша для создателей этих миров, этих игр. Потому что полноценная игра, полноценный мир — это довольно сложная интеллектуальная конструкция. Непротиворечивые правила, «вкусная» эстетика, комфортная система мотивирования — это очень сложная история. Это тот самый случай, когда чисто гуманитарные науки становятся глубочайшим образом индустриальными. То есть если в классической социологии человек — это объект изучения, то с точки зрения гейм-дизайнера, человек — это такой робот, объект, на который, если прикладывать определенное воздействие, он дает определенный отклик.
Вполне возможно (я не исключаю этот сценарий), что сфера достижимого будет резко расширена за счет виртуализации, то есть начнут появляться новые страны, новые планеты. Ну, собственно, новые планеты и появляются уже в современных играх, где человек полностью уходит в совершенно новую реальность.
Тут есть одно «но». Есть такой большой-большой знак вопроса, на эту тему было несколько дискуссий.
Мы как раз с Игорем Рубеновичем Агамирзяном дискутировали. Есть первое предположение, что в рукотворно созданных человеком мирах не может появиться ничего принципиально нового. Эффект расширения сферы достижимого в чем? Что появляется нечто принципиально новое, человек сталкивается с тем, с чем он не сталкивался раньше. Новые люди, новые культуры, новые условия, новый климат, новая природа, новые минералы. Это расширяет его, стимулирует к развитию. Но если человек «задизайнил» мир, что там может появиться нового? Это просто комбинация чего-то ему и так знакомого, и это не расширяет его сознание.
С другой стороны, похоже, что современная сложность информационных систем достигла такого уровня, что просто за счет эффекта масштаба в них начинает появляться новая информация, новые явления изнутри себя. Наверное, слышали, что сейчас трейдинговых алгоритмов очень много, которые занимаются торговлей на биржах, роботов-алгоритмов. И вот в какой-то момент был какой-то странный сбой, в результате мировая экономика потеряла чуть ли не несколько, не помню, то ли миллиардов, то ли триллионов долларов — непонятно, куда они исчезли. Вот сбой трейдинговых алгоритмов. Это совершенно новая информация. Откуда она взялась — никто не знает. Ну, такой артефакт. Возможно, он интересный. По крайней мере, сейчас есть гипотеза, что при создании достаточно мощных объемных гигантских интеллектуальных пространств в них начнет сама по себе появляться новая информация, и мы не будем понимать, эта информация является запрограммированной создателем, или эта информация возникла сама по себе.
Это возвращает нас к гипотезе о возможности существования искусственного интеллекта, потому что это абсолютно эквивалентно тому, способен ли компьютер находить решение задач, а не просто комбинировать варианты. Но вот здесь есть большой жирный знак вопроса, ответа на него нет. Тем не менее утилизационный вариант расширения сферы достижимого с появлением виртуальных пространств, куда можно утилизировать большое количество народа, остается, он есть, но это один из ответов. Все-таки нам ближе другой вариант. Ну, не ближе, нам как-то хочется вживую все это пощупать.
Во-первых, здесь есть еще огромный задел для расширения сферы достижимого у людей, потому что кто-то может раз в неделю летать в Париж, а кто-то не может. Это значит удешевление транспорта, логистики, выравнивание благосостояния, создание копии Парижа под каким-нибудь китайским городом, чтобы можно было не в Париж лететь, а в этот город. Вот это расширение сферы достижимого не для человечества в целом, а для усредненного гражданина продолжается. В среднем уровень сложности, интеллектуальная ценность растет, объем интеллектуальной деятельности человечества в целом прогрессирует. Рано или поздно мы все равно упремся в физические размеры, надо делать следующий шаг.
На данный момент похоже, что основным препятствием для реальной космической экспансии является именно неисчерпанность потенциала расширения традиционными способами. Грубо говоря, как только мы упремся в эту сферу, то вопрос преодоления станет для нас вопросом принципиальной важности — и ответ будет найден за достаточно компактное время. Но он не возник. Нам это не нужно. Мы вот эту задачу расширения сферы достижимого и увеличения уровня сложности нашего мира решаем и так. Это такой интересный, для меня лично очень неприятный и пессимистичный вывод, но, похоже, что лет пятьдесят у нас еще экспансии механической есть. Хотя, с другой стороны, довольно во многих вопросах было бы уже желательно что-то пробовать, во всяком случае, на уровне Солнечной системы, потому что в принципе все открытия, необходимые для колонизации Марса, Луны или добычи астероидов, были уже сорок, тридцать лет назад, как сделаны. Сейчас в космонавтике происходит чрезвычайно интересный процесс от алгоритма к цифре, то есть все, что было спроектировано, разработано и рассчитано на логарифмической линейке, сейчас рассчитывается и моделируется на компьютерах — и, между прочим, не все получается воссоздать, это очень интересный момент. Там есть вещи, которые сейчас воссоздать труднее. Но тем не менее это происходит.
Есть очень красивые эпизоды, когда воссоздание занимает больше времени, чем создание. Я больше всего люблю историю про самолет-невидимку. Первый раз самолет-невидимка был сделан в Германии в рамках тендера, который объявила «Люфтваффе» в 1943 году, и в 1945 году он уже полетел. Это был самолет, невидимый тогдашним радарам. Естественно, вся документация и образцы уехали в Штаты, и то, что мы сейчас знаем как первый самолет-невидимка, это один в один. Все базовые решения немцы сделали за два года — геометрию крыла, тип покрытия, расположение двигателей. То есть все базовые вещи, которые обеспечивают невидимость. Штатам понадобилось около сорока лет, чтобы воспроизвести технологию. На новом уровне сложности с другого типа двигателями, с более качественными покрытиями, но тем не менее просто воспроизвести. Это очень интересный эпизод. Поэтому то, что сейчас происходит с космической технологией, — это некое воспроизведение, попытка сделать шаг дальше, но — еще раз! — он пока недоиспользован.
Итак, можно найти некоторые простые константы, которые влияют на нашу жизнь. Третья константа, которая является для нас базовой и во многом определяет наше существование, — это продолжительность жизни. Довольно понятная история. Хотя сейчас уже понятно, что разговоры про то, что люди жили раньше совсем мало, а сейчас значительно дольше, во многом связаны с тем, что это вопрос статистики. Тем не менее, действительно, срок жизни человека значительно вырастает. Есть очень четко известные моменты, когда, преодолевая определенный порог срока жизни, человеческое общество менялось полностью. Например, когда срок жизни был примерно равен сроку, когда у тебя вырастает ребенок до какого-то возраста — это было общество, которое не имело эффективно накапливаемой культуры. Как только появилось общество, где человек доживал до момента, когда его дети производили потомство (общество бабушек) — сформировался совершенно новый тип культуры. Сейчас человек доживает до момента в среднем, когда дети детей производят потомство, причем уже дети детей в этом не нуждаются. Современное общество, в развитых странах особенно (это хорошо известный феномен, я на нем еще раз остановлюсь), — это общество, в котором люди должны себе придумывать смыслы, отличные от семейных ценностей. У тебя нет задачи воспитывать внуков, у тебя есть задача вообще что-то интересное делать самому.
Мы сейчас приближаемся к очень интересной границе, когда, с одной стороны, срок бодрости уверенно так начинает целиться где-то лет в сто, то есть это просто спускает вообще, выкидывает на обочину истории все механизмы социальной политики, которые были выстроены в XIX–XX веках под среднюю продолжительность жизни 60–70 лет. Пенсионная система, медицинское страхование — это все просто идет под нож. А это, между прочим, одни из самых крупных денежных подушек мира. Гигантское количество денег попадает в зону неопределенности. А с другой стороны, похоже, что появляется теоретическая возможность пробивания этого барьера в 100 лет. Переход к концепции, что старение — это болезнь, которую можно лечить. Такая концепция есть, и она, в принципе, находит подтверждение физически. Есть живые организмы, которые так существуют, есть модели, которые так можно описать. Если мы видим жизнь как болезнь (и, соответственно, ее удлинение становится вопросом технологии), то тут появляется масса интереснейших разрывов в существовании.
Уже сейчас только на одном механическом воспроизводстве человечество развивается по гиперболе, даже не по экспоненте, а просто по гиперболе. Я еще помню человечество в шесть миллиардов, сейчас оно — под восемь, десять — двенадцать будет к 2020-м годам, а что там будет дальше — большой вопрос. А если к обычному воспроизводству, основанному на массовых роддомах, антибиотиках, гигиене, если еще к этому добавляется удлинение срока жизни, что происходит с человечеством, что происходит с количеством людей, что происходит с плотностью жизни — это просто большой-большой знак вопроса. Кроме того, не до конца понятно: вот это старение как болезнь — это история массовая или эксклюзивная? Если это история массовая, то мы попадаем в проблему какого-то избыточного воспроизводства. Если она эксклюзивная — мы попадаем в историю с двумя человечествами: одно человечество живет как все, а другое человечество живет бесконечно долго. Какой-то такой этический разрыв гигантский, о котором вообще пока никто не задумывался. Это, кстати говоря, один из тех примеров, когда возникающий этический барьер останавливает развитие. Самый классический из этических разрывов, остановивших развитие, — это клонирование человека. Технически оно возможно, но оно было остановлено. Соответственно, на данный момент непонятно, что с этим будет. Ну, к счастью, сейчас благодаря тому, что остановили клонирование человека, начали развиваться технологии, которые не требуют клонирования человека для решения задач ремонта, то есть все эти стволовые клетки, 3D-принтинг биоорганов и так далее. То есть сейчас уже не надо клонировать людей, чтобы получить орган, можно поступить проще. Но тем не менее фундаментально клонирование остается под знаком вопроса. По крайней мере, животных уже совершенно спокойно клонируют в массовом количестве, китайцы уже строят фабрики по клонированию, это все нужно для медицинских исследований, для всего прочего.
Вот вопрос продолжительности жизни и вопрос пробоя этой константы — это на самом деле сейчас очень серьезно всех волнует, с ним непонятно что делать. Из него вытекает гигантское количество практических следствий. Если идет под нож классическая пенсионная система, ну и классический рынок труда, основанный на том, что человек двадцать лет растет, пять лет учится, потом тридцать — сорок лет работает, а потом начинает копать огород или ездить на экскурсии, — это все идет под нож. Получается, что человек только вышел в мир (это мы вспоминаем про скорость удвоения информации), а уже его надо переобучать очень быстро, и это переобучение нельзя ограничить тридцатью годами активной жизни, потому что он, предположим, пойдет на пенсию в шестьдесят, а ему вообще-то еще лет сорок бодрой жизни. И что ему делать? Да и нет ни одной пенсионной системы, которая будет удерживать такое количество людей на достаточно высоком уровне жизни. Значит, постоянное переобучение, значит, постоянное новое формирование интересов, значит, постоянное высокое мотивирование.
До, пожалуй, последних тридцати — сорока лет основной мотивацией людей в жизни было удержание стабильности в рамках семьи. Себя на ноги поднять, потом детей надо на ноги поднять, потом дети на ноги встали, внуки появились — ну все, можно отдохнуть. Это массовая такая типичная психология. Сейчас это не нужно. И дети как-то сами на ноги встают, и среда по-другому устроена, и хорошо, они уже встали на ноги, а тебе все равно еще хочется что-то поделать, ты еще здоровый и молодой. Уже не только увеличивается количество людей, а увеличивается количество людей, которым надо ставить задачи, то есть их надо к чему-то привязать, в новую экономику встроить, новые задачи обозначить. Вот этот новый рынок труда, новый рынок образования, который возникает на одном этом эффекте, измеряется миллиардами людей, мы это все понимаем и все это видим. На этот рынок целятся все МООС, на этот рынок целятся все другие среды. Это вот такой совершенно фундаментальный вызов: с этими людьми что-то надо делать, потому что если их оставить без внимания, то они начнут создавать гигантские социальные перекосы. Ну, вот мы, например, все с вами живем в области такого социального перекоса, когда электоральная система, сформулированная и придуманная в начале XX века, создает такую социально-политическую картину, которая формируется пожилыми людьми. Ну, это же известная история. А что с этим делать? А как быстро осуществлять модернизацию их ценностей? А там еще и в количественном объеме их все больше и больше, и дальше будет все больше и больше, то есть старение общества — это неизбежный процесс. Тут возникает такой естественный тормоз, который может быть тормозом, а может быть развитием, если этим заниматься. Кто этим должен заниматься — это очень большой вопрос. Но, похоже, что этот вопрос в достаточно обозримое время будет преодолен, потому что это глобальная проблема, в нее все уперлись, и рано или поздно решение в таких случаях обычно находится.
И последний из фундаментальных процессов, который я бы сейчас хотел применить. Возможно, их больше, я просто не готов их еще вычленить. Это, скажем так, многообразие форм. Если взять любой конкретный компактный период времени, то количество видов животных, людей, существ, культур, стран — оно примерно постоянно. Оно меняется достаточно эволюционным образом. Вот в каждый конкретный момент человек имеет дело с определенной сложностью мира. Эта сложность мира может быть преодолена. Один из методов преодоления — это сфера достижимого. Но она достаточно стабильна, это происходит естественным образом. Однако мы сейчас вступили в ситуацию, когда создание новых объектов, новых форм становится взрывным. Я даже не беру количество разнообразных гаджетов, приборов и всего прочего. Они все одного и того же типа. Но человек сейчас приступил к возможности полного искусственного создания новых живых форм. Я даже говорю не только о ГМО, обычная классическая селекция ГМО — это все-таки долгий процесс. А сейчас вот появляется synthetic biology, технология полного искусственного конструирования генома, трансформация человеческих генов посредством вирусов сейчас пока на эмбрионах, в будущем — во взрослом состоянии. То есть количество, многообразие, которое может быть создано вокруг человека искусственным образом, резко взрывным образом растет.
На самом деле, вызов здесь совершенно парадоксальный. Все же, например, знают такие классические эффекты, что даже просто применение технологии определения пола ребенка уже приводит в таких странах, как Индия и Китай, к чудовищным демографическим перекосам, измеряемым сотнями миллионов. А это всего лишь технология УЗИ. А к чему, например, может привести массовизация технологий цвета кожи, например, или цвета глаз, или смены пола, или еще что-то? Немножко страшно об этом думать, но это неизбежное ближайшее будущее. Опять же есть надежда или риск, что появится какой-то этический запрет, этический бан на эти вещи. Возможно, чисто из страха неопределенности эти технологии будут некоторым естественным образом тормозиться, но еще раз повторяю: в мире всегда все так устроено, что если кто-то это тормозит, другой начинает это применять и резко вырывается вперед. То есть если где-то по каким-то причинам что-то останавливается — это не значит, что оно везде стоит.
Знаете, я в свое время не привел очень любимый мною пример — исторический. Вся российская государственность современного типа выстроена на победе над Швецией. Мы все знаем: Полтава, Санкт-Петербург. Но мало кто знает, откуда взялась Швеция. Это же не викинги какие-то. Викингов уже не было. Было такое периферийное государство, которое вдруг за короткий период, за 50–100 лет, стало мировой империей, а потом так же резко вернулось в состояние обычной страны — такой развитой, культурной, но обычной, маленькой. Вот этот имперский взлет, а потом имперский спад — это случилось на самом деле по изумительно простой технологической причине. Был открыт способ появления стали и чугуна в доменных печах. Но он требовал большого количества железа и дерева в одном месте. Древесный уголь использовался. На тот момент в Европе единственной страной, где было достаточно дерева и много железа, была Швеция. В Англии уже не было дерева, где-то не было железа и так далее. Ровно 100 лет, пока не открыли процесс коксования угля и не появились доменные печи, основанные на угле. Вот за эти сто лет одна страна резко вырвалась вперед. Как только появились доменные печи на угле, все остальные европейские страны спокойненько их догнали. Спокойненько появилась знаменитая проблема угля и стали Рура, появилась Британия и все прочее. А вот этот короткий исторический гэп был реализован.
Поэтому, если какой-то технологический барьер где-то естественно или искусственно вырастает, всегда какая-нибудь периферийная страна может резко рвануть вперед просто за счет того, что она не считает себя связанной какими-то ограничениями. Это очень важный момент. Когда мы сейчас говорим, что кто-то где-то научился при помощи вирусов перелицовывать человеческий геном, если мы говорим, что сейчас, наверное, ведущие университеты мира это запретят — и слава богу, то где-нибудь в Северной Корее или еще где-нибудь кто-то запросто может себя этими барьерами не ограничивать. И что из этого может получиться — это на самом деле вопрос очень сложный.
Вот эта история про человеческое разнообразие — это на самом деле один из самых существенных вызовов. Фактически вся современная гуманитарно-политическая конструкция современного мира учится работать с многообразием. Вот все то, что мы называем толерантностью, политкорректностью, все, что мы ругаем свысока, — это все попытка работать с разнообразием, то есть допускать различия, балансировать различиями, сводить противоречия жизненно непримиримых вещей и так далее. То есть еще один пример, уже в дополнение к виртуальным играм, когда чисто гуманитарные технологии становятся базовой конструкцией для технологий материального мира. Потому что если мы не сможем обеспечить поддержание разнообразия социально-политически, значит, мы не сможем справиться с обеспечением этого разнообразия биологически, а биологическое разнообразие неизбежно.
Мы еще в 2011 году делали круглый стол по технологическим прорывам на Пермском форуме и пригласили (я фамилию забыл) русского ученого в Болонье, биолога. О многом поговорили, и я спросил его, какие сейчас самые резкие технологические изменения могут сломать вообще наш привычный мир. И я думаю, он тоже про старение нам скажет, про геном. А он сказал: «Нет, знаешь, меня сейчас больше волнует другое. Мы уже научились делать разумными животных, но не очень поняли — зачем». Я почитал — действительно, есть опыт со знаменитой гориллой Люси, которая была обучена языку глухонемых, три тысячи слов, юмор, рефлексия, умение отделять себя от животных, умение отделять себя от родителей и так далее, то есть полный набор таких высоких когнитивных функций. А недавно был такой большой сбор биологов, занимающихся как раз психологией животных, на котором договорились, что, в общем, нет никаких оснований считать, что когнитивные функции животных значительно отличаются от человеческих. По объему сложности — пожалуй, да. Но сказать, что у нас есть разум, а у них нет разума — нельзя. Похоже, что что-то есть у всех. Если бегают крысы с имплантами, которые передают сигнал другой, то какой-нибудь апгрейд памяти для животных — это вопрос технический, совершенно технический. Если животным дать возможность более широкого информационного общения, кроме того узкого, которое у них есть, — звуки, позы и так далее — то вполне возможно, что взрыв в мышлении будет происходить просто на глазах, с конкретной популяцией.
В общем, эти опыты активно ставятся.
Опять же Internet of things, интернет вещей. Уже сейчас есть роботы, общение с которыми в интернете не создает впечатления, что ты общаешься с роботами. Есть чат-роботы и так далее. Наверняка знаете — есть очень массовый рынок создания роботизированных колл-центров. Они пока кривые, тупые, на них ругаешься. Но они очень быстро развиваются. Пройдет некоторое время — и, по крайней мере в интернете, в гибкой информационной среде человек от машины будет слабо отличаться. Роботизированные машины, google-cars, роботизированные сервисы, твоим поездом управляет человек или робот — это уже история сегодняшнего дня. Расширяется количество разнообразия, с чем мы сталкиваемся в реальности. Появляется огромное количество новых информационных субъектов, которые действуют в нашем пространстве и дают нам информацию, мы с ними общаемся. Роботы, машины, животные, люди. Дикий взрыв разнообразия. Возможно, кстати, это один из ответов на вопрос о сфере достижимого, потому что количества разнообразия можно достигнуть, не увеличивая сферу достижимого, а увеличивая количество разнообразия. Возможно. Но уже с этим разнообразием что-то надо делать. Например, IBM Watson, компьютерная система, занимающаяся диагностикой онкологии. Это не алгоритм, это постоянно обучаемая система. Качество диагностики — это постоянный процесс ее обучения с людьми, точнее, взаимного обучения. Работа с роботами по взаимному обучению уже становится рутиной. Обучение роботов и обучение от робота становится какой-то базовой skill, базовой профессией. Вот примерно об этом я рассказывал недавно на коммуникационной конференции в Давосе, и первый вопрос, который мне задали, как быстро возникнет PRиндустрия на коммуникациях роботов с человеком. Я подумал, что довольно быстро, потому что если роботы, информационные среды определяются не программированиями, а коммуникацией, значит, коммуникация с ними становится профессией. Мы сейчас гуманитарные технологии на людях применяем, чтобы их научить, а скоро будем гуманитарные технологии на роботах применять. Человеческие языки программирования — тоже сейчас одна из ключевых тем, уже там все среды появились.
Таким образом, сфера нашего разнообразия, сфера того, кого мы считаем людьми, сфера того, что возможно с людьми, тоже расширяется; мы получаем такой вот резкий взрыв возможностей.
Если несколько таких констант, несколько таких сфер попытаться вернуть в настоящий момент, что сейчас происходит?
Во-первых, на мой личный взгляд, сейчас драматически резко возрастает ценность и потребность (в широком смысле) информационных технологий, которые скорее можно назвать информационно-управленческими. Даже если брать чисто менеджерский аспект бизнеса, все ключевые прорывы в экономиках последнего времени — это было связано тоже с управлением и с типом менеджмента. Объем передаваемой информации, умение управлять все более и более сложными системами. Я не буду сейчас углубляться, это отдельная красивая тема, которая каждый корпоративный прорыв всегда связывает с уровнем сложности техническо-информационной среды и менеджерской среды, менеджерской культуры, которая тут применялась. Похоже, что сейчас будет происходить такая достаточно сильная экспансия того, что отработано и наработано в бизнес-средах и технологических средах, на нашу широкую повседневную жизнь, в том числе на политическое устройство. Вот известный пример с геймификацией, когда методы управления людьми в играх переносятся на методы управления людьми в реальности — это только один из примеров, когда чистая технология, отработанная в определенной среде, переносится на более широкую среду. Поскольку сейчас не работают такие грубые прямые методы информационного контроля, как радио (вот есть «Гостелерадио», есть один источник, он тебе формирует картину мира, и ты из нее не можешь никуда дернуться, потому что у тебя нет информации) — сейчас это уже не работает. Значит, уже сейчас мы существуем в плотной конкурентной среде, значит, формировать мировоззрение надо каким-то более гибким способом. Значит, это тоже вызов чисто гуманитарным технологическим инженерным инструментам.
Образование, которое становится постоянно непрерывным и не просто интерактивным, а взаимным, сейчас уже нет смысла обсуждать, точно так же, как нет смысла обсуждать распространение информации по трансляционной модели, когда есть приемник и передатчик, есть «Гостелерадио» и есть телезритель. То же самое, похоже, происходит в образовании. То есть история про трансляцию знаний сейчас заменяется, все ругают «Википедию», «викиграмотность» и «гуглеобразованность», да, вот такие термины? Все ругаются, говорят, что это не создает системного мышления. Похоже, что системное мышление становится элитарной эксклюзивной ценностью, нужной для определенного типа людей, а для массового типа людей оно не нужно совершенно. Когда у тебя уже семь миллиардов, то, наверное, не надо всем обладать системным мышлением. Еще раз, это гипотеза. Зато этим людям надо быстро ориентироваться в информации, уметь быстро ее получать и быстро под нее адаптироваться. То, что сейчас происходит в мировом образовании, — я вижу как размывание кислотой каких-то статических структур. Они размываются. Они не могут сопротивляться. Система формирования, эти фабрики ценностей и фабрики системных смыслов, фабрики таких системных глубинных онтологий сейчас просто размываются кислотой широкой доступности информации и фактов. Приобретут ли они при этом повышенную ценность, стоимость и значение? Скорее всего, да. Станет ли это узким, элитарным? Скорее всего, да. Что придет на смену в массовом смысле? Скорее всего, как раз образование и навыки пользования информацией на основе широчайшей доступности. То есть ценностью становится не багаж фундаментальных знаний, ценностью становится умение оперировать информацией, то есть, грубо говоря, умение ее верифицировать. Мы сейчас поверяем информацию на наши фундаментальные знания, а будем поверять ее на некий набор символов, который доказывает нам, что эта информация проверена.
Вы знаете, для меня был очень красивым вот какой социальный эксперимент. Знаете, откуда пошел мем «Не взлетит»? Слышали? Это было четыре-пять лет назад. Есть такой знаменитый форум «ВИФ». Я никогда его не читал, я просто знаю о нем только из этой истории. «Военно-информационный форум», что-то такое. Там инженерная тусовка. На нем кто-то поместил задачку, что вот есть самолет, а под ним есть транспортер, который движется со скоростью самолета, то есть самолет развивает мощность, а под ним лента бежит все быстрее, а он сам остается на месте. Так он взлетит или не взлетит?
Этот вопрос породил самую крупную дискуссию в истории российского интернета, крупнее не было.
Сотни тысяч писем, десятки тысяч людей. Я не знаю, рушились ли семьи или многолетняя дружба, но это было очень эпично. Это было реально что-то эпичное. Спросите, был ли найден ответ? Нет. Были поставлены натурные эксперименты. Люди трясли своими дипломами МАИ и работами. Было все. Не было только одного. Не был найден ответ. До сих пор ответ на эту задачу — это предмет веры. Вот я, например, знаю, у меня есть вариант ответа. Я все-таки физик по образованию. У меня есть вариант ответа, но я даже боюсь его высказывать, потому что тут же найдутся десять человек, кто меня опровергнет. Но это довольно элементарная физика. В конце концов, закон Бернулли, подъемная тяжесть, сила воздушного потока — это рассчитывают на втором курсе любого инженерного вуза. Но тем не менее ответа нет. И если какие-то грамотные люди посчитают, наверное, они найдут ответ, но он уже никого не будет волновать, потому что в массовом сознании нужен не ответ, а нужен спор. То же самое сейчас по Украине.
Похоже, что вот это размывание природы знания становится таким базовым феноменом для нас сейчас, и действительно, умение пользоваться знанием быстро, а не иметь набор системных представлений, становится довольно массовой историей. Это еще, ко всему прочему, работает как совершенно замечательный инструмент. А именно: это снижает разницу, как бы цену входа на рынок труда между развитыми и развивающимися странами. Если твоя применимость на рынке труда зависит от набора навыков и умения пользоваться информацией, то из Конго ты или из Бостона — уже не так важно. Потому что все равно решает не то, сколько лет культура тебя формировала, а то, как быстро ты умеешь пользоваться интернетом.
Я не зря упомянул Конго. Был замечательный социальный эксперимент, когда в африканскую деревушку, которая не то что железа не знает, а вообще ничего не знает, живет в первобытном мире, сбросили какое-то количество планшетных компьютеров. Через очень короткий период дети научились ими пользоваться. Родители, взрослые не поняли, что это такое, а дети научились. И похоже, что за счет вот этой технологии создания массовых распределенных сетей знания, вот этих Google, «Вики» и всего прочего, возможность входа на рынок труда для человека из племени Конго не настолько драматично отличается, как раньше. Раньше это было в принципе невозможно, только полы мыть — и то не факт, по тому что грязные слишком, а сейчас уже ничего, нормально.
Возникает запрос, возникает резкая поляризация между массовым знанием, массовым производством и элитарным знанием, элитарным потреблением. Еще раз: то, что я сейчас говорю, легко можно назвать как раз той гипотезой, которую у нас все ругают, что вот у нас образование портится, потому что это враги сделали. Я говорю чисто оценочно, мне так кажется. То есть ценность элитарного образования становится меньше, но зато возникает гигантский запрос на когнитивное строительство, не знаю, как это назвать, когнитивный менеджмент, создание культурных пластов, мифологии, базовых картин мира, создание целостных непротиворечивых связей между объектами, то есть это такой онтологический менеджмент. Насколько я знаю те компании, что работают в этой сфере, в том числе российские, они онтологическим менеджментом уже занимаются, я это называю онтологической инженерией — созданием непротиворечивых онтологий. Похоже, что это как раз такая метаобласть, в которой будут концентрироваться те, кто умеет этим заниматься.
У меня личная есть гипотеза. Это никем не доказано, и пока у нас нет понятийного аппарата, чтобы это доказать, но, похоже, что культура, как некоторый самовоспроизводящийся объект, за счет долгого времени существования начинает обладать способностью создавать и воспроизводить такого рода метаменеджмент, который потом, преломляясь в разных конкретных технологических практиках, уже придает культуре ценность, конкурентное преимущество.
Есть очень простой пример. Вот Китай, Индия прошли стадии практически полного уничтожения государства и экономики; их разровняли, им ввели внешнюю администрацию, их отбросили на несколько порядков назад, они отстали. Тем не менее, как только был сделан набор правильных шагов, отскок был на примерно тот же самый уровень, который эти цивилизации занимали предыдущие несколько тысяч лет. Китай долгое время был первой экономикой мира, потом резко ушел в никуда, сейчас он — вторая экономика мира, и у него есть все шансы стать первой. Похоже, что другого объяснения, кроме как того, что у них пять тысяч лет культуры, нет. Вот нет другого объяснения, почему это случилось. Они этнически разные, у них языки разные, на самом деле иероглифы одинаковые, а языки разные. Они воевали постоянно между собой.
Что еще? Я не знаю других объяснений.

Так вот, похоже, что такой набор исторически сформировавшихся крупных культур — он счетный. И делать массовую интеграцию людей в технологические и социальные процессы можно, технология эту проблему решает. А делать уникальными вот эти онтологические пространства человечество не может. Что выросло, то выросло. Вот выросла европейско-американская цивилизация — хорошо, она выросла. Выросла китайская — вот такая она есть. Если она и дальше будет экономически побеждать, то начнет переформатировать целые континенты под себя, то есть менять их культурный код, менять их культурную матрицу, внедрять свои системы образования, свои системы культурного воспроизводства. Потому что она будет иметь такую возможность.
Общий вопрос, к какой мы относимся. Мы — довольно молодая культура. Ну, может быть, надо поискать какие-то корни и так далее. Но, похоже, что вот это конструирование, вот этот онтологический инжиниринг высшего уровня является таким очень глубоко укорененным в культуру и язык. Я не знаю пока ничего близкого, что может это описать, то есть какого-то методологического подхода, который позволял бы даже хотя бы это изучать. Но, похоже, что он есть, и похоже, что вот эта рамка и определяет некую картинку нашего движения, потому что сейчас англо-американская модель образования и англо-американская модель культуры является доминирующей, рано или поздно другие цивилизационные лидеры дорастут до ее уровня и бросят ей вызов. Дай бог, чтобы это обошлось без мировой войны, но хватит и экономической. И могут начаться истории с другими культурными центрами, которые начнут претендовать на вот это цивилизационное лидерство через навыки создания и управления картиной мира. В каком-то смысле эта сетка совпадает с сеткой ведущих мировых религий. То, что мы называли ведущими мировыми религиями, можно назвать вот этими культурными столпами.
Мы сейчас, видимо, входим в стадию, когда, наверное, это уже будет не термином «мировая религия», а скорее термином «культурно-онтологическое пространство», но это точно является сейчас наиболее ценным продуктом на глобальном рынке. Какие для этого нужны социально-культурные институты, чтобы начать производить метакультуру глобального масштаба, — это очень хороший вопрос, у меня нет на него ответа. Но в принципе получалось, что каждая заявка любой страны на мировое лидерство всегда сопровождалась заявкой на место в мировой культуре, всегда. Каждая крупная империя родила великое что-то. Я даже одно время считал, что голландцы разогнались — у них появилась великая живопись, и все, по-моему, да? Англичане — у них появилась великая литература, театр. Ну, живопись у них тоже была ничего. И музыка великая. Нормально разогнались. Немцы отметились во всем — в архитектуре, в живописи. Мы: литература — да, живопись — да, музыка — да, кино — да, с архитектурой — никак. Ну, попытки. Театр — да. А вот с архитектурой никак. Можно так классифицировать, и будет очень интересно на самом деле. И практически всегда это связано с экономическим и политическим подъемом.
То есть это синхронно: сначала экономический и политический, потом культурный, потом… Ну, потом по-разному бывает. Кто-то там угас, кто-то продолжает и так далее. Но нигде не было ни одного случая, чтобы цивилизационное лидерство происходило без культуры. Это, видимо, замкнутый цикл, то есть начинаешь производить культурные ценности, от них начинают производиться ценности экономические и так далее. Это самоподдерживающийся цикл. Если ты его пресекаешь хоть на чем-то, то культура хиреет, и экономика хиреет, и все хиреет. То, что я пока привел — это такие наблюдения, что называется, натурфилософа на пальцах. Описано ли это научно и методически, я не знаю. Но это очень интересный аспект, он меня, по крайней мере, очень интересует.
На этом я постараюсь закончить. Не знаю, ответил ли я на вопрос про будущее, про образование, но о нескольких методах, которые позволяют мне структурировать представление о будущем, я рассказал. Насколько помогло — не знаю. Если есть вопросы — с удовольствием.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Три вопроса у меня, может быть, коротких, не знаю, может быть, длинных.
Первый вопрос по поводу неравномерности развития. Вы говорили про приход технологии в разные общества, и практически каждое общество на этапе, когда туда приходит та или иная технология, является неравномерно развитым. Сейчас это особенно заметно на больших обществах, в том числе в России. И, собственно, как с этим работать, потому что, наверное, этим как-то можно управлять? Делать ли ставку на авангард, и тогда получается большее расслоение, либо подтягивать основную массу, и тогда получается, что авангард как бы немножко тормозится. Это практический вопрос.
А теоретический, наверное, заключается в том, что, может быть, технологии приходят, они осваиваются только тогда, когда все общество готово. Вы говорили, например, про эпоху великих географических открытий. Может быть, не потому, что португальцы изобрели новую форму паруса, случились географические открытия, а потому, что случилось Возрождение, и произошло освоение культурного багажа античности. То есть здесь могут быть разные трактовки.
Это первый вопрос, про неравномерность.
Второй вопрос — про баланс. Вы говорили, что некоторые технологии могут, как бы это сказать, баниться, этический бан такой на них накладывается. Вот как соблюдать этот баланс, кто это должен делать, есть ли какие-то легитимные игроки, которым общество может доверять это право ставить этический запрет?
И третий вопрос. Вы в самом конце упомянули, что каждая страна на определенном этапе своего быстрого развития вносила какой-то большой вклад в культуру. Есть ли сейчас такой шанс у нашей страны?
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Давайте по порядку. Первое — про равномерность и неравномерность развития.
Это на самом деле краеугольный вопрос как минимум нашей повестки последних двадцати лет по экономическому управлению, то есть ставка на лидеров или равномерный баланс. В общей экономике понятно, что это делается с целью недопущения того критического состояния, когда у тебя из-за провальных регионов рухнет вся система. Но в целом, похоже, что нужен определенный баланс между темпом роста и стабильностью роста.
Вот у меня, кстати говоря, недавно появился один очень для меня интересный ответ по изменению методов глобального управления, что, на мой взгляд, произошло где-то около двадцати — тридцати лет назад, а может быть, чуть раньше. Для надежности вернемся на 100 лет назад, и такая классическая колониальная и постколониальная система — это было, что есть государства-лидеры, есть государства-сателлиты, откуда ресурсы высасываются. Что там при этом происходит с сателлитами — никого не волнует. Там стоит администрация, если ее зарежут — пришлют корабль, новую посадят. Не было представления о необходимости развития отсталых регионов. Оно было, но это делалось из каких-то общих таких соображений скорее выживания своей администрации. А вот в последние годы я вижу совершенно отчетливую тенденцию поддержки неразвитых регионов, и я для себя вывел простую формулу: речь идет не просто о росте, а о том, чтобы там, условно говоря, производная всегда была положительной. Никто не хочет, чтобы они росли быстро, но они должны расти постоянно. И вот когда в любом регионе рост идет постоянный, там обеспечивается достаточная стабильность. А вот если где-то рост пошел в минус — вот там начинается «Аль-Каида» и прочие приключения.
И вот у меня сложилось такое впечатление, что это такой механизм, который уже такой осознанный, я никогда о нем не слышал раньше, но такое впечатление, что им все руководствуются. То есть не темпы роста, а факт роста. И, похоже, что действительно, если брать любую систему, то надо решать одновременно две задачи, то есть надо решать задачу оптимизации, чтобы максимум ресурсов шел лидерам, но при этом чтобы развитие отстающих никогда не переходило в минус. Это банальное решение задачи оптимизации. Я думаю, что конкретные способы ее решения продиктованы чем-то, обстоятельствами, но, в принципе, этот баланс должен быть одновременный. Если кто-то попытается отстающих вытягивать на уровень лидера — это крах, это очевидно.
Второй вопрос про технологические или культурные основания для рывка, то есть про косой парус или Возрождение. У меня просто есть пример. До португальцев викинги первыми начали делать дальний каботаж. У них ничего не получилось.
Они просто плавали там, где можно плавать на лодках такого типа, то есть они плавали по неглубоким морям, а все-таки португальцы научились плавать там, где есть более глубокие разрывы, и все. То есть я лично для различения занимаю позицию технологического фундаменталиста. Это не значит, что я прав.
Третий вопрос. У меня в последнее время появляется идея, что нужна не ООН, а нужен глобальный комитет по контролю над наукой. Ладно, бомбы взрывать разучились. А если геном испортим? Помните ту знаменитую историю про полную публикацию вируса гриппа, голландец какой-то сделал? Теоретически это заход к конструированию вирусов гриппа. А ведь можно такой вирус гриппа сконструировать, что уже после этого ничего не нужно, никаких рассуждений не надо. То есть там достаточно уровень смертности поднять повыше (а уровень цепляемости на верхние дыхательные пути поднять — это два-три белка) — и все, пандемия и до свидания. В жизни Земли история пандемий — это традиционная вещь, просто все время выкашивало, то есть тут ничего нового.
Действительно, вопрос о каком-то этическом регулировании науки встает. Но я пока не вижу инструментов. В моем понимании какой-то очень сложный баланс социально-этических и технологических механизмов таких прорывов пока, слава богу, поддерживается с относительной безопасностью. Но гарантировать ламинарное развитие я точно не буду, то есть периодически будут срывы. И никаким искусственным конструированием невозможно четко описать, какая технология безопасна. То есть старый принцип, что убивает человек, а не пистолет, а на самом деле, когда у одной стороны появились пулеметы, а у другой стороны пулеметов нет, в этот момент обычно сносит крышу, ничего сделать невозможно.
Не знаю, ответил или нет, но высказался.
СЛУШАТЕЛЬ 2: У меня здесь просто даже не вопрос, а предложение тогда, просто чтобы высказать, что, наверное, нужен тогда научный подход к запрещению каких-то отдельных решений технического прогресса. Что я имею в виду? Что да, были ученые, которые сознательно из этических соображений прекращали свои технологии. Например, Тесла какие-то свои технологии просто скрыл, иначе миру конец. Были и те, которые, разработав атомную бомбу, дали другой стране для баланса, чтобы мир не уничтожила одна сторона. Но это этика на уровне ученых. А есть же научный вопрос. Можно научно доказать, что вот эта технология принесет вред? А есть такие институты, которые вот…
РЕПЛИКА: Невозможно.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Ну, вот ГМО, допустим. Должны быть институты, которые на протяжении пяти — десяти лет проверят несколько поколений и потом скажут, что да, это безопасно, тогда можно уже.
РЕПЛИКА: Но это научная инквизиция.
РЕПЛИКА: Чем селекция отличается от ГМО?
РЕПЛИКА: Пиво с утра не только вредно, но и полезно. Невозможно оценить пользу и вред вне какой-то системы.
Е. К.: Да, это действительно проблема, что никакой абсолютной модели, что позитивно, а что негативно, определить нельзя. Есть некие сроки проверки. Вся история фармакологии полна кейсами, когда лекарство, прошедшее существующие на тот момент процедуры проверки, потом оказывалось страшным. Хорошо, усложнили еще механизм проверки, сделали его еще более длинным. И все равно проскочило. Это жестокая эволюция, то есть что-то вырвалось, покосило людей. Ну, хорошо, адаптировались к этому. Чтото вырвалось другое. Но конструктивно управлять этим процессом невозможно в принципе. Я в этом случае все время повторяю, что здесь надо биться не над способностью вовремя прогнозировать угрозы, а над способностью быстро на них реагировать.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Здесь касались вопроса стартапов и бизнес-проектов. И вот у меня вопрос такой. Какие, допустим, два, три, четыре направления стартапов или вообще отраслей экономики, на ваш взгляд, будут интересны и широко развиваться из тех, что сейчас не так хорошо развиты, в исторической перспективе долгосрочной? И какие направления для стартапов — два, три, может быть, четыре направления, — которые будут хорошо развиваться в краткосрочной?
Е. К.: Слушайте, вот честно — это ответ на два часа. Правда. Я очень коротко постараюсь ответить.
Во-первых, идет продолжение digital-революции, идет диджитализация всего. Моделирование генома, моделирование человека, моделирование социума, моделирование всего. Производство в цифре. Вот этот переход в цифру — эта инерция еще лет двадцать — тридцать точно будет работать, потому что надо будет подо все делать аналоги цифровые или использовать возможности цифровых. Это и роботы, это и все прочее. Это первая история.
Вторая история — сейчас действительно фундаментально, феерически развивается биология. Это чудовищного масштаба процессы по воздействию на все. Все, что связано с фундаментальной медициной и биологией, — там масса applications будет разрабатываться и дальше.
И для затравки, раз уж я заговорил, лично мне кажется, что наступает время, когда вот это все большей части присутствующих здесь интересно. Это, условно говоря, когнитивная инженерия, онтологическая инженерия, то есть работа с сознанием. Это и образование, управление поведением, медиа и так далее. Это сложно звучит, но это масса простых applications. Но это все восходит к тому, что мы начинаем изучать, как человеческое сознание взаимодействует с природой, с окружающим миром, как на это воздействовать, какие от этого возникают эффекты и механизмы и как на этом сделать какие-то конкретные технологии. Это моя тройка. Но она может быть любая.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Вы затронули тему верификации информации; сейчас действительно это очень остро. Есть ли какие-то ваши личные инструменты, которые вы применяете, или, может быть, то, что в ближайшее время где-то появится, по вашему ощущению? Как проверить факты? Это первый вопрос.
А второй вопрос — есть ли литературные произведения или какие-то культурные сферы, из которых сейчас, на ваш взгляд, можно почерпнуть более-менее здравую картину будущего?
Е. К.: Какая Лапута Свифта сейчас, да?
СЛУШАТЕЛЬ 4: Да.
Е. К.: На второй вопрос мне очень тяжело отвечать. Я, правду сказать, что-то в последнее время не умею отвечать на такие вопросы. По первому вопросу. Ценность информации зависит от степени доверия к ней. Соответственно увеличение ценности информации — это один из основных, скажем так, экономических и социальных трендов. Все больше и больше, сложнее и сложнее институты работают на верификацию информации. Когда-то раньше было достаточно, что это написано в газете, на бумаге, потому что абы кто в газете не печатал. Поэтому появлялся Ленин и на папиросной бумажке печатал, потому что раз в газете напечатано — значит, правда, и это работало. Точно так же потом появились другие (ну, я утрирую) механизмы, и сейчас этих механизмов — море. Я не готов тоже это сейчас все описать, но если брать такой приложимый к нам мир медиа — вернемся к началу: вот мы сейчас читаем весь этот треш, и нам нужно как-то научиться это разделять. Конкретно в мире медиа происходит следующее: большие газеты, большие медиа выдержали атаку соцсетей и гуманитарной журналистики; часть умерла, а часть выстояла, превратившись из средства распространения информации в средство ее верификации, то есть в банки репутации. Когда сейчас читаешь New York Times, ты понимаешь, что, скорее всего, это значительно более надежная вещь. И в большинстве случаев это так. И, конечно, у всех больших банков репутации есть свои какие-то перекосы, но берешь принцип разнообразия, берешь разное, сравниваешь и так далее. Но в конкретном информационном потоке у меня есть только один рецепт. Это просто его ограничить, пользоваться меньшим количеством более консервативной информации. Заходить на уровень более широкой информации можно только технологически вооруженным. Ты получил информацию — старое правило: три источника независимых. Вот три независимых источника — хорошо, уже можно делать следующий шаг. Если этот источник много раз поставлял правильную информацию, вероятность, что он тебе специально скармливал правду, чтобы скормить дезу, ненулевая, но, тем не менее… Набор аналитических инструментов для работы с размытой информацией существует, в это я сейчас не буду углубляться. Но для бытовой гигиены достаточно просто не спускаться на этот уровень и просто не читать треш. Ничего, через день ты это либо прочитаешь в New York Times, либо ты не прочитаешь это вовсе. Ты целый день не будешь знать эту информацию.
Ну, наверное, все. Спасибо. По-моему, неплохо поговорили.
Кому принадлежит будущее?
ЛЕКЦИЯ 05 18/04/2014

Меня зовут Павел Лукша. Я работаю в Московской школе управления «Сколково», являюсь членом Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Также возглавляю сетевую структуру, которая называется RF Group, или Re-Engineering Futures, а по-русски — «Реинжиниринг будущего». Это отражение работы, которую мы с коллегами ведем активно последние четыре года, о двух вещах: о научении людей думать о будущем и о создании с ними карт будущего, которые позволят им с этим будущим активно работать, запуская проекты, осваивая новые практики и в этом смысле завоевывая то самое будущее, которому посвящена сегодняшняя лекция.
Сегодня моя задача обсудить с вами, что собой представляет это самое будущее. Сначала я уйду в теоретические построения, которые нас потом приведут к очень практическим выводам. Основная тема: «Будущее коллективных субъектов». И еще большая тема — это будущее человечества как целого и то, что можно назвать общечеловеческим проектом: есть ли таковой, если есть, то где; чем он занимается, кто в него входит, являетесь ли вы его частью, можете ли вы стать его частью и так далее.
Я сегодня поставлю два видеоролика: один в начале, другой в конце. Первый ролик достаточно известный, многие из вас смотрели фильм «Кабаре» и поняли, что название моей лекции отсылает в том числе к этому фильму. В фильме рассказывается о трех людях: одной женщине и двух мужчинах. Один из них бисексуал, другой гомосексуалист. Они сидят в кафе, обедают. Это начало 1930-х, Германия. И вот в этом сельском кафе происходит такая довольно эмоциональная сцена, когда они сидят и обсуждают поездку в Африку.
Во-первых, интересный вопрос: кому же там принадлежит будущее в этот момент, когда они поют песню, что это за будущее, можно ли было в Германии начала 1930-х сомневаться, что будущее принадлежит именно им, что конкретно у них не получилось и почему должно было получиться?
Для начала, я думаю, мы разберемся с тем, что же такое будущее вообще. Я приведу несколько цитат, как говорят о том, кому будущее принадлежит. «Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты». «Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня». «Будущее принадлежит тем, кто видит возможности до того, как они станут очевидны большинству».
Эти цитаты — намеки на то, какое будущее нас волнует. Конечно, нас волнует не вообще будущее. Нас волнует будущее живых систем, сложных систем: обществ, государств, отраслей, мира как целого. Здесь как раз вопрос: «Что же за будущее?» Это тоже, как и фильм «Кабаре», два известных произведения, посвященных путешествиям в будущее. Одно — это «Назад в будущее». Второе — это «Футурама», где герои все время путешествуют в капсуле времени — то вперед, то назад. Они меняют какие-то события в прошлом, сталкиваются с последствиями этих изменений в будущем.
В этом смысле мы все живем во времени, в котором нам кажется, что будущее, как и прошлое, является в каком-то смысле одновариантным. И в этом смысле говорят, что невозможно предсказать будущее, потому что будущее не определено для нас, мы не знаем всей информации, будущее где-то там.
Для того чтобы понять, что такое будущее, ключевой концепт в вопросе «Кому принадлежит будущее?» — это само будущее. Надо разобраться с концепцией времени.
Когда у известного физика Ричарда Фейнмана спросили, что такое время, он сказал: «Время — это часы». На самом деле, если мы будем думать о том, что такое время, мы действительно придем к выводу, что в физическом смысле время — есть не что иное, как часы, то есть способ измерять то самое изменение, которое происходит в физическом пространстве. Календари, часы, а позднее физика создали у нас ощущение, что время есть объективная, данная нам в ощущении, реальность. Этому сильно поспособствовал Ньютон. А позже, когда Альберт Эйнштейн ввел представление о времени как о четвертой координате пространственно-временного континуума, он окончательно закрепил идею о том, что время — это объективная характеристика. Можно двигаться вперед-назад по времени. Отсюда, собственно, все эти идеи про машины времени, про возможность отмотать время назад. Они появились после того, как начались дискуссии о том, что такое время и можно ли по нему перемещаться.
С тех пор как эта идея была выдвинута, у нас прошел XX век. В рамках XX века физика пришла к выводу, что нельзя двигаться назад — в силу того, что есть эффект «стрелы времени». Об этом очень хорошо писал теоретик теории сложности Илья Пригожин. Рекомендую книжку, которая называется «Время, хаос, квант», где он как раз и разъясняет, почему в этом мире стрела времени при, казалось бы, эйнштейновских предпосылках тем не менее является для нас данностью. То есть мы не можем отмотать время назад. Даже если бы мы могли, там возникают временные парадоксы, которые и привели к идее о множественности вселенных. Тем не менее время течет в одном направлении, мы идем вместе с ним.
И наше изменение есть это самое время.
Есть два других человека, которые говорят о другом типе времени. И это то время, которое нас будет волновать. Именно в смысле этого времени мы и будем говорить о будущем. Один из них — это известный французский философ начала XX века Анри Бергсон, другой — известный математик и основатель такой дисциплины, как кибернетика, Норберт Винер. Они говорят о том, что второй тип времени — это время сложных систем, собственное время. И в смысле этого времени прошлое и будущее существуют только как представления, только как что-то, что есть в нашем сознании. Что-то, что мы помним (это прошлое), и что-то, что мы фантазируем (это будущее).
Здесь полезно ввести представление о том, что если смотреть на это собственное время систем, то можно вычленить разные типы систем. Некоторые из них являются очень удобными теоретическими конструкциями, которые математики и физики используют для того, чтобы объяснять разные концепции.
Вот конструкция, которая в таком комиксовом представлении называется автоматом Тьюринга. Автомат Тьюринга — это структура, которая описывает самые разные типы информационных систем. И все информационные системы, так или иначе, сводимы к автомату Тьюринга. Это вычислительные машины по сути.
Автомат Тьюринга характеризуется тем, что он работает дискретно, от начала к концу. У него есть вот такие станции. И он идет по программным шагам. Если вы находитесь в этой точке, то что является будущим и прошлым автомата Тьюринга? Прошлым является вот это, а будущим является вот это. То есть те шаги в программе, которые этому автомату предстоит отработать, чтобы пройти до конца программы.
Второй тип систем — непрерывные системы. Если у вас камушек находится на вершине горы, должен скатиться вниз и под действием силы трения там остановиться, у него будет эта траектория. Это будут два его состояния, между которыми он прошел. Тут стационарное состояние, а там стационарное состояние. Невозможно отличить два состояния времени.
В этом смысле камушек живет отсюда и досюда.
Возьмем маятник… Это другой тип непрерывно действующих объектов. Идеальный маятник — тот, который без силы трения. Он у нас будет качаться вперед-назад бесконечно долго. Его время представляет собой цикл. Он все время попадает в ту же самую точку, из которой он начал свое путешествие.
Третий тип объектов тем, кто занимался математикой, я думаю, знаком. Это уравнение, которое описал Эдвард Лоренц. Это начало теории сложности, когда выяснилось вдруг, что все несводимо к двум предыдущим состояниям. Один вариант — все в точку попадает и в ней останавливается, а другой — бегает по кругу. Лоренц сказал, что бывает такая ситуация, когда системы попадают в ограниченное пространство и находятся в нем очень долго, никогда не попадая в прежнее состояние. Например, атмосфера Земли, если ее рассматривать целиком как сложную систему, никогда не похожа на себя прежнюю. Или наше тело обладает комбинацией таких характеристик, что оно находится все время в диапазоне: температурные режимы и разные прочие — но при этом все время разные. И в этом смысле они — сложные системы, которые, с одной стороны, колеблются внутри ограниченного времени, с другой стороны, никогда их будущее не похоже на их прошлое.
Напоминаю, мы разбираемся с тем, что же такое будущее для нас. Это известная многим модель Анохина, нашего знаменитого физиолога, нейрофизиолога, работавшего в 1930-е годы. Я не буду ее разбирать. Но если коротко, то смысл следующий. Внутри сложной живой системы присутствует такая специальная функция — ожидание, что там будет происходить на следующем шаге. Это сделано для того, чтобы вся эта сложная система успела развернуться туда. Это примерно как игра в футбол: вы бежите не туда, где вы сейчас мяч видите, а туда, куда он, по вашему представлению, должен попасть. Или охотник пускает стрелу в оленя, где он должен быть. И только это позволяет системе справляться со сложной окружающей средой.
Поэтому функция ожидания будущего и подготовки к нему внутри самой системы является критически необходимой для любой системы, для ее выживания.
В любой живой системе, в любой сложной системе должна присутствовать одновременно память о прошлом, чтобы мы учились на этом, и ожидание будущего как некая траектория, куда эта система собирается попасть, потому что она сейчас начинает готовить к этому ресурсы. Вы, например, сейчас прикидываете, что вам после этой лекции надо будет перекусить, потом купить продукты для дома и так далее. Какая-то часть вашего целого все эти намерения удерживает. А еще нужно подготовить отчет для того, чтобы переслать Ивану Ивановичу, чтобы получить деньги на следующий год и, следовательно, подготовиться в горизонте года к разным другим вещам. Это все одновременно присутствует в вашем «здесь и сейчас». Одновременно с тем, что вы испытываете какие-то ощущения в теле, вы слушаете меня и так далее. Ваше прошлое, будущее и настоящее одновременно присутствуют в вас.
Есть разные учителя духовных практик, которые говорят, что надо сосредотачиваться на «здесь и сейчас». Это все правильно, надо сосредотачиваться на «здесь и сейчас», понимая, где мы здесь и сейчас находимся. Но одновременно с этим надо понимать, что в «здесь и сейчас» присутствуют наше прошлое и наше будущее как неизбежные части нашего целого.
Если говорить про будущее и про то, как его живые системы в себе удерживают… Кто-нибудь из вас рефлексировал, как вы водите машину или велосипед? И понимаете, что вы сможете проскочить, например, в эту открывшуюся зону между двумя машинами или сможете проехать между двумя людьми, если на велосипеде, и ни с кем не столкнуться. Вы знаете, как вы это делаете? Как?
РЕПЛИКА: Просто делаем.
РЕПЛИКА: Помолясь.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Есть версия.
ПАВЕЛ ЛУКША: Давайте.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Я оцениваю динамику своего движения. Я оцениваю динамику изменения ситуации. И, соответственно, прогнозирую, где и как это сойдется. Если я это делаю правильно, то происходит запланированное мной будущее.
П. Л.: Точно.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Я проскакиваю. А если я где-то «накосячил», то для меня это неожиданность.
П. Л.: Но этот прогноз у вас… Вы же не вычисляете. Вы же на самом деле его скорее ощущаете и видите, да? Я сначала это заметил, когда водил велосипед. Потом обсуждал с людьми, у них похожий алгоритм. Это выглядит примерно так. Мы как будто бы проецируем себя вперед с теми размерами, габаритами, которые есть, в том месте, в котором мы хотим оказаться. И проецируем еще окружающую ситуацию. И мы смотрим: мы там не столкнемся? Этот прогноз — как мультик, который перед нами непрерывно разворачивается. Ровно этот алгоритм сделали ребята, которые ездят на велосипеде по улицам Кельна. Чтобы велосипедист не попадал в аварии, они надевают на голову шлем с лазерной указкой и проецируют изображение этого велосипеда, где он будет через секунду вперед. И водители могут видеть, что там сейчас появится велосипед, и тем самым среагировать на этот будущий велосипед.
Для меня это очень хорошая метафора про то, что, когда мы переходим из пространства сложных механических или живых систем в коллективное социальное действие, мы обозначаем, что мы что-то хотим там в будущем или я хочу персонально. Но когда мы хотим вместе, то, чем больше нас, тем выше вероятность, что это случится. Потому что ресурсы можно объединить и тем самым контролировать переменные окружающей среды. А если все общество согласилось, то можно контролировать очень много переменных.
В будущем коллективных субъектов эта договоренность о будущем и коллективный образ будущего играют очень важную роль как способ это будущее осваивать, потому что будущее в этом смысле есть сумма намерений, направленных на это самое будущее.
И чтобы понять, кому принадлежит будущее (скорее всего, оно принадлежит субъектам разного масштаба), надо разобраться, что такое этот самый коллективный субъект.
Коллективные субъекты для нас привычны. Мы постоянно в них находимся, с самого рождения и до смерти. Коллективный субъект, в котором мы рождаемся, — это семья. Потом мы ходим в коллективные субъекты: детский сад, школу и так далее. Любые организации есть разновидности этих самых коллективных субъектов, временно собирающихся, а потом разбирающихся.
Есть ли настолько проработанная субъектность, что они осознают себя как целое, — открытый вопрос. Для некоторых из этих субъектов, несомненно, есть, причем с давних времен. Вот, например, воинские формирования. У них такая особенность, что они должны существовать и действовать как единое целое. Иначе, если они не действуют как единое целое, их просто уничтожают. Поэтому какая-нибудь македонская фаланга представляла собой очень качественно отработанную структуру, где каждый из воинов, несомненно, мог действовать отдельно от другого, но тем не менее они действовали так, как будто они представляют собой единый организм.
Коллективные субъекты проявляются, например, в форме организаций, как я уже сказал. Допустим, мы говорим, что компания Google теперь читает наши данные или компания Sony выпустила новую приставку. То есть как будто бы это не отдельные люди делают, не команды, а это делает некоторый такой монстр, многоголовый, многоногий, действующий как единое целое, куда-то направляющий свою волю.
Тем не менее есть такая интересная вещь, что, когда обсуждают, есть ли этот коллективный субъект, почему-то выходит идея, что его на самом деле нет. Видимо, потому что ее обсуждают как раз люди англосаксонской традиции. А у них как-то принято считать, что если это не личность, не человек, то там ничего и нет. Так исторически сложилось. Вот, например, кружка. Видите? Вроде похоже, что там сова на кружке, а на самом деле просто так пятна сложились. Они говорят примерно вот так и про корпорации. Если мы ее разберем, мы не обнаружим ничего иного, как отдельно действующих людей, договоренности между ними через контракты. Поэтому не надо нас тут вводить в заблуждение. Никаких коллективных субъектов и не бывает. Бывают только отдельно действующие люди.
Хочу вас расстроить, коллеги. По этому же основанию вас тоже нет. Если мы возьмем отдельного человека, каждого из нас, сидящего здесь, то мы выясним, что мы есть не что иное, как набор клеток. Причем не только, как традиционно нас учили, принадлежащих нашему организму (мышечных, нейронов и так далее), но 90% нашего тела, вернее, по геному 90% нашего тела составляют бактерии, которые с нами совместно живут в организме. Это отдельные организмы, существующие в нас, живущие колониями и на самом деле непрерывно договаривающиеся с нашим телом через химические обмены.
И вот Scientifi c American полтора года назад выпущен журнал про это, задан вопрос: «Кто вообще контролирует процесс?». Если нарисовать человека, это будет такой облачный человек, состоящий из этих бактерий. Это будут бактерии. Это будет не то, что мы привыкли считать собой. И они на нас влияют точно так же, как и мы на них. В этом смысле мы есть не что иное, как фикция договаривающихся между собой колоний и клеток. В том же смысле, в котором не существует коллективных субъектов.
Поэтому я предполагаю, что коллективные субъекты все-таки существуют, и мы постоянно являемся их частями. Кто-то включен в них и носит их на себе, а кто-то надевает их на себя и снимает с себя. Соответственно нам знакомы такие характеристики коллективных субъектов, как, например, коллективное бессознательное, которое больше всего, конечно, прошито в культуре, в символах, в тех снах, которые к нам приходят. Даже в тех телесных знаках, которые мы посылаем друг другу. Мы их считываем и не понимаем. Но мы точно понимаем, что этот человек, например, тут стоит явно не с добрыми намерениями. Все это мы читаем. И это есть базовые протоколы, которые нас связывают вместе.
А поверх них существует коллективное сознание, которое периодически проявляется. Например, когда мы собираемся как группа. И те из присутствующих, кто работает с группами и добивается того, что группа вдруг начинает работать как единое целое и выдавать какой-то продуктивный результат, работают с пробуждением этого коллективного сознания, которое вдруг начинает себя демонстрировать. А потом, как мы знаем, распадается, рассасывается, исчезает.
Когда мы просыпаемся, нам надо восстановить понимание «где я, с кем я, что я здесь делаю, сколько я вчера выпил, когда мне нужно идти на работу, сколько сейчас времени…». Примерно так же коллективный субъект периодически должен себя вспоминать. Например, когда он пишет стратегии, инструкции и разные другие нормативные документы, которые позволяют людям включиться в культуру, включиться в процесс коллективной деятельности и его осуществлять.
Форсайты, в которых некоторые из вас участвовали, — это разновидность такого рода коллективного сознания, которое работает на то самое коллективное действие.
Если говорить, как вообще собираются эти коллективные субъекты наиболее продуктивно, никто не знает об этом больше, чем военные, потому что они сборкой коллективных субъектов занимаются много тысячелетий. Вспомним, что делает воинский отряд единым: форма, общие цвета, естественно, общий язык, общая история, которую они прошли вместе. Форма, музыка, под которую они идут, или барабанный бой. Ритм.
Ритм — это очень важная история, которая объединяет людей, настраивает их друг на друга. Почему в военном деле так важна маршировка? Потому что коллективные субъекты, которыми являются воинские единицы, должны синхронизироваться друг с другом и действовать как единое целое. А для этого их нужно на телесном уровне синхронизировать. И поэтому военные так настойчиво и много маршируют под музыку. А дальше, когда синхронизировались, можно давать им раздельные команды, и они уже будут их выполнять как единое целое.
Теперь вопрос: как индивиды соотносятся с коллективными субъектами? Известный антрополог Леви-Стросс описывает, что в древнем племени не было отдельной личности. Личность — это явление уже ближе к нашему времени. А там, в племенах, была часть целого, которое представляло собой племя. Каждый из людей мыслил себя как рука, нога этого племени, другая часть тела. И в этом смысле не сильно переживал, если ему нужно было умереть ради племени. Он понимал, что он опять в каком-то виде в этом племени переродится. В этом смысле люди как части этого коллективного субъекта находились в нем непрерывно.
Но с тех пор прошло много времени. И люди постепенно стали отслаиваться от коллективных субъектов, в которых они находились. И сейчас мы распределяем наше время на коллективных субъектов по часам. Мы говорим, что в это время я в семье, а в это время я на работе, в организации, ну а в такое время я хожу в свой гольф-клуб. О чем это говорит? Это говорит о количестве ресурса, внимания, усилий и всего остального, что я вкладываю в то, чтобы этот коллективный субъект существовал на мне в течение этого времени. А когда я себя из него вынимаю, он продолжает без меня существовать где-то. И на мне — фоново.
Конечно, эти коллективные субъекты существуют в великом множестве и разнообразии. И многие из них как-то друг с другом соотносятся. Нам всем хорошо знакома эта реальность. В ней нет ничего такого, к чему мы не привыкли. Просто нужно понять, что мы все время существуем в коллективных субъектах, и коллективные субъекты через нас существуют в мире.
И в этом «лесу» есть государство, общественные институты, социальные движения, семьи, роды, бизнесы, бизнес-ассоциации и так далее. Все это — разновидности коллективных субъектов, каждый из которых является живой системой, проектирующей свое будущее и удерживающей свои намерения. И им в этой коллективной экосистеме нужно сосуществовать, не поубивать друг друга, потому что каждая из этих систем способна и на контрпродуктивные отношения, а не только на продуктивные.
А контрпродуктивных отношений бывает довольно много. Например, коррупция в системе охраны общественной безопасности. Или когда, допустим, врачебная система начинает работать не на то, чтобы охранять здоровье граждан, а на то, чтобы поддерживать саму себя, свой институт, защищать себя. В том числе они начинают порождать болезни. Часть из них изобретается врачами для того, чтобы оправдать свое существование.
К первой части относится, например, такое заболевание, как синегнойная палочка, которая является очень большой проблемой именно в госпиталях, где люди, у которых случаются ожоги, от нее и гибнут. А второй тип заболеваний — это, например, синдром рассеянного внимания, который на самом деле создан для того, чтобы прокормить огромную фармацевтическую отрасль, и предписывает бедным деткам эти вещества. Они чем-то помогают, но вопрос в том, что болезнь состоит не в этом.
Вот эти контрпродуктивные отношения начинают работать против системы. И эти коллективные субъекты оказываются не просто в экосистеме. Они оказываются в своего рода вложенных отношениях друг с другом. Подобно тому, как часть тела мы можем проследить до того, что у нас есть отдельная клетка, клетка есть часть органа, орган есть часть большой системы нескольких органов, а это составляет собой человеческое тело. Примерно так же у нас, например, семья — часть сообщества, проживающего на данной территории, а сообщество, проживающее на данной территории, составляет собой страну, а страна составляет собой часть человечества.
И каждый раз, обсуждая будущее каждой из этих систем, мы должны задавать себе вопрос: является ли оно продуктивным или контрпродуктивным по отношению к надсистеме? Потому что у нас случаются вот эти дисфункции институтов. Это то, про что я уже рассказал.
Я тут намекаю на то, что, может быть, некоторые из вас, кто не знаком с этими авторами, после лекции посмотрят на них. Вот очень интересный автор — Иван Иллич. Несмотря на свое русское имя, он по происхождению американо-португалец. Католический священник, работавший в Латинской Америке и с трудными детьми — в Северной Америке. Он написал несколько книжек. Одна из них рассказывает о том, почему школы не выполняют своей функции. Она называется, можно так назвать, «Расшколивание общества».
РЕПЛИКА: «Освобождение от школ».
П. Л.: Точно. «Освобождение от школ». А вторая называется «Медицинская Немезида». Это про медиков.
Он показывает, как в общем-то ради хороших предпосылок, что-то задумав, через некоторое время общественные институты начинают выдавать очень контрпродуктивный результат. И в этом и состоит та самая штука, которую обозначают кризисом, когда говорят: «Образование зашло в кризис». Образование зашло в кризис в том смысле и только в том смысле, что оно становится контрпродуктивным для целей общественной системы.
И это же, коллеги, можно обратить к тому вопросу, как мы с вами, действуя в своих организациях (в общественных организациях, в странах, в семьях), работаем на нашу самую большую верхнеуровневую надсистему, в которую, так или иначе, упаковываются все наши действия. То есть как мы все работаем на человечество.
Выясняется, что на самом деле чудовищно сложно думать про работу на человечество. И нужно ли вообще? До какого-то момента времени и не нужно было, потому что человечество как целое не сталкивалось с пределами роста. Пределы роста — это когда мы вдруг выясняем, что мы как целое так распространились на планете, что начинаем создавать заметные эффекты нашего существования в окружающем мире, которые начинают уже влиять на наше собственное будущее.
Мы стали способны уничтожить себя разными способами. В частности, один из этих способов был придуман в середине XX века. Это атомные бомбы, которых понаделали в великом количестве. Другой способ просто возник как результат развития индустриальной цивилизации. Экологический кризис. Многие слышали про великое пластиковое пятно в Тихом океане. Оказывается, сейчас уже возникло второе пластиковое пятно поверх того. В Тихом океане плавает огромное количество, сотни миллионов тонн пластикового мусора, который собирается со всей акватории Тихого океана. Там такая воронка, затягивающая в себя все. Вода потом уходит вниз, а мусор остается на поверхности. Растет, растет, растет. Вот такая же воронка есть в Индийском океане. И там сейчас начало собираться второе такое великое пластиковое пятно.
Эта проблема, может быть, более опасная, чем история с Фукусимой, например. Пластиковые пятна закрывают огромную часть акватории мирового океана там, где воспроизводится планктон. А планктон, во-первых, является легкими планеты. Именно он в первую очередь, а не леса. А во-вторых, он явл яется базовым питанием для всего, что живет в океане. Он — основа пищевой цепи. И поэтому если планктон не воспроизводится, у нас в океане вдруг неожиданно нет ни китов, ни рыбы, ничего остального, потому что все закрыл пластик.
И пока нет способа с этим справиться. Ни один коллективный субъект под названием «страна» не может договориться с другим, потому что типа это не наша ответственность. А себя мы не хотим ущемлять ради целого. И с великим пластиковым пятном в Тихом океане не могут справиться ровно поэтому. Китай же не хочет ограничивать свой экономический рост ради того, чтобы экология где-то в Тихом океане улучшалась.
Поэтому, на мой взгляд, нужны процессы, помогающие договариваться на том системном уровне, как минимум, на котором существует проблема. И колонизация будущего, присвоение будущего производится не нами индивидуально, а коллективными субъектами, которые через нас вырабатывают этот самый образ будущего и которые потом с помощью нас начинают его воплощать.
Из общетеоретических соображений посмотреть, что же нужно человечеству, как любому субъекту, то человечеству, в первую очередь, нужно оформить самого себя. Я сейчас поясню, что это означает с точки зрения проектов, которые реально реализуются. Мы с вами можем понять, кто сейчас берется за эти проекты, а кто нет.

Первое — надо оформиться. Второе — надо разобраться со своими проблемами. Человечество сейчас начинает вдруг себя оформлять как целое, понимать угрозы своему существованию и управлять своим развитием, то есть своей трансформацией в некоторые новые качества.
Вопрос: на ком этот проект (человечество) сейчас размещен? Есть предположение, что как минимум три типа организаций его держат. Первый — это религии, которые обладают тем самым свойством наднациональности. Это самые большие объединения во всей истории человечества. Ни одна страна не сумела продержаться так долго, как мировые религии. Их роль в трансформации несопоставима ни с чем, что делает кто-либо другой.
Вторые два типа структур возникли уже в XX веке. Один — это международные управляющие структуры бюрократического характера. Квазимеждународное правительство типа Организации Объединенных Наций. И структуры, которые занимаются конкретными мировыми проблемами, например, экологией, типа «Гринпис».
Я полагаю, что в этой карте не хватает игроков. Я полагаю, что они там будут появляться. И те, кто на самом деле хранит этот проект как целостное, еще пока не возникли. Поэтому я здесь ставлю з нак вопроса.
Исходя из этого списка целей, мы с вами можем сказать, что же могло бы входить в общечеловеческий проект.
Первое и главное. Вообще-то говоря, для человечества все равно, как проведены границы, и есть ли они вообще. С позиции человечества, самое главное, чтобы мы как целое существовали. В этом смысле мир во всем мире — это первый и главнейший элемент общечеловеческого проекта, потому что если война может довести все до динамики самоуничтожения или такого разделения, что человечество как целое не возникает, тогда это явно не часть общечеловеческого проекта. Поэтому пацифизм, дорогие коллеги, является первой предпосылкой общечеловеческих проектов.
Вторая предпосылка очень смешная. Ближе всего она, конечно, к той программе, которую реализовывали большевики в начале XX века. Уравнение. Но не уравнение на самом деле, потому что уравнение как принудительная операция оказалось неэффективным, а именно инклюзивность, то есть возможность включить всех, кто готов включаться. Это очень сложно, потому что мир любит делиться, например, на богатых и бедных. В России это не такая сильная проблема. А в странах, где капитализм устойчиво существовал 200–300 лет, это серьезная проблема, потому что они между собой не разговаривают вообще. И друг друга они активно презирают, ненавидят. И классовая борьба ни разу не исчезла. Она есть. Она просто приобретает другие формы, но она остается.
Второе. Расовые и этнические различия. Тоже очень серьезная проблема. Еще в середине XX века, например, в Европе были зоопарки, в которых в вольерах показывали черных девочек и кормили их бананами. И это считалось в порядке вещей. Уже после Второй мировой войны.
Вы не поверите, но в этой же логике инклюзивности и способности удерживать продуктивное разнообразие очень важен проект под названием «феминизм». Напоминаю, прогрессивные большевики одними из первых разрешили женщинам работать, голосовать и все остальное. Швейцария ввела такое право позднее, чем Советская Россия. Я считаю, что если бы революция большевиков произошла в конце XX века, то у нас бы было самое прогрессивное законодательство в отношении геев и лесбиянок.
Ровно по той же логике, по какой они ввели тогда это.
Инклюзивность — возможность включать те группы, которые раньше были как бы социальными отбросами, но на самом деле очень продуктивны и могут обществу как целому давать вклад. Баланс верований. То есть я могу верить, но так, чтобы не разрушать других. Баланс языков и так далее.
Третий элемент касается изменения отношений с природой. По большому счету с природой мы обращались в течение этих 300 лет (вернее, наши предки) чудовищно безобразно. В конце XX века поняли, что надо что-то менять, но все больше похоже на лозунги. Типа, давайте все наши операции присыпем сверху зеленым порошком и сделаем вид, что они зеленые.
Но у следующих поколений уже есть понимание, что это, конечно, не пройдет. Модели здесь все очевидны. Не буду их долго превозносить. Смысл в том, что нам нужна реальная экологизация, потому что иначе мы разрушим среду обитания, а другой у нас нет.
И четвертое. Очень важный вопрос. Технологическая и культурная эволюции стали для нас инструментом… Скажем так, можно к ним относиться как к чему-то, что дано нам в ощущении. Кто-то это делает, и оно само все складывается. А можно, как в XX веке показала практика, запускать большие общечеловеческие проекты, каковым являлся космический проект или проект освоения ядерной энергетики, и так далее. Вот эти проекты состоялись.
Сейчас, мне кажется, примерно в той же логике еще несколько проектов, может быть, не в общечеловеческом смысле, но явно в надстрановом, разворачиваются. Например, в области компьютерной индустрии, в области нейротехнологий, в области генетики. Это технологическая эволюция, направленная на решение общечеловеческих проблем.
Чего нам не хватает? Нам не хватает направленной культурной эволюции. Она отсутствует сейчас по факту. В том смысле, в котором идет технологическая эволюция, ее практически нет. Максимум на это работают, например, Соединенные Штаты, разрабатывающие определенные культурные коды и целевым образом их имплантирующие через систему, в том числе масс-медиа.
Есть совершенно замечательная книжка. Я, к сожалению, забыл ее название. Она рассказывает о том, как был создан специальный медийный проект по продвижению идей американской демократии. После Второй мировой войны его создала небольшая группа людей. Одним из лидеров была антрополог Маргарет Мид. Они как раз изучали, каким образом нацистская Германия неожиданно оказалась способна мобилизовывать «коллективного субъекта» и поднимать массу людей на какое-то совместное действие. На основе исследований они создали культурный код, который позволил также мобилизовывать людей на развитие демократии.
Но практически никто больше таким не занимается. Японцы, кстати, экспериментируют. Но в целом это происходит в рамках работы на национальные задачи, как работа на транснациональные задачи — практически нет.
Общечеловеческий проект пришел первый раз в начале XX века. И первым таким заходом была попытка его оформить в виде Лиги наций, Международной организации труда, общего языка, на котором смогут все говорить. Проект «эсперанто» вдохновлялся именно этим. Но очень многие оказались не готовы.
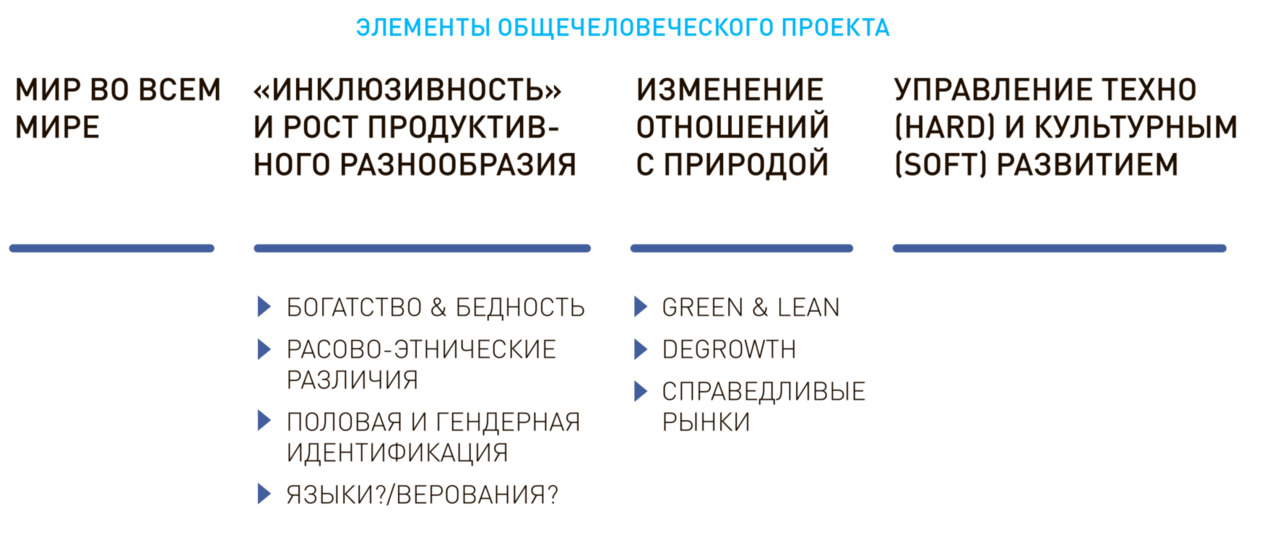
Второй заход у нас был после Второй мировой войны. И этот заход продолжался 40 лет. Это две версии того, куда могло бы развиваться человечество. Одну из них возглавили США. Это был такой проект капиталистического, либерального, свободного, демократического общества. А вторую возглавил Советский Союз. И здесь были ценности: социальная защищенность, равенство и так далее. И в борьбе этих двух проектов и происходила главная напряженность большей части XX века.
Кстати, именно благодаря этим двум проектам возникло много прекрасных вещей, таких как интернет, который является в каком-то смысле прямым следствием холодной войны и страха, что сейчас эти ракеты, которые на спине у медведя, полетят на этого орла.
И космос тоже не состоялся бы, если бы не было противодействия, потому что каждый из лагерей стремился продемонстрировать другому свое технологическое превосходство.
С распадом Советского Союза произошла очень интересная вещь. Альтернативных держателей проекта человечества в какой-то момент вроде бы и не оказалось больше. Вот тогда, мы помним, Фрэнсис Фукуяма написал «Конец истории» про то, что раз Советский Союз закончился, значит, у нас нет больше никаких альтернатив либерализму и так далее.
И примерно 15 лет, даже больше, люди так и думали.
Но когда случился кризис 2008 года, стало ясно, что что-то не так. Мы сейчас живем в удивительнейшем времени, когда ни одна из структур, ни одно из государств, ни одна из религий и других больших коллективных субъектов не может окончательно и тотально претендовать на общечеловеческий проект, не является его носителем и держателем.
И в этом смысле будущее для нас открыто. И будущее принадлежит нам — тем, кто его в этой ситуации начинает проектировать и воплощать. Если мы допускаем в этом процессе возможность открытого диалога и свободного собирания коллективных субъектов, работающих на задачи общечеловеческого проекта.
Есть шаги, которые явно будут проявляться и которые будут стоять перед человечеством как единым целым. Я обозначу как минимум два из них.
Они нам очень важны.
Первый — это та самая управляемая эволюция. Мы выходим в зону, где технологии начинают работать с нами самими. Нам не кажется уже ничем особенным, что мы принимаем лекарства для поправки здоровья. Через некоторое время нам не будет казаться, что мы немножко поправляем свой геном ровно для тех же целей. Через некоторое время нам станут привычны люди, которые ходят с кибернетическими протезами ровно для тех же целей. Или люди, которые будут себе для рабочих задач расширять функции памяти, мышления и всего остального. Мы постепенно начнем привыкать к идее, что отдельный человек не ограничивается теми границами, в которых его родила мать-природа.
Мы уже оказались в этом процессе. Мы, вообще-то, уже глубоко в нем. Нас таких выпусти сейчас в первобытный лес — мы тут же погибнем, потому что привыкли работать со всей этой технической средой, которая нас окружает. Зато в ней мы суперэффективны. А если оттуда, из первобытного леса, вынуть человека и поместить сюда, он будет колоссально неэффективным. Он не сможет здесь ничего сделать. И в этом смысле мы уже очень сильно отличаемся от того человечества, которое обитало в первобытном лесу. Мы уже на пути к постчеловечеству. И этот процесс будет все больше ускоряться.
И второй очень важный шаг. Когда мы выходим в эту зону, мы можем ставить вопрос: почему это человечество — только люди? Есть и другие разумные виды (например, дельфины, собаки, лошади, обезьяны), которые находятся на пути эволюции. И когда, например, биологи начинают с ними работать, допустим, обучая их символьной системе, выясняется, что они очень мотивированы включиться в это все. Им нравится. Они хотят туда пойти. Они хотят развиваться.
И мы сейчас, как ни странно, впервые можем ставить серьезно вопрос о том, что можем банально дать им инструменты для этого развития. А дальше они сами решат, какую культуру, цивилизацию они захотят строить. Это будет их вопрос. Мы можем дать им речезвуковой аппарат, например, возможность общаться, в том числе с людьми и так далее.
Мы выходим в ту зону технологий, где это становится вопросом 5–10 лет. Уже сейчас идут активные эксперименты в этой области. Даже наши коллеги в Политехническом музее собираются запустить такое мероприятие в следующем году, в таком ограниченном формате. А в течение 10 лет, я думаю, будет прорыв. Уже есть попытки расшифровать язык дельфинов. Даже первые слова расшифровали. Вы представляете, какая колоссальная возможность. Вдруг выясняется, что мы не одни во Вселенной. И те, кто рядом с нами, и есть наши соратники. И как мы можем друг друга обогатить.
Сейчас вот это оформление человечества как целого и возможность каждого из нас поучаствовать в проекте под названием «будущее человечества» дает нам колоссальные возможности. И для того, чтобы в нем участвовать, не нужно быть очень большим. Не нужно пытаться строить города на Луне.
Как я уже говорил, то, как мы включаемся в субъект, определяется распределением нашего времени, наших усилий и нашего внимания. Поэтому если мы начинаем уделять внимание вопросам, работающим на человечество как целое, то мы уже часть этого общечеловеческого проекта.
Спасибо.
АНДРЕЙ СТЕБЕНКОВ: Павел, есть вопрос. Что же является главным признаком и фактором формирования субъекта? Субъектность — это что? В чем она проявляется, откуда появляется? Что делает кучку каких-то индивидов субъектом? Второй. Что из индивидуальных субъектов, из множества людей, делает как раз коллективного? Где та граница, где Павел Лукша говорит, что это не коллективный субъект, а просто толпа, а вот это коллективный субъект (команда, например)?
Вот два таких взаимосвязанных вопроса: субъект вообще и коллективный субъект.
П. Л.: Я не претендую на окончательную экспертность…
А. С.: Свой личный взгляд.
П. Л.: Мне кажется, что эта история прописана. Она уже более-менее ясна. В ней есть несколько вещей. Первое — есть способ коммуникации, то, что связывает. Например, некий специфичный язык, который позволяет этой группе эффективно друг друга понимать. Второе — это специализация. Группа не представляет собой аморфность. Она начинает из себя выделять специальные подфункции — или которые на себя берут индивиды, или в которые они начинают объединяться, в эту подгруппу и так далее.
И третье, что очень важно — это общая цель.
В какой-то момент революция вполне может породить на какое-то время из толпы коллективного субъекта. Когда он решит задачу, он разберется потом. Все будут говорить: «Я там делал что-то такое, сам не понял, что».
Теперь вопрос: что субъекта делает субъектом. Субъекта субъектом делает согласованность его частей в процессе действия. Именно наличие некоторой внутренней согласованности. Конечно, надо выходить к новому словарю, потому слово «субъект» мы заимствуем из предыдущего разделения субъектно-объектных отношений. Вот у субъекта есть возможность действовать, а объект — это то, с чем взаимодействует et cetera. Но в каком-то смысле эта интенция и возможность ее реализовать, наверное, характеризуют субъекта как некоторую целостную систему.
А. С.: В этом смысле «субъектность» и «интернациональность» — близкие понятия?
П. Л.: Близкие, да. На этом уровне начинается некоторый целенаправленный процесс, который нельзя атрибутировать просто взаимодействием людей или субъектов более низкого уровня. Когда он вдруг начинает действовать как целое, в этот момент можно говорить о субъектности.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Я хотел уточнить. Есть несколько очень простых понятий. Я бы предложил так. Субъект — это та система, у которой есть восприятие целостности и поведение. В этом смысле толпа является, что называется, мгновенным субъектом. Достаточно вспомнить теорию Узенера о мгновенных богах. Для развития человечества, очень простенького, ощущение божественного возникало в тот момент, когда была угроза. Тогда было понятно, что есть что-то сильное. Как только это исчезало, исчезало и ощущение, что есть что-то над нами.
Та же самая ситуация с толпой. Толпа — отчетливый и мгновенный коллективный субъект, потому что у нее есть собственное восприятие (в частности, опасности) и общее поведение. И общие цели.
СЛУШАТЕЛЬ 2: У меня такой вопрос. К вопросу ограничения народонаселения, говоря о будущем. Если говорить утрированно, иногда выскакивает такая мысль, чтобы остался золотой миллиард и миллиард обслуживающего населения. Как вы к этому относитесь, к этой идее?
П. Л.: А у кого проскакивает такая мысль?
СЛУШАТЕЛЬ 2: Комитет 300.
П. Л.: Я понял. Смотрите, коллеги. Вопрос в том, что технологически мы имеем возможность двинуться в сторону такого баланса общественных отношений, который позволит прокормить необходимое количество населения. По крайней мере, 7, 8, 10 миллиардов можно прокормить при определенных условиях.
Парадокс заключается в другом. Некоторые люди говорят: давайте вернемся к более естественному образу жизни и так далее. Интересная штука, что мы попали в ту зону действия, где у нас уже нет возможности вернуться к естественному образу жизни.
Если мы бы взяли и все пошли обратно в леса, посадили бы себе огородики на опушке леса, жили бы в избушке и так далее, для этого пришлось бы погибнуть примерно 19 из 20 людей. То есть планета Земля может прокормить около 300–400 миллионов человек в том режиме, в котором производили пищу и прочие ресурсы в ранней аграрной цивилизации. А все остальное есть наши способы промышленной организации производства, распределения пищи и других ресурсов, обеспечивающие наше коллективное выживание. И невозможно было бы обеспечить выживание такого количества людей уже сейчас.
Поэтому мы находимся в положении, как я иногда это метафорически описываю, велосипедиста, который едет с горы с ускоряющейся скоростью. Каждый его следующий метр или 10 метров приводят его ко все более высокой скорости и неустойчивому положению. Выпустить, бросить руль нельзя, потому что упадешь, больно будет. Поэтому нужно катиться до тех пор, пока управляемо не скатишься на какое-то плато. И тут надо глядеть вперед.
СЛУШАТЕЛЬ 2: А где это плато?
РЕПЛИКА: На Марсе.
П. Л.: «На Марсе», — говорят нам коллеги. Я думаю, что частично да. Но вопрос как раз не в том. На самом деле, с демографией не такая большая проблема. Там есть история про то, что демографически практически все страны выходят в зону урбанизации, в связи с чем они постепенно начинают выходить на плато. Уже практически нет стран, которые активно расширяются.
РЕПЛИКА: Еще есть.
П. Л.: Но, грубо говоря, уже больше половины человечества находится в такой зоне.
СЛУШАТЕЛЬ 3: У меня такой вопрос. Если более низкоуровневые объекты, субъекты объединяются во что-то более высокоуровневое, например, страны объединяются в общечеловеческий проект, то каждая из них там займет, наверное, какое-то место. Кому-то придется подвинуться, своими интересами ради этого общего проекта пожертвовать. Наверное, там должна быть какая-то конкурентная борьба.
П. Л.: Или кооперация.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Или кооперация. Но все равно кто-нибудь окажется хитрее.
П. Л.: Это вы сейчас свою модель реальности мира рассказываете. А может быть, мир и не такой.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Вот мне хотелось бы вашу послушать. Что делать в такой хитрой кооперации, когда или твоя страна, или ты как человек займешь не то место, которое хотелось бы?
П. Л.: Когда вы делаете проекты, вы любите людей, которые пытаются схитрить, обмануть вас?
СЛУШАТЕЛЬ 3: Нет.
П. Л.: И я так думаю. Стараетесь не включать их в проект, да? Людей, которые неадекватно себя ведут, вы тоже стараетесь не включать. Допустим, у вас еще такая ситуация, что вам нельзя их исключить совсем. Они все равно рядом. Поэтому вы им так мягко начинаете готовить: коллеги, давайте не будем воевать, давайте будем дружить, давайте будем обмениваться, давайте будем учиться. Так мягонько их подтягиваете. Я имею в виду, если вы лидер проекта. Да? Вот у вас есть 200 человек в деревне, например, и вам всех надо включить. В этой модели, конечно, можно кого-то выгнать за околицу…
СЛУШАТЕЛЬ 3: Если вы лидер проекта. Но у нас же, получается, нет лидера. Или кто у нас лидер?
П. Л.: Есть те, кто претендует на лидерство. Есть те, кто вообще провалил это лидерство. Претендующие на лидерство, конечно, стараются так себя вести. Это не всем нравится, не все согласны с этим. Они говорят: «А с чего ты решил, что ты лидер? Может, ты совсем не лидер. Ты посмотри, как ты себя ведешь». — «Хорошо. Я не лидер. Тогда ты проявляй качества лидера». Это открытая площадка. Общечеловеческий проект. И не только страны в нем участвуют. Разные типы субъектов. И социальные движения в чем-то более важны. Например, бизнесы и бизнес-ассоциации. Вот эти типы субъектов в чем-то более важны, чем нации, которые в какой-то момент собрались, и многие из них — довольно искусственные коллективы.
СЛУШАТЕЛЬ 4: У меня два коротких вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что осознанность является тем качеством, которое позволит выйти в общечеловеческий проект? П. Л.: Считаю.
СЛУШАТЕЛЬ 4: И тогда второй вопрос, более технический. Является ли интернет инструментом осознанности, повышения осознанности? Если не является, на какие инструменты вы бы предложили делать ставку в горизонте 10–15 лет?
П. Л.: Интернет частично является инструментом повышения осознанности, частично является инструментом повышения неосознанности. Я считаю, что есть возможность разработать конкретные технологии, которые позволят превратить интернет в большей мере в инструмент повышения осознанности.
Технологии, которые на это работают явным образом, известны примерно несколько тысяч лет. Их практикуют разные религиозно-духовные традиции. Их практикуют буддизм, православие. И другие замечательные традиции реализуют возможность развивать личную и коллективную осознанность и удерживать в этом предельные этические основания.
Плюс к этому научный способ мышления и действия и та философия, которая за ним стояла, является тоже очень мощным инструментом. Я считаю, было три лидера: США, Европа (в первую очередь, Германия) и Советский Союз. Япония потом подтянулась. Вот эти лидеры демонстрируют, как большие инженерные школы способны менять мир.
Далее вопрос: эти инженерные школы должны были бы развернуться и действительно работать с большими общечеловеческими проблемами. И гдето это началось. В частности, то, что делает MIT (Массачусетский технологический институт), их подразделение MIT Media Lab, то, что делает в Кремниевой долине такая структура, как Singularity University — это разворот как раз на то, чтобы «умныши» занялись, наконец, не придумыванием очередного гаджета, который они продадут богачам, а реальными проблемами. Например, нехваткой питьевой воды в странах третьего мира, где требуется дешевая установка опреснения.
Такие простые прикладные решения нужно выдавать. Сейчас в эту сторону идет разворот, и он очень важен. Я считаю, что если мы, например, занимаемся инженерным образованием, нам к этому тоже надо людей разворачивать в первую очередь.
АЛЕКСАНДР ОВЧИННИКОВ: Александр Овчинников, Академия игропрактики. У меня вопрос к используемому слову «проект». П. Л.: Оно в кавычках.
А. О.: Первый на уточнение. Это просто маркер идеи, что об этом надо особым образом думать? Или за этим стоит идея проектного подхода? И тогда насколько она, в вашем представлении, вшита? Может быть, это не общечеловеческий проект, а общечеловеческая мечта, идея? Проектирование — тяжелая форма. Она требует больших усилий для прописывания, промысливания, согласования. Она требует идею проектировщика, который держит общую сборную картину. Насколько проект и сама концепция проектного подхода про это? Или слово «проект» — в кавычках, просто маркер?
П. Л.: Конечно, слово в кавычках, потому что, когда мы говорим о системах такого размера, мы не можем в них использовать те технологии, которые используются для систем меньших на несколько порядков.
Но я считаю, что форсайт, например, как инструмент — это такой первый заход, очень примитивный, на попытку создать инструменты квазипроектирования в неоднородных системах, где нельзя в иерархии указать, что ты делаешь это, ты ответственный. И еще в голове невозможно одному человеку удержать все разнообразие ситуаций, связанных с проектом. Вот тогда надо переходить в какую-то другую коммуникативную ситуацию. А ее явно пока тоже не хватает.
Я предполагаю, что она будет достроена в сети, в интернете. И когда она полноценно будет достроена в интернете, в этот момент появится по-настоящему «проектирование» вот этого уровня. Его сейчас только нащупывают.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Можно еще реплику? Есть такое мнение: человечество так устроено, что общечеловеческий проект — это не дело рук людей. Почему? Потому что люди — умные, разумные, рациональные — не в силах контролировать свои эмоции. Более того, негативные эмоции — для них ресурс. Допустим, русские, ненавидя американцев, запустили Гагарина в космос. Американцы, ненавидя русских, построили лучшую в мире систему производства видеофильмов. И так далее. А люди в принципе — такие существа, что они не могут без ненависти, нетерпимости. П. Л.: Это предположение.
СЛУШАТЕЛЬ 5: И если делать такой проект, его надо изначально делать иррациональным. Романтики об этом говорят.
П. Л.: Конечно. Будущее открывают рабочие и поэты. Кто такие рабочие? Рабочие — это те, кто руками делают. А поэты — это те, кто придумывают и манящими образами, дудочкой крысолова, заманивают нас в будущее. А рациональные проекты, конечно же, не летают. Мы все это прекрасно понимаем.
Точно так же, как мы можем с собой осознанно работать и обращать к себе внимание: какую эмоцию я испытываю, продуктивна ли она, может быть, я хочу ударить своего соседа, но это не продуктивная эмоция, потому что я сейчас остыну, и завтра я уже буду себя спокойно вести… И на уровне коллективных субъектов происходит та же самая динамика. В истории человечества был очень длинный период, когда коллективные субъекты воспринимали друг друга только как врагов. А что это означало практически? Практически это означало, что я член племени, мне в детстве, вернее, во время обряда инициации наносят татуировки, они четко меня идентифицируют. Если меня видит член другого племени, и я его вижу, каждый из нас должен попытаться убить другого, потому что это единственный способ взаимодействия с этим другим племенем. Мы все враги. Вокруг нас враждебная среда. Внутри мы все друг друга любим, снаружи мы все враги.
Потом постепенно стали учиться строить союзы, кооперироваться и так далее. Древние охотники не могли два часа находиться в одном помещении и не поубивать друг друга. Наши предки, встретившись вот так, сразу бы достали свои кремниевые топоры. Таков был протокол взаимодействия. И они бы, сидя у костра в своем племени, обсуждали: ну, конечно, как можно сидеть в одной комнате с врагом. Это же невозможно. Он чужак, не из моего рода. Как я с ним буду сидеть в одной комнате и еще что-то обсуждать?
Кто он такой? Он для меня враг.
И сейчас мы точно так же говорим. Да, надо испытывать эмоции, надо сражаться. Конечно, из нашего нынешнего состояния коллективной осознанности мы все только так и можем это воспринимать, потому что сейчас другого и нет. Но кто нам сказал, что текущее состояние нашей коллективной осознанности и есть данное нам на веки вечные? Оно меняется.
Есть замечательные исследования. Например, о том, что на протяжении последних 10 тысяч лет количество убийств внутри популяции неуклонно снижается. Разных типов насильственных конфликтов. Мы учимся вести себя мирно по отношению друг к другу. Активно. И это тренд.
РЕПЛИКА: Факты «в студию». Откуда? Я такого не знаю.
П. Л.: Есть наш очень известный исследователь — Акоп Назаретян. У него есть об этом книга. Есть известный исследователь, который получил премию в прошлом году.
РЕПЛИКА: Сомневаюсь. Очень сомневаюсь.
П. Л.: Посмотрите. Я сейчас не буду спорить. Они очень убедительно показывают.
РЕПЛИКА: Имеется в виду смертность от насильственных действий?
П. Л.: Смертность от насильственных действий.
РЕПЛИКА: Внутривидовая агрессия снижается?
П. Л.: Внутривидовая агрессия снижается. Они показывают это. Это действительно оказалось контринтуитивно. Говорили, посмотрите, кровавый XX век, сколько убийств. Ничего подобного. Оказывается, самый меньший процент за всю историю человечества, с двумя мировыми войнами. Есть кто-нибудь, кто помнит этого автора, кроме меня?
РЕПЛИКА: Лоренца можно вспомнить.
П. Л.: Не Лоренц. Книжка была издана два года назад. Стивен Линкер.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Могли бы вы назвать два-три проекта глобального уровня, которые имеет смысл сейчас обсуждать, и два-три проекта локального, регионального уровня? П. Л.: В России?
СЛУШАТЕЛЬ 6: Нет, не для России. Два-три глобальных уровня, в целом для цивилизации. И два-три локального, регионального. Ну, например, для России.
П. Л.: Я считаю, например, нужно обсуждать новый режим безопасности и протоколы взаимодействия в интернете в связи с тем, что поднял Сноуден. Я считаю, что нужно обсудить (и мы туда идем) новую конфигурацию системы образования в связи с тем, что полностью меняются правила игры на этих рынках. На самом деле образование очень важно для будущего. Для меня. Это мое мнение, что совершенно точно актуально прямо сейчас. И третье, конечно, — это новая финансовая система. Но она сразу не сложится. Я думаю, что сейчас слишком рано для нее.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Это глобальный уровень? П. Л.: Да, это глобальный уровень.
СЛУШАТЕЛЬ 6.: А на локальном, региональном уровне?
П. Л.: Дальний Восток.
СЛУШАТЕЛЬ 6: А «на глобальном уровне» образование — это имеется в виду, образование как глобальная проблема»?
П. Л.: Таких проблем много. Например, большое пластиковое пятно — это реальная проблема. С ней пока еще никто не знает, что делать дальше. И есть несколько общественных движений, которые начинают находить решение. И нужно найти еще такое решение, которое будет технологически и по смыслу адекватно.
РЕПЛИКА: Это же сырье.
П. Л.: Точно. Но очень дорогое пока, насколько я понимаю. Его сложно вынимать из центра Тихого океана. Сейчас пластиковые бутылки даже дома не перерабатываются. А там это сырье еще хуже. Там уже взвесь на самом деле. Там не отдельные бутылки плавают.
РЕПЛИКА: Откачивать можно.
СЛУШАТЕЛЬ 7: У меня такой немножко шутливый вопрос. Там была такая временная шкала, где субъект сначала принадлежал к одному коллективному объекту (на работе), а потом он приходит и принадлежит уже семье. Допустим, я сейчас вот здесь, я принадлежу этому субъекту. Потом я попадаю домой и принадлежу уже тому субъекту. А если я попадаю домой, а мыслями я еще здесь, я где? П. Л.: На работе.
СЛУШАТЕЛЬ 7: Я какому субъекту принадлежу?
П. Л.: Кстати сказать, это очень важный вопрос. Главная техника, которой не учат нигде, но которой необходимо учить, — это умение снимать с себя предыдущего коллективного субъекта и надевать следующего. Чтобы максимально присутствовать в том пространстве, в котором вы сейчас находитесь. Допустим, когда вы приходите домой, уж будьте добры ответственно быть дома, от и до, с семьей. А если вы с ней не пребываете, а пребываете мыслями на работе, у вас начинаются проблемы в семье. И на работе тоже проблемы начинаются.
Умение надевать на себя коллективного субъекта и снимать его с себя — это такая отдельная большая работа, она, например, частично есть в тайм-менеджменте.
СЛУШАТЕЛЬ 7: Года три назад мы были с женой в кафе в Италии. И напротив сидели двое японцев или китайцев, не помню. И они сидят, каждый со своим гаджетом. Они вроде бы вместе, но они не вместе. Второй пример: я прихожу домой, дочь сидит здесь со своим гаджетом, сын и жена тоже. Вроде мы все дома, но в то же время мы где-то там.
РЕПЛИКА: Если вы в одной группе в «Фейсбуке», то все нормально.
СЛУШАТЕЛЬ 7: К сожалению, нет.
П. Л.: Точно. Это, кстати, очень интересный тезис… До какого-то момента мы все могли быть только здесь и сейчас или в своих фантазиях. Либо я осознаю, что я нахожусь здесь и сейчас, в этом месте и в это время, либо я улетаю куда-то фантазиями, строю воздушные замки, вспоминаю, как мне хорошо было на юге три года назад, и я не здесь и сейчас. И все эти психопрактики учат вернуться в «здесь и сейчас».
Интернет создает нам ощущение «здесь и сейчас». Я же здесь и сейчас. Я же в компьютере присутствую. В интернете кто-то не прав, я ему это объясняю. Понимаете? Именно по этой причине в этом переходном периоде мы видим такую странную штуку, что собирается семья, и все сидят в своих гаджетах. Нельзя сказать, что они не присутствуют. Просто каждый присутствует в своей реальности. Этого будет еще больше. И нам надо к этому готовиться, учиться и работать с коллективным вниманием, с присутствием, с его проявлением, когда мы находимся в коллективных субъектах. Это одна из главных задач системы образования будущего.
О времени и развитии
ЛЕКЦИЯ 06 21/05/2014

У меня было благое намерение прослушать все пять предыдущих лекций, но, к сожалению, оно, в силу временных ограничений, не состоялось. И из тех фрагментов, которые мне удалось выделить, я пришел к выводу, что моими предшественниками двигала уверенность в некоторых постулатах, которые мне хотелось бы, конечно, подвергнуть сомнению.
Безусловно, тот факт, что наше мышление не способно схватить феномен времени, и тот факт, что за несколько тысячелетий известного нам развития философского, потом естественнонаучного, потом и социально-гуманитарного знания мы в общем не сильно продвинулись в понимании феноменологии времени, свидетельствует о некотором непорядке в этой области и о наличии какой-то серьезной группы трудностей, относящихся как к самому этому феномену или этой группе феноменов, так и к возможностям нашего сознания и мышления.
Вот вы видите здесь высказывание Рейхенбаха о том, что этот вопрос всегда заводил человечество в тупик. И, в общем, ключевые элементы проблематизации достаточно хорошо нам известны давно. Вот Августин Аврелий в своей «Исповеди» пишет: «Что же такое время? […] Если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет?» Понятно, что здесь мы с вами сталкиваемся еще с проблемой перевода. Я сильно сомневаюсь, что Августин употреблял термин «будущее» в том же смысле, в каком сегодня употребляем его мы. «Если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило бы в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем толь-
ко потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? Разве мы не ошибаемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?».
Проходит несколько сотен лет, и в XVII веке великий философ Бенедикт Спиноза, который, кстати, был председателем Ассоциации огранщиков стекол, и в этом плане, наверное, эта деятельность стимулировала его к тому, чтобы размышлять о вечности, он вообще выдвинул предположение, которое до сих пор сохраняет свою актуальность, а именно предположение о том, что временность характеризует исключительно способность воображения и в этом смысле не имеет вообще никаких денотатов в реальности. Это вопрос, способ организации нашего сознания и мышления. В общем, на этом можно было все и завершить, потому что с тех пор, хотя прошло уже, фактически, почти 400 лет, мы не сильно продвинулись в понимании проблемы.
Начиная с XVIII века, но уже в работах Лейбница, проблема времени тесно связывается с проблемой сущего или онтологии. Недавно, пытаясь объяснить своим слушателям, что же такое «онтология» и зачем она вообще нужна, я напомнил им, что само это понятие, философская дисциплина, которая отвечает на вопрос, как устроен мир на самом деле, появилось в момент активизации споров между протестантами и католиками. До тех пор, пока казалось, что теологическая картина мира едина, всегда внутри нее существовал ответ на вопрос, что есть на самом деле, а чего нет. В тот момент, когда они поссорились и оказалось, что по нескольким ключевым вопросам существуют существенные разногласия, — существенные настолько, что ради них можно воевать, — картина мира рассыпалась. И как только она рассыпалась, мы стали понимать, что наши представления о том, как устроен мир, сами по себе приходящие, могут быть разными, и вообще существует конкуренция кандидатных онтологий. Одни из них отвечают на вопрос об устройстве мира лучше, другие хуже, одни держатся тысячелетия, другие, как, скажем, научная картина мира, исчерпывают себя за 300–350 лет.
Собственно, Лейбниц и сказал, что проблема времени намекает на онтологическую проблему, она указывает на онтологию именно как на проблему, как на то, что мы не можем сказать, как устроен мир. У нас нет ответа на этот вопрос, у нас есть гипотеза, но у нас нет ответа на этот вопрос. И проблема времени — одна из тех проблем, которая все время заставляет нас помнить, что у нас нет ответа на вопрос «Как устроен мир?».
Интерес Хайдеггера к этой теме тоже широко известен. Вы знаете, что его самая знаменитая работа так и называлась «Бытие и время». «В правильно понятом и эксплицированном феномене времени коренится центральная проблематика всей онтологии». Но мне больше нравится, больше симпатична позиция Кассирера. И, собственно, я начну потихоньку развивать, указывая на определенную линию рассуждений, которая стартует в последней четверти XIX века и уже около 150 лет развивается и усложняется. Я думаю, что я принадлежу к именно этой традиции. Грубо говоря, где-то, наверное, шестое или седьмое поколение. И поскольку я вообще считаю, что самым главным является поколенная структура наших знаний или тот факт, что любые сложные представления развиваются очень долго, передаются по крупицам из поколения в поколение, наследуются в качестве фундамента рассуждения, а потом чуть-чуть трансформируются за счет работы определенной группы мыслителей, то можно проследить, по крайней мере, три таких крупных шага. И я попытаюсь по ним пройти более дробно.
Итак, Кассирер пишет: «Историей обладает только тот, кто желает и действует, выходит в будущее и определяет его своей волей… Историческое сознание покоится на взаимодействии способностей деяния и воображения. Ему требуется ясность и уверенность, в которой „Я“ способно представлять образ будущего бытия и направлять к нему свои деяния. Воля в этом плане устремляется в будущее. Для животного невозможно предвидение будущего, антиципация его посредством образа или проекта. Только у человека появляется новая форма деяния, коренящаяся в новой форме временного видения. Это ряд действий, где каждое звено определяется отнесенностью к целому. Способность предвидеть и глядеть назад составляет сущность человеческого разума». Это цитата из трехтомника Кассирера «Философия символических форм», которая писалась в течение 20 с лишним лет в конце XIX века.
Вместе с тем Кассирер обращает внимание на то, что есть целый ряд культур, в которых будущего нет. «В языке эве одно и то же наречие служит для того, чтобы обозначать и „вчера“ и „завтра“. В языке шамбала одно и то же слово употребляется и чтобы отсылать к давнему прошлому, и указывать на далекое будущее. Многие, в частности, семитские языки не различают настоящего, прошлого и будущего, фиксируя лишь дихотомию законченного и незаконченного действия. Во многих языках Африки созерцание времени как вещи выражается в том, что временные отношения передаются именами, первоначально имеющими пространственное значение». «Единство действия распадается на своеобразные вещи-фрагменты, например, глагол „отрезать“ выражается двумя: „резать“ и „падать“, а глагол „отнести“, соответственно, „взять“ и „уйти“». Сознание представителей подобных языковых культур, пишет Кассирер, превращает часть действия в настоящее по этапам. Действительно, выражение Зенона о том, что летящая стрела стоит на месте, ибо в каждый момент своего движения она находится в одном определенном положении. В языке сота 38 утвердительных временных форм, указывающих на различие протекания процесса. Идет ли он плавно или скачкообразно, как целый или по частям, вдруг или постоянно. Суданские языки обозначают то обстоятельство, что человек занят в данный момент каким-либо действием, словосочетанием, буквально обозначающим, что он находится внутри этого действия. Выражение «я иду» будет звучать в калькированном переводе как «я нахожусь в животе ходьбы». Я думаю, не только в суданских, в новорусских, например, тоже.
«В полностью развитом языковом сознании новое качество осознания времени выражается в том, что язык, чтобы характеризовать целое процесса или действия, не нуждается более в созерцании частностей его протекания и может фиксировать только начальную и конечную точки субъекта, от которого исходит действие или цель, и конечное состояние, на которое это действие направлено». Фактически, мы видим складывание некоторой схемы самоорганизации. И это складывание происходит очень медленно. Оно фактически является результатом достаточно поздней истории человечества. Именно поэтому я сказал, что вряд ли Августин мог употреблять термин «будущее» в нашем смысле.
Надо просто посмотреть, проследить, что там было.
Теперь давайте посмотрим на эту форму самоорганизации не с позиции философа, который пытается провести исходную фундаментальную, как я иногда говорю, рамочную проблематизацию, то есть указать на проблемное поле, а, например, с позиции психолога. И в качестве примера я возьму рассуждение Льва Семеновича Выготского, который, как вы знаете, в 1920-е годы предложил определенную концепцию развития человека, так называемую культурно-историческую теорию, предложил опирающийся на эту теорию способ и метод обучения и сделал несколько гипотез о тех фундаментальных антропологических, психологических процессах, которые позволяют человеку входить в состояние развития.
Начинает Выготский с того, что он анализирует современные ему работы психологов, в частности, Вольфганга Кёлера, который в начале XX века, а еще точнее, в период Первой мировой войны, находясь в командировке на острове Тенерифе, исследовал поведение человекообразных обезьян. Выготский пишет о том, что, собственно, это исследование, которое оказалось очень детальным и глубоким, позволяет нам, с одной стороны, выделить те характеристики действия, которые присущи еще человекообразной обезьяне, то есть являются дочеловеческими, а с другой стороны, провести ту очень тонкую грань, которая отделяет поведение человекообразных обезьян и их так называемый практический интеллект от человеческого мышления. Во-первых, Кёлер показал, что, конечно, обезьяны способны к сложному орудийному действию. Они для того, чтобы сбить банан, могут найти ящик, принести его, поставить, найти палку, залезть на ящик, сбить банан. Они могут включить в цели достижения несколько шагов, увязать их в определенное целое. Более того, они способны к тому, что Кёлер назвал «обходным путем». Представьте себе, плод, который обезьяна хочет достать, лежит таким образом, что сначала нужно не тянуть его к себе, а толкать от себя, чтобы вытолкать на свободное пространство, а потом оттуда можно было достать. Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения действия рациональности действие по отталкиванию от себя является бессмысленным, оно контрпродуктивно, если не предположить, что обезьяна сразу строит несколько этапов, она для того отталкивает, чтобы потом достать, видя, что, если она будет пытаться решить эту задачу напрямую, то, скорее всего, попадет в тупик и не сможет ее решить. Значит, действие в какой-то форме дано человекообразной обезьяне как целое, состоящее из нескольких компонентов. И отдельные компоненты обретают смысл, только будучи включенным в это целое. Второй момент, совершенно понятно даже на этом примере, что обезьяна как-то ухватывает структуру объективной ситуации. То есть она видит, что плод лежит так и таким образом, что если тянуть его к себе, то потом трудно будет достать. Она как-то фиксирует объектное поле, в котором она находится и в котором совершает действия. И эта первичная объективация является важнейшим условием действия, потому что действие строится в логике обстоятельств объективной ситуации, в которой находится обезьяна. А чего же нет? Что нас как людей отделяет от человекообразных обезьян? Вот, собственно, вопрос, который ставит себе Выготский, на который тоже нет до сих пор никакого ясного ответа. Есть панзоопсихологи, которые считают, что особых отличий нет, стоит произойти какому-то катаклизму, и люди начинают вести себя ничем не лучше крыс. Но есть ли эта грань, есть ли это отличие? Выготский делает свое предположение. Он говорит о том, что таким отличительным признаком человеческого действия является наличие речи. Но речи не как сигнальной системы, то есть у обезьян тоже существуют определенные сигналы, носящие эмоциональный характер, оповещающие сородичей о чем-то, что привлекло внимание, и эти сигналы, например, в ситуации конфликта или драки даже могут сопровождаться действием. «Нет, — говорит Выготский, — важнейшим является феномен использования знака в качестве средства самоорганизации». Ребенок в отличие от человекообразной обезьяны включает свое практическое оперирование и самого себя как субъекта этого оперирования в предмет рассмотрения. Выготский говорит так: «С помощью знака ребенок, человек начинает организовывать самого себя». Или по-другому — он превращает самого себя в объект организации за счет знака. Я бы сказал, расщепляет себя, по крайней мере, на двух: на себя как организующего и себя как организуемого. «За счет этого, — пишет Выготский, — в поведении ребенка появляется новая степень свободы, практические операции становятся гораздо менее импульсивными. Проблема сначала решается в речевом плане, а потом реализуется на моторном уровне. Решение практической проблемы ребенком, способным говорить…», — кстати, Выготский много проводит экспериментов с разного рода психическими проблемами, скажем, с афазиками. Ребенок, умеющий говорить, в отличие от ребенка, плохо владеющего речью, в значительной степени отделяет свое действие от натурального поля, от тех обстоятельств, от тех непосредственных практических объектов, с которыми ему приходится сталкиваться. При этом достаточно любопытным феноменом является то, что, когда ребенок с помощью речи овладевает своим собственным поведением, в частности, выражает в речи свое намерение или планирует, за счет отношения к себе как к объекту он в том числе получает возможность вступить в кооперативные отношения с другими.
Вот что пишет Выготский: «После того, как ребенок провел ряд разумных и взаимосвязанных действий, наткнувшись на трудность… <он> резко обрывает попытки и обращается к экспериментаторам с просьбой […] Обращаясь за помощью, он показывает, что он знает, что нужно делать для достижения цели, но не может достичь ее сам, что план решения в основном готов, но недоступен для его собственных действий. Он вступает на путь сотрудничества, социализируя практическое мышление путем разделения своей деятельности с другим лицом». Грубо говоря, если я могу себя представить как будущего исполнителя сложного действия, то я могу и другого представить как соисполнителя этого действия. Я могу разложить сложное действие на такие компоненты и операции, которые в пределе можно распределить между разными участниками процесса. Именно благодаря этому деятельность ребенка вступает в новое отношение с его речью. Ребенок сознательно включает действия другого лица в свои попытки решить задачу, начинает не только планировать свою деятельность в голове, но и организовывать поведение взрослого в соответствии с требованиями задачи. «Речь, — говорит Выготский, — позволяет ребенку овладеть собственным поведением посредством предварительной организации и планирования. Ребенок переходит к активным операциям, развернутым во времени, и сама речь из сопровождения, из слепка, сопровождающего действия, превращается в средство управления операциями, предваряющее само действие». Но это не со всеми происходит. Антропологически мы к этому способны, но эмпирически — не всегда. Александр Романович Лурия в свое время проводил очень смешной эксперимент в Харькове в 1930-е годы с наглядно-действенным мышлением детей. Там вбивались колышки, на колышки накручивались ниточки, к ниточкам привязывалась конфетка. И надо было подойти, мысленно просмотреть, как шла ниточка, и за правильный кончик дернуть, чтобы снять конфетку. Потому что если дергать не за правильный кончик, то понятно, что все запутывалось, конфетку было достать нельзя. И обычно ребенок забегал — Харьков, 30-е годы, голодное время — дергал, все запутывалось, дети плакали. Но приблизительно с третьего раза ребенок понимал задачу и, в том числе проговаривая, начинал отделять действия от планирования. «Кроме, — говорит Александр Романович, — одного мальчика Пети, который и на 30-й раз забегал, дергал, все запутывалось». Александр Романович, уже отчаявшись, взял его за плечо: «Петя, — сказал он, — надо же подумать!». На что Петя ответил, на мой взгляд, очень точно, он сказал: «Думать некогда. Надо доставать конфету». Вы прекрасно понимаете, что чем сложнее ситуация, чем сложнее та знаковая система, с помощью которой мы можем представить это действие в виде последовательности шагов, чем больше этих шагов, тем сложнее думать, тем большая нагрузка приходится на мышление. Выготский говорит: «Новое поле деятельности простирается теперь и назад, и вперед». То есть оно получает некоторую качественную характеристику. Механизм выполнения намерения отделяется от моторики и содержит в себе какие-то дополнительные компоненты, которые отнесены к этому будущему полю. То есть вообще-то без этого будущего нет! Если нет этой самоорганизации, если нет этого вертикального измерения, которое не лежит в непосредственной линейке действия, то и никакого будущего нет. Я очень люблю фильм «День сурка», считаю, что это вообще прекрасная метафора нашей жизни.
Вот это разрезание действия и структуризация пространства действия на то, что было раньше, и то, что будет впереди, оказывается функцией от речевой, знаковой и потенциально мыслительной формы, которую мы используем. Дальше Выготский, собственно, говорит, что именно так возникает воля. То есть воля возникает в вертикальном измерении. Когда-то, когда я про это писал, я попытался выразить понимание Выготского в такой метафоре, что для Выготского воля, — это способность употреблять собственное мышление. Потому что, в общем, обычно ведь хочется отказаться от этого, это сложно. Вообще сложно представлять будущее не таким, как мы к нему привыкли. Огромное количество психологических экспериментов показывает, что люди могут многократно пытаться использовать неработающий способ деятельности и самостоятельно не могут перейти в позицию отказа от него и продумывания других возможных способов. Отвлекусь в сторону, мы только что с коллегами были на острове Майорка и зашли к приятелю выпить вина. Он владеет большой винарней, еще его прапрапрадедушка в 1850 году ее создал. И там очень интересный феномен. На материке во Франции завелся какой-то жучок, который ел лозу, виноградники пропали, и Майорка вдруг вышла на первое место в Европе по экспорту вина. 75 миллионов литров они экспортировали. И так продолжалось около 40 лет, а потом пришел жучок и все съел. И я спрашиваю: «Вы же видели, что у этих во Франции, это уже было, вы не могли этого не знать, это же одна профессиональная группа, один рынок. Почему вы не предприняли никаких действий, чтобы подготовиться ко встрече с новым? Хотя уже европейцы завозили американскую лозу, что-то опыляли, прививали и т. д. Почему вы 40 лет ждали, чтобы попасть ровно в ту же самую ситуацию?». Кстати, 40 лет, вы подумайте, это два поколения! Он сказал: «Да, это хороший вопрос. Прадедушка умер уже, спросить у него невозможно».
То, что я сейчас проговорил, в системомыследеятельностном подходе имени Георгия Петровича Щедровицкого, моего отца, получило метафорическое название «шага развития». Что утверждал Георгий Петрович? Если слева вы видите схему простейшего акта деятельности, в котором есть исходный материал, продукт, есть операции, процедуры, средства, есть сам человек с его способностями, знаниями и т. д., то мыслительная форма организации, которая в данном случае разворачивается не в плоскости самого действия, а вверх, она впервые разрезает действие на два пространства: на пространство, которое мы условно называем прошлым, и условно называем будущим. И при этом мы должны понимать, что это такое разрезание, в котором будущее полагается как отличное от прошлого. Его нет, этого будущего. Актуально его нет, но с точки зрения деятеля оно более реально для него, чем его прошлое, потому что от прошлого он отказывается. Все про это говорят!
Я еще раз говорю, 2000 лет мы говорим одно и то же, только это мало на нас самих влияет как на эмпирических индивидуумов. Мы по качественному основанию разрезаем действие. И тогда возникает вопрос о том, как организованное мышление позволяет работать с пространством нашего действия?
Собственно, эта конструкция и получила закрепление в схеме «шага развития». Георгий Петрович говорил так: «Есть три пространства. Есть пространство прошлого, есть пространство настоящего, которое лежит не как этап или фаза на какой-то абстрактной временной оси, а над действием, и есть будущее, которое не вытекает из прошлого, а придумывается в настоящем». Поэтому движение по схеме идет вот так: оно идет через отказ от прошлого, через определенную работу мышления здесь и через полагание и конституирование будущего как отличного от прошлого. А следовательно, как только мы перед собой формулируем подобную задачу, то самым сложным оказываются те средства самоорганизации мышления и те знаки, с помощью которых мы проделываем эту работу.
Таких знаковых систем вообще-то несколько. Более того, думаю, что можно всю историю человечества представить как последовательное освоение подобных знаковых систем, начиная с естественного языка. Правда, ряд философов считает, что первым было письмо, а не речь, то есть не говорение, не дискурс, а именно письмо как фиксация вовне, как остановленный объект, с которым уже можно производить другого типа оперирование. И дальше математика, музыка. Можно выделить от 7 до 15 основных знаковых систем, с помощью которых человечество создавало само себя, а точнее, свою способность делать иначе, чем оно делало раньше.

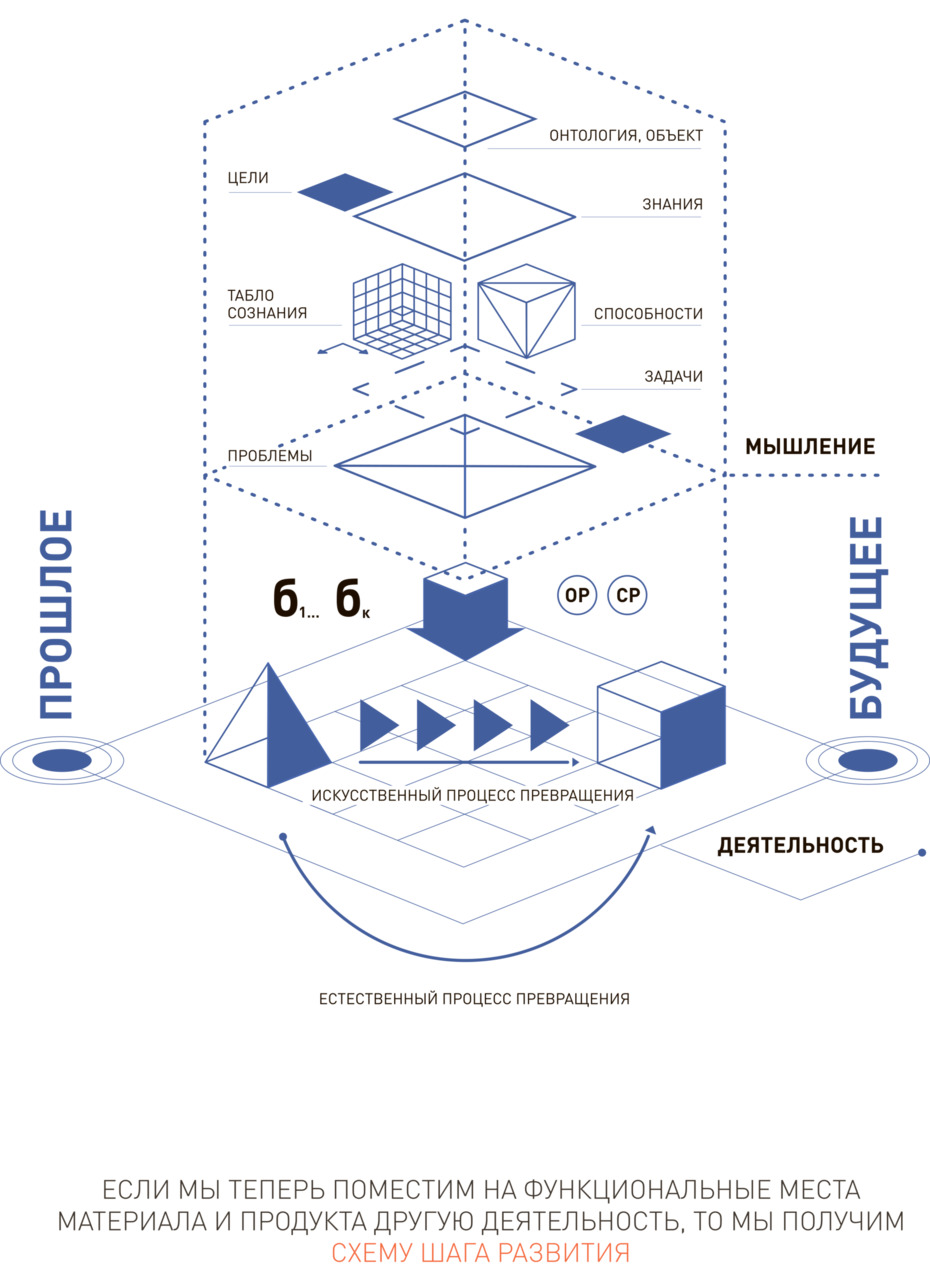
Вот, собственно, первую, вступительную часть я закончил. Вторая часть будет совсем про другое или про некоторые вопросы, которые, с моей точки зрения, вытекают из этого рассуждения. Итак, никакого будущего нет, будущее есть результат работы мышления, которое создается с помощью определенных интеллектуальных схем. Если такого мышления нет, то и никакого будущего не будет. Как его нет во многих культурах и как, в общем, его нет в тех областях деятельности, где мы повторяем то, что делали раньше. Там будущее не нужно. Кстати, ваша любовь… Вообще любовь российской интеллигенции к образованию меня всегда удивляет, потому что уж точно, где нет никакого будущего, это в образовании. Потому что образование по понятию — это институт, отвечающий за воспроизводство, за повторение. Понятно, что если все остальные институты развития не работают, то каждое поколение российской интеллигенции говорило: «Эх, ничего сделать нельзя. Политические ограничения, экономические препоны… Займемся-ка мы образованием!». Но у разных аборигенов разные особенности. Никакой прямой связи между образовательными процессами и возникновением места для будущего вообще-то нет. Я даже очень опасаюсь, что если попытаться нагрузить традиционные институты подготовки кадров и образования этой миссией, то как бы не развалился базовый процесс.
Но это так, на полях.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Скажите, пожалуйста, в схеме акта деятельности я увидел результат, а не продукт.
ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: Конечно. В схеме акта деятельности, конечно же, результат. Продуктом он будет, только если это кому-то понадобится, если это будет употреблено в каком-то другом акте. В этом смысле деятельность может быть результативна, но не продуктивна. Это очень часто случается!
СЛУШАТЕЛЬ 2: Петр Георгиевич, а вот есть концептуально класс естественных систем и класс искусственных систем. Рассматривается ли проблема будущего в двух этих системах или нет? Естественная система, например, есть восход Луны, мы можем предположить, что какие-то объекты в отношении друг друга завтра будут себя вести определенным образом. А есть искусственные системы, где есть какие-то инженерные противоречия. И на снятии этих противоречий мы продвигаемся вперед через искусственные системы и естественные системы. Как посмотреть на это?
П. Щ.: Давайте разделим три разных круга вопросов. Вопрос первый. Сами категории искусственного и естественного. Это очень мощные категории. Собственно, когда в более-менее известной нам истории человеческого мышления они впервые употребляются как категориальный аппарат, то, скорее всего, это рассуждения Платона как раз о знаках, потому что он говорит, что есть естественные процессы, которые текут вокруг нас, а вот знаки, они искусственные, они создаются человеком для чего-то. Он догадывался, он говорил, для воспоминания идей, потому что каждое следующее поколение вынуждено с помощью знаков эти идеи вспоминать. В общем, мы это тоже наблюдаем вокруг себя. Время от времени общество вспоминает о чем-то, например, о своих базовых ценностях. Для этого оно должно пережить какой-то кризис, трудности, и потом оно с помощью этих процедур вдруг вспоминает: «Боже мой, так вот же оно, оказывается. Так об этом писали уже лет 300 тому назад, а мы что-то забыли!».
Но как только вы от категориальной схемы переходите к категоризации реальных процессов, все уже далеко не так ясно. Например, сейчас в области сельского хозяйства делается такая процедура — оестествление искусственного. То есть вы вырастили какую-то новую породу животных или растений, а теперь вам надо добиться, чтобы воспроизводство этой породы носило не искусственный, а естественный характер. Кстати, если вы этого не сделаете, скорее всего, у вас возникнут какие-то разрывы, например, в продуктивности или, скажем, в возможности переноса этого с одного биоценоза на другой биоценоз. И таким образом то, что нам казалось и было по происхождению искусственным, должно теперь стать естественным. Какому-нибудь Анаксимандру все было понятно, он говорил: «Скамейка — это искусственное, а дерево — это естественное». На вопрос «Почему?», он говорил: «Смотрите, на скамейке ведь не растут плоды, и ветки, и листья, значит, это искусственное». Но поскольку мы с вами уже давно находимся в пространстве техносферы, то, думаю, что в ближайшие 100 лет нам придется кучу того, что мы наделали как искусственное, оестествить. А то, что нам не удастся оестествить, придется взорвать и уничтожить. Возможно, вместе с чертежами, чтобы остальным было неповадно. Поэтому тут непросто уже, и так на черное — белое вы не поделите.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Я вижу такое понятие, как мышление. Сейчас вы употребляете это понятие. Полагается, что, как я понимаю, сидящие в зале знают, что это такое.
П. Щ.: Нет.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Неважно, знают или не знают, но на протяжении длительного периода попытки определить, что же такое мышление, были неудачными. Вы можете объяснить, почему употребляете понятие мышления как известный факт и выстраиваете на нем свою картину?
П. Щ.: Смотрите, из того, что я уже рассказывал, операциональный критерий совершенно ясен. Мышление — это такая специфическая способность или техника, которая связана с употреблением знаков. Это по схеме. То есть разработка знаковых систем, движение в этих знаковых системах как в определен-
ном новом операциональном пространстве, не связанном с практическим оперированием. Баранов можно складывать, возводить баранов в степень уже нельзя. Мы не баранов в степень возводим, мы производим операции с числами, мы движемся в пространстве знаковой системы с ее операциональными возможностями. С экономическими знаками или знаками, фиксирующими хозяйственные процессы и носящими имя экономических инструментов, можно производить операции, которые нельзя производить с реальными объектами. Более того, когда человечество в XII–XIV веках придумало новую совокупность знаковых инструментов, обозвало ее векселями, деньгами, оно резко расширило пространство хозяйственной деятельности, потому что то, что нельзя было делать с объектами — товарами, кораблями, услугами — можно было делать со знаками. Говорят, что это вообще очень просто все появилось. Какая-то группа предпринимателей собрала пароход, отправила в Индию, он уплыл. У кого-то из них сгорел дом, он пришел к ростовщику, говорит: «Дай денег». Он отвечает: «Чего это я тебе их дам?» — «Под будущие доходы. Корабль же приплывет через полгода, а деньги нужны сейчас». Он говорит: «Здрасьте! А если он не приплывет?» — «Вот, за меня Джованни поручится». — «Хорошо, напишем с тобой бумажку, что под будущие доходы от корабля, который уплыл и то ли приплывет, то ли нет, дам тебе денег». Все, в этот момент мир взорвался! Не надо ждать кораблей, когда они приплывут, мы можем расширять свою хозяйственную деятельность, замещая часть объективных хозяйственных процессов знаками. Возник современный капитализм. Я сейчас огрубляю специально.
В этом смысле мышление есть такая хитрая штуковина, которая появляется у человечества по мере освоения человечеством все более и более сложных знаковых систем. И из того, что я говорил, такое операциональное понимание совершенно ясно. Мне казалось, что даже не нужно об этом говорить специально. Это поздняя штуковина, конечно, так понимаемое мышление. Я думаю, что так понимаемое мышление как раз современно коперниковскому перевороту, возникновению основ новой науки. Математика начинает использоваться, дальше моделирование, дальше всякого рода чертежи, конструктивные процедуры, строить начинаем на основе чертежей (раньше их не было), возникают мерки, глобус окутывается системой координат, их тоже не было, плавать начинают по координатам, а не между островами, измерять координаты с помощью специальных процедур… И мы помчались. Неизвестно, куда, но помчались.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Вопрос такой, смотрите, вы привязываете понятие «будущее» к человеку, к субъекту.
П. Щ.: К субъекту действия. Не к человеку. Может не человек быть субъектом действия.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Исходя из ваших размышлений, получается, будущее возникает в результате мыслительного процесса.
П. Щ.: Точно! А мыслительный процесс не в голове у человека.
СЛУШАТЕЛЬ 4: То есть вы предполагаете, что мышление может принадлежать не только человеку? П. Щ.: Точно. Я в этом уверен.
СЛУШАТЕЛЬ 4: А вы можете привести пример?
П. Щ.: Умные вещи, распределенное мышление. Человек — не устойчивая система, часть процесса выносим на новый тип вещей. Вообще, смотрите, мышление, так понимаемое, конечно, происходит на доске. Человек выходит, рисует формулу. Он не в голове ее рисует, он ее рисует на доске. Любая знаковая система предполагает наличие некого оперативного плацдарма, на котором она и разворачивается, учитывая материал, потому что материал знака разный для каждой из систем. Да, какие-то вещи потом субъективируются, присваиваются. И даже говорят, что человек сохраняет не только память о том, что он участвовал в мышлении, но и само мышление. Но не каждый.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Таким образом, получается, что образ будущего привязывается к субъекту мысли?
П. Щ.: К субъекту мысли, правильно! Поэтому, смотрите, я же как двигался? Я сказал, Выготский обнаружил психологический коррелят этого процесса на исследованиях эмпирических детей, и он же вместе с массой психологов конца XIX века обнаружил, что оно может случаться, а может не случаться. Вот Нарцисс Ах, такой был крупный психолог Вюрцбургской школы мышления, ученик Освальда Кюльпе, интересный экспериментатор, он даже придумал название для этого мальчика Пети, который дергал. Он назвал это «ага-эффект». Что 5% этих испытуемых, 20 раз попытавшись что-то сделать и не достигнув результата, вдруг останавливаются сами — не за счет экспериментатора, а сами — и говорят: «Ага, что-то не то», — 5% сами! Остальные — только если экспериментатор им говорит: «Петя, подумать надо! Петя, стой!». И то, он отталкивает экспериментатора и дергает, понимаете.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Можно, я продолжу? Если мы говорим о том, что будущее привязано к субъекту мысли, следовательно, это множество. Эти множества охватывают определенные области, тем самым, поскольку мы не можем охватить мыслью весь объективный мир, останутся пустые пространства. Что происходит с будущим в этих пустых пространствах?
П. Щ.: Оно там аннигилирует. И в этих местах все время прошлое. Да, именно это я и утверждаю. Я утверждаю, что если вы не дотянулись своим мышлением до чего-то, там будет воспроизводство одного и того же. И физическое время ничего не дает, кроме злобы от того, что опять все то же самое.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Иными словами, того, чего мы не знаем, в принципе, не существует в будущем? Существует только в прошлом?
П. Щ.: Смотрите, того, чего мы не знаем, может быть, и в прошлом не существует, а вот того, что мы не промыслили и не представили помимо реального процесса еще в какой-то форме через специальные знаки, нет в будущем
СЛУШАТЕЛЬ 4: Например, обратная сторона Луны не была известна до того, как ее сфотографировали. Получается, в тот период будущего… она не вызывалась, она находилась постоянно в прошлом, хотя видимая сторона…
П. Щ.: Пример не очень хороший, еще Николай Кузанский придумал, как работать с незнанием. Это 1410 год, у него есть такая работа, называется «Об ученом незнании». Он сказал, что если мы знаем, чего мы не знаем, то мы знаем. И очень важно знать, чего мы не знаем, потому что функционально это помогает нам действовать в условиях неопределенности. Это я своими словами пересказываю. То есть самое страшное, например, для управленца, это когда он думает, что он знает. Потому что тогда он с высокой вероятностью совершит ошибку. А вот если он не знает, но знает, что он не знает, это уже кое-что! Это позволяет ему действовать, не зная, но осторожно. «Осторожно» в онтологическом смысле, а не в психологическом. Поэтому обратная сторона Луны, она в этом смысле была как незнаемое, а вот иногда у нас и этого нет, мы не знаем, чего мы не знаем, мы не проделали эту работу проблематизации. И в этом смысле — да, мы почти обречены повторить.
СЛУШАТЕЛЬ 5: С помощью какой операции мы можем заполнить это пространство, про которое мы даже не знаем, чего мы не знаем?
П. Щ.: Я чуть-чуть об этом поговорю в самом конце, но в целом я же вам ответил, мы карлики, но стоим на плечах гигантов, поэтому видим дальше. 10 поколений мысли, передача крупиц достигнутого понимания и знания следующим, потом следующим. Иногда просто передача, без приращения. Потом вдруг, в какой-то момент случайное стечение обстоятельств — мы делаем следующий шажок.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Правильно я понимаю, что это невозможно сделать как, условно говоря, технологизированную операцию?
П. Щ.: Давайте мягче. Это точно невозможно сделать, если мы будем просто напрягаться и пыжиться. Некие технологические приемы обязательны.
А дальше, знаете, как? Необходимое, но недостаточное условие. Для примера — форсайт. Одно дело — процедура и метрика пространства, которое вы вводите, позволяя людям вдруг увидеть, что будущее может отличаться от прошлого, и совершенно другое, что они туда кладут в качестве наполнения. В 90% это же полная ерунда, мы же это все понимаем! Конечно же, они кладут туда какие-то мифы, куски, обрывки информации, полученные из открытых источников, рассказы товарищей, свои ожидания и ценностные характеристики этого будущего как отличающегося от прошлого. И в общем, это хороший строительный материал. Но главное, для них впервые возникло это будущее как отличное от прошлого, а положенное ведь можно и вынуть оттуда, отчистить поле, сказать: «Ребята, вот мы провели упражнение, а теперь выдохнули и еще раз!». Теперь мы должны понимать, что наверное все будет не так. И это поле для творчества и для поисков. Поэтому слово «технология» здесь… существует технология проектирования, она же существует! Лет так 600. Не в смысле управления проектами в менеджменте, а в смысле технологии проектирования как работы с будущим, как представления этого будущего, например, в архитектуре или в инженерном деле.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Вы сказали об образовании как институте, который не рождает никакого будущего, а обеспечивает только воспроизводство. А вы можете назвать некий соразмерный с ним институт, который обеспечивал бы создание будущего?
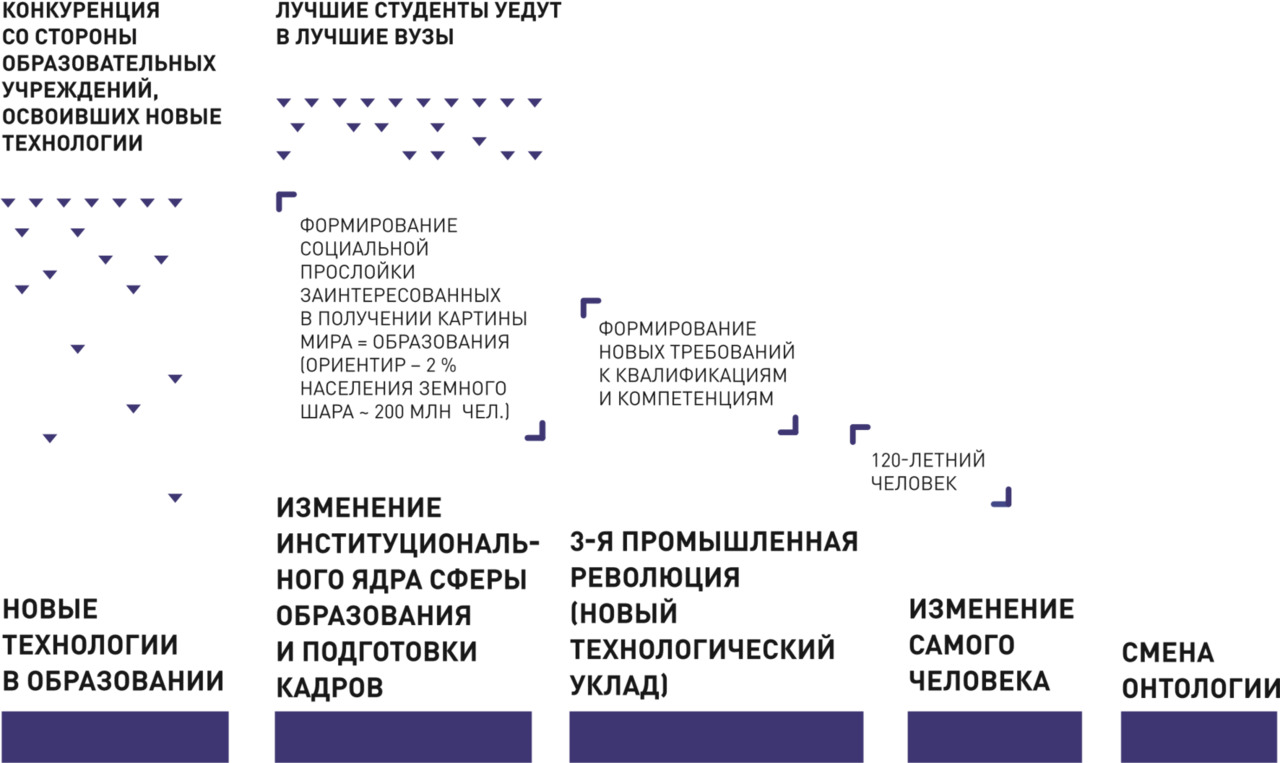
П. Щ.: Я могу только ссылаться на некие гипотезы и авторитеты. Какое-то время казалось, что таким институтом будет наука. Собственно, все прогрессистские ожидания от науки и инженерии в XVIII– XIX веках были связаны с предположением о том, что вот этот способ мышления, называемый научным, который связан с моделированием, объективацией, представлением процессов в объективном плане, а потом поиском способов реализации этого процесса в реальности с помощью совокупности инженерных решении, позволит нам с каждым следующим шагом создавать будущее, все более и более отличное от прошлого и все более и более приближенное к общим ценностям. Была такая гипотеза, она мощно продвигалась и романтиками, и просветителями, и даже первыми поколениями ученых, которые уже эмансипировались от теологической картины мира и хотели, чтобы наступило счастье человеческое. Потом обнаружилось, что все не так просто. Поэтому такие институты, безусловно, есть.
Вопросов больше нет? Хорошо, тогда теперь я поменяю жанр изложения и несколько моментов скажу о том, чем мне приходится сегодня заниматься в этих рамках. Три темы я выделил, поскольку они могут найти отклик в вашей аудитории, насколько я понял из предыдущих дискуссий. Первое — это тема образования и подготовки кадров, вторая — это тема, которую я назвал новая индустриализация, и третье — это проблема самосознания общества или социальных групп.
С моей точки зрения, сегодня перед системой образования и подготовки кадров стоит несколько довольно сложных вызовов. Я не буду подробно об этом рассказывать, остановлюсь только на одном вопросе, но сначала назову все те пять, которые я вижу. Первый вызов, который нам сегодня бросается в глаза, — это изменение технологической платформы самого процесса подготовки и образования. При этом не нужно преувеличивать современность или неожиданность этих изменений. Я всегда говорю, что, скажем, метод проектов в системе подготовки и образования появился 100 лет назад. Тот факт, что его некоторые учебные заведения рассматривают до сих пор для себя в качестве такого новшества, это просто аллюзия. Второе изменение, я об этом буду говорить, это изменение институционального ядра самой сферы образования и подготовки кадров. Третье — это появление новых технологических вызовов, которые метафорично часто связывают с понятием третьей промышленной революции. Четвертое — это изменение самого человека. Я здесь привел метафору моего товарища, Сергея Градировского, который любит говорить про 120-летнего человека, как указание на комплекс таких изменений. И, наконец, пятый — это смена ведущей онтологической картины.
Из этого всего я хочу остановиться на одном вопросе. Последние 450–500 лет институциональным ядром сферы образования и подготовки кадров является отдельное образовательное учреждение.
Вокруг него сфокусированы все процессы, система разделения труда, все методики обучения, формы организации процесса (классно-урочная система), учебники, система финансирования, принципы набора, рекрутинга тех, кого учат, и тех, кто учит, и так далее. Я считаю, что эта эпоха завершается, образовательное учреждение перестает быть образовательным ядром. В каком-то смысле мы возвращаемся на несколько сот лет назад, но на другом уровне массовости. И новым институциональным ядром становится так называемая индивидуальная образовательная программа. Фактически программа подготовки обучения и образования, привязанная к отдельному человеку. Соответственно, меняется система разделения труда, меняются цели и задачи, меняются экономические механизмы, меняется методика и контент. И, в общем, последствия этой революции не только для сферы образования и подготовки, но и для самого общества, с моей точки зрения, сегодня не промыслены. Нам не хватает с вами совокупного мышления, позволяющего увидеть это изменение, оценить его последствия и, по сути, сформировать другую институциональную структуру в этой сфере.
Когда меня спрашивают, как я отношусь к реформам образования, я всегда говорю: «Философски». То бишь я понимаю, что поскольку такого мыслительного аппарата мы не разработали, и его нет, то все действия в этой сфере будут контрпродуктивны по определению. Что касается меня, я об этом думаю лет 25.
Второй сюжет. Вы, наверное, много уже слышали за последнее время разговоров о реиндустриализации России. Та система представлений и ценностей, которая лежит за этим тезисом, более или менее понятна. Действительно, индустриализация — это чрезвычайно интересный феномен, многократно описанный в разных действительностях мышления: в социологической, в исторической, в экономической. Но, на мой взгляд, этого недостаточно. И когда мы говорим о реиндустриализации, мы должны задавать вопросы: что это за процесс? Как он идет? Была ли в Советском Союзе индустриализация или нет? Дала она результат (я имею в виду так называемую сталинскую индустриализацию) или не дала? Как это соотносится с предыдущими попытками индустриализации, скажем, в период Витте — Столыпина или, скажем, у Петра I? А какие вообще были индустриализации в мире? Очень часто говорят, что первая промышленная революция, индустриализация произошла в Англии в XVIII веке, я вот считаю, что это ерунда полная, потому что английская индустриализация, конечно, была догоняющей, 100% не была первой. До нее, по крайней мере, была голландская индустриализация, которую они копировали, а до голландской была итальянская. Но мы не видим этого пространства. Мы, например, не имеем возможностей сравнить немецкую индустриализацию второй половины XIX века и японскую. Мы не знаем, как соотносится между собой опыт этих индустриализаций и модель индустриализации, которую придумал и разрабатывал Советский Союз. То есть ни на один вопрос, с моей точки зрения, мы сегодня ответить не можем.
Из этого вытекает вывод, что следующая попытка индустриализации будет такой же, как и предыдущая, потому что мы не знаем, что это такое, поэтому трудно что-то делать в этой сфере. Этот вывод меня немного напрягает, поэтому последние несколько лет мы ведем такой исследовательский проект, в котором пытаемся описать процесс индустриализации, используя представления из праксиологии, теории деятельности, теории разделения труда. Это большая исследовательская работа, в которой мы в том числе пытаемся выделить модели, типы индустриализации, описать эмпирические сюжеты, выделить основные движущие силы, сравнить друг с другом разные эпохи, разные проекты и т. д. Чрезвычайно занимательная работа, много всего интересного. И вообще, я думаю, что если бы больше людей в ней участвовало, было бы полезней.
И, наконец, третий момент. Начну с такой прагматики, когда говорят о создании какого-то сложного инженерного продукта, то очень часто говорят о количестве инженерных человеко-дней, потраченных на его создание. Вот сколько инженеров сколько дней над ним работало. Если это 300 тысяч человеко-дней, то понятно, что если мы хотим создать аналоговый продукт, то необходимо привлечь такое количество инженеров, которые будут такое время заниматься. Так случилось, что в начале XX века в России произошел резкий взрыв социально-гуманитарных и философских исследований. Вдруг в течение 30–40 лет появилось огромное число новых работ в самых разных областях. Не секрет, что, например, Бродель в предисловии к своей «Истории повседневности» пишет, что всю методологию он взял у русского экономиста и социолога Кулешера. Вот Кулешер был одним, по моей оценке, из 100, а может быть, 200 человек, которые одновременно работали в России в конце XIX — в начале XX века. Естественно, они проводили гигантскую работу самосознания русской культуры, русского языка, русской истории. Масштаб этой работы поражает, если начинаешь с этим знакомиться более подробно.
Потом произошли известные события, в 1922 году одну большую группу порядка 500 человек выгнали. Лев Троцкий, который был одним из участников этого процесса, в 1938 году, давая интервью одной мексиканской газете, когда его про это спросили, сказал: «Вы же понимаете теперь, что я их спас?!» Это, мне кажется, очень интересно. А те, кого не выгнали, некоторые сами себя вычеркивали, например, Густав Густавович Шпет, он вычеркнул себя из списка «философского парохода», потому что он в этот момент создал Институт научной философии, у него была большая программа. Собственно, последнее, что он успел сделать, он перевел на русский язык «Феноменологию духа» Гегеля, и после этого его расстреляли. И еще расстреляли порядка 500 человек, каждый из которых был тем самым пятым, седьмым поколением в длинных цепочках накопления знания. Из этого я, в общем, делаю простой вывод, что если у нас кругом много Флоренских, Бердяевых, Шпетов, Ильиных и так далее, и если у нас есть время для того, чтобы эти уважаемые люди проделали всю эту работу, то в общем, конечно, можно начать все сначала. Но боюсь, что у нас нет ни их, ни времени. Поэтому мы начали с моими коллегами делать пока очень первичную работу — возвращать имена. Уже с 2006 года мы издаем серию «Русские философы XX века», на сегодняшний день мы издали 39 томов. Это не его тексты, обращаю на это внимание, это такая справочная книга, в которой есть развернутая биография, даты жизни, библиография, библиография работ о нем, иногда опись архива — там, где такой архив сохранился. Например, архив Франка до сих пор лежит в Париже, описать его трудно, потому что он складирован, вот так набросан на чердаке дома, где он жил. Фотографии, фоторяд и статьи об основных моментах творчества в качестве, если хотите, калитки в лабораторию мысли. С тем, чтобы потом, на следующем шаге, можно было проделывать разные работы, например, попытаться написать повестку дня русской философии XX века поверх этого массива. Или, скажем, начать, наконец, систематически издавать их собрания сочинений, потому что, например, единственное собрание сочинений Франка издано на немецком языке в Германии. Потому что они считают, что это их мыслитель, а не наш. У них есть на это определенные основания.
Вот это третий проект, которым мне приходится сейчас заниматься. Я считаю, что эти проекты направлены на восстановление пространства мышления, как меня спрашивал один из участников, в «дырках», в зонах дефицита, но посильно. Потому что понятно, что охватить все невозможно, и надо на чем-то сосредотачиваться.
Почему я так вижу, по крайней мере, свою задачу и свою миссию? Если мы вернемся к схеме шага развития, то возникает один вопрос, который частично уже прозвучал и который состоит в следующем: когда он выходит из этого прошлого, прежде, чем он придумал новое будущее, он куда попадает? Где он оказывается, когда он от прошлого отказался и вышел в рефлексию, в рефлексивную позицию? Где мы оказываемся с вами, прежде чем мы чего-то придумываем? Правильно, мы оказываемся в пустоте, и, следовательно, вопрос состоит в том, чем и как эта пустота заполнена и организована? Одна из гипотез заключается в том, что она заполнена коммуникацией. Причем, неважно, коммуникацией с другими или коммуникацией с самим собой, тем, что называлось внутренним диалогом в работах многих философов и психологов в начале XX века. То есть должно быть некоторое пространство коммуникации, попав в которое мы можем выхватить оттуда что-то, синтезировать какие-то новые смыслы, позволяющие нам увидеть будущее как отличное от прошлого. И такое пространство коммуникации может быть актуальным, например, во время форсайта или орг. деятельностной игры, оно может быть, скажем, институционализировано в профессиональном сообществе, если профессиональное сообщество поддерживает культуру профессиональной коммуникации, если оно не профсоюз по дележу рынка, денег и присвоению статусов, а если там есть подсистема, которая занимается воспроизводством профессиональных структур и систем коммуникации. Она может быть, в конце концов, системой текстов. Один мой старший товарищ говорит, что единственная революция, которая произошла в России за последние 25 лет, — это книжная революция. Трудность книжной революции заключается в том, что, к сожалению, к изданным текстам — даже если забыть о трудностях перевода — не привязаны бирочки, объясняющие, когда и зачем этот текст был написан. Поэтому нам, извините, Кейнс достался одновременно с мыслителями XVII века и мыслителями XX века. А вы ведь прекрасно понимаете, что любое рассуждение, любой тезис, любое мышление — оно ситуационно. Поэтому, если оно вырвано из контекста ситуации, то его очень трудно правильно применить. Поэтому, например, введение в оборот работ и размышлений русских философов XX века, с моей точки зрения, выполняет чрезвычайно важную задачу, потому что оно структурирует поле коммуникации, оно вводит в это поле коммуникации пусть и ушедших от нас, но от этого не ставших менее актуальными мыслителей, с которыми можно вступить в своеобразную коммуникацию.
Конечно, самым хорошим является вариант, когда в эту коммуникацию вступают те, кто сам по себе находится в состоянии развития. Потому что тогда между ними может возникнуть некая синергия, как психоэмоциональная, так и содержательная. Это, конечно, слабодостижимое идеальное состояние.
Но, наверное, об этом нужно думать.
И, наконец, я хочу завершить ссылкой на чрезвычайно любопытную работу Коллинза, которая называется «Социология философии». Собственно, он там дает свой ответ на вопрос, что такое мышление? Видите, он там пишет: «Мышление — это разговор с воображаемыми аудиториями». А книжка его построена просто, он обратил внимание на такой удивительный феномен, что всплески философской мысли в истории человечества возникают время от времени, длятся очень недолго — по его расчетам порядка 35–40 лет, после чего, как в интеллектуальном реакторе имени Переслегина, достигается какая-то суперконцентрация коммуникации и новых идей, затем происходит на длительное время остановка и снижение градуса этого интеллектуального напряжения. Более того, в такого рода коммуникативной структуре разные мыслители занимают разные ролевые позиции. Например, Коллинз очень хорошо описывает историю Фихте в Германии, он был самым молодым, амбициозным, занимал позицию организатора. Фихте сначала доехал до Канта и сказал: «Кант, тебе же в общем все равно, давай, ты скажешь, что мы опираемся на тебя», — я сейчас специально утрирую. Кант сказал: Я вообще вас не читал, и мне кажется, то, что я знаю и слышал, вы совсем другое говорите». Он: «Тебе что, жалко, что ли? А мы сможем ссылаться на тебя, и тем самым наши молодые амбиции подкреплять твоим авторитетом». Он сказал: «Ну ладно, чем вы хуже других!». А потом он также позиционировал Шеллинга, а потом Гегель отправил его на государственную службу, сказал: «Слушай, парень, им нужна государственная идеология, ты уж не обессудь, сделай ты для них ее. Мы тогда немного деньжат получим, будем мысли развивать». И вот эта структуризация позиций, ролевое распределение и в некотором смысле командная игра внутри поля коммуникации позволяет достичь небывалой результативности на какое-то определенное короткое время.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Про вызовы системы образования вы говорите на базовом уровне про смену онтологии. О чем идет речь? С какой на какую?
П. Щ.: С естественнонаучной и квазигуманитарной, построенной в конце XIX–XX веков, но недостроенной, на какую-то новую. Не знаю.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Научная, теологическая… П. Щ.: Да. Но я не знаю, на какую.
СЛУШАТЕЛЬ 6: В смысле, что сейчас меняется на какую-то другую?
П. Щ.: Да. И есть несколько кандидатных версий. Например, современная астрофизика рассказывает нам о том, как появилась Земля, жизнь на Земле, сколько десятков или сотен тысяч лет продолжался этот процесс, как это все происходило и какое место человек с его амбициями занимает в этом процессе. Это новая космология. На мой взгляд, с точки зрения ряда социальных задач, стоящих перед человечеством, вполне себе онтологически адекватная. Потому что хорошо было бы, чтобы человек вспомнил о том, что он из себя представляет на самом деле, без демиургических амбиций по тому, чтобы делать то дело, которое не сделал бог, на свой страх и риск. Но такая есть. Теологическая картина мира по целому ряду направлений тоже сейчас претерпевает модернизацию. Для католиков и для протестантов это целая программа, потому что надо отвечать на огромный комплекс новых вопросов, на которые в традиционной картине мира ответа нет, или он таков, что он уже не устраивает современное общество.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Правильно я понимаю, что на слайде не случайно блоки построены в виде пирамиды. Если двигать сверху вниз, чем большее количество пластов ты не учитываешь, тем меньше шансов на успешный проект.
П. Щ.: 100%. Но, понимаете, если двигаться сверху вниз, то я бы мог сказать так, что если мы берем узкую ситуацию именно в нашем русскоязычном обществе, то первая проблема, она довольно хорошо субъективирована «преподавательским классом», но, в основном, в негативном ключе. То есть что они говорят? Они говорят: «Эти технологические изменения в сфере образования и подготовки кадров, например, МООС, первое…», — помните, как в этом анекдоте, когда две кухарки в коммунальной квартире. Одна говорит: «Во-первых, я у тебя горшок не брала, во-вторых, я тебе его давно вернула, а в-третьих, когда я у тебя его брала, он уже был битый». Вот точно так выступает наше преподавательское сословие: «Первое, эти МООС ничего не меняют, это просто тот же самый контент, переложенный в электронную форму, поэтому в гробу мы это все видали. Во-вторых, да, чего-то у нас утекают толковые студенты, школьники начинают ходить в экстернат, у нас проблемы с рекрутингом, но мы сейчас примем некоторые меры к тому, чтобы обязать их все равно учиться у нас. А третий момент, вот сейчас мы создадим консорциум наших традиционных вузов, в ходе реформы Академии наук перебросим туда 100 лабораторий традиционных научных, но переделав их названия, и они вместе разработают наш МООС, наш! С новым контентом, который будет еще лучше, чем у всяких остальных конкурентов».
Теперь, второй вызов, то есть изменение институционального ядра образования, думаю, на сегодня субъективирован только некоторыми заместителями министра образования. То есть они понимают, что что-то происходит, чувствуют это и очень этого опасаются. Но понимают, что это серьезный процесс, и его желательно как-то обустроить. Потому что если он не будет обустроен, то те последствия, к которым может привести переход даже 10% школьников и студентов на подобную форму самоорганизации, для системы может носить катастрофический характер. Потому что, понимаете, грубо говоря, у нас по всему миру всего 12 миллионов студентов, которые учатся в других странах мира, а за 4–5 лет, когда работают МООС, уже их аудитория приближается к этой цифре. И совершенно понятно, что она сейчас взрывным образом выстрелит, и завтра это будет 100– 150 миллионов человек, и это будут самые активные. И не нужно будет потратить второй бюджет на перемещение физическое, но ментальное перемещение состоится. Поэтому для национальных систем образования это, конечно, существенный вызов. На уровне министерства это рефлектируется, но что делать, непонятно.
А третий вызов вообще не отрефлектирован системой образования, хотя уже отрефлектирован, скажем, инженерной элитой, особенно в некоторых специфических отраслях, в которых подобные изменения технологий грозят некоторыми потерями рынков и, может быть, еще чего-нибудь. Поэтому на уровне первых лиц государства и крупных корпораций они, конечно, понимают, что это важно, они, фактически, субъективировали эту проблему, но, глядя на систему подготовки образования, они говорят: «Боже мой, не они же будут это решать!». Совершенно понятно, что к ним придешь с этим — как придешь, так и уйдешь. Кстати, эта же ситуация повторяется постоянно! Французы — какой-нибудь Кольбер ходил в университет и говорил: «Мне нужно дороги строить, мосты, флот восстанавливать», а они ему отвечали: «Иди-ка ты парень, иди». И известно, что он пошел и сделал инженерные школы, потому что добиться чего-либо от традиционной системы образования невозможно! Поэтому ситуация не нова, она, скорее всего, носит достаточно стандартный и постоянно воспроизводящийся характер. Но внутри сферы это никто не субъективирует. Может быть, люди такие странного вида, типа Пирожкова в МИСиСе, которые из другой сферы пришли и пытаются там что-то создать.
СЛУШАТЕЛЬ 6: А четвертое?
П. Щ.: А четвертое вообще, да… А до пятой никто не дотягивается.
СЛУШАТЕЛЬ 6: И второй вопрос, если можно. У вас несколько раз в речи прозвучало «наш и их», когда вы говорили про русских философов…
П. Щ.: Я могу вам рассказать хорошую байку по этому поводу. Когда Питириму Александровичу Сорокину было уже много лет, в середине 60-х годов русская социологическая новая группа решила классика привезти. И они стали организовывать визит Сорокина в Россию. А Сорокин всегда говорил, что для него мечта приехать и здесь умереть. Организовывали, организовывали, дошли до ЦК партии. Вопрос был поднят до уровня Генерального секретаря ЦК КПСС. Почему? Потому что, когда они уезжали в 1922 году, они все подписали бумагу, в соответствии с которой «ознакомлен с тем, что, в случае, если я вернусь на территорию Советского Союза, то буду расстрелян». Они все ее подписали. Есть такое постановление, есть такие бумаги, они подписаны. Подписаны Сорокиным в том числе. С точки зрения буквы, он должен быть расстрелян, вернувшись на территорию Советского Союза. Они написали в ЦК, с просьбой отменить решение. Брежнев написал на этой бумаге следующее: «Отменить решение Владимира Ильича Ленина не могу». Вы зря смеетесь, ничего смешного! Таким образом Сорокин не попал в Советский Союз. Поэтому вопрос остается, поэтому «нас и их». Они Сорокина считают своим, американским социологом.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Просто, может быть, это будет интересно коллегам, которые присутствовали на предыдущей лекции Евгения Кузнецова. В том числе он говорил про конкуренцию картин мира. Что в этой истории для вас ценностно, когда вы говорите про «нас и их»?
П. Щ.: Я совершенно не связываю конкуренцию картин мира с традиционными, языковыми, национальными и прочими границами. Хотя, конечно, эти механизмы играют важную роль, мы должны, например, понимать, что период перевода Библии на национальные языки европейских стран был одним из важнейших периодов становления самих этих стран и самосознания этих народов. У Умберто Эко есть очень хорошая фраза, я ее очень люблю, он говорит, что язык Европы — это язык перевода. Потому что переводили с греческого и латыни на арабский и на европейские языки, с арабского переводили на европейские языки, с одного европейского языка переводили на другие. И я знаю, например, одного интересного философа из Судана, который вообще показал, что различие в круге переводов может существенно объяснить, например, различие в повестке дня в немецкой и французской философии. Потому что разное было вовлечено в смысловую сферу, включая создание новых терминов, пространство коммуникации было определенным образом организовано. Наоборот, отсутствие какого-то круга текстов, например, в русскоязычном пространстве Мераб Константинович Мамардашвили называл кастрацией русского языка. Он говорил, что философский русский язык был кастрирован и до сих пор не восстановился, потому что мы потеряли 100 лет развития философского мышления в этом языке. Вот сейчас мы что-то пытаемся восстанавливать, но наверняка те, кто с этим знаком, знает, с какими трудностями мы сталкиваемся при переводе.
СЛУШАТЕЛЬ 7: Мы знаем, что своя программа развития есть не только у протестантов, у католиков, она есть и у методологической школы. Причем, неопределенность мира на десятки лет вперед. Какая командная игра в поле коммуникации позволяет держать такую даль, думать настолько в долгую?
П. Щ.: Мое видение этой ситуации состоит из трех простых тезисов. Тезис первый. Еще в начале XX века была выдвинута гипотеза, что XX век будет веком наук о мышлении и технологии мышления. Потому что, понятно, если мы берем метафору науки и инженерии, то если у нас есть описание процесса, то мы можем построить его инженерную модель и дальше способ действия. За XX век было разработано полтора десятка технологий мышления. Из российских я бы назвал, по крайней мере, четыре. Я бы назвал деловые игры — это то, что в конце 1920 — начале 1930-х годов создавалось группой активистов, когда, например, разрабатывались быстрые программы для создания производственных предприятий, потом, кстати, деловые игры использовались при планировании переброски заводов с запада на восток в ходе воображаемых военных действий. Второе — это биомеханическая лаборатория центрального института труда. Это очень продуктивный альянс между Бернштейном и Гастевым, когда Бернштейн предложил так описывать рабочее движение, чтобы можно было на основе его добиться более эффективной технологической организации работ и производительности труда. А сам Бернштейн считал, что следующим шагом является такое описание движений, чтобы можно было создавать роботов, в 1926 году он заявил программу робототехники, а дальше он утверждал, что следующий шаг — это описание интеллектуальных операций. Это середина — конец 1920-х годов. Третья программа — это ТРИЗ Альтшуллера. Между прочим, технология массовая, распространенная по всему миру, в 100 университетах мира учат этому, мы только забыли. Человек, который имеет третий уровень ТРИЗ, в любую инженерную корпорацию входит на уровне зама главного инженера или начальника проекта. Четвертый шаг — это развивающее обучение в широком смысле слова, то есть это не только методики Занкова, Давыдова, Эльконина, Гальперина и т. д., это широкий круг методологических и методических разработок в области образования, который опирался на теорию Выготского. И сегодня, например, Норвегия внедряет развивающее обучение в младших классах своей школы, потому что это очень эффективная технология. У нас это было разработано, более того, было доведено до подростковой школы. Потом исследования закончились, старшая школа не была спроектирована, хотя есть несколько гипотез. И, наконец, оргдеятельностные игры. И в этом смысле мы последовательно 60 лет, поскольку Московскому методологическому кружку как раз в этом году в феврале было 60 лет, развиваем определенный пакет технологий мышления и методов организации коллективной мыследеятельности, как игровой, так и стандартной. Потому что понятно, что это можно внедрять как в корпорации, так и в учебный процесс, как Волков делает, и даже в аналитические процедуры. А что позволяет это делать? Преемственность. Слава богу, папашу моего не расстреляли, хотя выгнали из партии, он работал всю жизнь, он опирался на своих предшественников, ему досталось хорошее наследство, он сделал следующий шаг, мы еще сделаем шажок вперед. Так еще несколько поколений и чего-нибудь добьемся.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Можно еще вопрос? Поскольку уже затрагивали вопрос подготовки инженерных кадров, на ваш взгляд, что необходимо сделать государству и бизнесу в целях совершенствования подготовки инженерных и рабочих кадров?
П. Щ.: Про рабочие кадры, еще раз, я считаю, что все давно придумано. Есть работа по технологизации базового производственного процесса, проектирование системы разделения труда. Когда она у вас спроектирована, подготовка рабочих кадров не представляет трудности. Лучше всего ее вести на рабочем месте, можно вести ее в специально организованных центрах подготовки, опирающихся на сам производственный комплекс. Она для того, чтобы не просто учился, а работал и учился. А что касается инженерных кадров, тут все сложнее гораздо, потому что для того, чтобы построить эффективную систему подготовки инженерных кадров, надо ответить на вопрос: как устроено инженерное мышление? Такой ответ в свое время в России был дан, потому что, собственно, и императорское Бауманское училище с его методом проектов как основы обучения — это старая идея, это идея еще конца 1980-х годов. За эту идею Россия получила пару медалей на всяких международных выставках в конце XIX — начале XX веков, потому что именно мы внедрили метод проектов в инженерное образование. Параллельно с Дюи, оно двигалось по нескольким направлениям, в частности, в нашем инженерном училище. На этом была разработана модель подготовки, которая легла в основу физтеха, инженерно-физического образования. Это отдельный большой разговор, что это за модель мышления и что это за модель образования. Но, к сожалению, за прошедшее время произошло два крупных сдвига. Первый крупный сдвиг заключается в том, что инженеру приходится работать в социальном, экономическом и прочем контексте. Ранее традиционный пакет инженерных знаний, который составлял 90%, а социальные знания 10%, изменился с точностью до наоборот: традиционные инженерные компетенции составляют 10%, а социальные 90%. А вот этого у нас никогда не было. Мы после того, как всех в 1922 году отправили погулять, а тех, кто не поехал, отправили в другое место, потеряли целый блок социальных разработок. Если мы в нем лидировали 100 лет назад, то сейчас мы в нем катастрофически отстаем. Мы отстаем в области экономики, социологии, психологии… И поэтому нечего передавать этим ребятам, просто нечего! У нас и контента нет, и людей, которые это могут делать. Преподаватели марксизма-ленинизма быстро стали преподавателями маркетинга, и вот эта фиктивно-демонстративная деятельность мешает построить ту специальную систему обучения и компетенций инженера, которые делают его соразмерным крупным техническим системам.
А второе, что произошло, — возник феномен метаинженерии, или, как его иногда называют, системной инженерии, когда мы рассматриваем крупную систему как подсистему другой системы, системный язык становится таким языком междисциплинарного общения. И, например, в Слоуновской школе, где готовят правленцев и инженеров, курс Форестера System Dynamics является ключевым ядерным курсом, потому что он позволяет освоить мышление по прорисовке границ систем. И поэтому, например, когда-то в Министерстве науки и технологий Японии у меня был такой смешной разговор с министром. Он говорит: «Мы в год выпускаем 286 тысяч инженеров, из них инженеров 6345». Я говорю: «Еще раз, не понял». «Мы в год выпускаем 286 тысяч инженеров, из них инженеров…». Системных инженеров, которые могут заниматься крупными проектами на протяжении всего жизненного цикла, 6 тысяч, остальные — это специалисты, которых этот инженер должен нанять и в правильные места расставить. Так вот, я знаю три десятка центров в мире, которые занимаются системной инженерией и подготовкой системных инженеров. У нас пока нет ни одного. Хотя, в общем, этому движению уже лет 40. Поэтому, например, не внедряется методология управления жизненным циклом крупных объектов, потому что перейти на подобную методологию — значит не только перейти на новые информационные решения, 3D, 6D, это значит создать новую систему разделения труда от концептуального проектирования до вывода из эксплуатации. Это чрезвычайно сложно, фактически это целая революция в подготовке инженеров… Потому что грубо я могу сказать, если вертикально порезать компетенцию управления жизненным циклом, то градации инженеров и будут по этим уровням. Поэтому, если я специалист в области какого-то звена эксплуатации, то это один уровень, а если я могу проследить объект, атомную станцию, например, от проектирования через строительство к эксплуатации и завязать друг с другом эту систему (требования эксплуатации заложить в проектирование), то я уже, конечно, на третьем или четвертом уровне. Потому что обычно это происходит методом проб и ошибок. Более того, информация просто вот так ходит с людьми, бумажками и поручениями: разобраться, почему?.. Типовые вопросы возникают и прочее.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Можно самый крайний вопрос от Павла Лукши по вебинару?
ПАВЕЛ ЛУКША: Добрый день. Я с удовольствием посмотрел лекцию. У меня один вопрос по излагаемой концепции, которая мне очень близка в представлениях об инаковости будущего. Есть один важный момент о том, как формируются те основания, на которых проводится эта сама операция разрывания времени на прошлое и будущее? Я услышал ведущую роль коммуникации тем, кто, собственно говоря, разворачивает технику в предметной теме. Есть ли какое-то более глубокое основание, которое можно здесь положить?
П. Щ.: Во-первых, я хочу тебе тоже сказать, что я с удовольствием прослушал начало твоей прошлой лекции, потому что, с моей точки зрения, твое обращение к моделям мышления о времени и о будущем чрезвычайно продуктивно. Поэтому можешь считать, что я просто продолжил эту часть твоей лекции. Я не согласен с ней по содержанию, как ты понял, но искать надо в этой сфере. Собственно, я и предложил чуть другие модельки. А ответ на твой вопрос, который я знаю и который по мере того, как мне становится больше 50 лет, я, к сожалению, все больше и больше убеждаюсь, что он правильный, он заключается в том, что ключевую роль в этом разрезании играют ценности. Ценности, а не цели и не средства. И в этом смысле роль ценностных элементов в организации этого пространства, она ключевая. И если мы придерживаемся разных ценностей, у нас не может быть общих целей.
П. Л.: Спасибо.
СЛУШАТЕЛЬ 8: Как вы относитесь к вопросу самоопределения человека?
П. Щ.: Я спокойно подхожу. Я могу вам сказать, что эмпирически дети способны к самоопределению с 2,5–3 лет.
СЛУШАТЕЛЬ 8: А если в среднем возрасте?
П. Щ.: Знаете, есть такой старый анекдот педагогический. У ребенка спрашивают: «Ты знаешь, как тебя зовут?». Самоопределенный ребенок отвечает: «Знаю», а не самоопределенный отвечает: «Петя». Смотрите, если вы перенесете эту модель на нашу коммуникацию, вы увидите, что 90% обычной коммуникации носит не самоопределенный характер: человек либо проваливается в объект, он даже в речи употребляет: «На самом деле, так…» Откуда он знает, как на самом деле? Господь бог знает, но не сказал. Либо вторая ситуация, когда он, наоборот (это в административной действительности называется конфликт интересов или аффилированность), не отделяет свои интересы позиционные и цели от констатации факта, феномена или объекта. А поскольку мы еще все перепутаны по позициям, у нас те, кто называется чиновниками, на самом деле, предприниматели, те, кто предприниматели, они, на самом деле, еще кто-то. И, знаете, как взяли старую социальную структуру, встряхнули, и все произвольным образом рассеялись на разные позиции, то все время крэш сознания, поскольку человек не понимает, кто он.
СЛУШАТЕЛЬ 8: При желании человека подтолкнуть свое самоопределение, при понимании, что он находится в ситуации, несамоопределившейся…
П. Щ.: Тренироваться, пробовать. Вообще, конечно, это желательно воспитывать с детства, но я понимаю, что это не всегда возможно. Смотрите, в самом понятии самоопределения три составляющих: я по отношению к чему-то самоопределяюсь как такой-то. Их не надо путать. То есть не надо путать себя с марионеткой, которая самоопределяется. Потому что я могу быть философом, советником генерального директора госкорпорации «Росатом», отцом нескольких детей, дедом нескольких внуков, членом экспертного совета секции «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. А еще членом экспертного совета правительства, а еще членом совета кластера города Железногорск. А еще членом наблюдательного совета Сибирского федерального университета… Сила человека в многообразии ролей. Главное — не путать и четко понимать, когда в какой ситуации в какой роли ты в данном случае выступаешь. Более того, есть очень интересная книжка, я ее, к сожалению, читал по-французски лет 30 тому назад и не могу с тех пор найти, но эта книжка показывала, как в средневековом городе на смену крестьянскому образу жизни, где у человека максимально было 2–3 роли (вот он был семьянин, крестьянин и он ходил в церковь), по мере приближения к центру города — в пределе к ратушной площади — человек приобретал новые и новые ролевые функции, совмещая их друг с другом. И уже член городского совета имел 10–11 таких ролей, потому что он был еще представителем, например, цеха ремесленного, еще членом городского совета. А еще клубы возникли. И сложность личности нарастала. Кстати, если вы среднестатистическому европейцу зададите вопрос, он вам назовет 5–7 таких идентичностей своих. Кстати, они страшно удивляются, что у нас мало общественных идентичностей, мы мало занимаемся общественной работой. Нет, известно, почему — у нас отбили охоту за 70 лет, но вообще-то это странно, это не по-человечески.
Кстати, в истории человечества она, например, конституировалась как техника в исповеди. Ведь когда ты исповедуешься, ты фактически начинаешь эту рефлексивную процедуру и ты начинаешь расщеплять эти ролевые функции. И, собственно, грех, по большому счету, это слипание ролей. А потом в психоанализе… что такое психотерапия, психоанализ? Это гигантская практика объективации целых пластов человеческого сознания, выявления скрытых механизмов и передача назад человеку знания об этих механизмах, чтобы он мог собой управлять. Поэтому, в общем, это такие индивидуальные техники и культурные пласты, на которые надо опираться. А в онтогенезе у ребенка это очень рано появляется. Например, ему покажешь фотографию его самого в маленьком возрасте и если есть в семье есть другой маленький ребенок, он будет говорить, что это «он», а не «я». Это ведь понятно, я-то вот, другой. И вот если с этим поработать, то у него начинается усложнение пространства, он начинает видеть себя в процессе развития.
Спасибо. Успехов!
Новая среда обитания
ЛЕКЦИЯ 07 20/06/2015

Здесь было несколько лекций на серьезные темы, а сейчас будет лекция про медиа и коммуникации. Я должен буду сейчас доказать, что моя тема не только не менее серьезная, а даже еще более серьезная, чем другие темы. И не только потому, что мы переходим в постиндустриальное общество, но и потому, что коммуникации всегда есть, были и будут основой для любого другого серьезного бизнеса.
Меня попросили сделать форсайт. Вообще форсайты — вещь очень интересная. Я начал делать прогнозы — это не совсем форсайты, а именно четкие прогнозы — я начал делать прогнозы в 2005 году и публиковать их под своим именем. И публикую их либо по мере необходимости, либо раз в год. Последние прогнозы я сделал в 2009 году на 2010– 2020 годы. И сейчас мы просто смотрим исполнение этих прогнозов, сверяем их и радуемся. Всего лишь один прогноз не сбылся, и то мелкий. Поэтому 2010– 2020 выбрано неслучайно. Это лекция, которую я прочитал уже почти во всех крупнейших международных университетах, начиная от Гонконга и Сеула до Европы. Делая форсайт на 2010–2020, я решил вернуться к этой теме, сделать ее апгрейд и рассказать здесь.
Насколько я понимаю, здесь выступали в основном теоретики, которые сказали: «Я вижу так», а потом перешли на другую работу. А когда ты всю свою жизнь делаешь форсайты или прогнозы и отвечаешь за это не только своими средствами, но еще именем, то тогда ты мыслишь совершенно по-другому.
Я один из венчурных инвесторов в IT-индустрию. Первые инвестиции я сделал в 1994 году в интернет и в 1998 году в софт. Сейчас я уже достаточно много связан с крупным венчурным бизнесом. Но что такое венчурный бизнес? Это тот же самый прогноз или форсайт. Потому что если ты делаешь серьезные деньги, то ты должен смотреть, какой там горизонт. В 2010-м ты инвестируешь, чтобы в 2015 году сделать exit, то есть продать это либо стратегу, либо выйти на IPO, либо сделать какой-то следующий раунд другому инвестору. Ты должен примерно в 2010 году понимать, как ты в 2015-м убедишь человека, что он в 2020-м получит свои выгоды. Что этот ресурс будет жить, что он будет развиваться, что во всей системе, в которой он взаимодействует, будет себя четко чувствовать. Ты должен понимать систему, среду, в которой он должен жить, должен понимать соседствующие с ним среды и, инвестируя, должен понимать, как в 2020-м следующее твое колено будет счастливо. Если ты этого не понимаешь, значит, твои денежки будут… даже не твои, а денежки твоих инвесторов будут тю-тю. Это приходится делать постоянно. И вот эта работа, которую ты должен видеть всегда вперед, она присутствует всю жизнь. Поэтому форсайты очень интересны. Я сейчас буду рассказывать, с одной стороны, о вещах, о которых вы все знаете. Но я вам покажу их с другой стороны. Я буду пять раз говорить об одном и том же, десять раз буду говорить об одном и том же, возвращаться и говорить (повторение — мать учения), пока мы не придем к одному какому-то общему выводу в момент презентации или в момент ответов на вопросы.
Что важно всегда? Для меня всегда является ключевой одна фраза. Я ее использовал еще до того, как вышел фильм «Ной»: «И не было даже прогноза дождя, когда Ной построил свой ковчег». Вот, что важно. То есть не тогда, когда «гром не грянет, мужик не перекрестится». Если ты живешь в современном обществе, ты должен понимать, а что, собственно, будет зимой-то, и зачем готовить сани сейчас. У нас прекрасная есть пословица, но вот эта фраза Говарда Раффа мне нравится. То есть мы должны думать и готовиться к тому, что, по всем признакам, случиться не может. Это важно для любого форсайта.
Мы пройдемся по вопросам, что такое контент и контекст, социальные сети, которые вы все знаете, новые модели, роль творческого мышления, и придем к тому, что такое креативная экономика. Возможно, вы все это знаете. Возможно, вы понимаете то, что в 2020 году практически все будут иметь новую возможность соединения, а именно визуального соединения, что видео будет основой коммуникации.
Что такое новая среда обитания? Я ее называю New Media Space. Будучи в цифровой среде, мы получили новую среду обитания. Наша обыкновенная среда, в которой мы живем, совокупно с цифровой средой, которую мы сейчас имеем, дает нам новую среду обитания, если мы понимаем, что будем везде, всегда соединены в 2020 году, везде будет экран, и мы будем находиться вот в этой параллельной среде постоянно.

Соответственно, мы выведем, что она: интерактивна и коммуникативна; постоянно масштабируется; единственное, чем она создается, — человеческой мыслью, больше ничем; является частью эволюционного процесса; интегрирует культурно-с оциальную и коммерческую деятельность (важные бизнесы тоже); объединяет человечество; единственная новая для цивилизации — для постиндустриального общества.
По оценкам уже на сегодняшний день, в 2020 году будет ближе к шести миллиардам соединений народа. Что мы можем иметь? Мы можем иметь — эту картинку вы, наверное, все знаете — эта картинка показывает соединение в цифровой среде в обыкновенном фиксированном интернете. Но мы понимаем, что это похоже на какой-то человеческий мозг. То есть мы получаем путем коммуникаций новую среду. Не только большие данные, которые начинают обрабатываться, давать нам разные прогнозы, вычисления, прогнозировать непрогнозируемое, делать из миллиарда ситуаций одну и только одну вероятную. Мы можем представлять, как будет развиваться жизнь, то есть возьмем на себя функции, наверное, создателя, обладая вот этим колоссальным мозгом. Но вот то, что мы начинаем иметь, это гораздо более серьезно, чем некие серьезные темы, которые были здесь подняты.
Что такое новая среда обитания? Мы опять процитируем Маклюэна и говорим, что человек, подключившийся к этой новой платформе, сам становится этой сетью. И мы прекрасно знаем, что сейчас идут разработки нового интернета, новой коммуникационной возможности, потому что то, что сейчас есть, неидеально. Вплоть до того, что разрабатывается очень серьезно как тест, называется Bi-Fi, то есть мы через биологические клетки можем коммуницировать друг с другом. А если мы пойдем в какую-то среду, скажем, как линзы, которые будут интегрированы через глазную жидкость с организмом и так далее, то мы без всяких этих вживлений чипов будем на самом деле уже коммуницировать друг с другом. Мы сами будем коммуникацией.
Что еще важно здесь? Что в новом пространстве человек меняется, что он начинает преобразовываться, мы начинаем видеть некоего нового человека. Мы имеем новую форму ощущения мира, мы имеем новый мир, безграничные возможности.
Мы к этой истории будем еще раз возвращаться в другой части. Как развивалось человечество всегда? Почему развивалось человечество? Мы говорим: «Труд создал человека». Ничего подобного. Человека создали коммуникации. Потому что когда человек жил в пещере, у него была одна история. Но как только из пещеры кто-то переселялся в другую пещеру или в деревню, начинала возникать надобность коммуникаций, как будут одни коммуницировать не через триста метров, а через тридцать километров. Коммуникации. И неважно, какие коммуникации. Эти коммуникации могут быть дружественными, могут быть враждебными (военные захваты — это тоже коммуникации) — неважно, это коммуникации. Что тогда оставить своим детям, которые отселились и все? Вот эти коммуникации заставляли человечество начать думать, как мы будем коммуницировать. И вот эта надобность и возможность коммуникаций всегда являлась основной технологической революцией и основным этапом взрыва человечества.
Открытие новой земли, скажем, Америки, к примеру, Нового света, стимулировало как раз большой рост, колоссальный рост, я уж не беру развитие Римской империи и всех прочих, она сделала очень много движения. Научная революция была вынуждена следовать за вот этой надобностью. Как? Вот мы хотим же коммуницировать с космосом и думаем, как выйти в космос, есть ли там другие люди, и вся у нас работа (а что нам в космосе делать-то? — больше ничего) — мы ищем возможность вот этого расширения пространств коммуникаций. Мы всегда шли, открывали мир, мы выходили из одной деревни в другую деревню, потом города, потом оказалась там какая-нибудь Римская империя, потом оказалось, что есть еще Китай какой-то, потом открылись новые земли… Америка открылась. Из Америки, с востока на запад, надо было железные дороги тянуть. Это все коммуникации. Торговые, но это коммуникации. Между Старым и Новым светом.
И мы в XIX веке вдруг обнаружили, что мы мир-то открыли. Поняли. А скорость разогналась. Мы попытались в космос. В космос пока вот не получилось. И мы с этого разгона ушли в параллельную среду обитания и, по большому счету, начали строить новую вселенную. Это новая вселенная — параллельные миры. Новая вселенная, которая является безграничной совершенно, дает человечеству возможность расширяться и двигаться, и коммуницировать там. И вот это является основной ситуацией.
Так же как в прошлое доисторическое время, у нас появилась возможность распространения новости мгновенно. В доисторическое время ты жил в пещере, которая была твоим ареалом обитания. Ты сказал: «Эй, закончилось мясо!». Все услышали. А вот сейчас любая новость может быть транслирована неограниченному количеству людей, глобально распространена.
Что еще очень важно? Что на этот момент нам не нужно потребления энергии. Это очень важно. Когда человечество насчитывало всего лишь миллион людей, оно для выживания тратило такое же количество энергии, что сейчас. Количество затраченной энергии очень важно. Человек, привязанный к глобальной сети, для всего этого тратит достаточно мало энергии.
Революция мгновенных коммуникаций: событие мгновенно становится известным; мускульная энергия человека и животных в энергетическом балансе цивилизации уменьшается; средства массовой информации и коммуникаций становятся мгновенно доступными, то есть не лимитированными.
Кто примерно понимает, что такое рост и точки сингулярности, видит, что мы практически эту точку прошли. То есть мы идем практически в бесконечную точку коммуникаций. Происходит падение традиционных медиа.
Теперь рассмотрим что, собственно, в этой новой среде обитания у нас существует? В новой среде обитания существует контент. Что такое контент? Многие понимают под понятием «контент» какой-то мультимедийный контент или информационный контент. Нет, контент — это все, что наполняет эту среду. Что бы ни наполняло среду, это есть контент. Дальше вопрос, какой он. Это момент творческой мысли. У нас понятие творческой мысли или креатива означает, что это какой-то художник или дизайнер — вот он творческий, а все остальные не творческие. Нет. Любая мысль является произведением творчества, даже если она скопирована откуда-то, доработана — она может быть удачной или неудачной — все равно она является элементом собственно творчества. Любая мысль.
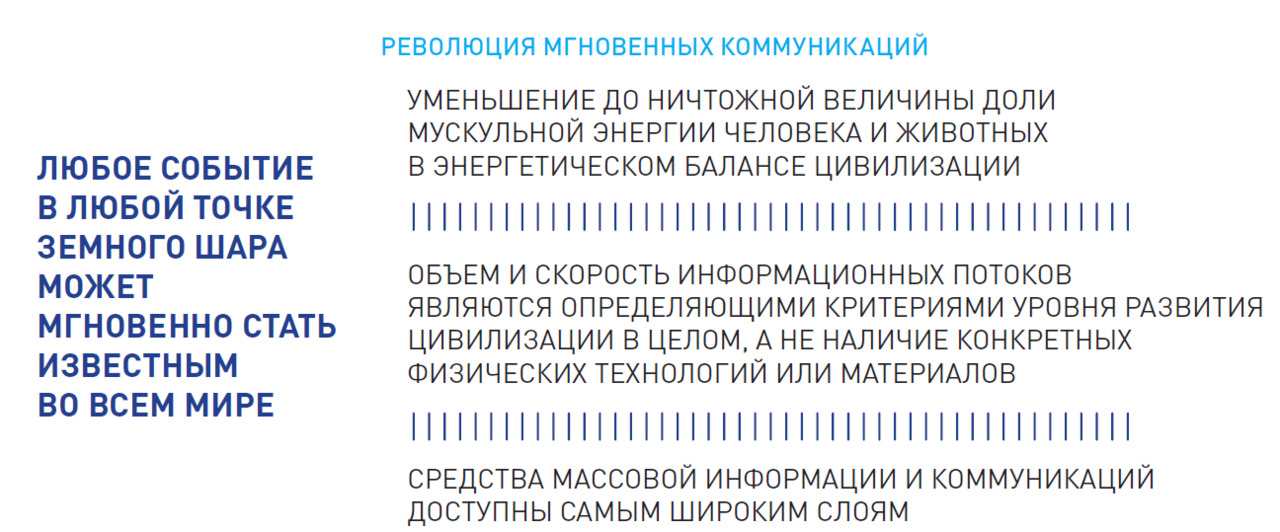
Соответственно, виды контента. Это тексты; графика: фото, кино; мультимедиа: аудио, видео; приложения. И, наверное, что-то будет далее. Скажем, что такое контент в цифровой среде? Если мы возьмем какой-нибудь простой момент, связанный с музыкой, то практически вся сейчас музыка перешла на цифровую среду.
Что происходит с такими платформами, как YouTube, если вы знаете или не знаете? YouTube стал большущей платформой для нескольких миллионов креаторов. Популярные креаторы на YouTube на сегодняшний день — молодые ребята, которые имеют миллиарды подписчиков, могут зарабатывать и зарабатывают на сегодняшний день от 50 до 500 тысяч долларов в месяц наличными, заключают сделки. Вот одна из последних сделок: компания «Мэри Кэй» заключила контракт на пять миллионов долларов с девочкой, которая завязывает косички и показывает, как краситься. 15 лет девочке. Но у нее миллиард просмотров, и это является более эффективным, чем какая-то реклама на столбе или в телевизоре, на мертвом языке и все прочее.
Компания «Мейкер Студио», четыре года назад созданная двумя молодыми людьми, получила через год 150 миллионов долларов наличными от YouTube и почти за миллиард была продана месяц назад «Уолту Диснею». В компании «Мейкер» работают сейчас 67 тысяч креаторов со всего мира. Работают — это означает, они существуют и кормят свои семьи на то, что они получают.
То есть это данность, которая, скажем, людям в традиционных СМИ-медиа непонятна. Просто вообще непонятна. А они не понимают традиционные медиа, эти молодые ребята по 17–18 лет.
Происходит цифровое направление коммерции. Это не только коммерция в виде электронных продаж, а все начинает двигаться в сторону собственных медиа, и вокруг собственных медиа начинают формироваться собственные экосистемы, контенты и другие ценности, вокруг твоего, скажем, детища, будь это бренд, будь это компания или канал коммуникации.
Мы возвращаемся к теме социальных сетей. В свое время Маршалл Маклюэн, очень хороший, один из ярчайших провидцев, назвал это большой деревней. И правильно, это большая деревня, даже можно называть большой пещерой. То есть что такое социальная сеть? Это как в большой деревне, когда коммуникации были простые. Совершенно простые. Ты встал на лобное место, огласил что-то, и все узнали. Все. Существует множество социальных сетей, которые объединяются по профессиональным, гендерным, социальным или по каким-то территориальным признакам.
Если мы смотрим одни из последних данных, то видим, как драматически меняется история в социальных сетях, мы видим, как меняется социальный Media Landscape. Мы видим, как традиционные медиа меняются, из так называемой «эгосистемы» они формируют экосистему вокруг твоих каналов контента и всего прочего. Мы видим, как централизованное медиа идет в открытую экосистему открытого контента. Мы видим, что одни из последних независимых медиа начинают проигрывать совершенно другим, то есть взаимозависимым медиа. Это очень важно, потому что новые медиа являются некими медиа, которые спускали сверху. Вот есть какой-то там канал, который сверху поливает информацией и спускает вниз, а интерзависимые медиа — это медиа, которое зависимо от нас всех, дает совсем другие знания. Это экосистема социального телевидения, то есть мы смотрим, как она развивается.
К чему мы идем, допустим, в России, наконец-то? Мы видим, что в апреле 2012 года «Яндекс» побил «Первый канал». В 2013 году убыток «Первого канала» составил один миллиард рублей при 3,8 миллиарда рублей госдотаций и при выручке 29 миллиардов рублей. А прибыль «Яндекса» за 2013 год составила 14 миллиардов рублей при выручке больше, чем выручка «Первого канала». Прямо понятно, что затраты и опексы так называемые у «Яндекса» ничтожны по сравнению с ведущим телеканалом. То есть ведущие телеканалы у нас сейчас проиграли, стали контролировать меньше 50% рынка по сравнению с маленькими нишевыми каналами. Маленькие нишевые каналы, которые начали откусывать все большие куски, являются, в первую очередь, каналами, начинающими вещать не только традиционным способом, а которые идут, условно говоря, в открытый доступ и совершенно в другой цифровой среде.
На других территориях это проходило быстрее. Где-то технологически, где-то общество было более готовым. Допустим, Южная Корея. Это маленькое государство, большое население, быстрее можно было охватить, покрыть и все изменения произошли очень быстро.
Факты социальных сетей, коммуникаций. Поколение миллениума уже не видит разницы между общением в соцсети и другим. У них нет понятий «ты сидишь на сайте» или «зайду в интернет». Для них это естественная вещь, точно так же, как для нас естественно электричество. Электричество существует сто лет. У меня бабушка еще рассказывала, как они при лучинке жили, когда протягивали это электричество. Кто-то помнит, когда еще телевизора не было, а кто-то еще помнит, когда телефона не было в квартирах, а уж мобильных тем более. Нынешнее поколение родилось в цифровой среде, и для них эта среда является естественной, и для многих она является более даже предпочтительной. Для них это естественная вещь, это данность. Если ничего с ними не происходит, ничего плохого не происходит, это данность, это такое развитие, что мы их назад уже не затащим, так же как и бабушка нас не затащит в мир, где нет электричества. Не затащит. Хотя, может быть, это было прекраснее, чище: лучина, восход солнца, с солнцем встал.
Вот за последний год каждая третья семья в США образовалась посредством социальных сетей. Данность. Для молодых поколений она будет дальше формироваться, причем формироваться глобально. Я, молодой человек, встретил кого-то на другом конце Земли, в другой стране. У них нет границ. Это очень важно для государственных изменений, потому что я уверен, что через 10–15 лет понятие государства перестанет существовать. Но это будет отдельная тема, когда я уже буду, наверное, на пенсии.
Сейчас у нас есть Google Glass. Или линзы, которые пока имеют только прототипы, потому что мы не понимаем, как они будут питаться. Вопрос будет решен, будут питаться от энергии человека, разумеется, никакой больше другой здесь не будет энергии, это естественная вещь. Мы понимаем, что даже в Google Glass уже есть возможность акцептовать платежи автоматически своей мыслью.
Созданы прототипы управления интернетом посредством человеческой мысли. Создаются компьютеры или прототипы управления машинами, самолетами силой мысли. Вот у меня будет форум на следующей неделе, и приезжает профессор Гонконгского PolyUniversity, он возглавляет глобальную группу по созданию искусственного интеллекта. Как будто читаешь какую-то фантастику. Мы понимаем, что в недалеком будущем мы ничего не будем искать, все будет доступно через Big Data, через твое сканирование поведения. Задача любой среды в данном случае, чтобы ты не успел еще подумать, а тебе это все уже было предложено, и ты даже это оплатил. Это все будет возможно.
Вернемся к теме медиа.
Метаморфозы. Как было в доисторическое время. Вот человек встал, крикнул что-то на лобном месте, триста человек его услышало. Больше уже нет. Почему? Потому что дальше уже пошла техника. Коммуникации принуждали человека усилитель делать, чтобы кричать. Но он начал изобретать, то есть изобретать, как коммуницировать. Не здесь и сейчас, а посредством: вот меня сейчас нет, я должен что-то оставить или как-то передать. Пошла наскальная живопись, пергаментные свитки, берестяные грамоты — это все методы коммуникаций. Это не проявление себя, а это методы коммуникаций, это делается только для коммуникаций. Книги в Китае, в Европе Гуттенберг — это инновации для коммуникаций.
Что произошло, как мы получили первое медиа? Это опять-таки продукт инновации. Распространили газету. Газета — это листочек, названный по имени итальянской монетки, за которую первые листочки распространялись, — газета. Взял вот эту газету и распространил на расстояние 300 километров — первая дистрибуция. И так мы увидели The Times. Мы можем говорить, что это первое средство массовой информации.
Но мы должны понять, что такое медиа вообще. Медиа — это индоевропейский корень, это означает на всех языках одно и то же: посредник. В один момент медиа начало преломлять, искажать, добавлять, редактировать, менять и уже перестало быть посредником, а стало, скажем, кривым зеркалом. Мы свидетели пика медийных турбулентностей, когда не понимаем, где что. И в этой турбулентности медиа будет уходить в игровые реалити-шоу.
Семь основных медиа, как они были. Печатные в XV веке, звукозапись, кинематограф, радио, телевидение, интернет-медиа, мобильные даже медиа с 2000 года. Была эволюция медиа в XX веке, эволюция радио, телевидения и развитие рекламы в медиа и в новых медиа, эволюция печатания, мирового пространства коммуникации.
Вот что пришло после 2000 года — это зарождение новой среды обитания, новой New Media Space, когда медиа дало возможность коммуницировать здесь, везде и сейч ас. Когда ты привязан к интернету, к компьютеру, куда-то должен пойти, сесть, открыть, войти, набрать что-то. Смартфоны дали нам возможность постоянно быть в коммуникации, постоянно быть включенным, постоянно быть онлайн, постоянно иметь возможность получать и быть полученным. То есть вот это и есть зарождение новой среды, которое мы видим сейчас.
Какие произошли метаморфозы? Мы увидели, что традиционные медиа стали делиться на две вещи. «Я-медиа» — у меня может быть 30 подписчиков, читателей моих. Может быть 30 тысяч, может быть 30 миллионов, или может быть несколько даже, под миллиарды, как мы видим в YouTube какие-то взрывы. Так становятся «Я-медиа». У людей может быть подписчиков, которые получают его новость, больше, чем у любого традиционного СМИ сегодня или чем у большинства традиционных СМИ.
Сила влияния недооценена. Я первый раз увидел силу влияния, когда году в 2009-м мне для сотрудника нужно было найти квартиру. За три минуты мы получили три варианта квартир. В 10 часов я разместил объявление у себя, в 12 часов он уже заехал в квартиру. Никакие «Из рук в руки» не сравнятся с этим. Все, что нужно, — сделать маленький пост, и мы получаем все, что есть.
Социальные сети, комьюнити — все они помогают существованию понятия, в метаморфозе медиа «Я-медиа» и позволяют им точно так же монетизировать свою ситуацию. Многие из них, как я сказал, «ютубовцы», эти звезды YouTube монетизируют достаточно успешно. В топ-10 YouTube, кстати, три российских. Помимо Russia Today, которая обогнала в цифровой среде все каналы западные — CNN и ВВС — в шесть раз. Рейтинг Russia Today нереальный. И помимо Russia Today, еще двое молодых ребят, сообщество молодых ребят. Мы там занимаем достаточно места, мы можем это сделать, умеем это сделать. И вот эти молодые ребята достаточно оригинальны, потому что в открытой экосреде ты по-честному конкурируешь. То есть ты не украл что-то, а потом пошел на канал или там поставил на радио.
Чем это важно? Если традиционные медиа пытаются впихать в нас информацию, то здесь мы — часть этой среды. Поэтому ROI (return of investment, это возвратные инвестиции) означает здесь return of involvement, то есть возврат на твое участие. Ты вовлечен в это все настолько сильно, что сам являешься медиа или отражателем этого медиа.
Мы понимаем, что завтра (я думаю, что не больше трех лет осталось) традиционные телеканалы станут просто кнопкой на смартфоне. Бюджеты на продвижение будут сильно урезаны. Молодые ребята будут быстрее обходить, потому что те неповоротливые совершенно. А почему это произойдет, сейчас скажем.
И основная метаморфоза также и в том, что сейчас создаются собственные медиа. Их начинают создавать практически все бренды. Скажем, вот второй бренд компаний FMCG АВ Interbrew –75% всего своего бюджета на традиционные медиа они сняли и строят свои собственные медиа, коммуникации.
Пионером здесь был Red Bull Media, который снял все свои бюджеты и начал строить четыре основных коммуникационных канала со своей средой. Он решил, что его потребитель — это любитель экстрима, любитель экстремальной жизни, наблюдатель за экстремальной жизнью. Они выбрали это — от жесткого экстрима до мягонького экстрима. У них разные каналы со своей аудиторией. Мы знаем, что прыжок из космоса, который сделал Баумгартнер, обошелся Red Bull в 11 миллионов: 7 миллионов долларов — технический подъем, ракеты, носители и все прочее, 4 миллиона долларов — гонорар Баумгартнеру и легкий маркетинг. Одна реклама Super Bull в Америке стоит 3,5 миллиона долларов. Минута рекламы. То есть 11 миллионов — это три минуты рекламы Super Bull. Но мы понимаем, какой эффект (coverage) сделала Red Bull с этим прыжком: она покрыла все, она поимела колоссальное влияние.
Но что еще важно, что Red Bull Media на сегодняшний день по капитализации догнала сам Red Bull. Они не стали тратить эти деньги, относя их, условно говоря, на телевидение или куда-то, а они их начали инвестировать в собственный продукт, и они создали колоссальный совершенно собственный, независимый продукт и продолжают развиваться. Этот продукт позволил им — внимание! — если они сейчас продают 7 миллиардов баночек в год по определенной цене, то они хотят к 2020 году увеличить почти в два раза цену на баночку и увеличить в два раза ровно — 15 миллиардов — количество продаваемых баночек в год. Чем? Рекламой. Это собственное медиа. То есть FMCG-компании — это основные рекламодатели. Вторая компания — АВ Interbrew — сняла 75% от общего количества, и я думаю, что завтра она снимет остальное.
Почему рухнут телеканалы? А кто им деньги даст? У них не будет денег. Может, социальные телеканалы, пакеты государство будет доставлять через кабели, но мы будем понимать, что рекламодатель не будет заинтересован в этом, потому что это будет уходить на деревню, куда-нибудь в тундру, потому что молодое поколение не будет смотреть эти социальные каналы, ну просто не будет смотреть. Покупатели не будут смотреть, потому как нет рекламодателя.
Как сегодня работает собственное медиа? Я покажу вам экосистему собственных медиа. Здесь открываются дополнительные возможности — создание собственных социальных сетей по принципу собственных медиа, управление краудсорсингом, управление поведением людей, основывающихся на восприятии по образцам.
Что будет, допустим, в каком-нибудь Новосибирске или Екатеринбурге? Возьмем молочную фабрику.
Найдя коммуникации со своей средой, она будет понимать: ага, столько-то молодых мам, вот у них тогда-то родятся дети, тогда примерно столько-то нужно будет каждое утро детского питания, ребенок растет, они следят. Фабрика будет работать спешно, она будет понимать, кому какой продукт нужен, где, как, не по замерам, а четко, через контакты со своей средой, если наладит, она будет четко понимать эту реакцию возврата и все прочее. Не только фабрика молочная, любая, ей нужно будет иметь свои собственные медиа. Не каждая структура может себе, как Red Bull, позволить собственные медиа с собственными группами, но, соответственно, будут какие-то серьезные кластеры. Вот мы сейчас думаем о создании таких креативных новых цифровых кластеров, которые могут делать работу именно при помощи собственных медиа для региональных структур.
Итог — кто победит: старые медиа, новые медиа? Кто как победит? Все говорят: «Ну как же! Все равно останутся старые медиа. Вот вы говорили о том, что телевидение убьет театр, а театр живет». Я всегда говорю совершенно спокойно: убери подпорку из государственного бюджета у театра, и этот труп упадет с большим грохотом. Все. Его нет. Он живет исключительно за счет поддержки колоссальной нашими налогами в виде государственных дотаций и льгот любому театру. В Европе в ряде стран отказались от дотации театрам, и вы можете приехать сейчас в какую-нибудь любимую Ниццу, пойти в театр и посмотреть, как в маленьком каком-то непонятном помещении национальный театр играет какую-нибудь постановку Шекспира в трениках, потому что на декорации у них нет денег. Собственно, это все ушло туда, куда оно должно было и уйти, потому что это прошло, неинтересно. На сегодняшний момент существуют другие формы, которые живут. Это естественный путь развития.
Нельзя сказать, что «Я-медиа» или старые медиа победят, потому что не победят ни новые, ни старые, потому что будет только два вида медиа. Под новым всегда понимались цифровые онлайн-медиа. Будет только два вида. Даже это не медиа. То есть мы называем их «Я-медиа» и собственное медиа, используя «медиа» как общее слово, как ксероксом называется любой копировальный автомат. Но это будут собственные каналы коммуникаций. Медиа не будет как такового.
Ранее я сказал, что государства не будет. В новой коммуникационной среде — что такое основа государства? Основа государства на сегодняшний момент — это то, что в Сибири или в какой-то другой стране, выбирали из 30 тысяч человек делегата, посла, отправляли его в столицу, который будет представлять и голосовать за них. Их средством коммуникации с государством и представительства в государстве будет вот это выбранное, избранное, доверенное лицо. На сегодняшний день в цифровой среде он не нужен. Ты можешь в цифровой среде высказать свое мнение четко, у тебя будет точно твой IP, телефон, личность. Мы все знаем, кто, что, чего. Доля вероятности гораздо меньше, чем доля вероятности ошибки на выборных урнах.
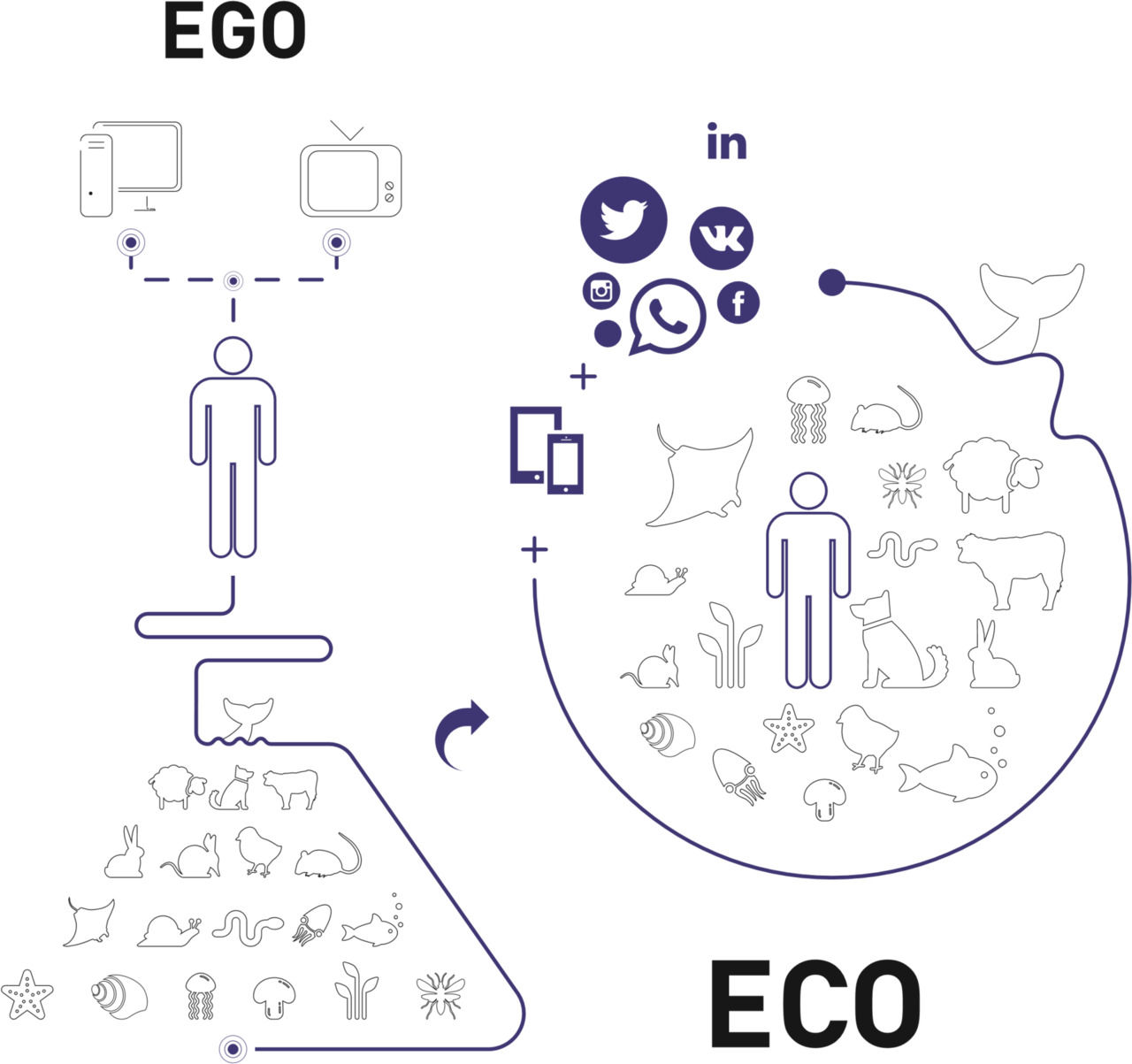
Но это большая проблема. Это большая социальная проблема. Во-первых, еще не готово общество.
Не готово общество хотя бы потому, что, скажем, новая коммуникационная среда и новые решения — это все прекрасно, но они имеют вторую, обратную, сторону — социальные взрывы. Почему? Сокращение рабочих мест. Сегодня, например, «Сбербанк» готов сократить до 300 тысяч, 280 тысяч сотрудников. Вот я платежи все свои делаю с телефона. Мне не нужно идти в отделение банка, открывать сберегательную книжку, я спокойно коммуницирую через любые платежные системы. Значит, 280 тысяч можем закрыть. Что такое 280 тысяч? Это значит три миллиона квадратных метров офисных помещений, это значит еще 200 с лишним тысяч людей, которые обслуживают эти офисные помещения. То есть 500 тысяч на улицы — джинкс! Если мы будем говорить о так называемом we-government, мы получаем очень большую серьезную вещь: люди, которые не нужны, теряют работу, ничего делать они больше не умеют, и, соответственно, будет большой социальный взрыв. Когда-то этот социальный взрыв каким-то образом произойдет. Добро пожаловать в этот мир.
Мы связаны в этом гиперсвязанном коммуникационном мире и лишаемся того, что имели все наши предки. Все наши предки, бабушки и дедушки, имели какую-то большую задачу, цель: летим в космос, побеждаем в войне. Какая-то цель, которая объединяет, укрепляет — «Мы дружим против кого-то». В этом мире целей нет. Это новый вызов, связанный с тем, что каждый сам по себе. Каждый сам по себе — это естественная вещь для постиндустриального общества, которое дает именно вопрос креативной экономики, к чему мы сейчас тихонечко подойдем.
Креативная экономика — это очень важный момент. Только молодые ребята (вот эти «ютубовцы») еще каким-то образом, возможно, готовы к этой креативной экономике. Но не все мы.
Вот что такое креатив? Это способность индивидуума творить. В индустриальном обществе токарь выучился точить детальку, вот он всю жизнь точит эту детальку одну, и ему говорят: даже не думай на секунду на миллиметр отступить. Формовщик формует пресс, ему говорят: даже не думай о другой форме. Есть рациональное предложение, он его подает, где-то его, может быть, утвердили, на миллиметр сместили, и опять — «даже не думай куда-то». Постиндустриальное общество означает, что каждый будет вынужден думать каждое утро, каждый вечер о том, как существовать, как выживать, как двигаться дальше, как его новый продукт, сервис, услуга должна быть масштабирована, то есть каждый сам по себе. Это сильное изменение.
Мы вообще живем в эпоху турбулентности, когда меняется монетарная система. Конечно, деньги будут переставать существовать как таковые, бумажные, и электронные потом тоже, достаточно резко. Меняется система государств, я думаю, даже не будет границ, и новое молодое поколение как раз идет к тому, что оно не понимает границ. Образуется течение, которое называется global nomad, глобальные кочевники. Человек уже не понимает, что мир вот такой, у него нет границ, визы его не пускают, он уже начинает путешествовать. Молодые люди 18– 19 лет не понимают, они берут рюкзак, месяц в Гонконге поработали, месяц в Сингапуре, куда-то перешли. Следующая вещь: они не хотят I me mine, они не хотят иметь ничего. То есть мы после войны хотели иметь квартиру, две-три машины, пять велосипедов, сто пар обуви, сумочек пятьсот — все мы хотим иметь, нужно, не нужно — все хотим иметь. Они не хотят ничего иметь. Они хотят иметь шорты, майку. Они машину не хотят иметь, они возьмут рент, потому что они переедут куда-то, они не хотят иметь в собственности квартиру, им это не нужно совершенно, они взяли рент. Они шерят, потому что это поколение шеринга. Одни шерят идеи, другие — вещи. Авторское право (копирайт) себя изжило в данную эпоху, оно не может быть в постиндустриальном обществе или, по крайней мере, в таком виде совершенно точно. Поэтому они шерят, они путешествуют, они думают, они каждый сам по себе. Это совершенно другой человек. Создало ли это постиндустриальное общество, или помогла вот эта новая среда обитания? И то, и то, наверное.
Соответственно, для чего нужен креатив? Креатив необходим при создании контента, потому что он является единственным наполнением вот этой новой среды. Креатив является основой вот этих верных коммуникаций. И, собственно, креатив плюс новая среда обитания — это и есть новая креативная экономика. Согласно докладу Мирового банка, 46% мировой экономики уйдет в цифровую среду. По 2025 год. На сегодняшний момент уже порядка 10% мировой экономики находится в этой среде. Всего лишь через десять лет половина мировой экономики будет находиться в этой среде. Соответственно, люди будут работать, смотреть, будут создаваться профессии, не существующие сегодня, существующие сегодня профессии будут умирать, отодвигаться, потому что в этот момент пойдет 3D-принтинг. Не тот, который мы сейчас видим, когда вот эта струйка пластмассы делает какую-то обезьянку, а будут другие модели.
Я могу быстро рассказать, как сейчас разрабатываются возможности российской IT-индустрии выйти на глобальные рынки, что-то сделать, показать именно благодаря этой системе новых коммуникаций и, в общем-то, потоков коммуникационных.
Что имеем сейчас мы в IT-индустрии? Мы имеем на сегодняшний день (по последнему году) 5,5 миллиардов долларов экспорта в IT-индустрии. Кажется, это большие суммы — 5,5 миллиардов долларов. На самом деле, это копейки, это несерьезно совершенно. Потому что, к примеру, если мы возьмем Корею, мы знаем, там сейчас бум корейской музыки — называется k-pop, то экспорт корейской музыки — семь с половиной миллиардов. То есть мы — половина от корейской музыки. Наша IT-индустрия, включая «Яндекс». А должно быть в 2020 году хотя бы десять.
Мы должны корейскую музыку догнать.
Я говорил с Никифоровым, министром. Говорю: «Николай Анатольевич, смотрите, вы министр связи и массовых коммуникаций, да? Ну, связь у вас, понятно, это вот оптика, спутники, IT-парки, железяки, да? И есть у вас, конечно, Алексей Волин, зам по телевидению. А массовые коммуникации? Вот сейчас в России уже три миллиона человек зарабатывает, живет и содержит семьи вот в этих массовых коммуникациях, которые происходят в цифровой среде. Вот там что-то происходит. Кто у вас за это отвечает?». Выясняется, что никто не отвечает. И ничего не знает, потому что у нас IT — это такие люди, которые что-то закончили — физтех, Бауманку — они что-то пишут, какие-то кодеры, и, если они не служивые, при ближайшем получении предложения тут же улетают в Силикон. Все.
Что такое технопарки? Технопарки у нас — это хозяйство, а на самом деле это real estate business. То есть мы построили технопарк, сдали его в аренду. Но, так как есть государственная программа поддержки, мы сдали почти задаром или бесплатно помещение какому-нибудь стартаперу, который сидит в этом технопарке и делает аутсорсинговую работу для американцев, получает пэйпэлом деньги, не платит ни налогов, ничего. Как только вдруг у него что-то выстрелило, его тут же на следующий день нет или в этом технопарке или в России вообще. Мы делаем вот это пушечное мясо, гордимся этим, но пушечное мясо как только начинает зарабатывать, уезжает за рубеж, ничего не оставляя, все эти компании являются резидентами Дублина или еще чего-то, платят налоги там — бред сивой кобылы. Слушайте, вот за такую политику нужно, конечно, спросить, и не раз. Поэтому какой же может быть экспорт всего этого?
Соответственно, что мы предлагаем? Вот есть такой сектор, называется Media Entertainment Sport, мы его обозвали MES. Он занимает на сегодняшний день практически 90% всей даты. Почему?
Что такое дата-хранилище? Возьмем понятный всем телесериал (одна серия — 45 минут в формате 4К), который запущен с 1 июня, весит 8 терабайт. Вот студия «Мейкер», о которой я говорил, эти молодые ребята, которые сделали и продались почти за миллиард «Диснею», где 67 тысяч креаторов, она делает 90 тысяч часов контента ежемесячно. То есть миллион часов контента в год. То есть это, знаете, какая емкость? Так это просто одна студия. Если взять библиотеки, которые переводятся в эти каналы, все телевизионные компании и прочие бродкастеры, взять создателей еще чего-нибудь, это колоссальная нужда в колоссальной емкости. А что такое трансляция футбола, как это идет сейчас в 4К? Ну, слушайте, трансляция — это тяжелейший контент, любая остальная дата ничтожна по сравнению с этим. Все переписки, смс наших мобильных операторов не поместятся в одну телесерию. Вся дата медицинская, сводок ГИБДД — это все тексты какие-то. Даже если медицинскую взять флюорографию или все прочее — это меньше, чем Инстаграм один будет, со всеми фотками, разумеется. Соответственно, это все несерьезный контент. Тяжелейшим контентом является Media Entertainment Sport, состоящий из трех секторов, — спорт, телесериал, песенки.
Плюс этих секторов, знаете, какой? Примерно 700 миллиардов долларов — Sport. Если мы возьмем Media и Media Entertainment, то в 2017 году только рынок США будет давать 600 миллиардов, Япония — 200 миллиардов, Китай — 200 миллиардов, ну и так далее. Два с лишним триллиона долларов. Если мы суммируем со спортом, то MES на сегодняшний день занимает три триллиона долларов. Рынок. Колоссальный рынок. Три триллиона долларов.
Мы решили сделать такой новый шелковый путь. Это новая стратегия для того, чтобы сделать дата-центры.
Что может российская индустрия предложить? Три пути. Это хранение, это качество обслуживания, это выгодное ценовое предложение. Если мы примерно возьмем хотя бы 3% от Entertainment, 2% от Global Media и 12% от Sport, потому что в спорте мы являемся одной из основных лидирующих стран, поэтому мы можем здесь очень много диктовать, то мы в принципе можем при первой прикладке уйти на сто миллиардов.
Географически мы в очень интересном положении. Дата-центры у нас будут находиться в зоне мерзлоты. «Н+» построил сейчас дата-центры на Красноярской и Иркутской ГЭС внутри земли, внутри электростанции, в холоде. Колоссальные деньги экономятся на охлаждении дата-центров. А так как источник энергии рядом, то себестоимость этих дата-центров настолько мала, что она почти в пять раз ниже дата-центров в Сингапуре, в Гонконге, в Пало-Альто, где температура +30. То есть предложение наше настолько интересно и выгодно, что мы в этом можем серьезно соперничать. Мы можем монетизировать эту историю.
Дальше, мы можем это не только поставить. Можно поставить и в Канаде, и в Гренландии. Но у них нет кодеров, у них нет специалистов IT. И вот тут наши специалисты могут как раз вокруг этих дата-центров, построив технопарки (сейчас у нас 300 технопарков, построенных бездумно), обслуживать вот такие задачи. И, собственно, цена.
Примерно так сейчас выглядит коммуникационная история. Это будет выгодно, интересно.
Развивающемуся рынку Азии сегодня не хватает 500 тысяч кодеров. Мы можем им их предложить, но мы их не продадим, а отдадим под программы.
Планы такие. Монетизировать и показать именно коммуникационную среду. Потому что на сегодняшний день 70% всех коммуникаций в мире происходит на тему MES — Media Entertainment Sport. Чемпионат по футболу, умер Майкл Джексон, вышла новая «Игра престолов». Все, что происходит, весь этот шум, эффект создаются именно вот этими тремя секторами. Так как в Media это еще коммуникации, в Entertainment — это игры, а игры сейчас набирают силу и они начинают сливаться с реальностью, игровая история, то эти три сектора растут с каждым днем. Соответственно, коммуникационные потоки и вот эти все коммуникационные движения могут идти через потоки, которые я нарисовал. Мы их можем встречать и увеличивать наш доход экспорта от IT-индустрии. Вот примерно так. Это уже практические моменты.
Есть форум, который мы образовали, мы делаем его четвертый год. Третий был международным. Мы сделали такую платформу, где мы не только говорим о том, что будет завтра, не только о секторе Media Entertainment Sport (который мы пытаемся поженить с IT и познакомить их друг с другом). Мы еще пытаемся сделать так называемые «духовные скрепы». Мы пытаемся как-то познакомить с современной культурой Азии. Именно с современной. Почему? Потому что очень важен аспект деловых переговоров. Вот мы встретились, кто-то встретился из вас с филиппинцем, бизнес накладывает обязательства, ну вот вы сели, а разговаривать не о чем. Если мы сели с французом, с итальянцем, с англичанином, мы начнем разговаривать о моде, о машинах или еще о чем-то, мы чего-то найдем. С филиппинцем — не о чем. Мы скажем: «Как прекрасно у вас на Бали!». Он ответит: «Бали — это Индонезия». Как-то так, да? И, собственно, не о чем говорить, а важно начать. Допустим, в Японии вообще нельзя говорить в первую встречу о бизнесе. Ты должен идти в ресторан, пить саке или не пить саке, но общаться, говорить и все, просто о бизнесе — нет, нельзя говорить, запрещено. Вот поэтому ты должен о чем-то говорить. Мы пытаемся как-то показать, что происходит.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Как технологическое развитие инфраструктуры влияет на изменение самих коммуникаторных технологий? Что меняется именно в системе коммуницирования, как изменяются форматы и способы восприятия контента?
АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН: Коммуницирование будет всегда. Даже не высокоскоростной интернет будет, будут новые возможности. Сейчас множество денег венчурных брошено на то, чтобы найти не Интернет, как сейчас мы его понимаем, который был в 1960-е годы изобретен, а новые способы коммуникаций. Я уже сказал про Bi-Fi и многое другое. «Эппл» работает серьезно над тем, чтобы все его девайсы коммуницировали между собой и создавали вот эту сетку по миру. Чтобы «Эппл» больше не зависел ни от операторов связи, ни от чего. Есть другие решения. Но все равно это все будет, скажем, не единым, а, так сказать, сотовым. Единственное, что вопрос упрется в передачу больших данных.
Коммуницирование будет. Мы будем видеть большие реальности, разные дополнительные реальности, помимо геолокации и всех прочих сервисов, которые мы будем иметь, мы будем также иметь игры. Игры будут вмешиваться, и мы не будем понимать, где реальность, где не реальность, где игра, а где не игра. Помните, я говорил, что очень много социальных последствий может быть из-за того, что люди будут лишены работы. Будет два типа людей: которые начнут думать и которые будут привязаны к дополнительным реальностям, и они будут счастливы, что сутками сидят в каком-то своем выдуманном мире. Но они не пойдут на улицы, а значит, и не будут оказывать социальное воздействие.
Это способы восприятия контента. Новая система коммуникаций дала нам чувственность. Мы начинаем понимать чувственность. Сейчас уже разрабатываются новые стартапы, чтобы мы чувствовали вкус, звук, обоняние. Но мы уже имеем чувственность. Сама среда уже эмоциональна.
Я помню, когда появились телефоны, люди, когда звонили с аппаратов на улице по две копейки, многие не понимали эмоции. Человек звонит, он говорит: «Да, в шесть часов буду, хорошо». Его спрашивают: «А он как, нормальное настроение?». Он говорит: «Откуда я знаю, какое у него настроение?». Сейчас мы, разговаривая по телефону, понимаем, счастлив человек, несчастлив, доволен или недоволен. Мы видим эти эмоции, то есть мы понимаем эти эмоции. Молодое поколение миллениума, общаясь вот так, полностью чувствует. Это очень важно. Коммуникации дали эмоции.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Какое развитие технологий повлияет на рынок контента? Раньше продавали сам контент. Сейчас контент общедоступен, все платят лишь за эксклюзивный доступ и дополнительные опции. Что нас ждет дальше?
А. Ш.: Я думаю, что контент должен быть бесплатный в основном. Но если контент приносит тебе прибавочную стоимость, он будет платный в какой-то степени. Сейчас мы очень хорошо видим это на примере каких-то сервисов. Как вот Linkedln, к примеру. Пожалуйста, пользуйся бесплатно, вот такие опции бесплатно, но если ты хочешь для работы использовать эту социальную сеть, рассылать по 500 сообщений в день, то тогда ты поделись какой-то своей частью своей прибыли, которую ты получаешь. И это будет справедливо.
Я считаю, что любое придуманное человеком — принадлежит человечеству. Неважно, как ты им пользуешься. Будь это книга, аудиовизуальное, музыкальное произведение или научное. А дальше, если что-то позволяет тебе монетизироваться, то надо делиться, шерить.
Новый контент дает новые инструменты. Начали делать металл — появилась труба. Или свирель научились делать, да? Это инновации. Начали делать орган — появился Бах. Бах не появился бы никогда, если бы не было органа как продукта технологических инноваций. Технологические инновации позволили делать другие шаги: появилось пианино — появился Моцарт, Бетховен. Технологические инновации позволили делать новые виды обработки дерева — скрипки, духовые; появился уже Вагнер. Обработка металлов — саксофоны — появился джаз.
Включили электричество — появилась гитара, появился рок-н-ролл. Пианино включили — получилась диско-музыка, компьютер — получилось много другого. Как только будут новые технологии, новые инструменты, с этими новыми инструментами креаторы придумают новый вид контента. На сегодняшний день мы видим, что это будет, конечно же, добавочная реальность, и это будут игры. То есть смешение реальности, игровых и добавочных реальностей будет создавать новый вид контента. Но мы ждем других технологических решений для этого.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Скажите, а как будет распределяться само рабочее время? Человек спит какую-то часть времени, восемь часов, какую-то часть времени работает, обычно не меньше восьми часов, и ему нужно кушать. То есть фактически еще будет борьба за это время во время рабочего времени? Например, такое явление, как во время работы заглянуть в «Фейсбук» и еще куда-то приводит к тому, что половина рабочего времени работника уходит фактически на продвижение других компаний, и вот рост этого рынка, и фактически средства уходят туда.
А. Ш.: Я спрогнозировал кризис коммерческой недвижимости, который сейчас идет. И если вы посмотрите, сейчас все больше и больше зависает объявлений. Я удивился. Сейчас был на новосибирском «Технопроме», весь Новосибирск в объявлениях сейчас «Сдаем, сдаем, продаем». Зачем нужен офис-то, собственно? Коворкинги? Ну да, какой-то коворкинг — будет место, а офис зачем нужен? Офис становится массово не нужен. Он будет нужен только специфически кому-то для выполнения чего-то. Я понимаю, скажем, госпожу Мейер, когда она пришла в «Яху» и сказала так: «Всем аутсорсерам до свидания, все на базу и работать». Потому что нужен контроль, какие еще аутсорсеры. Но мы как раз и находимся в этот момент турбулентности, когда мы выбираем. А дальше все очень просто. Значит, есть KPI и есть решение. Все. Сделал. Все. Контроль.
А где рабочее время? Кто сказал «рабочее»? Есть позиция. В аутсорсеры кто пошел? Дизайнеры и все прочие. Ты ему поставил задачу, сказал: через три дня мне нужен этот макет. Все, он тебе сделал. За такую-то сумму. Все. Все будет сделано. Мы сейчас имеем, скажем, ресурс «Фриланс.ру», а потом появятся специализированные сервисы типа «Яндекс. Такси». Если мне нужно что-то сделать, я даю задачи для своей позиции, нажимаю кнопку, он раз — и нашел мне подрядчика, который обязуется меня вот от этого адреса до этого адреса довезти за такую-то сумму вот с такого-то времени по такое-то время. И этот сервис будет быстрее работать, чем сейчас. Не как «Фриланс.ру», который надо открыть, посмотреть, подождать. Будет как «Яндекс. Такси»: нажал кнопку и все.
Ты должен сделать нечто в определенном качестве, с определенным результатом, за определенные деньги, все. Нет такого, что ты приходишь и с девяти до шести сидишь на работе. То есть, нет, это постиндустриальное общество.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Каков бюджет ваших IT-дата-центров примерно? Каков порядок?
А. Ш.: Вы знаете, я недавно понял, что я, собственно, всю жизнь занимаюсь какими-то инновациями. Потому что я был участником первого завода оптических дисков, компакт-дисков, о которых все говорили: этого не может быть, этого никогда не будет, и вот эти вот зеркальные пластмасски никогда не пойдут. Я уже был первым, когда кассетный завод ставили. Эти инновационные продукты, которые были, достигали пика, падения и уходили с рынка. Я, оказывается, прожил несколько циклов таких, не-Кондратьевских, но вот каких-то своих инновационных все-таки прожил циклов.
Бюджеты? Смотрите, если мы на сегодняшний день имеем, что бюджет дата-центра, скажем, может составлять серьезно где-то 50 миллионов долларов — в зависимости от стоек, сколько мы поставим (500, 700, 800 стоек, 1000), если мы понимаем, что емкости тоже будут расти… Ну то есть мы помним, когда компьютер был 486, потом «Пентиум», а сначала 64 Commodore был, да? Все же растет, а сейчас у нас мобильный телефон по емкости больше, чем этот компьютер. Соответственно, и емкость стоек растет. Но мы поняли, что примерно минимум семь дата-центров хватило бы на co-location, условно говоря. Желательно одиннадцать, но семь было бы нормально.
То есть отсюда считайте сами.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Я просто боюсь того, что если на технологические протоколы сменится, появятся новые средства, новые свойства, может быть, волн, а может быть, будет космическая группировка давать полный wi-fi всем и вся…
А. Ш.: Согласен, да. Есть такое.
СЛУШАТЕЛЬ 4: То есть я боюсь, что вот это, на мой взгляд, вещи такие рискованные, их нужно очень сильно считать. Ну ладно, бог с ними. А вот еще вопрос: все говорят о креативной экономике, экономике знаний, говорят все и не понимают, что это такое.
Я как-то пытаюсь детализировать. Вот вы говорите тоже какие-то такие вещи, что будет половина контента в цифре ВВП мирового действовать к 20-му году — это ваша, так сказать, информация. А. Ш.: Экономики мировой.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Ну, экономики. И получается, что все будут креативщики? Ну, может быть, да, хорошо. Тогда кто будет этот контент употреблять, кто будет его оплачивать, если все будет такое полубесплатное? Как будет конкретно, детализация вот этого цифрового будущего, такого киберкоммунизма грядущего, поясните, пожалуйста.
А. Ш.: Да, опять-таки начну с первого, о том, что вы сказали, что нужно считать. Ну не только мы будем считать дата-центры, а это будет сразу же и дата-центры, и поддержка, и вот эти решения специалистов. То есть где-то это, возможно, будет чуть-чуть проигрывать, где-то будет компенсироваться, то есть это комплексное решение задачи. Это первое. Второе. Чтобы описать креативную экономику, это примерно 10 лекций как минимум понадобится.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Ну примерно так, тезисно. Потребители, производители контента, кто, бизнес-модель там примерная, то есть как это все?
А. Ш.: Ну вот смотрите. Вы говорите, креаторы. Креаторы — это же не вот эти дизайнеры. К примеру, говоря об этой среде, например, этой молочной фабрики. То есть молочная фабрика, которая будет со своими, собственно, потребителями общаться. Или Red Bull общается со своими потребителями. Какая доля экономики этой молочной фабрики либо сэкономлена, либо ушла в это пространство, можно считать приблизительно. Но опять-таки, скажем, объем того же «Яндекса» по сравнению с другим медиагигантом был понятен, это все-таки цифровая экономика. Кто будет покупать? В этом и будет монетарность, новые системы монетарные. Но опять-таки это, как минимум, на десять лекций. Вот биткоины, новая фантом-валюта — это такие предтечи существования неких взаимозачетов. Не бартеров, а каких-то других совершенно отношений. Кому-то нужно услуги по рекламе продать, и за это он воспользуется каким-нибудь, не знаю, онлайн сервисом, купит, продав что-то. Это достаточно взаимозависимая экономика.
Вот для меня были очень интересные цифры, что, по-моему, 14% мировой энергетики тратится на пищу. Я удивился сначала, а потом начал думать: конечно, да, потому что пищу нужно посадить, это зерно, его нужно вскопать, его нужно доставить, его нужно хранить, его нужно перемолоть в муку, муку нужно доставить, и только потом из муки можно, собственно, на плите приготовить, блины. А на самом деле, энергетика-то составилась от зерна или от вспахивания земли до этого. 14% энергетики тратится на еду. А выбрасывается 9% еды, то есть представляете, сколько процентов энергетики выбрасывается? Мы едим, заказали в ресторане, не доели половину, выбросили — охамели совсем.
Как будут развиваться эти 46% цифровой экономики? Да примерно так же. То есть многие будут пользоваться услугами внутри этого, не выходя, по методу китайской диаспоры. Какая-то часть будет иметь наружную историю. Та же еда будет иметь большую долю — продукты питания, ресторанный какой-то сервис, они будут пользоваться этой средой достаточно. Я не только про доставку пиццы, много чего другого появится. Какие-то цифры нужно сказать? Давайте я какие-то цифры вам скажу.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Ну не цифры, а, хорошо, а вот что будет с промышленным сектором в новой креативной экономике? Это будет 3D-принтер?
А. Ш.: Ну да, это будет вариацией, скажем. То есть то, что мы называем сейчас 3D-принтером, — это некая, конечно же, история вариации новых форм, скажем, передачи данных на расстоянии или формирования данных по задаче и по идее, формирование, вернее, не данных, формирование продукта. Будет ли это иметь 3D-принтер, или будет иметь некий другой механизм, который будет воссоздавать, например, кирпичи для строительства дома или еще что-то. Конечно, очень много. 70% всех продуктов будет воссоздаваться неидустриальным путем.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Такое ощущение, что параллельно с этим все равно будет развиваться все, что связано, я грубо скажу, со сферой услуг и со всем, что связано с личным контактом. Потому что можно сколько угодно смотреть ролики, но все равно ты будешь хотеть, чтобы массажист у тебя был, не знаю, умел чтото делать руками; чтобы повар, который приготовил тебе блюдо, был шефом…
А. Ш.: Я услышал. Нет, нет, не будет. Потому что как только будет создание абсолютных чувств, как я сказал, что есть чувственное, мы работаем сейчас над этим и я думаю, что половина людей совершенно спокойно выберет себе не то, чтобы массаж сделала обычная девушка, а массаж сделала Анджелина Джоли. Он будет уверен, что это так, понимаете?
И все. А зачем вы будете разубеждать?
У меня есть такая статья — «Вечная жизнь» называется. Когда я рассматриваю, как мы можем приближаться к вечной жизни. Потому что вечная жизнь — это ведь… Что такое жизнь? Это набор наших ощущений, больше ничего. Что такое вечная жизнь? Это означает, что мы хотим прожить еще одну жизнь, или долго, или сколько-то, да? Если мы знаем по книге, что первые праотцы жили по 900 лет, 980 лет. Они жили, или это ощущение, или что? Наши ощущения, понимаете? Если мы будем проживать какую-то жизнь с емкостью каких-то ощущений, которые мы хотели, за одну ночь, за один день или еще что-то, то, собственно, где граница.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Те, кто не могут себе это позволить, — да. А те, кто могут? И то же самое с точки зрения образования.
А. Ш.: А тот, кто может, они будут жить все-таки в реальности, условно говоря, имея дополнительную реальность. Поэтому я и сказал, что мы находимся в новой совершенно среде обитания, которая будет, так или иначе, в той или иной мере мы будем в нее погружены. В той или иной мере. Точно так же, как мы в той или иной мере пользуемся электричеством (каждый из нас не одинаково же пользуется), в той или иной мере мы пользуемся транспортными средствами какими-то разными, то есть в той или иной мере мы будем находиться в этой дополненной реальности, в новой среде обитания, которая будет естественной уже для наших детей. Она естественная, только она будет улучшаться, как улучшается электричество и отличается уже от этой лампочки Ильича, конечно же, серьезно: и дизайном, и качеством, и всем прочим. Так и здесь будет это абсолютно все.
Но я могу сказать, что добрая половина с удовольствием будет погружаться вот в эту среду. Причем даже погружаться не будут, она здесь, ты должен только ее впустить, как веру. Духовная это вещь, не духовная, не мне судить, условно говоря. У меня есть ответственность только за собственную душу, я не знаю по отношению к другим. Но то, что это сильно будет менять все, и создает образ совершенно другого человека. То, что происходит сейчас с миллениумом или с детьми миллениума, настолько дальше, чем времена наших бабушек при лучинке, что уже не сможем этого понять, но это данность.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Тогда, если можно, еще два слова про элиты. Потому что такое ощущение, что вы хотите сказать, что их не будет.
А. Ш.: Нет, не будет. А что такое элита? Та, которая имела физические возможности чего-то, да? Вот что она будет иметь из такого, чего нельзя напечатать на принтере или представить?
СЛУШАТЕЛЬ 5: Не иметь, а… Вот когда мы рассуждаем про те же самые медиа, мы все равно подразумеваем тех, кто больше, условно, потребляет, пускай даже это будут не материальные продукты, а что-то, к чему ты подключаешься и так далее. Все равно же не все будут генерировать контент, который будет интересен миллионам и миллиардам. Большинство будут продолжать играть в игры, которые проектируют другие, смотреть ролики, которые снимают другие и так далее.
А. Ш.: Нет, такого не будет. Дело в том, что в новой среде ты становишься участником. Ты не будешь смотреть, ты не пассивен, ты в той или иной мере становишься участником. Вернее, так: у тебя есть возможность стать участником. Ты можешь отказаться от этого, и не быть, и выбрать, знаете, как в групповой любой вещи можно, в общем-то, отказаться. Поэтому, собственно, и здесь так же можно в уголке посидеть. Но суть в том, что у тебя есть такой выбор и все. Если сейчас у тебя нет выбора, ты получил Play Station и играешь на ней, то там у тебя будет полнейший выбор, собственно, получить не только свои 15 минут славы, но, в общем-то, и 15 минут всего остального.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Знаете, очень хочется вот к той вашей части, которая связана с творчеством, с музыкой. Вы наверняка думали про будущее и глобализацию рынка контента. Вот такой вопрос первый: почему наши группы, музыкальные коллективы с трудом выходят на международный рынок, а если брать, допустим, западных исполнителей, они все с успехом у нас гастролируют, мы их любим, слушаем, то есть их контента у нас очень много. Вот первый вопрос: почему наши там с трудом прорываются? Единственный прецедент, который я знаю, более-менее успешный на международном рынке — это проект «Тату», который более-менее как-то так хорошо сыграл.
А. Ш.: Две вещи. Мы являлись и являемся безоговорочными подражателями, а кому нужно в Тулу со своим самоваром ездить? Во-вторых, существует международное распределение труда. Понимаете? Труда. Наверное, смешно было бы ехать в Финляндию во время пика «Нокиа» и попытаться организовать там мобильное производство телефонов, да? То есть существуют определенные рынки труда.
На сегодняшний день у нас существует четыре core industry, на которые мы допущены и имеем возможность выйти на глобальные рынки труда. Вот здесь мы можем иметь возможность. Рынки, о которых вы говорите, — это не наши рынки, нас никто туда не звал, не ждал и все прочее. Международные рынки распределения труда являются очень серьезным моментом. То есть ты, собственно, не торгуешь семечками, а я не выдаю кредиты.
СЛУШАТЕЛЬ 7: А как вы планируете убедить людей, которые будут работать в «Новом шелковом пути» (New Silk Road), оставаться в этих точках? Ведь сейчас есть эффект, когда программист, выучившийся чему-то, сразу едет либо в город Москву, либо напрямую в Силиконовую долину.
А. Ш.: Что может привязать человека к точке? Работа. Заказ. Централизованный заказ — ты получил его и делаешь, ты не думаешь, ты не аутсорсишь, но при этом у тебя есть свободная точка, ты можешь поработать здесь, ты не приходишь с девяти до шести, ты можешь поработать, ты можешь уехать. В Сибири любят уезжать в Таиланд поработать. У нас у Фонда 120 человек работает в Таиланде сейчас, пишут. Полгода поработали, отъехали. Они все равно привязаны к заказу. Они все равно являются резидентами, они выполняют поставленные задачи. Они все равно привязаны к этому, заказ является привязчиком здесь.
СЛУШАТЕЛЬ 7: То есть это виртуальные технопарки?
А. Ш.: Нет, это реальные технопарки.
СЛУШАТЕЛЬ 7: Там нет людей?
А. Ш.: Почему? Есть. Конечно, есть. Есть, но это не значит, что все три тысячи человек приходят как штык. Ты можешь отъехать, ты можешь подъехать, то есть это нормальные вещи. Все равно, какой бы ты ни был, знаете, полгода прожить в Таиланде почти невозможно.
СЛУШАТЕЛЬ 7: То есть это как динамическая система?
А. Ш.: Да. Но если у тебя будут заказы в Таиланде, ты будешь сидеть в Таиланде. Если ты обеспечиваешь заказами, привязываешь заказами, создаешь вот эту солнечную систему, когда есть нечто в центре и остальное все движется, не приближаясь и не отдаляясь. Эта солярная система очень важна, она сильнее, нежели вертикальная система власти. Все, что сейчас есть в мире, будет именно переводиться в солярную систему, и мы будем взаимозависимы.
СЛУШАТЕЛЬ 8: Вы говорили, что элиты как бы не будет. Но вот если рассматривать современный мир, то элита — это те люди, которые что-то контролируют. Правильно? В данный момент. Или же, например, правительство. Все, кто около него, — это некая элита государства, считается. Не окажется ли такая ситуация, что элитой как раз станут те, у кого будет рубильник электричества, кто может отключить всю эту дату, которая идет пользователям, и где они проживают свои виртуальные миры и виртуальные жизни?
А. Ш.: Дело в том, что мы сейчас живем в гиперсвязанном мире. И отрубить мы можем, допустим, как в Китае, «Фейсбук» или YouTube отрубить, но на сегодняшний момент отрубить какую-то, условно говоря, цепочку полностью из всего этого — обесточить — это примерно как выстрелить себе в ногу. То есть на сегодняшний момент это такой организм, который начинает самоотвязываться, отвязываться и начинает расти, и все, в общем-то, понимают, что никто не хочет зависеть от точек питания. И вот человек, который сидит и контролирует вот это все, в дальнейшем становится совершенно бессмысленным. То есть фильтры, которые могут быть в социумы заложены изначально, они могут быть абсолютно, скажем, контролируемы таким большим искусственным интеллектом, который в результате больших данных и будет образован.
СЛУШАТЕЛЬ 9: А не получится ли так, что те люди, которые создают вот этот виртуальный контент, фактически становятся конкурентами наркомафии либо производителей алкоголя? Ведь те, кто сейчас погружается в виртуальный мир, выпивая бутылку водки или принимая героин, фактически они будут погружаться в виртуальный мир и давить на те же самые органы, только без водки, без героина, а просто за счет привыкания к жизни в этом виртуальном мире.
А. Ш.: Я могу сказать, что человека мы не изменим. Быстро не изменим. Есть пороки, в которые человечество погружалось в какой-то степени. Избавиться в новой среде от пороков мгновенно, наверное, не получится, но я верю в то, что изменение это произойдет. То есть при изменении монетарной или другой системы будет ли система погружения вот в эту виртуальную реальность заменяющей наркотики и алкоголь? Возможно, для кого-то будет, конечно.
СЛУШАТЕЛЬ 10: Очень много точек контента, про который вы сказали, очень большой объем, очень много пользователей, которые его создают. Насколько, по-вашему, ситуация управляема, и насколько общество, насколько ситуация управляема с точки зрения всяких вбросов и создания тем, для того, чтобы 99% о чем-то говорило, чего-то думало, чего-то смотрело? То есть это прогнозируемая и управляемая ситуация или в принципе неуправляемая?
А. Ш.: Да, я понял. Это прогнозируемая и управляемая ситуация, если ты не перебарщиваешь. Каждому народу или каждому поколению нужен свой Моисей, который водит по пустыне куда-то там. Чего по пустыне водили 40 лет народ и все прочее? Для чего-то водили, оказывается. То есть он же тоже управлял. Собственно, вот он хвост, который водил собаку. Если у поколения нет своего Моисея, то я не знаю, что у него там есть.
Как работают с будущим — от трендов к прогнозу и дорожной карте
ЛЕКЦИЯ 08 18/07/2014

руководитель направления «Макроэкономика», Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Часто говорят, что наша страна — это одна из немногих стран, где не институционализирован поиск будущего, в отличие от Китая с его не слишком понятными, но, несомненно, действенными мерами по долгосрочному развитию. Там есть специальные институты, которые этим занимаются в системе Академии наук и в системе КПК. В отличие от европейцев, у которых это все имеет больше заклинательный характер, в отличие от айсбергообразных (10% открыто, остальное закрыто) американских документов. Дескать, мы этим не занимаемся вовсе. Это не совсем так. В России на этот счет сложилась определенная практика. Причем она формировалась одновременно из двух направлений: с одной стороны, деятельность началась с Минэкономики России, которое отвечало на вопрос господина Фрадкова: а что мы тут напринимали в виде пакета стратегий, что это все значит? Через три года интенсивной работы, где-то в 2004–2005 годах этот вопрос был задан. В ноябре 2008 года, вдруг среди кризиса, была утверждена Концепция долгосрочного развития до 2020 года. Но разрабатывалась она на 15 лет вперед. И тогда это был еще не ведомственный документ, а действительно документ, в котором пыталось государство взаимодействовать с экспертами, пыталось сказать, какое будущее оно хочет.
Там получилось все не очень хорошо, потому что бюрократический механизм старается такие вещи отсекать. Это все гибнет на стадии согласования. Тем не менее, заход был сделан. Но и, кроме того, будущим интенсивно занимается Минобрнауки, которое разрабатывает технологический прогноз. Причем в России впервые была поставлена задача совмещения форкаста и Форсайта. Традиционного форкаста, который разрабатывается экспертами или с применением методов, или экспертного видения, или Бог весть чего еще. И, в общем, он всем хорош, если делается квалифицированными людьми. Кроме того, что совершенно непонятен конечным пользователям, зачем конечным пользователям нужен тот список технологий, направлений развития или чего-то еще, который какие-то эксперты нарисовали. Эксперты сами не отвечают за то, что напридумывали, кроме того, что там почти всегда есть строчка, что надо и дальше «заниматься долгосрочным прогнозированием». Понятно, любой эксперт, который этим занимается, это и скажет.
С другой стороны, есть европейский форсайт — организованное взаимодействие государства, экспертов и участников технологического процесса. Сейчас он уже в экономику пошел и в сферы общественной жизни. Начиналось все с технологий, когда государство неким путем погружения друг в друга себя и участников (ученых, бизнесменов) пытается понять, чем собираются заниматься ученые, поставить этих господ бизнесменов в ситуацию, что ученые хотят заниматься вот этим, ученых загрузить тем, что нужно бизнесу. Все это хорошо. Но в условиях нашей страны быстро выяснилось, с одной стороны, что хорошо, если у бизнесменов горизонт планирования — 3–5 лет, а дальше им просто все равно, ну не планируют они дальше! Там рекорд был, когда в одном из запросов выплыла, как подводная лодка, информация о том, что электроэнергетики ждут термояда в 2025 году. Потом звоню: «Откуда у электроэнергетиков такое глубокое видение?» — «Ну как, мы в конце опроса поставили, а вдруг термояд, а они ответили, может быть, и будет». Понятно, что они 5 лет просматривают, а дальше, что термояд, что вторжение инопланетян, что апокалипсис — вне поля зрения. Ну, если эксперты говорят, что термояд, мы ж не против, давайте не будем обижать, напишем.
Во-вторых, господа ученые хотят заниматься всем. Быстро стало понятно, что раз это делает Минобрнауки, значит, это будущие деньги, а поэтому надо застолбить все темы, которые у нас есть. Рекорд тут поставила Академия наук. В одном из их документов все технологические направления делились на 3 категории. Это направления, по которым мы отстаем, и нужно дополнительное финансирование, ведь мы отстаем и надо догонять. Второе — это направления, где мы находимся, в целом, на уровне, и нужно дополнительное финансирование, чтобы этот уровень превысить. И третье направление — по которому мы лидируем, и нужно дополнительное финансирование, чтобы лидировать и дальше.
Действительно, люди сами от себя никогда не говорят, что наше направление вообще никому не нужно в наше тяжелое время и мы отстали настолько, что мы не понимаем, что там происходит. На индивидуальном уровне сколько хочешь такого, а на уровне коллективного сознательного такого никогда не будет. И ФЦП появляется в 2004-м или 2005 году. Лично вычеркивал создание российского 495-го процессора. Кто помнит те времена, уже был Pentium II, а тут создание российского 495-го процессора сразу с отставанием на 10 лет. Нормально, да?! Люди же должны чем-то заниматься…
Поэтому пришлось что-то с этим делать. И в России появилась специфическая технология, о которой я сейчас буду говорить. Заранее скажу, что мы рассказывали нечто подобное, мы отчасти в это играли когда-то на Форсайт-флоте. То, что я говорю сейчас, это такая немножко развернутая апдейт-версия того, о чем шла речь тогда. Это исследование того же самого Минобрнауки с теми же постановками, часть материалов оттуда взята.
Сначала ученые формируют прогноз, начиная с выделения более-менее безусловных трендов, то есть те тенденции, которые мы видим на горизонте. Но сейчас у нас горизонт — 2030 год, и начинается пристрелка к горизонту 2040 года. Те тенденции, которые мы видим, формирующиеся или сформировавшиеся, или которые путем мозгового усилия, мы полагаем, будут формироваться.
Понятно, что чем дальше мы идем, тем сильнее размываются текущие тренды, связанные с финансовым дисбалансом: потребление, долги в Америке, производство и сбережение в Китае. Это как-то, но решится. Зато по-настоящему встает проблема климата. Правда ли у нас идет потепление, и если идет, то почему? Это антропогенный фактор или это климатический цикл многомиллионнолетний, там просто очередная подфаза приходится на наше замечательное время, к чему это приведет и так далее. Чем дальше, тем больше. В полный рост встают вопросы верификации игроков, их долгосрочных программ. Здесь еще эта работа была только начата, мы собираемся позаниматься этим. Встают вопросы, что может по большому счету произойти с технологиями за пределами. Хорошо работают на горизонте 2020 года, 2025 года, 2030 года. На самом деле, сейчас более-менее видны те технологические направления, которые будут. Мы не можем угадать технологию. Кто мог сказать про какой-нибудь 3D-принтер? В принципе, крупные направления финансирования более-менее видны. Можно ожидать, что будут в ближайшей перспективе некие прорывы в энергетике в том или ином направлении (сейчас я буду об этом долго говорить). И, наконец, на горизонте с конца 2020 — начала 2030-х годов, видимо, свое слово скажет биомед, причем скажет так, что мы все это почувствуем. Это просто в силу того, что в этих сферах идет достаточно большое финансирование и государственное, и частное. Это видно по структуре венчурного финансирования, по тому, кто выходит на биржу с новыми фирмами, которые там начинают котироваться, и так далее, я уже не говорю о государстве. Поэтому если в сферу идут деньги, скорее всего, что-то там произойдет — в сфере начинают работать инженеры, есть ожидания.
Гораздо более сложный вопрос, что будет происходить на горизонте 2050 года, начиная с 2040-го. К чему может привести нынешнее технологическое развитие на фоне будущих вызовов? Тут уже начинается искусство. Но пока мы говорим в поле 20–25-летнего прогноза, мы, в принципе, можем спокойно работать в логике основных тенденций и основных сценариев. То есть тенденция — штука более-менее фиксированная, там неопределенность маленькая, можно ее оспаривать или можно говорить, что есть другая тенденция, которая побьет эту.
Основные сценарии, в которые мы упаковываем неопределенности, связаны с тенденциями. Вот это будет затухать, вот тут у нас есть «черный лебедь», который может нам всю картинку сломать. Потом мы от этого аспекта идем с учетом позиций игроков к сценарным параметрам. И дальше, учитывая ситуацию, соответственно, можем говорить даже о количественных расчетах и в конце о том, что делать.
Главная задача моего выступления, главная тактическая задача — показать эту схему. Потому что трудно сказать, насколько вам нужно будет работать со всякими штуками, связанными с активным временем, с экзистенциальными вещами и прочим. А такие простые вещи, связанные с долгосрочным анализом, с техниками должны быть просто как один из элементов интеллектуального инструментария, скорее всего.
Итак, мировые тренды. Основные — геоэкономика, энергетика, демография. Самый интересный — это глобальное старение населения. Важно, что впервые этот процесс захлестнул не просто отдельные регионы, но с разной интенсивностью возник почти везде, кроме отдельных арабских стран и стран Африки, в том числе и в Китае — это важно.
Следующий сюжет с формированием нового среднего класса. Расползание среднего класса и его переформатирование. Превращение общества из структуры, которая держит средний класс, в такую как бы гантель: все более тяжелый низ — новые бедные, и все более тяжелый верх — новые богатые с истончением среднего класса. Это очень интересный и очень важный процесс. Он, похоже, имеет некие шансы зафиксироваться. Диффузии и перспективы передовых технологий. И, наконец, вещи, связанные чисто с экономикой и с проблемами обороны.
Геоэкономика. Самое интересное, что сейчас происходит два процесса. Точнее, я бы сказал, один, но он многоликий. Мы привыкли мыслить, что общество представляет собой эдакую русскую матрешку. В развитых странах есть средний класс, который структурирует разделение на составляющие матрешки. Это лица, имеющие достаточный капитал, человеческий или финансовый — любой, который позволяет им заниматься и жить, исходя из этого капитала. Здесь и квалифицированные рабочие, у которых квалификация — человеческий капитал, и инженеры, и бизнесмены, и офицеры. У кого человеческий, у кого финансовый капитал, но он существует. Здесь у нас традиционный пролетариат, который за станком крутит рукоятки, а также новый офисный пролетариат. У нас на Болотной произошла первая революция нового пролетариата. Посмотрите, это классический марксовый пролетариат с отчуждением, у него отечества нет. Раз — и возник просто так. А здесь у нас элита. Рента. Там своеобразное рентное поведение.
А сейчас мы неожиданно обнаружили, что к середине первых 2000-х годов начинается преобразование вот в такую конструкцию. Вот сюда начинают скатываться в результате деиндустриализации, и вот сюда. Это новые богатые. Это на самом деле прямой результат глобального процесса, когда у вас производство переносится в АТР. Но это не только мигранты. Понятно, это еще немецкие рабочие. И возникают те, которые в Америке собирают интеллектуальную ренту. Это поколение доткомов. Мы смогли что-то изобрести, это что-то производят в Китае. Но нашего капитала достаточно для того, чтобы жить не здесь, постоянно крутясь, а существовать на проценты. Это очень странно. В свое время американцы за голову держались, потому что новые молодые богачи ломали некие представления о том, как человек должен себя вести. Потому что в 25 лет, в принципе, решены задачи, которые в норме рисуется 60-летним.
Баланс потребления и долг. Институты — в Штатах и на Западе, производство и сбережение — в Китае. Очень интересная конструкция, достаточно напряженная. Результатом вскрытия этой конструкции стало постепенное формирование двух целостных или нескольких новых конструкций. Но в России мы пока видим две. И слабую попытку построить свою третью целостную систему. В Штатах — реиндустриализация, достройка индустриального этажа. Нечто подобное уже декларировалось европейцами до кризиса с идеей задействовать индустриальный потенциал Восточной Европы как относительно дешевый индустриальный мотор для хай-тека. Заметим, что в Германии производство сохранили. Под все крики о постиндустриализме в Германии нет крупнейших экспортеров промышленных товаров, причем по всему спектру. Была идея часть производства вынести в Польшу, в Чехию и так далее, укрепить индустриальный сектор. Параллельно запускались европейские технологические платформы. Из-за кризиса это не вполне получилось. И в этом, кстати, один из сюжетов украинского кризиса: «укр-оптимисты» полагают, что Украина может стать новым индустриальным пригородом европейского города, и для этого очень нужен Донбасс, потому что там заводы. А «укр-скептики» справедливо (или несправедливо) указывают, что вряд ли у них получится, потому что кризис, денег нет, где-то конкуренция, и понадобится, скорее всего, рабочая сила. Эти самые заводы закроют. Поскольку донецким страшновато, когда на них играют в рулетку, у них породило прямолинейное, но очень естественное желание защититься.
Вокруг вот этой конструкции наложилась еще регионализация рынка энергоносителей. Три года назад был первый доклад российского аналитического агентства, которое обнаружило, что рынки и нефти, и газа в силу возникновения сланцевого газа и развития рынка СПГ становятся не более плоскими, а более региональными. Есть американский рынок нефти, базирующийся в Латинской Америке, и теперь уже американский рынок газа, базирующийся в Канаде и сланцевом газе в Штатах. Нефть Персидского залива — отчасти наша; газ Африки — отчасти наш. Немножко Северного моря. И формируется такая энергетическая конструкция вокруг Китая. На самом деле, глобальность рынка энергоносителей преувеличена. Теперь, складывая 2+2, мы обнаруживаем, что одновременно у нас идет и регионализация производства, и регионализация глобальных рынков энергоносителей, и одновременно возникают сюжеты с формированием макрорегиональных валютных союзов — это ВТР, в первую очередь, и попытка стабилизировать евро. Отсюда можно сделать вывод, что очень длинный тренд на этих слабых или уже не очень слабых сигналах. Очень длинный тренд, скорее, на регионализацию внутри глобальной экономики, на формирование очень крупных глобальных центров силы, которая сохраняет основные ключевые компетенции внутри себя: энергетические, технологические, производственные и так далее.
Самое интересное — с энергоносителями. Там одновременно растут и инвестируются целых два крупных пакета, которые могут сломать ситуацию. С одной стороны, это традиционные углеводороды, сланцевая революция, добыча тяжелых и трудноизвлекаемой нефти (баженовская свита), газовых гидратов и так далее. Самое интересное — это газовые гидраты, потому что японцам удалось добыть с год назад первую опытно-промышленную партию. Проблема в том, что газовые гидраты — это повсеместно распространенное сырье. Сейчас добыча даже в плане энергии, не то, что денег, стоит дороже, чем вы получите от сжигания того, что получится. Но технологии на месте не стоят, это может быть просто революция.
И вторая тема — это новая энергетика. Здесь в первую очередь весь комплекс вопросов, связанных с нанофотоникой, — с прямым преобразованием солнечного света в электричество на базе эффектов наномасштаба. Славу богу, мы сейчас пытаемся впрыгнуть на этот поезд, наша страна начинает соответствующую инициативу.
И создание супераккумуляторов. Проблема в чем? Понятно, есть годовой цикл, причем он трансформируется — внезапно у нас возник второй пик. Раньше был один — зимний, сейчас у нас еще летом — кондиционеры у всех. Есть цикл внутри суток. Причем это все хорошо обсчитано энергетиками, куда все это движется, когда включатся заводы, когда начинается бытовое потребление. Понятно, что для того, чтобы у нас не было блэкаутов каждый день или каждый месяц, мы должны иметь (это все на фоне большого цикла) мощности, которые у нас выше годового цикла, плюс выше суточного, еще с запасом. На этой картинке мы должны иметь где-то вот здесь запас мощностей генерирующих и транспортных. Но если мы сможем срезать хотя бы вот это (у нас будут электромобили, которые можно ночью заправить, сутки едите — у вас еще половина останется, чтобы не застрять на дороге), то мы сможем вот эту часть, по крайней мере, убрать. Ключевая проблема — суточный цикл. Здесь вы можете управлять мощностью в АЭС, здесь у вас мощности у ГЭС, а суточный цикл только на запасах мощностей. Вы сможете половину убрать — это очень много. И тогда, соответственно, меняется спрос на топливо, потому что суточный цикл на тепловых станциях — в значительной мере на газе. АЭС для это плохо приспособлена, а ГЭС не приспособлена вовсе. Это не разговор об удобстве жизни в новом мире, а разговор о потреблении энергоносителей, это экономия, которая вызывает на самом деле снижение спроса.
Должен сразу сказать: нефти хватит, ресурсов хватит, как и металла. Но ресурсы становятся более дорогими. Хорошая новость в том, что норматив 30-летних запасов сохраняется. То есть он будет весь обозримый период, у компании будет запас нефти на 30 лет вперед. Выше — считается избыточным. В 70-е годы был доклад о пределе роста, что нефти всего на 30 лет осталось. Вот сейчас ее примерно на 30–35 лет, только нефти гораздо более дорогой. Сланцевая нефть пока существует в основном на дотациях и на том, что ни разу не произошло экологической катастрофы. Китайцы начинают осваивать, у них нравы попроще. И проблем может в связи с этим больше в сфере экологии. Но и все остальное. Есть огромные запасы битуминозных песков в Канаде. Их можно добывать, есть там минимум два НПЗ. Но они рентабельны при устойчивых ценах на нефть больше 100 долларов за баррель. То есть они сейчас уже становятся рентабельными. Есть огромные запасы «тяжелой» нефти, в том числе у нас в стране. Есть не очень понятная, но перспективная технология с «глубокой» нефтью (баженовская свита). Но это, мягко говоря, капиталоемко.
То есть хорошая новость, что нефти хватит, плохая новость про то, что это будет дорогая нефть, судя по всему. Вот тут разговоры о том, что целый ряд граждан прогнозируют цены (причем фиксированный доллар 2009–2010 годов) выше 100–120 долларов на 2035 год. При этом понятно, что все остальные граждане занимаются энергоэффективностью. Причем это уже не тема развитых стран, которые перепихивали в развивающиеся всякую черную металлургию и химию, это уже тема всех. Эластичность экономического роста по энергии примерно у всех одинаковая.
Очень интересный побочный эффект, мой любимый — коллективное безумие европейцев. Они там боролись за декарбонизацию энергетики, а также против «Газпрома», за то, чтобы сэкономить бюджет. В результате декарбонизации у них резко возросли поставки угля из Америки в Европу, который высвободился в Штатах в результате сланцевой революции. Это, на мой взгляд, выдающееся достижение европейской демократии, просто надо в рамочку брать. Правду сказать, и технологии сжигания угля сейчас резко продвинулись вперед в плане энергоэффективности и в плане сохранения зольных остатков. СО2 они все равно выбрасывают, но, по крайней мере, зольные можно оставлять внутри этого агрегата.
И та же самая ситуация с обеспеченностью запасами металлов и с тем, что цены, в принципе, подстраиваются под ожидаемые объемы добычи. На этом фоне у нас разворачиваются процессы, о которых мы говорили. Меня попросили сказать, причем тут Россия. Мы можем немножко потеснить США и Китай и на базе наших энергетических преимуществ, и на базе нашего хайтека. Во многом ради этого на самом деле делались 1990-е годы в 1980-е.
Мы способны занять место между Европой и Китаем, над Китаем, производить то, что по состоянию на 1980–1990-е годы китайцы точно не могут, а мы умеем — делать самолеты, реакторы. Тем не менее Китай ведет свою технологическую революцию. Он эту нишу почти занял. Одновременно Штаты пытаются производить свое, европейцы выдавливают или хотят выдавливать китайцев вниз. Где мы и с точки зрения производства технологической продукции, и в силу роста энергоэффективности, где мы как источник сырья — вот это главнейшие стратегические вопросы. Вот это экономический вызов — можно ли попытаться влезть между Европой и Китаем? У Китая доля расходов на НИОКР постоянно растет. По состоянию в докризисный период доля высокотехнологического экспорта по паритету (по паритету, потому что внутренние цены несопоставимы) в Китае почти линейно росла, в то время как в мире там все происходило очень-очень по-разному. Заметим, что в Германии уровень устойчиво высокий, а у нас он устойчиво низкий. И одновременно в Китае фактически возник на глазах у изумленной публики довольно приличных размеров венчурный рынок. Конечно, не как в Америке, но сопоставимый с европейским. Китай — коммунистическая страна, если кто забыл. Тут очень важный момент, потому что китайцы сами перед собой ставят задачу, они, правда, ее не вполне решают: перейти от улучшенного копирования к производству полностью на своей базе.

Улучшенное копирование (мой любимый пример) — это как китайцы получили лучший в мире танк Туре 99. Берется Т-72. Откуда берется, точно не знаем, мы им не поставляли его. Обнаруживается, что хороший танк, неплохая подвеска, броня слабая, особенно башня плохо забронирована, еще пушка дурацкая, ресурс — 10 тысяч выстрелов. В мирное время столько не надо, а в военное — танк столько не проживет. Где-то крадется лучшая в мире английская композитная броня «Чобхэм». Полностью переконструируется башня под эту английскую бронезащиту. Низ оставляется наш, но только двигатель немецкий, потому что у нас двигатель слабый — 900 лошадиных сил. Меньше тысячи иметь неприлично в наше время. Запихивается немецкий двигатель. Берется английская броня. Наша пушка разгоняется под новый боеприпас, раз в 10 снижается ресурс, зато становится одной из самых мощных пушек в мире. Система управления оружием поставлена американская, прочую электронику — с миру по нитке, в том числе и нашу. На основе такого «где украдем, где купим» получается вполне. Да, он не прорывной, ни одного технического прорыва там нет. Вот введется «Армата» у нас, кажется, мы весь мир обгоним. Но на текущий момент это едва ли не лучшая машина в мире. В принципе, ничего там прорывного нет. Ребята понимают, что так жить нельзя. И следующий рывок — это попытаться создать производство на базе полного цикла НИОКР, даже полного цикла с учетом фундаментальной науки. Пока с этим у нас мало, что получилось. Пока не очень получаются попытки скопировать что наш реактор, что французский. Не получилась программа по созданию регионального пассажирского самолета. И немедленно возникла тема сборки в Китае Superjet без всяких внутренних проблем. Есть, правда, рывок в военной авиации. Но там не очень понятно, насколько он на собственной базе, насколько — на базе утечки технологий от нас. Хотя рывок в этом, несомненно, есть.
Второй крупный процесс — это то, что одновременно растет доля пожилых людей. Причем это процесс во всем мире. Сейчас в Китае избыток сбережений. Результатом политики «одна семья — один ребенок» стало то, что пожилых больше. На нее еще наложилась урбанизация. Китай от этой политики отказался. Но обнаружилось, что в условиях Шанхая, ровно как в условиях Нью-Йорка и Москвы, иметь второго ребенка малорентабельно, а третьего — сумасшествие. Скажу честно, я жду четвертого, но я идиот. Базу они сами себе подкопали, когда еще могли иметь многодетные семьи. В этой ситуации вопрос, что будет быстрее: Китай выйдет на определенный уровень благосостояния или их накроют социально-демографические проблемы, связанные со старением. Это проблема не Китая, это проблема остального мира, кто будет покупать чужие долги.
На этом фоне возникает проблема избыточного населения с высшим образованием. Если производство размещено в Китае, если растет нагрузка за счет пожилых, то почему 60% в Штатах или 90% в России, или 70% в Японии населения должны иметь высшее образование, и что это значит, что 60–70–80% населения имеет высшее образование? Это ресурс или это бремя? Ради бога, это ресурс, но тогда должны давать образование, которое по эффективности позволяет стране оторваться от того же Азиатско-Тихоокеанского региона. Вы можете иметь большие социальные программы, если у вас большая технологическая рента. Но мы тратим технологическую ренту на социальную жизнь и живем. И большая проблема в том, что социальная рента начинает истончаться.
Растут доходы. «Возрастная каторга 20–64» начинает загибаться, причем отнюдь не за счет молодых. На этом фоне главный сюжет текущего периода — будет ли технологический рывок, и каким он будет. С одной стороны, технологический рывок всем нужен. Он нужен развитым странам, в первую очередь Штатам, для того чтобы создать этот самый запас ренты. И за счет этого жить, как сейчас, с большим объемом социальных гарантий да еще с формированием собственных производственных систем. И еще вдобавок с регулируемым военным преимуществом: где хотим, там и имеем.
Он нужен Китаю по описанным причинам, плюс — по неописанным. У них чуть больше собственных проблем, которые из мировых трендов не решаются, типа транспортной доступности, разработки истощенных природных ресурсов и так далее. С другой стороны, любой кризис — это кризис доверия, и кризис еще не преодолен. Кризис очень сильно ударил как раз по венчурному финансированию, по финансированию крупных проектов. Вдобавок в Штатах дважды провалились крупные проекты по выходу из кризиса за счет технологического рывка. Первое создание «зеленых технологий» не дало такого эффекта. Второе — в военной продукции создание массового дешевого истребителя F-35. Он получился не шибко массовым, а, главное, не дешевым. И это несколько дискредитирует саму идею. И вызывает к жизни второй необычный сценарий: выход из кризиса будет происходить на базе улучшающих инноваций, а не на базе технологического прорыва. Пока это не базовый сценарий, но в голове его иметь надо. Это, соответственно, набор развивающихся технологий. Технологии старой волны: добыча природных ресурсов, добыча битуминозных песков, вылавливание С02 и выбросов. Это та волна, в которую уже сделаны большие инвестиции, в которой мы просто ждем результатов. Разного рода смарт-процессы: биомедицина, экологические вещи. Но это новые вещи, где могут произойти прорывы, та же наноэнергетика, нетрадиционная энергетика и так далее. Опять-таки умная техника — все на стыке находится. Здесь интересно, что в структуре венчурного финансирования выделяются два ядра: ИКТ и biotechnology. Но сразу же за ними идут industrial energy, medical device и так далее. То есть на самом деле есть инвестиции достаточно массовые и не только технологически прорывные вещи, типа biotechnology того же или software. А есть улучшающие инновации. Причем это уже не первый год. Это достаточно интересный процесс. И он дает подобного рода возможности для идей о том, что это не прорыв, а улучшающие инновации.
Интересно, что одна из основных дискуссий, в том числе дискуссий при разработке технологического прогноза, — это попытка ответить на вопрос, существует ли универсальная повестка дня или существует набор повесток дня разных субъектов. То есть мы имеем единую мировую науку, глобальную научно-технологическую систему или мы имеем набор национальных систем, просто нам кажется, что она глобальная в силу эффектов усреднения? На самом деле вопрос до конца не решен. Но мы видим, что есть три класса. Это Штаты и Германия, которые пытаются создать некий набор, связанный с формированием нового индустриального ядра (это очень странный набор), и, возможно, Япония — вот она где-то на стыке. Это Англия в чистом виде, а Франция и Япония с оговорками. Это некий поиск позиции вне индустриальной парадигмы. Попытка либо быть вынесенной постиндустриальной платформой для чужих индустриальных проектов, либо вообще играть вне этой игры. Трудно сказать, и трудно сказать, насколько успешно. И что интересно, Китай, хоть и индустриальный, пытается решать еще свои собственные проблемы типа устойчивой ресурсной базы, использования пот енциала океана. У них национальная система приоритетов довольно сильно расходится с глобальной, хотя нельзя сказать, что кардинально.
Первый из проблемных вопросов — насколько мы готовы к новой технологической волне. С одной стороны, есть проблема Китая и на рынке оборонной продукции. В принципе возможно на рынке гражданских самолетов, на рынке реакторов. Пока у них, слава богу, не получается, но…
С другой стороны, мы можем быть твердо уверенными, что на рынке оборонной продукции рано или поздно, по мере производства оружия нового поколения (истребителя F-35 и так далее), возникнет продукция, примерно соответствующая нашей по технологическому уровню. Потом возникают новые стандарты де-факто: это сетевые войны, умные боеприпасы, безлюдные войны. То же самое со всем остальным. Насколько мы к этому готовы? Насколько мы готовы к глобальной технологической гонке за реактором нового поколения?

И, наконец, следующая большая гонка — это новое материаловедение. Это не только вокруг «нано», хотя, конечно, «нано» — очень важная штука. Это и вокруг новой химии. Тут сильный рывок получился у американцев в силу дешевого газа. Дешевый газ наложился на их технологические заделы. Они абсолютно не переживают, что у них газ дешевле, чем на мировом рынке. Там две парадигмы, о которых мы говорили. Для США и Германии важно, чтобы технологии были непереносимыми при разумных затратах в ВТР. Отсюда, в принципе, локальный биомед, особенно медицина. Если у вас персонализированная медицина, вы на месте получаете диагноз, на месте — лекарство. Просто исключаете китайскую и индийскую «фарму» из цикла.
Мы работали с авиастроителями, они очень сильно напрягаются по поводу некоторых наших контрактов по продажам, например, лицензии на производство современных самолетов в Китай. Главная проблема, что туда ушло новое крыло. У Китая не было аэродинамических заделов. Они не смогли выйти за пределы тех технологий, которые передавались им в период 1960-х годов. Сейчас они получили от нас крыло Су-27 — и сделали один рывок. Пожалуй, что получат крыло Су-35, которое очень сильно доработано аэродинамически. Там большая математика, не все вопросы решаются тупым компьютерным перебором. Нужна нормальная математическая наука с соответствующими заточками, экспериментальная база и так далее. В общем, здесь есть определенные риски того, что китайцы смогут вырваться на базе вот этих ключевых компетенций.
Следующий момент — переход к рискам безопасности. Ключевой момент — это взаимодействие трех процессов. С одной стороны, у нас идет переход гегемонии от старого лидера (Штаты) к новому (Китаю). Но все это, с одной стороны, на фоне того, что мы, они или мир не готовы воевать. С другой стороны, как-то этот вопрос решать надо.
Вторая тема — все это происходит на фоне наличия целого ряда замороженных, но неурегулированных конфликтов. Но классика здесь — постсоветское пространство. Весь Кавказ — это, по сути дела, серия замороженных конфликтов. В Грузии или внутри Грузии. Армяно-азербайджанский. Приднестровская тема. Просто на наших глазах вскрылся, казалось бы, совсем давно замороженный, почти урегулированный крымский конфликт. Мы видим, как замороженный конфликт может уметь размораживаться. И на этом фоне резко возрастает, особенно для нашей страны, риск того, что замороженные конфликты станут полем, на котором реализуется конфликтный потенциал других стран. Если мы не готовы вступить в схватку напрямую, то гораздо проще сделать это на какой-нибудь площадке, которую не жалко. Сейчас создана такая площадка в виде Украины, несомненно. До этого времени такой площадкой, конечно, была Центральная Азия. Вывод американских войск из Афганистана. Мы уже видим в Ираке, во что это может превратиться. В Центральной Азии собственного конфликтного потенциала, в основном социального, предостаточно. А стабилизировать придется нам. И все это на фоне того, что идет распространение предварительных технологий. Мы имеем потенциал контроля только над ядерными. В то же время, ни над кибер-, ни над биомедицинскими технологиями такого контроля в принципе быть не может.
Мировые сценарии. Соответственно для Штатов цель — сохранить центр добавленной стоимости, желательно сохранить институциональное лидерство и долговое давление — в принципе, сохранить нынешнюю ситуацию. Для Китая переход к модели инвестиционного роста — это обеспечение интеграционного процесса Юго-Восточной Азии, потому что ресурсов критически не хватает для такого рода развития. И включить в процесс среднеазиатский ресурс. И есть некий проект ЕС — очень слабо представлен — это примерно идти дорогой Америки, но самим.
Возникновение очага конфликта на Украине блокирует взаимодействие Европы с нами, через нас — с Китаем. Соответственно этому проекту становится легче. Не мы одни, боюсь, такие умные.
Отсюда два больших, если говорить чисто об экономике, сценария. Сценарии разрабатывались довольно давно. Мы говорили про вероятность кризиса в 2017 году, сейчас, скорее, он сдвигается на 2018– 2019 годы. Слишком медленно формируется пузырь, не успеет вскрыться. Вернее, успеет, но не так быстро. Это ситуация, когда, грубо говоря, за счет большого количества денег на базе высоких долгов государства и малой независимости банков стимулируется экономический рост, с ним — технологическое развитие. Вопрос «Какое?» мы оставляем на потом. В этой ситуации мы все вместе успеваем получить накапливаемые дисбалансы раньше, чем возникают новые зоны роста. Поэтому сначала происходит еще одно крушение, а потом уже, возможно, удастся собрать большие мешки урожая с этого инфляционного финансирования.
Второй вариант. Мы сейчас смещаемся от инфляционного восстановления в сторону сценария финансовой реструктуризации, малые темпы роста, меньшее финансирование технологических проектов и в целом экономики. Мы угадали, что скоро будет небольшой кризис и большой уже в 2020-х годах.
Пока еще не до конца понятно. Возможно, еще базовым сценарием является инфляционный.
Неопределенности здесь связаны с реакциями экономики на действия субъектов: пойдет ли быстрый подъем, удастся ли получить инфляционный рост и так далее. С другой стороны, это первая вилка, которая формирует два экономических сценария. Вторая вилка неопределенности связана с первой технологической волной, которая на наших глазах формируется — это будет и новая энергетика (кстати, похоже, что нет), и новое энергосбережение на фоне проникновения ИКТ. Соответственно, если мы замыкаем большие деньги на просто технологические успехи у новой энергетики, мы получаем ситуацию инфляционно-технологического прорыва или глобальный образ США. Если мы получаем ситуацию, когда денег много, но с НИОКРами не очень, получается на фоне того, что идет явный сдвиг баланса в сторону использования новых углеводородов, использования gas to liquids, coal to liquids, технологии для Китая, мы получаем очень выгодную для России картинку энергетической инфляции, вложений в Арктику. Когда мы за большие деньги занимаемся в основном улучшающими инновациями в энергетике, Россия имеет природную ренту, довольно дорогие энергоносители. И на более поздний период возникают мощные стимулы к энергосбережению. Но это все уже там реализуется чуть попозже. В сценариях финансовой реструктуризации мы получаем либо вариант «глобальная Япония», когда глобальная экономика в стагнации, но из нее постоянно разведка ищет выход за счет интенсивных технологических инноваций, либо получаем сценарий «плохо-плохо», когда мир стоит, и низкие глобальные темпы роста накладываются на то, что потенциала для инноваций нет. Потому что новая волна ИКТ, новые материалы слишком далеко, слишком пока риски высоки, а с энергетикой не получилось.
Сейчас мы находимся, скорее, вот в этом сценарии. Надо сказать, он для России был наиболее комплементарен, хотя у нас возникли наши собственные проблемы, которые нам мешают в нем развиваться. Но если заниматься раскладкой всей этой ситуации во времени, то возникают возможности дорожных карт и возможности перекладки из одного сценария в другой.
Теперь о технопессимизме. Есть некие странности. Будем считать, что технологии развиваются, будем считать, что в мире не будет крупной войны и есть деньги. Но давайте посмотрим на то, как технологии влияют на устройство общества, в котором мы живем. Господин Игорь Агамирзян в свое время на достаточно закрытой и серьезной тусовке — на подготовке «Стратегии 2020» — сказал, что в принципе для того, чтобы в мире развивать все ИКТ, нужен миллион человек. Это меньше, чем в России в машиностроении занято. И программное обеспечение, и контент, и железки, за исключением, быть может, высокой науки. Достаточно миллиона. Хорошо, может быть, он ошибся, может быть, миллион, может быть, два. Понятно, что порядок первого миллиона. Биотех примерно устроен так же. Там классические производственные технологии, и, если от технологической базы 1960-х годов, которая попадается на наших родных заводах, перейти к чему-то более адекватному, это тоже десятки миллионов. Искусственно низкие во многом технологии в сельском хозяйстве тоже дают возможность интенсификации. Короче говоря, хорошо. Но что такое мир, в котором реально из 7 миллиардов занято 1–2 — 2,5? А остальные где? Что означает общество, в котором нет занятости для половины населения? Как оно устроено? Что эта ситуация означает во взаимодействии между занятыми и избыточными?
Второй момент — нечто происходит с самими лидерами. Обратите внимание, в 1960-е годы и до начала 1970-х сильным мотивом развития было движение к фронтиру, движение к горизонту, движение в космос. Сейчас это некая попытка выйти туда, где нас нет. Сейчас ключевая причина — это желание продлить жизнь, уйти от страданий. То есть в первую очередь негативная мотивация, мотивация страха. Важнейшей мотивацией для развития ИКТ является городское одиночество. Человеку нужны все эти технологии для того, чтобы хоть как-то хоть с кем-то общаться и, возможно, чтобы процесс общения был максимально похожим.
Какие сдвиги в обществе маркируют эти процессы, что действительно с ними происходит? Хорошо, возможно, радикальное продление жизнь до 120 лет, а некоторые граждане говорят, что до 240–250. Это означает резкое старение населения. Вопрос: это старение касается всего мира или всех западных стран? Или только элиты географической или социальной? И как устроен мир, в котором разница в биологической продолжительности — в разы? Я не беру войны, эпидемии и так далее. Средняя продолжительность жизни. «Не пей, Вася, до 70 проживешь».
Когда Джон имеет возможность прожить 120, а Махмуд — нет. Или Джон имеет возможность прожить 120, потому что он финансовый брокер, а работяга Смит — нет. Это, отнюдь, не радость. Что означает это с точки зрения рождаемости? Потому что важный стимул для снижения рождаемости — продление жизни. У нас общество не тянет и нагрузку пожилыми, и нагрузку молодыми. Что это означает просто с точки зрения развития? Не только же «война — дело молодых, лекарство против морщин», но и наука и технологии — тоже. 60–70–80-летним людям — зачем им инновации? Если это мир. А если это элиты, то как устроен мир, в котором ты проживешь 70 лет и занимаешься инновациями в свои 30, а я — в 120, а ты мне изобрети таблеточку, чтобы я до 130 дожил. И как я буду заставлять его? Что означает вот эта конструкция, когда, допустим, им удастся сократить технологическую ренту с тем, что спрос на социальную поддержку в силу вот этого сохранится в развитых странах? Либо мы блокируем все это, либо это чисто элитная забава, либо мы отказываемся от социальной поддержки или как? Как устроена эта машина? Уже сейчас один из мемов, родившихся в профессиональной среде в ходе кризиса, был, что последний счастливый пенсионер в Америке умер в день банкротства Warner Brothers. Но это не совсем так. Хорошо, что мысль возникла.
Наконец, хорошо, глобальные противоречия растут. При этом институты замкнуты на крупнейшего в мире должника, чего, кажется, не бывает. Не может должник управлять экономическим процессом в принципе. При этом мы не можем ни перестроить институт, потому что мы все в нем работаем, ни замерить новые потенциалы через войну, ни решить противоречия через войну. Бреттон-Вудская система — это послевоенная система, победитель объясняет всем остальным, как должен быть устроен мир. Советскую систему звали, Советский Союз отказался. Мы решили тогда сами.
Резкий рост локальных конфликтов — ответ на это. Давайте подеремся где-нибудь не на бензоколонке, а где-нибудь на свалке. Что это? Размывание порога войны через применение национального оружия или что-то другое? Вот некий набор вопросов, который стоит за этими неопределенностями, и которые порождают, скорее, беспокойство, чем оптимизм.
На этой почве российские тренды. Внезапно мы обнаружили, что нам нужно 5,5% экономического роста, а набираем мы только 4% в долгосрочной перспективе и 1–2% — в краткосрочной. Причем эта конструкция связана с тем, что, с одной стороны, мы не можем быстро наращивать экспорт уже давно — в силу того, что экспорт углеводородов требует растущего спроса. Энергоэффективность растет, новые углеводороды выходят, факторы безопасности играют (история «Газпрома»). Оценка металлов — такая же конструкция. С рынками машин и оборудования, например, там нужен резкий рост конкурентоспособности. Со стимулированием, с потреблением мы тоже дошли до некого тупика чуть попозже. И вопрос: насколько мы способны жить в инфляционном мире? Ситуация, когда на энергоресурсы мы вышли на американский уровень, правда, в Украине все как всегда еще хуже, ничего хорошего. А энергоэффективность у нас вполне себе наша. Причем ситуация будет только хуже, потому что по нефти мы выходим на плато, по газу мы имеем потенциал роста, но этот потенциал связан с дорогими проектами. Это, например, история с тем, как мы в этом году не проиндексировали тарифы «Газпрома», потому что у них инвестпрограммы нет. Соответственно у нас есть основания для роста заработной платы из-за плохой демографии. А это в полный рост ставит вопросы эффективности. Проблема производительности труда. У нас в рентных отраслях есть хоть какая-то ценовая рента, у нас вроде бы добавленная стоимость на рубль еще выше, чем в Европе, но в машиностроении примерно 40%ный разрыв вниз. В производстве одежды и обуви — 20%-ный разрыв вниз. Металлургия, химия живет, жила (еще перед кризисом мерили) на высоких мировых ценах. А во всех остальных мы проседаем. Причем процесс только усиливается: с одной стороны, от плохой демографии, дефицита труда, с другой стороны, из-за того, что мы, повышая зарплату в госсекторе, не можем не повысить зарплату врачам и учителям. Мы создаем маркер для всех остальных. Были недавно беспорядки в Кузбассе. «Моя жена, вообще училка какая-то, стала получать больше меня, что за гадость здесь такая!?». Довольно трудно объяснить шахтерам, если тебе пропорционально повысить зарплату, то уголь станет золотым.
Очень интересный момент: низкая эффективность ведет к тому, что мы пытались удержать конкурентоспособность за счет ценовых конкурентных преимуществ. У нас есть статистика экспорта в тоннах и в долларах. Тонны станков. Идиотизм, конечно. Но, во-первых, она общемировая, во-вторых, как еще разные станки, с другой стороны, сравнивать? Короче говоря, в свое время, до кризиса, был долгосрочный тренд к тому, что у нас стоимость тонны экспорта, включая машиностроительные и прочие (довольно дикая ситуация), в целом повышалась, в кризисы она упала, а «отжиматься» толком не стала. Упала, не отжалась. Картинка с низкой эффективностью НИОКР. В принципе по затратам на НИОКР мы входим в десятку, у нас по ППС больше, чем в Канаде и в Италии, имеем здоровенную численность занятых в разработке. В результате имеем одни из самых низких среди развитых стран расходы на одного занятого. Соответственно, обратите внимание, что в шкале «экспорт машин и оборудования» и в «затраты по паритету» мы находимся в целом ниже генеральной совокупности. В целом совокупность загибается сюда. Штаты, в общем, тоже находятся немного ниже. Но обратите внимание, насколько выше нас в целом по эффективности, потому что у них большая фундаментальная наука, оборонка и так далее. У нас тоже, в принципе, оборонка, но мы довольно ясно ниже этой конструкции. Вот это оправдание реформы РАН на самом деле. Не я ее придумал. Я ее показывал академикам, когда уже реформу приняли, поэтому я не виноват, но тем не менее.
В этой ситуации у нас разомкнутая инновационная система, когда мы вкладываем ресурсы бюджета на первых стадиях. В силу устройства нашей экономики поздняя стадия, на которой собирается рента, происходит за пределами территорий. Потом мы импортируем наши технические решения, наши же идеи в виде готовых образцов. В этой ситуации, скажем прямо, что возможность наращивать финансирование технологий ради технологий или инноваций ради инноваций исчерпана.
Сценарии. США для нас дают сценарий встраивания в глобальные цепочки. Это ситуация, когда много денег и технологическая революция. Технологической ренты особенно нет. Но в мире идет волна инноваций, волна прямых иностранных инвестиций, на которые мы можем отреагировать, влезая в соответствующие цепочки. Поход в Арктику означает наличие технологической ренты, которой мы как-то можем управлять, отсюда два варианта: либо сырьевое, либо мы можем эту ренту пытаться задействовать для формирования новых центров компетенций как целевой сценарий.

И вот вам ситуация — глобальная Япония, когда роста нет, а технологии в мире есть. В этой ситуации мы за счет инноваций вынуждены будем адаптироваться к более жесткой ситуации, вынуждены будем повышать эффективность улучшающих инноваций.
Технологии. Мы можем в принципе играть в локально-технологическое лидерство. Это то, на что настроены программы Минобрнауки. Это национальная «хотелка», я бы сказал. В принципе, такой вариант возможен в собственном полюсе, но он не очень совместим со встраиванием в глобальную цепочку, потому что никто нас на роль интегратора, если мы встраиваемся, не ждет.
Догоняющее развитие в кооперации с лидерством возможно почти везде. Будут только прямые иностранные инвестиции, которые кооперацию обеспечивают, поэтому принуждение к модернизации.
Нет инвестиций — нет кооперации.
Адаптация к мировому рынку, когда мы просто пытаемся встроиться. Это либо глобальные цепочки, либо принуждение к модернизации. Кстати, у принуждения к модернизации технологический сценарий ровно один — то, что ресурсов нет.
Эта вся конструкция довольно легко выходит на количественный расчет. Понятно, что собственный полюс дает большие темпы. В нем мы разгоняемся до 5,5. Расчет довольно старый, поэтому цифры неадекватные, разумеется. Дает нам необходимую динамику инвестиций и всего такого. Тоже немножко скептицизм. Вроде бы инвестиции растут. Это необходимое условие для роста, для модернизации и так далее. Ситуация роста инвестиций дает нам производительность труда. И мы обнаруживаем, что нам надо переобучить где-то примерно 20–30 миллионов человек, переместить между секторами в первое десятилетие развития 10 миллионов. Поскольку у нас территория специализированная, это часто означает еще перемещение между субъектами федерации. Отсюда вопрос и к системе образования, и к жилищной системе, и, в принципе, к социальной системе, потому что человек не должен воспринимать как личную катастрофу, что его шахта закрылась. Одна из причин, почему шахтеры на Украине не поддерживают повстанцев: «Да, мы работаем на плохих шахтах, мы знаем, что русские эти шахты закроют (очередная взорвалась), потому что таких шахт быть не должно, а куда мы денемся, мы — шахтеры». Если ты — генетический шахтер, то тут надо просто что-то с мозгами делать, потому что вот так мы уже жить не сможем.
Не только они, но и мы. Просто у них уже такой предельно обнаженный вариант.
Соответственно эта штука развертывается в систему дорожных карт. Мировые технологии и мировая экономика воздействуют на нашу макрофинансовую систему, бюджет и так далее (это все останется, не буду рассказывать, как кризис воздействует и так далее). Эта штука в свою очередь может быть наложена на карту технологического развития.
Меня просили рассказать про технологические проекты. Сейчас объявлено о новых технологических инициативах по передовой производственной базе, это очень хорошо. Единственное, важно, чтобы оно захватило модернизацию средних отраслей. Вне этого у нас набор конкретных оформленных проектов существует в атомной энергетике. Это комплекс проектов, целая группа по модернизации старых добрых ВВЭР, либо их развитие до суперВВЭР, либо создание стандарта для экспорта. И параллельно (довольно интересно) плавучие электростанции, малые реакторы для космических кораблей. Вторая крупная группа — это гонка за реакторами на быстрых нейтронах. Тем более, у нас проблемы с ресурсной базой, которая осталась в Средней Азии, частично на Украине в Желтых Водах. Правда, мы геологически не доисследовали нашу собственную территорию, как всегда. Но в общем наверное, когда Росатом лезет в ресурсную базу аж в Австралию, это все-таки некий перебор.
Развитие РБН, кажется, да ет возможность всему миру, не только нам, решить проблему с ресурсной базой. Там дополнительная добыча очень небольшая. Плюс они малоотходные, что для нас, мягко говоря, актуально, особенно в связи с тем, что мы экспортируем реакторы, а по договорам мы должны отходы и себе забирать. Это отчасти требование глобальной безопасности, потому что выделяющиеся материалы — конечно, не атомная бомба, это в чем-то даже хуже — грязная бомба.
Взорвал тонну тротила на 100 кг отхода и «загадил» столицу врага. Дешево и вполне себе гадостно. Поэтому надо эти отходы, особенно высокоактивные, себе забирать. В мире развернулась гонка. Основные участники — мы и французы. И американцы, судя по всему, тоже. Они, кстати, довольно закрыто себя ведут.
Авиакосмос. В принципе, тут все хорошо, если бы не ограниченный рынок. Потому что крупные проекты по атомной энергетике — это в основном развивающиеся страны и мы сами. Что думают о себе европейцы, сказать трудно, потому что там, на мой взгляд, зеленое лобби — это уже просто безумие.
Гораздо более интересный набор с авиакосмическими технологиями. Набор улучающих инноваций, связанный с Superjet NG. С самим Superjet были проблемы, связанные с самим процессом развития проекта. Мы, возможно, их преодолеем. Следующий продукт МС-21. Но тут вопрос в том, что у него очень высокий технический риск, потому что он сформирован вокруг нового двигателя, которого пока нет. Он предусматривает то ли создание отечественного черного крыла, то ли активную работу с Diamond в условиях нарастающих санкций, заметим мы. И при этом его параметры таковы, что, если бы он был, он был бы выдающимся. Он лучше, чем существующие Airbus и другие его «одноклассники». Но время на разработку идет. Что сделает конкурент, сказать трудно. А с Superjet мы не только время потеряли. Он полетел года через два, по-моему, чем должен был. У него получился перевес по массе, что вызвало ухудшение экономических характеристик удельного расхода топлива. Не произойдет ли то же самое с МС-21, учитывая, что технический риск тут выше. На Superjet надо было французские двигатели посадить, известно какие. А тут надо новые делать. Технический риск тут выше — это вопрос.
Следующая крупная тема — это беспилотники. И гиперзвуковая авиация. Проблема в чем? Проблема в том, что ситуация предельная по технологиям, двигателям технологий, новым материалам и так далее. В части военной авиации американская техника уже давно встроена в глобальное информационное пространство, что дает им другие возможности. Там уже не определяются возможности техники возможностями планеров, двигателями, всей системой управления, разведки, передачи данных и так далее. А у нас с этим традиционные трудности. И мы опять выстраиваем тему ПАК ФА вокруг того, какой у нас будет замечательный самолетик. Но проблема не в самолетике, а в том, чтобы работала вся система сбора информации, доводки ее до пользователя, управление этой информацией, сбор информации самими пользователями и обменом этой информацией. Насколько нам удастся, сказать трудно. Пока у нас с АСУ все не очень хорошо, скажем прямо.
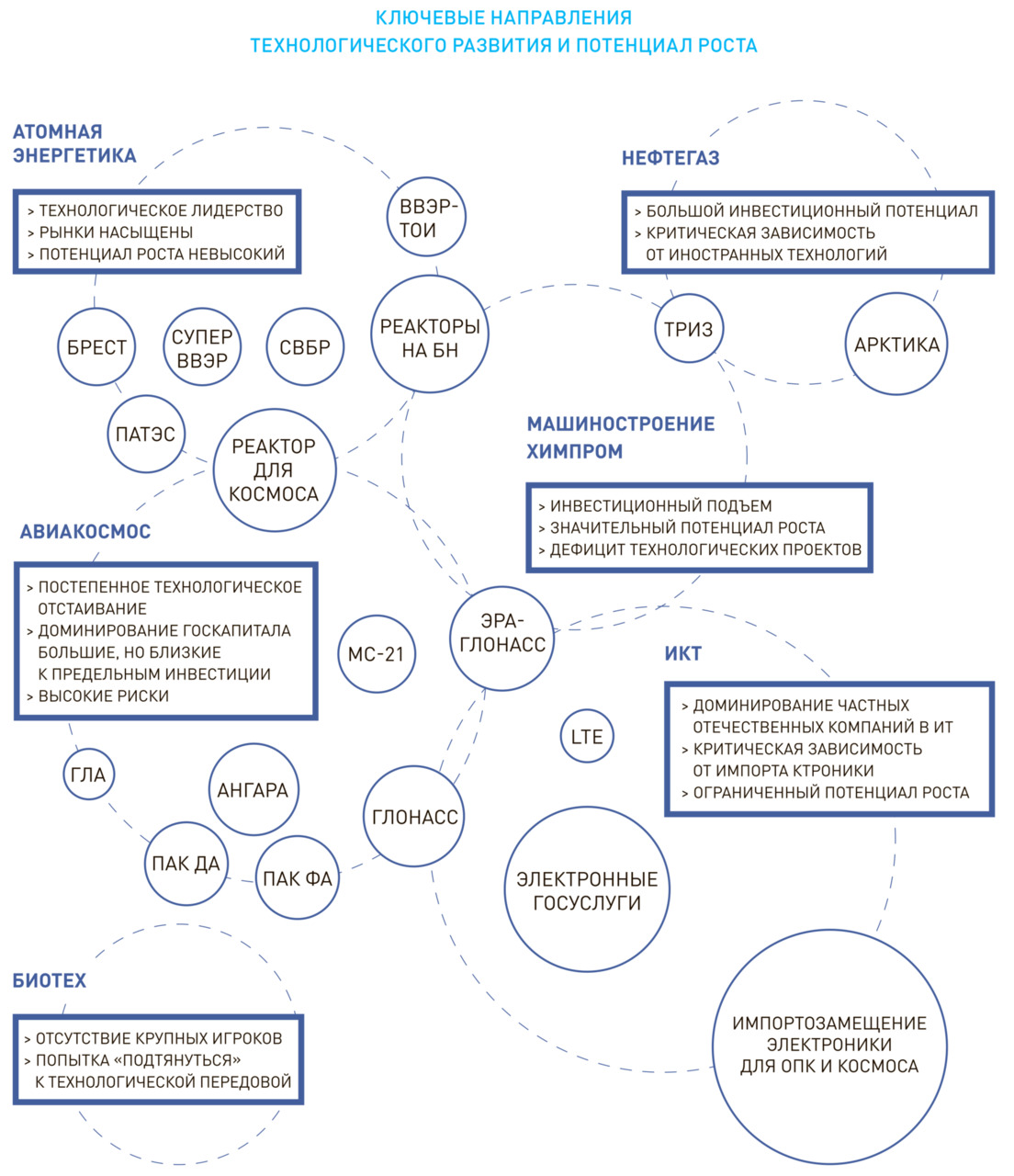
ИКТ. Где-то хорошо с электронными госуслугами, где-то очень хорошо, потому что возникли новые бизнесы, где-то возникли очень сильные проблемы, связанные с тем, что мы пытаемся реализовывать крупные государственные проекты, как техноориентированные. Задача ГЛОНАСС — это, во-первых, обеспечить двадцать четыре долгоживущих спутника, а во-вторых, обеспечить определенный уровень позиционирования, уровень продаж — этот вопрос только начал ставиться несколько лет назад. В отличие от GPS, который стартовал примерно одновременно с нами, только изначально выстраивался как проект для зарабатывания денег. Можно понять, кто окажется успешным в этой ситуации.
Что интересно, в наших условиях… Нас долго ругали, что у нас науки о жизни имеют маленький экономический эффект, а транспортные космические системы, новые материалы — большой, как и энергетика. Но оно и понятно, потому что науки о жизни у нас просто не коммерционализированы в значительной мере, в отличие от зарубежных стран. А транспортные космические системы — это непосредственный выход на рынок.
Этим закончу и прошу вопросы.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Дмитрий, спасибо большое за презентацию, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот у вас был сценарий догоняющей модернизации, хотя вы про него подробно не рассказывали. В принципе любой сценарий в той или иной мере это подразумевает. А вот есть ли какие-то бенчмарки, на которые нам сейчас стоит ориентироваться? Понятно, что не во всех отраслях, но там в каких-то? То есть, например, в области технологического развития или в том же самом вопросе о развитии рынка труда, с точки зрения мобильности? Есть ли какие-то иностранные примеры за последние десять, двадцать, тридцать лет, которые были бы полезны для России в ближайшие пять лет? Это первый вопрос.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: Отвечаю на вопрос. С одной стороны, есть довольно простая формальная картинка: чтобы нам удержаться на определенных конкурентных позициях, нам надо выходить на среднемировые или на «среднееэсовские» (ЕС — Евросоюз) параметры по ключевым удельным затратам. Вот догоняющая модернизация: нам надо за десять лет перейти от таких-то удельных затрат на вот такие. Где-то от снижения энергоемкости, где-то от замещения одних материалов другими, и так далее. Понимаете, у нас с рынком труда какая-то сложная история. В свое время Аман Тулеев (мне рассказывал мой товарищ) жаловался: мне, говорит, пришлось прогнать западного инвестора, который мне предложил какую-то супертехнологию добычи угля, только при этом мне надо уволить десять тысяч шахтеров. Говорит: «Вот Междуреченск — это тридцать тысяч жителей. Вот десять тысяч шахтеров с семьями — это как раз тридцать тысяч. Мне надо город закрыть. Куда я их дену?».
СЛУШАТЕЛЬ 1: Это да. И насколько можно это использовать?
Д. Б.: В том-то и дело, что непонятно, на самом деле. До кризиса у нас чисто финансовые вещи наложились, ошибки некоторые, но до кризиса у нас инвестиционный рост в производственных отраслях в значительной мере сдерживался на региональном уровне, причем в основном не в силу воровства, или некомпетентности. Основная причина, когда приличные люди, губернаторы, честно говорят: «А куда я их дену? Что мне делать с высвобождаемыми рабочими?». И металлургическое производство точно так же. В общем-то, небольшой заводишко, три с половиной тысячи, надо сжать до девятисот. Но при нем поселок, и больше ничего там нет. Вот.
Недавно мне жаловались, что где-то на Валааме закрыли филиал какого-то там типа вуза. «Да, конечно, он был неэффективный, но ты понимаешь, что он давал возможность этим местным получать хоть какое-то образование». Ну пусть едут за хоть каким-то образованием в областной центр, говорю. «Да нет, ты понимаешь, им важно там, на месте это образование получать». Это проблема, и не очень понятно, что с ней делать. Вроде бы новое поколение, оно помобильней. Может быть, что-то может решиться с регулированием рынка жилья, если ты можешь на новом месте выкупить жилье в собственность и остаться. Долго арендовать и потом… Аренда с выкупом. Для людей очень важное значение имеет то, чтобы в конце жизни остаться в своем жилье.
ЕКАТЕРИНА ЛОШКАРЕВА: Коллеги вопрос задают: «Просьба пояснить, почему в картах нет агротехнологий?».
Д. Б.: Потому что у нас в этой сфере довольно все тяжело устроено. Проблема на сегодняшний день слишком далеко зашла. Мы в свое время обсуждали эти темы. Действительно, есть развилка между высокотехнологичным сельским хозяйством с развитием генной инженерии, современной агротехнологии, ориентированным на массовый выход, и попыткой пойти по пути «зеленого» сельского хозяйства. Но пока на эти размышления нет реального заказчика. Для того чтобы был заказчик, должны быть субъекты, должны быть инструменты организации технологических платформ, ну и какая-то часть государства, которая бы занималась этим.
Да, есть там, в принципе, развилка. Минсельхоз, честно говоря, занимается совершенно другими вещами: нам бы вот сохранить экспорт зерна, еще чтото там.
Была там близко к концу замечательная история. Внешнеэкономическая стратегия, расписано торгпредствам: «Просьба сообщить, как конкретное торгпредство конкретной вашей страны может способствовать выходу на целевые параметры». А там экспорт мяса. В соответствующую страну. Экспорт свинины. Торгпредство Российской Федерации в Саудовской Аравии докладывает, что никак не может способствовать экспорту российской свинины в Саудовскую Аравию, поскольку употребление свинины в Саудовской Аравии является уголовным преступлением, точка. Телеграмма. Торгпредство Российской Федерации в Колумбии докладывает, что никак не может способствовать, поскольку Колумбия сама является крупным экспортером свинины…
Там другая повестка: как сохранить позиции, что делать с избыточным населением, как обеспечить воспроизводство стада и улучшение параметров. Что-то мы очень сильно загнались. До технологических экзерсисов там, может, и несколько лет. Эта пора обязательно наступит, но не завтра.
Е. Л.: И еще один вопрос из интернета: «Просьба прокомментировать динамику демографии на рынок труда в перспективе 5, 10, 15, 20 лет».
Д. Б.: Там ситуация довольно интересная. В перспективе 5–10 лет, при прочих равных, плохая демография будет вызывать разогрев рынка труда и рост спроса на рабочую силу. Это значит, вызывать рост стоимости рабочей силы, а соответственно, стимулировать вытеснение, стимулировать развитие нетрудоемких производств и борьбу за производительность труда.
Очень интересный сюжет в краткой и среднесрочной перспективе: с одной стороны, регионы резко против наращивания безработицы, и, с другой стороны, компании — за рост производительности труда. В результате мы — такая странная страна, в которой происходит переток занятых: из эффективных секторов в неэффективные. Мы говорим о миллионах высокоэффективных рабочих мест, а реально у нас занятость в машиностроении, металлургии и так далее снижается, а растет в торговле и, по-моему, в сельском хозяйстве. В торговле точно. Понятно, почему: регионы не готовы иметь дело с кучей безработных, поэтому пускай он с лотка торгует, выращивает там что-нибудь на участке, лишь бы только он чем-нибудь занимался. Поэтому у нас компании высвобождают рабочих и работников, все это поглощается рынком. У нас довольно большая такая неэффективная занятость, но раскупорить ее довольно трудно. И это, соответственно, вызывает общий тренд или поддерживает тренд роста цены труда и стимулирует борьбу за его производительность.
Такая штука будет продолжаться еще долго, с точностью до миграции. Украина нам может эту ситуацию подпортить. Или наоборот. В районе 2030 года, если удастся сохранить позитивный тренд на рождаемость, сохранить и резко усилить, то у нас сначала будет довольно долгий рост нагрузки на экономику со стороны не только пожилых, но и детей; где-то в 2030-х годах начнут эти народившиеся поколения выходить на рынок труда, и там ситуация может быть поинтересней.
Но повторюсь, плохая демография, дефицит труда, дополнительный рост заработной платы, стимул к росту производительности инвестиций — все это потому, что стоимость труда слишком высокая. При этом у нас есть большой резервуар неэффективной занятости.
СЛУШАТЕЛЬ 2: У меня вопрос. Здесь противоречие получается: с одной стороны, много шахтеров, с другой стороны, не хватает людей.
Д. Б.: С одной стороны, у нас много шахтеров в Междуреченске, с другой стороны, не хватает квалифицированных станочников в Комсомольске-н аАмуре.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Переучить шахтеров на станочников?
Д. Б.: А они не хотят, понимаешь. Они боятся потерять жилье. Ты приедешь в этот Комсомольск, будешь жить там, тратить половину своей зарплаты на съемное жилье или на ипотеку, потом тебя через десять лет выпилят, ты останешься без жилья, а может, еще и с ипотечным кредитом. Они тебе скажут: «Ну его на фиг, я лучше пойду Тулееву скажу, чтобы он тут дурака не валял, чтобы у меня была постоянная занятость в шахте. Да, это опасно, вовсе не так денежно, как рисует широко распространенный миф, но эта работа у меня есть». К тому же, понимаете, старого медведя новым фокусам не научишь. Тридцати-сорокалетних — куда их переучивать по большому счету? В нашей системе. А молодых, двадцатилетних, — так там нужно другую систему образования создавать. Но вообще нужно. Это правда.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Вы много говорили о промышленности в других странах. Интересно, почему тогда у нас в федеральном законе о промышленной деятельности вообще нет блока «Национальное производство»?
Д. Б.: Подозреваю, что мы пока просто не умеем работать с ВТО и Таможенным союзом одновременно. Там меры прямой поддержки запрещены, а как работать с косвенными, мы в общем только учимся.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Сейчас будем принимать новый федеральный закон о промышленной политике, который начнет работать через пять — десять лет, и там нет блока национального производства. С такими прогнозами это вызывает недоумение.
И второй вопрос у меня связан вот с социалкой, с демографией. Получается, продолжая Игоря Агамирзяна, нам надо один миллион талантливых детей…
Д. Б.: Вы не поняли. В мире. Он говорит: для того чтобы развивать ИКТ в мире, достаточно миллиона.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Да, я поняла, я другую хотела логику провести. Если анализировать развитие робототехники, в России сейчас порядка тридцати тысяч детей так или иначе этим увлечены. При победах на олимпиадах наши побеждают исключительно в креативных, свободных номинациях. Не надо ли нам в этом отношении тоже рассматривать не только сырьевые, технологические и иные, но и социальные инновации, связанные с новым поколением? Я както у вас не увидела; мне кажется, здесь у нас достаточно серьезные перспективы.
Д. Б.: Это штука интересная, просто, понимаете, сама тема социальных инноваций очень сильно замусорена. В 1970-е — 1980-е — 1990-е годы социальный инноватор — это такой шибанутый интеллигент, который не очень отвечает за последствия того, что он делает с детьми. Поэтому тема полутабуированная. Плюс сильно все подпортила ювенальная юстиция.
В принципе тема есть, конечно. Мы в свое время писали на эту тему, которой, может быть, будем заниматься на следующем витке — это возможности и риски, связанные с новыми технологиями в образовании и социальными аспектами. Потому что перед образованием одновременно стоят три, вообще говоря, почти не совместимых задачи. Или четыре.
С одной стороны… И это, кстати, дает нам замечательный тупик, в котором мы пребываем, потому что это все на диво быстро институционализировалось. Оно должно обеспечить социализацию, человек должен уметь жить в обществе, представлять себе основные коммуникационные коды, базовые мифы и так далее. Это так называемая воспитательная функция, которую вы не можете изъять из образования, потому что иначе у вас начинают детишки образовывать локальные сообщества. На Кавказе последствия ваххабитского внешкольного воспитания мы уже получили; последствия казачьего, сибирского и так далее — на подходе.
Второе. Оно должно обеспечивать наличие богатых базовых знаний, для того чтобы человек мог менять компетенции в течение всей своей жизни. Когда мы говорим о том, что в Советском Союзе с середины пятидесятых годов у нас была классная система образования, она была классная в том смысле, что хороший ученик получал — или мог получить в хорошей школе — картину мира, не противоречащую более или менее знаниям современной науки. Вплоть до каких-то рассказов о ядерной физике. И в силу этого у нас вот эти вот детишки из деревни становились ядерными физиками. У меня дед из деревни вышел и стал генерал-инженером, причем по авиамоторам. Проблема в том, что сейчас вы попробуйте объяснить детишкам про всякие суперструны, тонкости, связанные с манипуляциями генами и так далее. Вы неизбежно им рассказываете некоторую сказку, которая (в любом вузе вам скажут) к тому, что думает об этом наука, не имеет ни малейшего отношения.
СЛУШАТЕЛЬ 3: В самом начале у вас в презентации было то, что у России есть возможность занять, скажем так, лидирующие позиции, плюс-минус, по сравнению с США и Китаем. Меня вот интересует такой момент: как вы видите перспективу развития Сибири и Дальнего Востока? Я так понимаю, что у правительства нет четкого понимания, как они вообще будут развиваться. И если говорить о ситуации в Забайкалье и на Дальнем Востоке, то там у нас уже китайцы, которым нужны от нас только ресурсы.
Д. Б.: Как раз с Дальним Востоком у госруководства картинка есть, и, надо сказать, довольно богатая. Значит, идея там — и, наверно, это правильно — это идея примерно двух шагов. Сперва капитализировать регион, создав там набор нормальных рабочих мест, городов, в которых можно нормально жить, за счет сырьевых и транзитных конкурентных преимуществ. Там еще недавно из Нерюнгри было выгодно возить уголь грузовиками. Сейчас там железная дорога уже, но был период, когда мы уголь возили грузовиками, и это было экономически оправдано. Потому что уголь там чуть ли не лучший в мире. Итак, на первой стадии реализовать конкурентные преимущества, которые под рукой лежат; на второй — попытаться разместить в регионе производства, которые дополняют Китай или пользуются спросом в АТР; образовательные системы…
Мы тот же «Суперджет» делаем уже в значительной мере в Комсомольске-на-Амуре. Это интересно отчасти потому, что «Суперджет», возможно (после того как загнулся проект «Ту-214»), станет основой, если удастся договориться со всеми, для широкофюзеляжного среднемагистрального самолета, ориентированного как раз в значительной мере на китайский рынок. Еще у них есть программа создания мощной сети аэропортов. С одной стороны, смещение активности в глубину страны, с другой стороны, перемещение населения в прибрежную полосу. Для того чтобы это делать, есть идея развивать наземный транспорт плюс региональный авиационный. Возить узкофюзеляжными — это пассажиро-кресло дорогое. Поэтому хочется иметь широкофюзеляжный самолет, который летает не очень далеко.
Гораздо более сложная тема — это что делать со старопромышленными регионами. Потому что туда надо заводить массовых инвесторов, в значительной мере часто рассматривая заводы как браунфилды. И что делать со Средней Россией, которая в значительной мере утратила качественное население, сельскохозяйственное в том числе. Если с Дальним Востоком у нас, по крайней мере, есть некий внятный набор идей, которые могут привести к решениям и к результатам, то вот массовая модернизация этой самой средней и старой промышленности — это вопрос гораздо более сложный. Вот об этом мы говорили. И здесь некая надежда на новые производственные технологии.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Вот смотрите, Забайкальский край. Это единственная в России территория, где земли приспособлены для круглогодичного пастбища. Соответственно, у них проблема в том, что у них нет рынка сбыта их мяса. Это на самом деле абсурдно, да? Когда мы закупаем мясо у иностранных поставщиков.
И при этом мы не можем поддержать отечественного производителя, который выращивает, по сути, баранов, овец, свиней и коров, при этом не на генномодифицированных кормах. Что с этим делать?
Д. Б.: Здесь серия тупиков, в которой мы оказались отчасти с советского, отчасти, с новейшего времени. Во-первых, овцы, козы, коровы и бараны — это просто разные темы. Большие мировые рынки есть свинины, и есть рынки говядины.
С говядиной проблема в том, что мы в советское время допустили грубую технологическую ошибку. Мы сделали попытку опираться на универсальные мясомолочные породы, в результате получилось, что они по выходу — ни мяса, ни молока, что любой универсализм хуже каждого из решений. То есть как молочные — они хуже молочных пород, как мясные — они хуже мясных, а еще все это погружено в специфическую социальную среду, которая на тот момент (может, сейчас там все улучшилось) не позволяла принять современные технологии, потому что комбикорм будет украден, а зоотехник сильно пьет.
Поэтому с крупным рогатым скотом проблема номер один — это проблема полной модернизации стада. Там надо натурально заменить породы. И второе — выращивание экологически чистой продукции. Вы можете знать о том, что у вас растет всякая люцерна, которая уже двадцать лет не знала удобрений, но вы должны в этом убедить покупателя. Для того чтобы убедить, вы должны иметь сертификационные центры. Вы должны выращивать эту скотину в строгом соответствии с протоколами, уже давно в мире выработанными. Тогда да, тогда вы живете в высокомаржинальном «зеленом» сельском хозяйстве. Но это штука капиталоемкая, у нас этих сертификационных центров толком нет. Создать можно, но насколько эти крестьянские хозяйства готовы жить, готовы себя подставлять под постоянный контроль этих технологических регламентов? Без них вашу продукцию «зеленой» просто не признают. Хотя вы можете мамой клясться, что у вас там все по-хорошему.
Со свининой вопрос более простой. С «зеленым» там вопрос такой же; с породами там, слава богу, все нормально, выращиваются быстро, это идеально для мелкого и среднего фермера, но зато мелкий и средний фермер уж точно не пойдет под контроль, и с сертификацией у нас вот проблема опять, у нас сети просто нет. Зато мы, правда, не в Забайкалье, а на юге России понесли колоссальные потери от чумы свиней в восьмом-девятом годах. Забайкалья это, кажется, не коснулось, но надо иметь в виду, что по нам это ударило очень сильно.
В целом сетку сертификационных центров создавать будут, но это половина истории. Вторая половина — это про то, насколько люди готовы реально влезать в сети сбыта, в сети производства, контроля и так далее, которые предусматривает «зеленая» сельхозпродукция. Иначе, я говорю, вы можете сами верить в то, что у вас все «зеленое».
СЛУШАТЕЛЬ 3: Нет, ну причем тут люди? Мне кажется, это должна быть со стороны государства такая инициатива. Если мы сейчас говорим об импортозамещении, правильно?
Д. Б.: Государство что может сделать? Оно может проинформировать, но информирует слабовато. Может стимулировать создание сертификационных центров. Может, как эстонцы, стимулировать ИКТ в сельском хозяйстве, чтобы фермер мог работать без заказчика. Но фермер принимает решение, что он становится под контроль технических регламентов. И первое, что вам крестьянин скажет: «Идите вы куда подальше с вашими этими регламентами, с соблюдением всех этих технологий; я лучше получу в два раза меньше, на рынке продам или продам заготконторе». Ведь правда же? У нас производство «зеленой» говядины — это крупные новые бизнесы, куда приходят инвесторы. Обычно иностранные, иногда наши, просто фанаты. Но это не существующие хозяйства. Вот человек решил работать, делать это маржинальным бизнесом. Да, есть примеры, когда там не просто грин-говядина, а еще и на свободном выпасе. Та вообще высшего качества. Но этот человек — фанат такого производства. Примерно как студент МАИ решил фирму по беспилотникам открыть. Теоретически можно, практически — это не каждый студент МАИ может, хоть там государство объявило кучу конкурсов, иди да делай.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Я бы хотел по сути вашего доклада, поскольку у вас указано, что вы будете говорить о технологиях прогнозирования, а не их результатах. Вот к технологиям два вопроса. Такой ключевой показатель, как рост ВВП, точнее, темпы роста ВВП… Его нормирование и это утверждение «Вот это плохо, это хорошо» — оно из каких параметров складывается, откуда такое судьбоносное внимание именно к этой цифири? Это первый вопрос.
А второй — в той мере, в какой, конечно, позволит формат, — об общей иерархии этих прогнозов, которые у вас составлены. Как эти инструменты собраны в единый пакет, как их связка у вас выстроена и как она работает?
Д. Б.: Первый вопрос проще. Там есть две похожие задачи. Первая — это какой прирост ВВП, но ВВП — это просто национальный ресурс, который мы, как хотим, так и тратим. Какой прирост ВВП нам нужен для того, чтобы одновременно иметь оборонные расходы такие, расходы на НИОКР всякие, в обозримые темпы модернизировать производственный аппарат с учетом вот такой потребности. На выходе вы получаете, на сколько у вас за этот период должен увеличиться ВВП. Соответственно сколько это в годовом выражении — ну это уже школьная арифметика. Это некий такой бенчмарк, примерно относительно которого вы можете отсчитывать, что 1% — это нам мало, 6% — вообще говоря, хватит, если только у нас перегрева не будет, и мы себе шею на этом прыжке не свернем, а 5% процентов — вроде это вот решает нашу задачу, 5–5,5%. Строго говоря, там 5,2 и 5,7 получалось. Вот это одна задачка.
Про иерархию прогнозов. Там логика какая. Сначала в рамках трендов строятся частные прогнозы, прогнозы типа демографического, прогнозы мирового уровня. Потом они корректируются. Это просто оцифрованные тренды. Потом на их основе, или смотря на них, мы строим качественный, а потом примерно количественно определенный прогноз мировой экономики. Потом смотрим на объективные тренды нашей экономики и, рассматривая прогноз мировой экономики как задающей тренд… СЛУШАТЕЛЬ 4: Темп роста экономики? Что значит «прогноз экономики»?
Д. Б.: Прогноз — это прогноз роста и основных пропорций для глобальной экономики. Нас в первую очередь интересует рост, динамика прямых иностранных инвестиций вообще, и сколько мы примерно можем отщипнуть; динамика долларовой инфляции, потому что от нее цены на нефть и вообще много чего зависит, рост процентных ставок, стоимости заимствования.
Нас интересуют даже не столько темпы роста, сколько структурные параметры: что это означает для машиностроения, для конкурентоспособности нашей продукции относительно импорта. Соответственно, да, получаем внутренние тренды и мировой прогноз. Глобальные тренды, оцифровка, глобальные сценарии, наши тренды, наши сценарии и расчеты… Здесь забыл прогноз глобальной экономики.
Так, мы получаем наши сценарии, наши расчеты, которые потом декомпозируются по отраслям, эффекты считаются и так далее. В мире нас по большому счету больше интересует глобальный ВВП, потому что это некий показатель интенсивности развития. У нас больше интересует, честно говоря, декомпозиция. То есть на ВПП не смотреть как-то дико, но гораздо интереснее, что там с отраслями, что там с инвестициями, что с платежным балансом и так далее.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Назовите, пожалуйста, три, по вашему мнению, самых опасных для России глобальных риска и три внутренних.
Д. Б.: Долгосрочных или текущих?
СЛУШАТЕЛЬ 5: Долгосрочных.
Д. Б.: Долгосрочный глобальный риск — это потеря позиций в мировой экономике. Я в свое время, где-то года два назад, попал на довольно неоднозначное мероприятие Академии госслужбы, когда они уже объединились с гайдаровским институтом и с АНХ. У них в рамках январской конференции презентовали какой-то европейский доклад о том, как классно развивалась Европа. Типа «Европейский союз — десять лет процветания». А уже вовсю шел, кажется, 2012 год, какое там процветание? Или 2011-й… И я им сказал, что стратегически у нас проблема одна, такая же, как и у вас: нам нет места, возможно, нам надо бороться за место в мировом разделении труда.
Второе — это то, что мы вынуждены решать в условиях, когда для нас кончилась мирная бесконфликтная пауза. Даже если нам удастся договориться сейчас с американцами, урегулировать украинский кризис, все будет «как при бабушке» — мы по-любому оказываемся втянутыми, например, в кризис в Центральной Азии, который почти неизбежен. И мы будем вынуждены решать все эти задачи в условиях, когда то тут, то там у нас неопределенные, возможно, высокие внешние риски. Потому что Средняя, Центральная Азия — это место, где мы не можем не стабилизировать ситуацию, потому что иначе ее придется стабилизировать где-нибудь у нас в Поволжье. Лучше все-таки в Центральной Азии.
И третье — это то, о чем говорила коллега: нас захватывает общеевропейская социальная, трудно обозначаемая проблема, связанная с кризисом в системе образования, с падением мотивации к образованию, падением мотивации к труду и так далее. У нас есть проблемы с квалификацией выпускников, склонных на ЕГЭ все списывать, что отчасти правда, отчасти нет, но, в принципе, точно такие же процессы идут в европейском мире и так далее. Очень интересные опросы, что порог снижения интереса к образованию раньше находился на уровне девятого-десятого класса школы или колледжа, сейчас он снижается до пятого-шестого. А это уже проблема, потому что мы к этому просто не готовы.
Мы все: что мы, что они.
Скорее всего, это проблема не только и не столько внутренняя, хотя мы, в общем, сделали все от нас зависящее, чтобы словить эту «торпеду». Мы не упустили ни одного шанса ее не словить, но проблема эта скорее глобальная, во всяком случае, европейская. В общем, нас накрывает какая-то непонятная социокультурная волна, которая идет точно негативно, но не очень понятно, как устроена.
Внутри страны первая и главная проблема — это платежный баланс. Потому что мы оказались в дурацкой ситуации, когда мы чрезмерно зависим от внешнего рынка и от внешнего рынка капиталов. Нам существенно нужны не только прямые иностранные инвестиции, например, деньги на поддержу банковской системы. Американцы, вводя санкции против капиталоемких энергетических компаний и некоторых банков, знают, что делают. И с другой стороны — от импорта. То есть у нас и в советское-то время производство качественной продукции в значительной мере базировалось на импорте оборудования. В свое время для меня была потрясением книжка Барятинского про Т-72. Там было расписано, сколько и каких импортных станков обеспечивало производство массового, недорогого мобилизационного танка. Это советское время. С каким-никаким станкостроением. И сейчас ситуация такая, что в среднесрочной перспективе для нас модернизация — это в значительной мере импорт компетенций.
Проблема номер два — социально-демографическая. Почти нет примеров, когда в мире бы был длительный устойчивый рост в ситуации снижения численности трудовых ресурсов. Это не проблема арифметики даже. Академик Еременко обратил внимание, что ряд рабочих мест в крупных экономиках должен иметь низкий статус. В сельском хозяйстве, в коммуналке, в строительстве. Эти места должны замещаться за счет новых трудовых ресурсов. В Китае это люди из деревни.
В Советском Союзе мы быстро росли, пока у нас был приток людей из деревни в города. Когда деревенский парень, причем испытывающий страшное давление — понятно, в колхозе была жизнь далеко не сахар, а в городе, даже на низших ступеньках лестницы, существенно лучше. Если он попадал по набору на стройку, мало того, что он оказывался не в колхозе, что уже неплохо, через некоторое время барачного жилья он уже становился рабочим, соответственно, получал жилье уже получше, получал возможность пойти в техникум, и лет через десять он, глядишь, или квалифицированный рабочий, а то и инженер. А то там дополнительные всякие возможности, связанные со службой в армии, в органах и так далее и тому подобное. Социальный лифт. Но изначально он проходил через нижние вот эти ступеньки.
Уже в Советском Союзе возникли проблемы, связанные с тем, что, когда мы откачали этот ресурс из села, мы начали как бы на село ногой наступать, и уже там началась откачка низкоквалифицированных и низкомотивированных кадров, отсюда производственный алкоголизм и так далее и тому подобное. Заодно мы очень сильно обескровили село. А сейчас мы вынуждены вообще заниматься модернизацией, заниматься попыткой прорыва в ситуации, когда у нас прироста трудовых ресурсов, которые, в частности, займут эти низкостатусные места, просто нет. Сейчас мы миграцией закрываемся. И этих ресурсов, в общем, толком нет. Есть некая надежда на неэффективную занятость, но там опять вопрос переселения по стране, жилья и так далее и тому подобное.
А это первый слой неприятностей, потому что второй слой — это вопрос мотивационный. Насколько люди мотивированы к изменениям, насколько люди мотивированы к участию в индустриальном проекте, к движению по этой лестнице. Потому что там уже не только не мотивированы к миграции внутри страны, пусть даже там откроют какие-то перспективы для детей. Понятно, что жители неслучайно не мотивированы, там есть, понятно, риск потерять жилье. Ты останешься еще в съемной квартире, или там в ипотечный тебя закроют, туда, куда тебя заманивали, а здесь уже все-таки работа, какая ни есть, и пусть она останется. Но сильно не мотивированы к работе и в производственном секторе. Вот мы с ОАК работали, одна из проблем там — нанять молодых на производство «Суперджета». Там накупили, наставили достаточно крутых, говоря молодежным языком, этих обрабатывающих центров, роботизированных. Это не работа в телогрейке кувалдой, отнюдь. Это работа лучше офисной, это возможность подняться, образование получить и так далее. Все равно молодежь предпочитает мало получать в офисах, без перспективы роста — это уже двухтысячные годы, уже закрылась возможность сделать себе карьеру внутри компании быстро, они уже пролетарии. Но все равно лучше сидеть около ксерокса в каком-нибудь там филиале чего-нибудь, чем стать рабочим. Хоть там оператором обрабатывающего центра, хоть чего угодно.
И третий момент — то, что мы внутренне не готовы к приоритезации. Причем ни в каком смысле. Работа — что с ОАК, что с железнодорожниками, что с наукой и технологиями показывает: они не готовы к высвобождению заведомо тупиковых тем. С одной стороны, мы не готовы закрывать направления, с другой стороны, мы, в общем, не очень готовы к прорывам. У нас не просто историй успехов нет, у нас нет, к сожалению, внутренней готовности сделать свое.
Иногда до смешного доходит, когда мы не хотим обсуждать национальную технологическую повестку дня. «Слушай, давай сделаем общемировую». — «Слушай, но общемировая — это повестка дня Японии и Америки, с их демографическими проблемами, с их биотехом, понимаешь? Проблема продолжительности жизни, старения и так далее. Мы не знаем, как решать транспортные проблемы северов. Почему это не является приоритетом, а борьба со старческими болезнями, извините, является? Почему борьба с простудой не является приоритетом, а борьба с болезнью Альцгеймера является, извините, при всем уважении к синдрому и больным? Ничего против никого не имею, но почему это так?». Это в общем на всех уровнях, к сожалению.
Вы хотели негатива, я его вам дал.
Е. Л.: Дмитрий, спасибо вам большое за три часа уделенного нам времени. Д. Б.: Пожалуйста.
Восточный взгляд на прогнозирование, бессмертие, устройство времени и пространства
ЛЕКЦИЯ 09 18/08/2014
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ)

Я буду представлять взгляд, который условно можно назвать китайским. Это моя интерпретация каких-то оснований китайской культуры, которые я честно пытаюсь донести и до китайцев тоже. Но, вы знаете, у Китая очень много прошлого будущего, если взять с каких-нибудь основ китайской цивилизационной парадигмы, которая началась очень приблизительно восемь тысяч лет тому назад. Вся эта китайская парадигма была изначально про время как феномен сознания, с этой точки зрения мы и будем говорить. Я предполагаю: то, о чем я сейчас буду говорить, — это как раз и есть некое будущее для китайского формата восприятия мира.
…Противоречие между западной и восточной парадигмами времени в том, что время в западной абстракции, в западном понимании — это есть некий абстрактный феномен. Еще раз хочу оговориться, что я вещаю в некоем поэтическом жанре. Поэтому я очень вольно обращаюсь со всеми фактами и в замесе неких платоновских, греческих, латинских идей, очень густо замешанных на Торе, на иудейской традиции, на каких-то христианских сектах, которые потом, пройдя через процессы инквизиции, через жесткую реакцию подавления любых типов мышления, пришли к позитивистской традиции, которая родила в конечном счете то, что мы считаем сейчас конвенциональным общепринятым видением мира. Оно дает совершенно другое ощущение времени как такового, то есть время не является в этой истории ощутимой категорией, ощутимой единицей.
…Китайская традиция идет с другой стороны, время в китайской традиции — это некий ощутимый поток, который идет через человека. Понятия прошлого и будущего в западной традиции, past and future — это некое прошлое, которое совершенного вида, которое прошло — и его нет. К тому же, это любимая такая псевдоинтеллигентская шутка про то, что прошлое уже прошло, будущее не наступило, а настоящего нет. Это истории, которые навеяны неправильными прочтениями плохих переводов древнегреческих текстов с арамейского, где все суета сует и томление духа, хотя в моем ощущении там речь идет совершенно о других вещах.
…Я имею в виду, что китайское ощущение рождается в первую очередь из «Книги перемен» и из сознания как главного феномена в этой вселенной, и сознание это определяется потоком времени, и в нем прошлое и будущее определяются понятиями, двумя иероглифами, которые лучше перевести как «приходящее» и «уходящее. Причем прошлое и будущее как последующее и предыдущее — это такие категории, которые все время идут из двух базовых координат — времени и пространства, и они все время путаются, что есть предыдущее, а что есть последующее. То, что прежде, впереди, или то, что после, впереди, или то, что уже потом… Это категории такие очень тонкие, на самом деле.
Если возвращаться к будущему в китайской концепции, то приходящее есть будущее, а уходящее есть прошлое. Сменяются акценты, собственно говоря, приходящее — оно же грядущее. Что это означает в китайской истории? Что как раз ничто никуда не девается. Есть волна, в центре которой ты находишься, собственно говоря, волна приходящего, волна уходящего. Она как-то сбивается, делает завиток, и все в огромной степени зависит от разрешающей способности твоих гаджетов, приборно-аппаратурных средств, которые ты смастерил с помощью данных тебе концепций в базовом концептуальном поле, которое сейчас является кибернетическим.
…Кибернетическая концепция разума — она же ведь что? Она привела к тому, что появился, следовательно, концепт, собственно появились компьютеры, появилась вся эта сеть; появилась неизбежно, с моей точки зрения. Там изначально уже закладывалось зерно в этой базовой концепции кибернетической парадигмы, которая была создана такими базовыми людьми, как Грегори Бейтсон, Норберт Винер и иже с ними. И основные труды Бейтсона «Nature of Mind» и шаги по направлению к экологии разума, теория обучения, теория шизофрении — они все занимались разумом. И они дали концепцию разума, которая неизбежным образом навязывается, попадает в наши мозги.
…Мы живем в концептологии, в которой понятие духа находится в очень сложной фазе. То есть до какого-то момента человечество не подразумевало вообще возможности отсутствия духа как такового, некой все пронизывающей силы, которая является организующим началом всего в природе и которая имела разные наименования в разных традициях. Все эти вещи в нашей понятийно-концептуальной запутанности не дают возможности в это самое будущее вглядываться. Мы имеем систему описания самих себя, которая дает определенный диапазон вглядывания в это самое будущее, и дальше этого самого диапазона ты не заглянешь. Что касается этой китайской истории, китайцы троичны в большей степени, и поэтому три базовых концептуальных системы, которые не могу сказать, что уживаются в китайском сознании, но они параллельно существуют в каждом образчике китайского разума. Это так называемая коммунистическая идеология, которая каждым признается за ложную, но вслух этого сказать нельзя. Вторая — это конфуцианская идеология, которая каждым признается за истину, но вслух этого сказать нельзя. И третья идеология — западная монетарная, которая, в общем-то, тоже не особо всем нравится и вплетается, но по-другому невозможно. И эти три единицы, которые между собой не стыкуются.
Китай находится в ситуации, когда программные оболочки, в которых человек существует, не стыкуются. Время становится ощутимым, время — это дух, человек является концентратором этого духа.
Другая важная вещь: в Китае существует традиционная китайская медицина. А традиционная китайская медицина субстанционализирует абстрактные всякие вещи, и дух является там ощутимой единицей, и душа является ощутимой единицей. И все они так же, как и в русском языке — дух, душа и дыхание — это однокоренные слова.
…У Чжуан-Цзы есть потрясающая по своей семиотической вдохновенности фраза, которая звучит следующим образом: когда ты берешь палец, чтобы с помощью пальца указать на то, что в пальце пальцем не является, не лучше ли взять не палец, чтобы указать в пальце на то, что в пальце пальцем не является? Если ты берешь лошадь, чтобы указать на то, что в лошади лошадью не является, не лучше ли взять не лошадь, чтобы указать на то, что в лошади лошадью не является? Десять тысяч вещей — один палец, все небо и земля — одна лошадь. Такой есть текст очень красивый, и я хочу сказать, он еще более становится интересным, потому что «чжи», этот самый палец — он в современном языке является, указателем, знаком. Собственно говоря, если ты в знаке берешь то, что в этом знаке не является принадлежностью этого знака, то не лучше ли взять другой знак, чтобы указать, и так далее.
…И «Книга перемен» такова, что дает другие способы обращения со знаками, значениями. Что получается, если мы берем три базовых субстанции, из которых существует человек — этот самый концентратор, генератор, адаптер, кондуктор, гаджет, дух, который себя именует «человек», он состоит из трех базовых планов бытия. Это, собственно говоря, план ощущений, который представлен телом. План дыхания, который представлен этой самой душой, в которой и происходят в просторечии переживания и чувства. И план духа, в котором протекают эти самые мыслительно-думательные процессы.
Это три потока, когда мы говорим об ощутимой версии бытия, когда мы говорим «тело» то, собственно говоря, мы говорим о потоке ощущений. С этой точки зрения западная парадигма отличается от восточной. Потому что эти вещи дают силу. Телесность все время связана с какой-то силой, и эти два основных критерия верификации вообще мира в западной традиции — это, конечно, зрение и осязание. Что есть зрение и осязание? Зрение и осязание — это два базовых потока духа, которые из центра идут вовне, по сути дела. То есть зрение, осязание. Посредине находится вкус, потом дыхание, потом обоняние и потом слух.
Если зрение и осязание являются основой западного восприятия мира, из которых лепятся образы, которые потом собираются в связки понятий, то восточная идеальная реальность базирует свои концептуальные построения на слухе и обонянии. На чем строится вся китайская конструкция? Будущее — ты к нему прислушиваешься и принюхиваешься. Если ты прислушиваешься и принюхиваешься, для тебя визуальная образность абсолютно вторична.
…Еще раз напоминаю, что жанр моего вещания — это поэтическое творчество. Можно найти, в общем, какие-то сопоставления и совпадения в действительно древних китайских текстах, которыми я с утра до вечера себя промываю, свое сознание. Так вот, будущее — оно все уже случилось, и это неважно. Важно, что ты про это узнал. Важно, более того, даже не то, что ты узнал про это, а важно, что ты узнал про себя. То есть работа с будущим заключается в том, что ты все время что-то узнаешь про себя, позволяя случаться тому, что случается, в общем-то, но только таким образом, что ты не ведешься на это.
То есть, как только тебя зацепило, это значит, что у тебя появилась проходимость каналов сознания. Что такое по-китайски тело? Это полупроводник потока времени. Существуют двенадцать каналов, меридианов, которые проводят эту самую «ци» (силу дыхания) по времени, это сила дыхания времени. Все потоки проходят через триста шестьдесят пять точек, собственно говоря, что соответствует, плюс-минус, количеству дней года. Собственно говоря, все китайское медицинское учение — это учение так называемых «у юнь лю ци» о пяти циклах времени и шести силах дыхания. Шесть этих базовых единиц, и эти шесть базовых единиц являются ощутимыми показателями движения времени.
…Вся китайская медицина — это прогностическая наука. Что делает китайский врач, когда к нему приходит больной. Он смотрит ему в глаза, ощупывает. Он оценивает состояние через ощущения. У западного человека с ощущениями все плохо, потому что очень плохие базовые сведения о психогигиене внутренней жизни.
…Чем отличается так называемый благородный человек (это тот, который интересуется в первую очередь самопознанием), в отличие от маленького человека, который в первую очередь интересуется выживанием как таковым? Отличается благородный муж от маленького человека тем, что маленький человек, если нет выгоды, не пошевелится, а благородный муж не будет ничего делать, если это не соответствует критериям совести. Это — осознанность. Это основная разница между благородным человеком и маленьким человеком. И одновременно есть еще у маленького человека такое определение: маленький человек маленькое зло за зло не считает, и поэтому никогда не воздерживается от маленького зла. А маленькое добро он тоже за добро не считает, и поэтому никогда не делает маленького добра. Каждый из нас — это и есть постоянная попытка из маленького человека вылупиться благородному, из этой мусорной кучи вылезти.
…Знаете, мой любимый анекдот чудесный, который я прочитал в книжке когда-то у Дениса Драгунского, о том, как это все происходит, как это будущее случается. Это когда Мойша собирается поехать в Жмеринку и выходит из дома, а навстречу ему Хаим, который говорит: «Мойша, а куда это вы собрались?». Мойша думает: «Если я сейчас скажу, что я поеду в Жмеринку, так он же увяжется со мной и таки попортит мне все мои дела. Лучше я ему скажу, что я еду в Житомир. А если я ему скажу, что поеду в Житомир, Хаим — он человек очень прозорливый и умный, не отнять у него этого — он, конечно же, поймет, что я сказал, что я еду в Житомир, чтобы он только не понял, что я еду в Жмеринку. Таки я скажу ему, что я еду в Жмеринку, в этом случае он подумает, что я сказал — в Жмеринку, потому что мне надо ехать в Житомир, чтобы он не узнал. Он подумает, что я еду в Житомир, а в Житомир ему не надо». «Знаете, Хаим, я таки еду в Жмеринку. — Мойша, ну зачем вы меня обманываете? Вы таки на самом деле едете в Жмеринку!».
…Если взять китайскую историю, в которой прошлое и будущее складываются из потоков через силу дыхания, все зависит от того, насколько у тебя по-настоящему разработана система восприятия и интерпретации тонких вещей. Человек описывается через какие-то предельные основания этих самых инь и ян, которые долго не помещаются в голове у западного человека, потому что по аналогиям они как-то не очень ложатся.
…Есть множество каких-то концепций, которыми обладает современный псевдозападный человек, потому что настоящего западного нет, так же как и настоящего восточного, а есть только суррогаты, которыми мы все являемся в разной степени. Этот псевдозападный человек может касаться будущего ровно настолько, насколько ему позволяют его эти все системы описания. И поэтому китайская цивилизационная парадигма сохранилась, по сути дела, единственная с каким-то еще аппаратом описания времени.
…Мы пользуемся календарем, не понимая, насколько зашиты в нем концепции. И если говорить о китайской традиции, то китайская традиция — это взаимодействие образов и чисел, в первую очередь. Есть образы, числа, законы и смыслы, четыре единицы, и «Книга перемен» представляет собой две базовых школы интерпретации. Одна — по законам и смыслам, другая — по образам и числам. Тема образов и чисел более нравится, потому что она такая более псевдонаучная, там что-то на что-то умножить, перемножить, разделить, посчитать и так далее. То есть можно снять с себя личную ответственность. А система законов и смыслов подразумевает, что ты по каким-то логикам и законам строишь какую-то историю будущего, но которую ты должен очень точно прослеживать.
…В китайской традиции существует своя система описания времени. Все вы знаете про китайский новый год. Это другая система праздников. Китайцы сохранили свой календарь. И они ведут этот календарь, в принципе, в каких-то частях своего этого большого тела социума, где мы являемся, каждый из нас, частями больших таких муравейников, где каждый из нас един. Другое дело, что наше самомнение и чувство достоинства (оно же — невежества) говорит: я — личность, в принципе, а это что там, муравейник, он сам по себе. Я думаю, что это такая тупиковая ветвь эволюции. У китайцев в каких-то этих определенных муравейниках существуют и сохранились еще эти знания.
И если говорить о самом будущем, будущее лежит в правильном концептуальном осмыслении и сопоставлении трех базовых этих семиотических традиций, которые представлены в современном сообществе текстами Торы, Вед и, собственно говоря, китайского Пятикнижия. Эти три базовых исходных источника, ресурса всей семиотики современного мира никто целостно не анализировал и не сопоставлял. Никто не пытался выделить все эти базовые единицы, из которых строятся все остальные системы ценностей как таковые. Та традиция, в которой мы существуем, я уже сказал, она вся сильно базируется на Торе. Я все время привожу свое собственное открытие, что каждый раз, когда мы говорим «в принципе», мы каждый раз ссылаемся на перевод из Вульгаты этого самого «Брейшит». «В начале» переводится в Вульгате на латынь как in principio. In principio creavit Deus caelum et terram, я не помню точно.
Я хочу обратить на это внимание, и это самое прошлое, на которое ты ссылаешься, отражает и отсылает тебя куда-то в будущее. На греческом, в Септаугинте это будет «эн архэ». А когда я читаю один из любимых моих древнекитайских текстов, там «шан гу». И в каждом из нас существует вся сумма времен от начала и до самого конца.
…Если говорить о китайской традиции и перспективах, то там один из больших циклов лежит в основе всех исторических трактатов, с этого начинается трактат Хань Шу и Хоу Хань Шу и так далее. Этот базовый цикл насчитывает двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч сорок лет. И в этом цикле мы сейчас находимся в точке, которая определяется, как десять миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцатый год. Современному западному человеку эти цифры ни о чем абсолютно ощутимо не говорят, ни в какие выгоды они превратиться не могут, и поэтому ценности никакой не являют.
Это связано с невероятно низкой разрешающей способностью этого самого духа, который запутался в огромном количестве слизи, забивающей эти самые каналы в человеческом теле. Почему в Китае все время хрюкали и харкали? По традиционной китайской медицине считается, что одним из самых сильных возбудителей болезни является мокрота. Она забивает внутренние каналы, по которым должна ходить энергия. А потом она превращается в опухоли. А по каналам ведь течет время…
…Каждый знак «Книги перемен», называя твою проблему, одновременно дает тебе возможность ее решить. Сейчас в Россию эта китайская тема хлынула. Хорошее время приходит, понимаете? Пошел запрос на эти самые знания.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Есть мнение, что в западной традиции время сравнивают со стрелой, в русской — со спиралью, а в восточной времени вообще как бы нет, оно как бы никуда не идет. Это справедливые метафоры?
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Нет, конечно нет. Если говорить о западной традиции, которая сейчас существует, время в ней линейное и измеряется единицами пространства. Когда ты берешь единицы пространственного измерения, эти самые единицы, которые визуально-тактильные, и начинаешь измерять ими время, то… Лобачевский нервно курит в тамбуре, потому что там кривые не сходятся и все, а должны сходиться, понимаете, параллельные прямые, бесконечно проведенные куда-то. Что касается русской традиции, я не знаю традиции, я ее не встречал.
РЕПЛИКА: Языческая спираль, насколько мне известно, ощущение времени.
Б. В.: Ни одного убедительного человека в этой области я не встретил, который бы сказал: сейчас точно такой момент времени, из него будет следующий. Здесь хотя бы говорят: сейчас 2014 год, через две тысячи… это точно будет, через две тысячи лет будет 4014 год. Может это мало что дает, но это точно. А китайская традиция — это круги времени. Круги ощутимого времени, круги обстоятельств, которые включают в себя и оценку этих обстоятельств, и реакцию мира на эту оценку, и твою реакцию на реакцию мира на эту оценку. Это восточная концепция времени.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Всем известно, что мир неделим, но сознание устроено таким образом, что оно его делит на две части — на внешний и внутренний. Внешний, естественно, проявляется в обстоятельствах, делах и состояниях, а внутренний — в теле, в дыхании и в духе. Это к вопросу, какие способы отношения существуют между телом, дыханием и духом.
Б. В.: Тело, это собственно говоря, качество и сила ощущений. Дыхание — это качество и сила переживаний. И дух — это вещество, качество и сила сознания.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Расскажите, пожалуйста, о последней какой-нибудь Вашей встрече с человеком, который Вас «зацепил», заставил о чем-то так не по-детски порассуждать.
Б. В.: Из последних, из самых, кто меня зацепил, был Хозе Аргуэльес. Этот автор майяского фактора. До этого был у меня еще такой Энтони Джадж, он был managing director «Union of International Association», такой тоже очень intellectual man, который тоже соединял «Книгу перемен» с какими-то такими целостными вещами.
В Китае меня вообще зацепил за все время, наверное, один человек по-настоящему. Его зовут Ван Даю. Он — автор большого количества книжек. Он себя позиционирует как писатель и мастер фэн-шуй. Он долгое время работал литературным реактором в издательстве (не помню, как оно называлось), и он пишет о некоем в основном в целом антропогенезе, что ли, с китайской точки зрения. И одновременно он сочетает этот мистический подход с палеографикой, и у него большие какие-то разработки по поводу того, как соединяется концептуально древнеамериканская система, вся эта панамериканская майяская — и китайская. То есть у него очень убедительный сравнительный анализ произведен с огромным количеством фактов, иероглифов, орнаментов, обычаев, обрядов, одежд, где он показывает единство этих систем, выводя друг из друга. Вот, пожалуй, этот человек тоже очень сильно повлиял.
Еще на меня сильно повлияла в целом уйгурская тема. Хотанские уйгуры, которые живут на границе Тибета и пустыни Такла-макан, которые являются хранителями сокровищ, по сути дела. Там я понял, что в Китае, который выше всего ценит нефрит, никогда никакого нефрита не добывалось. Весь нефрит всегда шел с гор Кунь-Лунь, которые тоже являются для китайцев такой очень важной концептуальной единицей, которая означает первородный хаос, из которого родится все. Там тоже никогда китайцев не было, но там всегда были уйгуры.
Если говорить дальше, то меня зацепил, конечно, Дагестан, дагестанцы, аварцы в значительной степени. Причем, опять же, не интеллектуально. Именно какой-то мощью своей внутренней целостности, простроенности как таковой. Вот, пожалуй, так.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Есть разные календари — лунный, китайский, двенадцать чиновников, двадцать восемь созвездий, разные праздники. На что в первую очередь нужно обращать внимание?»
Б. В.: Нет разных календарей, существует одна целостная календарная система, невероятно сложная, собственно говоря, календарная наука как таковая, и есть разные подразделы. Это приблизительно так же, как человек, который не занимается астрологией, его спрашивают: «Кто ты по знаку?» — он говорят: «Я овен». А человек, который занимается астрологией, говорит: «Ну при чем здесь овен. Овен — это, там, в общем, а смотреть нужно совершенно по-другому». И здесь та же самая история, что китайская календарная система — это целостная система описания феномена сознания во времени. Более того, не феномена сознания, а реально поведения этой д уховной субстанции через циклы времен, которые проводятся через каждую единицу по имени Человек, от рождения до смерти и дальше. Поэтому обращать внимание нужно, собственно говоря, на себя в первую очередь.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Вы говорили про время, а что Вы скажете по поводу пространства в китайской традиции?
Б. В.: Пространство как раз, в отличие от западной традиции, где время измеряется единицами пространства, то в китайской традиции пространство измеряется единицами времени. Есть два базовых высших образа — это Небо и Земля. Небо — круг, Земля — квадрат. Небо есть время, Земля — пространство. И небо является первичным, ибо это янское число, и оно порождает все остальные, на Небе единица, на Земле двойка, по сути дела. И Земля с этой точки зрения вторична. То есть, если говорить о западном раскладе, то в этом и проблема, что перевернули эти координаты. Все концепции, все эти описания Земли — они производятся концепциями этими временными. Это двенадцать знаков, это двенадцать земных ветвей, десять небесных стволов, это знаки «Книги перемен», это пять стихий и так далее, все вещи которые с Неба идут.
СЛУШАТЕЛЬ 6: У меня короткий вопрос. Можете как-нибудь просто рассказать о том, какие процессы в Китае происходят?
Б. В.: В Китае происходит сейчас попытка переосмыслить социальные достижения. То есть Китай, с моей точки зрения, пытается как-то соскочить с коммунистической идеи. Я в какой-то момент начал слышать от, например, каких-то бизнесменов среднего уровня о том, что коммунисты распоясались совсем, что все деньги принадлежат пятистам семьям в Китае, и все это коммунисты, собственно говоря. Ни одного человека под расстрелом не найти в Китае, который верит в коммунистическую идеологию. Одновременно сильна конфуцианская тема. Это тема построения семьи, уважение к старшим, любовь к младшим. Она существует, она должна использоваться в семье. И третья история — существует монетарная идеология консьюмеризма, которая уже дошла до какого-то своего беспредела, когда там было построено огромное количество миллионов квадратных метров жилья, которое никто не покупает. То есть они научились строить, они строили, они давали кредиты и приехали, в общем, в положение очень дискомфортное сейчас для себя.
Но решить эти проблемы, я еще раз говорю, возможно только на основании семантико-семиотическо-концептуалогически-идеологическом.
То есть Китай находится в очень крутом перераспределении, изменении, но китайцы значительно более, так как они заехали в период этих реформ более плавно, более мягко, у них в любом случае это меньше будет рушиться и разрушений меньше будет производиться сейчас как таковых. Но, тем не менее, они очень кардинальные, эти изменения, которые идут. Но я уверенно абсолютно говорю: если не займутся-таки идеологией серьезно, идеологией как технологией описания сознания, если не будет создано какого-то, более того, межгосударственного проекта, какого-то, на котором выйдут, то можно ждать больших неприятностей
СЛУШАТЕЛЬ 8: У меня два вопроса. Первый — концептуально-идеологический, второй — практически-экономический.
Первое. Понятия любви и творчества в китайской концепции времени.
А второй вопрос — степень влияния семьи Ротшильдов на политику и экономику современного Китая.
Б. В.: Любовь и творчество. Если говорить о любви, то это китайский иероглиф «жень», который одновременно означает человеколюбие. Это в концепции времени одна из пяти стихий. Это стихия дерева, которая соответствует печени, которая соответствует началу весны, которая соответствует энергии начала цикла как такового. Это любовь как таковая. Творчеству соответствует вера, которая находится в центре, это стихия почвы, которая является переходом через все стадии процессов. То есть через творчество происходит преобразование силы движения одной стихии в другую. Если год брать, то три месяца весны, которых девяносто дней — это семьдесят два дня движения стихии дерева и восемнадцать дней — стихия почвы.
Что касается влияния Ротшильдов — это я понимаю, из истории, где Ротшильды и Рокфеллеры както там между собой делят этот мир, правильно я понимаю? Я, конечно, про это слышал и читал много. Мне не представляется эта концепция вообще удобоваримой и рабочей как таковой. При этом несомненно существуют, с моей точки зрения, три источника оперирования ценностями на планете. Это авраамический, тот, который восходит и в бытовом раскладе еврейский, говоря об этом. Существует ведический — тот, который уходит в индуистскую историю. И существует китайский как таковой. То есть китайцы в любом случае играют с авраамической традицией, у них игра сейчас. Они поднялись, у них достаточно силы, и если они позволяют что-то с собой делать, то они только позволяют. Поэтому влияние вообще при этом удержания идеологической сферы в Китае очень мощное. Другое дело, опять же, о чем я говорил, что тройственность, сама эта идеологическая шизофреничность Китая делает эту историю плохо предсказуемой. То есть сами проводники идеологии, которыми там являются коммунисты, не могут верить уже в свою идеологию, на основании которой им приходится управлять, и эта вся история запутывается все больше и больше, и в геометрической прогрессии.
…Реальные ценности в современном мире — это способы генерирования ценностей. Это то, что китайцы еще пока не предлагали. С этой точки зрения они еще не развились, и я надеюсь, что таки у них это получится, потому что тогда бы появился третий фактор, третий игрок. Тогда система стала бы более устойчивой, потому что пока она на этой двоичности ходит — очень все опасно.
СЛУШАТЕЛЬ 10: Вы вначале сказали о том, что благородный муж занимается самопознанием. Есть такая идея предназначения, которая говорит о том, что так же, как все клетки в теле предназначены для выполнения какой-то своей функции, для покровной ткани, нервной и так далее, каждый человек тоже, в общем-то, предназначен для реализации, скажем, своего предназначения и что, в общем-то, ему нужно это найти и в деятельности это реализовать. Насколько это пересекается с тем, что Вы говорите о самопознании, или что такое самопознание и как Вы для себя его осуществляете? Спасибо.
Б. В.: Я считаю, что если этот самый благородный муж занимается самопознанием, то маленький человек себе спокойно пашет свою землю. Самопознание — это некое усилие, оно обязательно связано с временем и построением будущего вообще как такового. Это та точка, в которой волна будущего с волной прошлого схлестывается в каждом из нас, где которая разрастается до размеров вселенной.
Это умение чуть-чуть оказаться на мгновение прежде той точки осознанности, где ты находишься. И это есть некое постоянство усилия. Одноразово можно подвиг сделать, какую-нибудь глупость совершить во имя чего-то. Но настоящее усилие, которое совершает этот самый благородный муж, заключается в том, что ты с утра до вечера двадцать четыре часа в сутки, стараясь продлить причем этот бред как можно дольше, все время повторяешь и повторяешь одни и те же маленькие усилия, чтобы оказываться чуть-чуть прежде общего потока времени.
Поток времени. Если ты что-то делаешь со своим сознанием, только тогда ты можешь влиять на чтото. Во всех остальных случаях тебя толкнуло — ты толкнул, тебя ударили — ты ударил. А эта разница, когда на тебя пошел удар, а ты не с ответным ударом идешь, а ты что-то другое с этим делаешь. Это для меня есть самопознание.
СЛУШАТЕЛЬ 11: У вас прогнозирование получается?
Б. В.: Я 25 лет точно занимаюсь только прогнозированием в китайской традиции. И даже когда люди просят у меня погадать им по «Книге перемен», я гадаю, не проблема. Если ты веришь в то, что тебе это поможет — ну господь с тобой. Мне же совершенно все равно, куда это идет. Вообще неважно, понимаете?
Что такое прогнозирование? Прогнозирование — это основная функция духа в теле, то бишь работа ума. Ум только и делает, что прогнозирует, он больше вообще ничего не делает. Он все время ожидает, что что-то такое случится.
СЛУШАТЕЛЬ 12: В каком направлении нужно самосовершенствоваться?
Б. В.: В любом направлении. Но направлений не так много существует — это ощущения, это переживания, это образы, это понятия, это смыслы и действия, которые постоянно в тебе роятся. И ты должен уметь двигаться как по потоку, так и против потока ощущений, переживаний, образов, смыслов и действий.
120-летний человек, пьющий 30-летнее вино
ЛЕКЦИЯ 10 26/09/2014

У меня будет четыре части, друзья. Первая — философская, а последняя — поэтическая. А вторая и третья будут содержательными. В первой и четвертой тоже будет содержание, но оно будет передаваться в языке, который не все любят и не все понимают, но я постараюсь быть убедительным и в этих языках. Это первое замечание.
Второе замечание. Я понял, что мне придется начать лекцию так же, как Петр Щедровицкий начал. Я, естественно, поставил себе задачу пересмотреть все выступления до меня. И, естественно, первое выступление я смотрел, а на Петра даже рецензию писал, потому что меня задело его выступление. Может быть, у меня какие-то отсылки к нему будут происходить, чтобы эти 13 лекций были не как отдельно стоящие здания, а как хорошая европейская улица, где есть фасадная линия, где можно прогуляться и встретить кого-то.
Итак, 120-летний человек. Вся визуализация — это Крым. Чтобы вы наслаждались и понимали, что это не только море, но и другие ландшафты. Итак, вот они, 4 пункта. Анатомия будущего, пять энергетических оптимизаций, о чем я последние полгода думал и начал думать, пока это не ушло все в революцию.
Первая часть. Анатомия будущего. Когда я стал отвечать для себя на вопрос «Как я понимаю будущее?», я расслоил этот ответ на три горизонта или три прочтения категории «будущее». Первое очень простое, оно лежит на шкале «прошлое — настоящее — будущее». Это привычная шкала, и это, конечно, линейное мышление. Мы всегда понимаем, что будущее вытекает из настоящего и где-то коренится в прошлом. Очень много критики к такому подходу. В частности, если вы пересмотрите Щедровицкого, он там умело ссылается на блаженного Августина, тот показывает еще в V веке по Рождеству Христову, что если ты начинаешь вдумываться в эту категорию будущего, лежащую на такой шкале времени, ты вдруг понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Это невозможно ощутить. Поэтому потом философская традиция начинает связывать категорию будущего с онтологией. То есть упирается это все в наши представления о том, как устроен мир на самом деле.
Я на этой шкале покажу вам только один разворот, который меня лично заставлял задуматься. Это такой разворот, когда мы представляем будущее как тотальное будущее и прошлое как тотальное прошлое. Ведь, как вы помните хорошую советскую песню, «есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь». Жизнь и есть настоящее. И этот странный мир, который зажат в тиски бесконечного объема. Потому что в прошлом хранится или заархивирован какой-то конечный опыт. Это ведь вопрос не миллиарда лет, это вопрос об опыте, который распаковывается во все новые и новые варианты прочтения. То же самое и с будущим. Но это лишь один срез, когда вы смотрите на будущее.
Второй, который мне более интересно рассматривать, он лежит на шкале «заархивированное — наличное — новое». Это не то, что есть, и не то, что когда-то было тем, что есть, но то, чего нет. Будущее — это всегда новое, принципиально новое. И поэтому вы слышите критику, что будущее не вытекает из прошлого и, тем более, из его тающего ледника, настоящего. Будущее берется внезапно, непонятно как, берется усилием, берется волевой компонентой и буквально врывается из вечного. Но давайте размышлять дальше. Настоящее, оно же подлинное или прилично стоящее. Но будущее на этой шкале — это новая стоимость и новая подлинность, еще не оцененная. Поэтому философы все время утверждали, что будущее не берется ни из какого прошлого и ни из какого настоящего. И поэтому, когда мы начинаем размышлять о будущем, чертя эти тренды, а это самая распространенная методика угадывания будущего, это, конечно, как правило, все мимо. Пока у вас длится настоящее, оно точно лежит в этом тренде, который вы вытаскиваете из статистических рядов. Если вы встречаетесь с чем-то по-настоящему новым на этой шкале, вы это ни из какого тренда никогда не уловите. Я это стал понимать еще какое-то время назад, когда занимался профессионально демографией, потом, когда жизнь столкнула с политикой, ты вдруг понимаешь, что статистические ряды, базируясь на которых вы рисуете тренды различной сложности, не позволяют вам предугадать и тем более повелевать будущим.
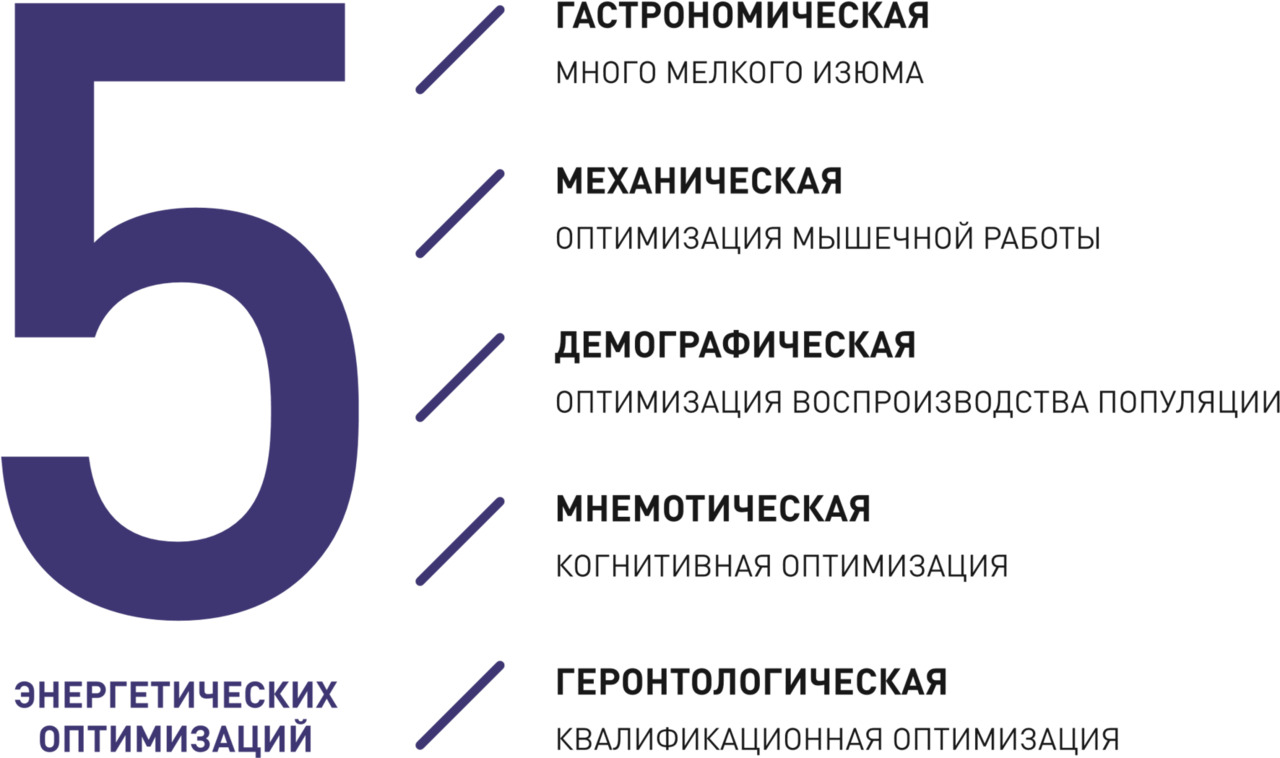
Поэтому есть третья шкала, я ее так назвал: «администрирование — управление — промысел». Будущее в русском языке согласно корню «будь», «будет». Есть то, что непременно будет. Чтобы вам это понять, я напомню вам историю. Помните, Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат ему снисходительно говорит: «Молодой человек, вы начните со мной разговаривать. Все-таки, от меня зависит, будете ли вы завтра живы или нет». На что ему Иисус говорит: «Действительно, ты думаешь, что от тебя?». То есть лица, принимающие решения, не принимают никакого решения о будущем. Будущее — это промысел, это то, что неизбежно будет, какие бы действия и тактические ходы ни осуществляли лица, принимающие решения. Вот научиться работать с таким будущим или научиться слышать такое будущее, или научиться в вере проживать такое будущее — это есть, мне кажется, во всех мировых религиях, и это практикуемо. Вот это первое вступление короткое, которое я вам обещал, и оно было для меня важно, потому что вам и мне нужен хоть какой-то методический аппарат для того, чтобы дальше размышлять о будущем.
Дальше вторая часть. Я буду говорить про оптимизацию в таком, очень нехарактерном ключе, как об этом размышляют. Но в какой-то момент, занимаясь демографией, я поставил три вопроса, которые, мне кажется, можно ставить. Хотя обычно, понятно, классическая наука так вопросы не ставит. Зачем нам 10 миллиардов человек? Вы знаете, что в августе 2013 года мы перевалили цифру 7 миллиардов и до 10 мы точно докатимся, даже если войны будут. Есть такая мощь. Зачем рост продолжительности жизни в 120 лет? А сейчас уже в ряде передовых стран, что касается женской средней продолжительности жизни, она 87–88 лет уже появляется, мужчины чуть отстают. Средняя. Это значит, что многие за 100 лет уходят при такой продолжительности. Соответственно зачем старение популяции, которого так боятся? Зачем оно нужно? Мы видим в этом только ошибку или мы в этом видим некий замысел, самореализацию популяции и ее возможности? Я отвечу в конце, но сначала дам вам определенное представление. Я недавно решил это н азвать «5 энергетических оптимизац ий». О чем идет речь?
Итак, первая оптимизация тела. Есть такая гипотеза дорогой органической ткани. Она говорит о том, что чтобы перестроить свое тело и высвободить место под крупный мозг, надо было чем-то пожертвовать. Так не бывает, что у вас есть взвешенная биологическая система, и вдруг вы можете взять и увеличить объем верхней части черепа, поместить туда мозг большего размера и большей энергоемкости. Как вы знаете, 20% поедает именно он. А у думающих людей или практикующих мышление мне всегда кажется, что гораздо больше. Так вот, гипотеза органической ткани говорит, что так не всегда было, нужно было чем-то пожертвовать. И такая теория была разработана, она у антропологов обсуждаема сейчас. И она заключается в том, что было произведено некое действие, в результате которого можно было бы сократить дорогую органическую ткань желудочно-кишечного тракта и вместо этого высвободить ткань под человеческий мозг. Для того чтобы это можно было сделать, нужно было вынести вовне нечто, передать нечто на аутсорсинг. А что можно было в этой ситуации передать? Процесс пищеварения. Первичный примат, который потребляет сырую пищу, должен обладать крепкой челюстью, определенного типа желудком, достаточно длинным ЖКТ, потому что эта плохо пережеванная сырая грубая пища, и это же еще и растения добытые, не специально культивируемые, не вот эти яблоки, которые мы с удовольствием едим. Чтобы это все переработать, вам нужна была бы определенная механика и органика. Как только человек научается теплом перерабатывать пищу, это означает, что у него высвобождается определенное количество энергии. При сыроедении у вас треть энергии, которую вы вытаскиваете из пищи, уходит на то, что вы ее перерабатываете. Это очень энергозатратный механизм. И представьте, что появляется ситуация, когда вы можете вынести это вовне, отдать на аутсорсинг, высвободив тем самым и время, и органическую ткань, и перестроить всю анатомию. Анатомия как перестраивается? У вас уходит мощная челюсть, у вас увеличивается верхняя часть головы, перестраивается мышечный каркас, там появляется место под мозг, сокращается желудок, сокращается длина ЖКТ. Антропологи все это описывают.
Когда я прочел про это, я задумался о том, что не было ли подобных попыток и в дальнейшем для того, чтобы выиграть энергию для каких-то других целей? Здесь очевидная, понятная вещь. Кстати, выиграли, понятно, мужчины. Потому что женщина тоже, конечно, перешла к теплой переработанной пище, но, в основном, она оставалась у очага и готовила ее, а мужское время сильно высвободилось на более сложные виды деятельности. Сначала хотя бы коллективная охота и потом пошло, пошло…
Что здесь еще важно? Давайте сначала второй шаг, а потом, если нужно, я вернусь. Итак, вторая оптимизация, до нее легко додуматься, это оптимизация мышечной работы. У вас есть две проблемы: перемещать свое тело в пространстве, то есть транспортная проблема, и тяжелый ручной труд по обработке металла, по обработке земли, по обработке зерна, например, и так далее. Для того, чтобы это решить, нужно было эту мышечную работу каким-то образом передать. Первое очень важное открытие связано с одомашниванием, соответственно, гужевое или тягловое животное, потом механические решения, которые нарастали и нарастали. Мы тоже эту мышечную работу, этот нудный, неприятный труд передаем вовне. Это можно сформулировать как гипотезу дорогой килокалории. Понимаете, вы ведь на эту тяжелую работу достаточно много тратите! Опять-таки вам нужно постоянно есть, потреблять энергию, чтобы потом осуществить эту самую работу. Как только человек начинает встраиваться и выращивать вокруг себя сложную систему и социальных взаимоотношений и взаимоотношений с механизмами, начинается совсем другая история.
Если бы на моем месте сейчас сидел Петр Щедровицкий, он бы от этой точки начал строить мыслительную конструкцию о разделении труда. Третья оптимизация очень важная, это оптимизация механизма воспроизводства популяции. В основе ее лежит гипотеза дорогого деторождения. Это так называемый знаменитый демографический переход, который традиционно описывается в том, что у вас в начале лежит очень высокая рождаемость и высокая смертность, и постепенно популяция переходит к такому режиму воспроизводства, когда у вас низкая рождаемость и низкая смертность. Здесь оказалось, что есть экологи и биологи, которые этим вопросом занимались еще в 1967 году. Они предложили две стратегии, назвали АР-стратегия и К-стратегия и посмотрели их на всем животном материале. И вы видите, отрыв даже по переходу к млекопитающим. Рыбы мечут так много и так мало выживают, что есть даже любимая поговорка у методологов, когда что-то у людей не получается, и они выбывают, что у мальков еще меньше выживает. А у крупных животных вообще единицы. Но человек по-своему решил проблему, которая была решена практически за XX век сейчас уже большей частью человечества. И есть все предпосылки считать, что это будет завершено во всех обществах, не важно, какую религию они исповедуют, не важно даже, в каком климате они живут. Здесь важна цивилизационная сдвижка. Итак, мы переходим от АР к К-стратегии, когда у вас уже практически в 100% популяция всегда выживает. В этом смысле вы можете потратить гораздо меньше времени на беспощадный режим функционирования традиционной женщины (это очаг и деторождение). Почему в 40 лет, если это не аристократка, женщины выглядели, посмотрите на фотографии, так тяжело? Потому что это бесконечная машина родов, да еще и, понятно, какие-нибудь зимние и весенние голодания естественные, потому что не хватало базы, и так далее. Итак, цивилизация приводит к рационализации и планированию так называемого прокреативного поведения. Здесь также применяется часто аутсорсинговая стратегия, это ребенок под ключ. Частный случай этого — ребенок in vitro. Я напомню, что уже порядка 4 миллионов детей в мире, которые живут — это дети in vitro, то есть из колбы, если еще точнее, из чашечки Петри. Искусственное оплодотворение и дальнейшая пересадка в матку женщины. Сейчас это все на глазах у нас происходит, это все разворачивается. Обратите внимание, я сейчас употребил еще понятие аутсорсинга. Каждый раз на каждом этапе он происходит. Вы что-то выносите за рамки своего тела. Это удивительная способность человека и только человеку принадлежащая. В первую очередь, вы выносите за рамки своего тела процесс переработки пищи, во втором случае вы выносите за свое тело процесс мышечной работы, в третьем случае — мы особо об этом поговорим — вы выносите за рамки своего тела процесс принятия решения, например, о генотипе будущего ребенка, и ряд вещей: помощь в оплодотворении, вынашивании, искусственные роды.
Четвертый шаг. Оптимизация мышления. Аутсорсинг счетности и памяти. Нам всегда не хватало этого ресурса и этой энергии. Задача, которая решается при этом, — задача масштабирования этих функций мышления до технической бесконечности. В пределе — общая единая память с индивидуальным доступом. Причем как человеку, так и машине. Мы, помню, на первом Форсайт-пароходе обсуждали ДИК-тренд, там мы его так определили. Дигитализация, интернетизация и когнитивизация. В чем он заключался? Все, что должно быть оцифровано, будет оцифровано. Практически все оцифровывается, и практически возникает вторая в цифре реальность, из которой начинаются многие вещи. Владимир Княгинин, который тут выступал, любит рассказывать о том, что сегодня практически все новые вещи, все новые проекты появляются сначала в цифре. Дальше все, что может быть подключено к интернету, будет подключено к интернету, то есть к единой сети. Все для того, чтобы быть связанным с чем-то другим, в том числе с вами как управляющей системой. И все, чему можно придать мозги, тому будут преданы мозги. Собственно, когнитивизация. Все это позволяет создать принципиально новую реальность. И вот мы уже наряду с другими участниками этой реальности в ней участвуем. Тренд этот, на самом деле, длинный. Потому что, если вспомните Платона, у него есть одно из таких размышлений, когда в Египте появляется письменность. И уже тогда мы слышим этот стон о том, что раньше люди были настоящими, они помнили, они с памятью работали по-другому. Сейчас, когда ты начинаешь доверять письменности, ты уже не запоминаешь какой-нибудь эпос наизусть и так далее, ты просто знаешь, где это лежит, ты можешь взять это и прочитать. Вот эта тенденция разворачивается все больше и больше. Вы сегодня в эти облачные технологии стремитесь поместить вообще все! И способ мышления перестраивается, потому что и счетность мы передаем на калькулятор. Более того, сегодня мы уже решаем новые задачи, которые не могли быть обеспечены счетностью, сидевшей только в вашей голове. Вы должны были создать машины, которые были способны развернуть такого качества счетность, что вы решаете целый ряд задач, недоступных ранее. То же самое происходит с памятью.
Очень интересный вопрос, подо что высвобождаются мощности нашей собственной головы?
И пятая оптимизация, можно ее назвать оптимизацией издержек на квалификацию. Это гипотеза дорогого образования. С той продолжительностью жизни, которая сейчас все возрастает, когда вы можете говорить о том, что человек и в 40, и в 50, и в 70, и даже в 80 лет вполне трудоспособная единица без маразма, без болезни Паркинсона и всех других особенностей. Вы можете по-настоящему отнестись к гипотезе life long learning, этого бесконечного, длиною в жизнь образования. Потому что все life long learning в нынешней дидактике и педагогике, они весьма забавные. Если бы вы совместили с графиком обучения, у вас кривая с одной вершиной, приходящейся на эти 20–25 лет. А дальше у вас плоскогорье, где вы немного подучиваетесь и так далее. У вас возникает другой рисунок, конечно, впервые, потому что длинная продолжительность жизни вам позволяет совсем по-другому перераспределить в том числе свое обучение. Я понимаю сейчас в силу того, что все равно время от времени начинаю входить в какие-то новые специальности, если не профессии, что к 50 моя способность к обучению выше, чем была у меня в 20 лет. И конечно же, я понимаю, что это тенденция, это тренд. Представьте, что у нас появляется поколение людей, которое к 50–60 годам учится эффективней. Под задачи уже, под многие другие вещи. Это другая картина, и в этом смысле все эти МООКи, про которые рассказывает Дмитрий Песков, все эти индивидуальные образовательные технологии, они все только сейчас будут всплывать по-настоящему. Да, до этого это были лабораторные вещи. И в этом смысле квалификационная оптимизация, знаете, в чем она заключается? В том, что вы только при большой продолжительности жизни можете рассчитывать на действительно очень дорогое образование, потому что вы понимаете, как это окупится. При 40–50-летней продолжительности жизни (или хотя бы 50-летней трудоспособности) после 50 он уже развалина, вам такие инвестиции никогда не потянуть. И это другое общество, начинается совершенно другая интересная игра.
Что здесь еще важно? У каждой из этих оптимизаций есть своя темная сторона. Я тоже про нее должен сказать. Итак, первая оптимизация. Сегодня современный человек демонстрирует свое неумение справляться с доступными килокалориями. Никогда не было такой истории с лишним весом, отсюда все остальное: диабет, и пошло-поехало. Это та самая доступная килокалория… Понимаете, эту идею гастрономии, если вы ее доводите до абсурда, вы получаете фастфуд. Это наиболее легко усваиваемые килокалории, предлагаемые в наиболее удобном, ленивом формате для общества. Если нет иммунитета против этого или культуры, то люди попадаются. Получается, что берете срез какого-нибудь общества и видите, что, как правило, подтянутые и спортивные — это верхние слои или совсем нижние, которые до сих пор не имеют доступа к дешевой легкоусваиваемой килокалории; весь этот фастфуд, вся эта сахаризация, эти энергетические напитки — это продолжение всего лишь того тренда, который берется из неолита.
Вторая оптимизация к чему приводит? Конечно, к гиподинамии. Мы понимаем, что анатомия не может поспевать за цивилизацией. Через несколько поколений люди, которые неспособны выстраивать по отношению к ней свое поведение, конечно, уступят другим поколениям людей. Естественный отбор сделает свою работу. Но его темпоритм не сопоставим с темпоритмом цивилизации, поэтому мы не можем полагаться на естественный отбор. И то же самое с мужской работой. Да, мы отдали тяжелую работу, но мы зашли в фитнес-залы и в СПА-салоны, чтобы найти какой-то другой способ дать работать нашей мышечной системе. Но красота цивилизации в другом! Красота цивилизации той же античности в том, что ты мышечную работу, которая необходима твоему телу, органично вписываешь в ситуацию и тонкой культуры, и философской культуры и так далее, а не так, что ты ее добираешь в искусственных средах. Извините, фитнес-зал для меня — искусственная среда, специально сконструированная для того, чтобы как-то поддержать человека. Точно так же, как фармакология.
Третье, оптимизация репродукции. Здесь темная сторона, все более распространяющийся страх перед естественностью. Самостоятельно зачать, самостоятельно выносить, родить. Страх генетических ошибок. Отсюда этот огромный запрос на ребенка под ключ и на генную инженерию. «Посмотрите, ничего не напутано? Давайте кусочек вырежем этого генного кода, вклеим правильный, здоровый». Както мы обсуждали, к чему это все ведет. Конечно, к новой этике, когда даже родителей будут корить, что они полагаются на волю случая и дедовским способом зачинают детей. Почему? Дайте своему ребенку лучший старт! А это значит, прибегните к искусству генного хирурга.
Четвертое, оптимизация в области мышления, о которой мы говорим, это все, что связано с памятью. Понимаете, память, это ведь способность держать длинные силлогизмы в том числе. Приводит к тому, что формируется массовое клиповое сознание. Все очень короткое, все на очень короткой дистанции. И ты длинный текст просто не можешь транслировать физически. И в аудитории не можешь. Я отказывался вообще бакалавриату что-то преподавать. Просто треть энергии, как у неандертальца, уходит на то, чтобы удержать внимание этой аудитории и чтобы что-то рассказать. Это последствия оптимизации.
Соответственно, пятая оптимизация, здесь темная сторона, конечно, позднее взросление, падение пассионарности популяции. По сути, получается, что у целых наций нет энергии на преодоление очередного фазового барьера. Есть теория фазового барьера, смотрите Сергея Переслегина, он про это достаточно умно и точно говорит.
Еще несколько вещей по этой теме. Это вторая часть, я буду ее завершать. Аутсорсинг указывает на шаг в сторону усложнения социальной организованности и усложнения схемы разделения труда, смотрите Петра Щедровицкого, его лекции. У ученого мира есть гипотеза социального интеллекта. Ее просто с разных сторон защищают, показывают и даже смотрят по животным и по насекомым по поводу того, какая корреляция есть между социальной организованностью и устройством мозга и более сложными решениями. В этой связи я вам скажу про социальные сети, которые так ругают, потому что, говорят, пришел «Фейсбук», например, или «ВКонтакте», и глубина коммуникаций между людьми упала, а массовость выросла. Я бы не выносил характеристику, что это плохо. Я думаю, что это перестройка просто под другую социальность, а значит, под другой интеллект. Способность думать тысячью друзьями одновременно. У вас не может быть с ними такой же глубины отношений, как с тем человеком, с которым ты каждый вечер ужинаешь, например, но думать тысячью друзей и за счет этого ставить и реализовывать какие-то задачи, исследовательские, проектные или управленческие — это очень интересный способ развития своего интеллекта. И конечно же, в этом смысле мы можем оценивать социальное устройство…
Оптимизация указывает на способность к стратегии. Достижение результата в ситуации недостатка ресурсов. Оптимизация тела индивидов популяции, как в первом случае, оптимизация расходования килокалорий, как во втором случае, оптимизация механизма воспроизводства популяции, как в третьем случае. Понимаете, женщина впервые высвобождается для всего! А у нее задача, например, в 30 лет первый раз родить, а потом в 45, или в 30, 35, и потом уже дети взрослые. Это другой объем совершенно времени для творчества, для карьеры, для образования, для какой-то тоже проектной работы. Никогда за эти миллионы лет (будем говорить о homo sapiens) женщина не имела такой возможности, если только она не оказывалась в этой редкой аристократической позиции, когда все за тебя делают слуги.
Дальше оптимизация мыслительной силы популяции и так далее. Еще раз, оптимизация указывает на способность к стратегии. Здесь трудно выделить субъекта этого стратегирования, но по характеристике, что есть стратегия, я могу это утверждать. Потому что стратегия — это есть оптимизация твоего движения в ситуации недостатка ресурсов.
Я тогда перейду к ответу на вопрос «Зачем?». Если учитывать ранее сказанное, я бы отвечал так. Первое, запрос на массовые сложные компетенции, под которые необходимо длинное образование и длинный жизненный путь. Поэтому нужно 120 лет. Пока у вас не появляется гигиена, вы не можете делать крупные города. В средневековье численность среднего города упала по отношению к античному миру потому, что они потеряли гигиеническую культуру. Любая скученность людей без гигиены приводит к вспышке эпидемии и, соответственно, к массовой смертности. Как только научились, опять восстановили, пошло-поехало. Так и здесь, для того, чтобы накопить людей со сложными компетенциями, просто нужно время, нужна другая продолжительность жизни, причем массовая, а не отдельных людей.
Потому что вы не знаете, у кого какая одаренность.
Вы работаете со статистическими рядами.
Второе, запрос на менее рисковое общество в мире, который стал более хрупким и с точки зрения биосферы, и с точки зрения техносферы. Поэтому старение. Оно же кантовское взросление. Здесь про что? У Западных коллег есть эта тема, когда они сравнивают какую-нибудь арабскую и европейскую популяции. И задают вопрос, почему столько агрессии и так далее? Очень молодые. В том числе не включенные в такие сложные социальные системы. Но главное — молодость. Ты берешь какое-то европейское общество, все более взвешено, все более налажено. Почему? Потому что у этих людей нет биологического желания к риску. И поэтому в ситуации, когда у вас технические системы все усложняются, а ошибка или катастрофа несет все большую цену, когда у вас сила человечества в целом может реально повредить биосфере, конечно, такое более зрелое и ответственное общество необходимо. А вы его достигаете даже просто путем старения, когда у вас средняя продолжительность жизни растет, и когда у вас медиана этого возраста популяции достаточно высокая. Немцы ведь к этому все время готовятся, постоянно. И я даже знаю коллег, которых нанимали, чтобы они проектировали немецкий образ жизни и институты, которые связаны, под среднюю продолжительность 60 лет. Это значит, что у вас в эту сторону от 60 и в ту сторону от 60 примерно равные крылья лежат. Это значит, надо спроектировать политический процесс, потребление, транспорт, как должны выглядеть города, как должна строиться безопасность. Потому что под этих людей нужно продумывать другие инструменты предоставления безопасности. Они ведь не на скейтах катаются, но зато у них инфаркт может быть ночью.
И третье, запрос на новую сложность. Гипотеза экономической плотности и пирамида компетенций, у которой всегда остается широкое основание, поэтому 10 миллиардов. Как это объяснить? Вообще, сейчас вы видите, в мире формируется несколько 30-миллионников. Это очень крупные массивы с очень высокой плотностью. Есть гипотеза, что только в таком массиве есть возможность построить сложные компетенции, которые всегда лежат на более нижних слоях. Грубо говоря, когда вы берете город, у вас ведь все равно никто не отменяет задачу, чтобы убирали мусор, кто-то занимался водопроводом, кто-то варил хороший кофе. И у вас набирается очень большой слой, и вы только наверх можете вывести сложные специальности, которые нуждаются во всех остальных. И понятно, чем у вас шире основание, тем у вас более крупный массив этих сложных видов деятельности. Есть какие-то другие формы оптимизации? Конечно, есть!
Вот способы ответа на вопрос, зачем 10 миллиардов, зачем 120 лет и зачем постарение населения.
Третья часть. Теория трех эпидемиологических переходов. Мы делали нечто с цивилизацией, в результате чего мы получали каждый раз прирост средней продолжительности жизни порядка 30 лет. Грубо говоря, европейская средняя продолжительность, выходящая из XVII–XVIII веков, — это 30–35 лет. Понятно, в период XIV века черная чума, она еще более падала, а в хорошую викторианскую эпоху она могла подрасти и до 40 лет. Но средняя продолжительность 30–35 лет. Как вы понимаете, это в основном за счет того, что высокая младенческая, детская смертность, смертность рожениц. Соответственно, второй эпидемпереход дал нам скачок в продолжительности еще 30 лет, условно, до 90 лет, сейчас мы наблюдаем, как произошло это все. И сейчас готовится третий такой же. Этот третий кусок тоже дает 30 лет, и это каждый раз за счет пакета мероприятий. Вот мне кажется интересным рассмотреть сам этот пакет мероприятий.
Итак, первый эпидемпереход. Вода. Античный мир знал акведук, то есть доставку хорошей чистой воды с гор. Город мог приобретать соответствующие размеры. Чистая вода — это и здоровье горожан, это и хорошие гигиенические условия и так далее. Потом эта технология была забыта и потеряна, но водопроводная труба и канализационная труба, которые были открыты (это были настоящие открытия), позволили дать в города безопасную воду. Технология хлорирования, один из самых дешевых способов подачи безопасной воды. И ее не можете назвать чистой водой, хлорированную воду, но она безопасна с точки зрения микробов, с точки зрения инфекций. До сих пор коллеги, которые работают с Африкой, рассказывают о том, что самый эффективный доллар, который вы вкладываете для того, чтобы улучшить ситуацию, это доллар в канализацию. Это доллар в то, чтобы отвести грязные воды, и они не смешивались с питьевой водой. Потому что все остальное бессмысленно делать. Вот нужно было решить эту задачу, и вы увидели, что она реально стала решаться в XIX веке. В России она реально начала решаться в XX веке, отсюда, соответственно, наше отставание по продолжительности жизни, которое мы закладывали.
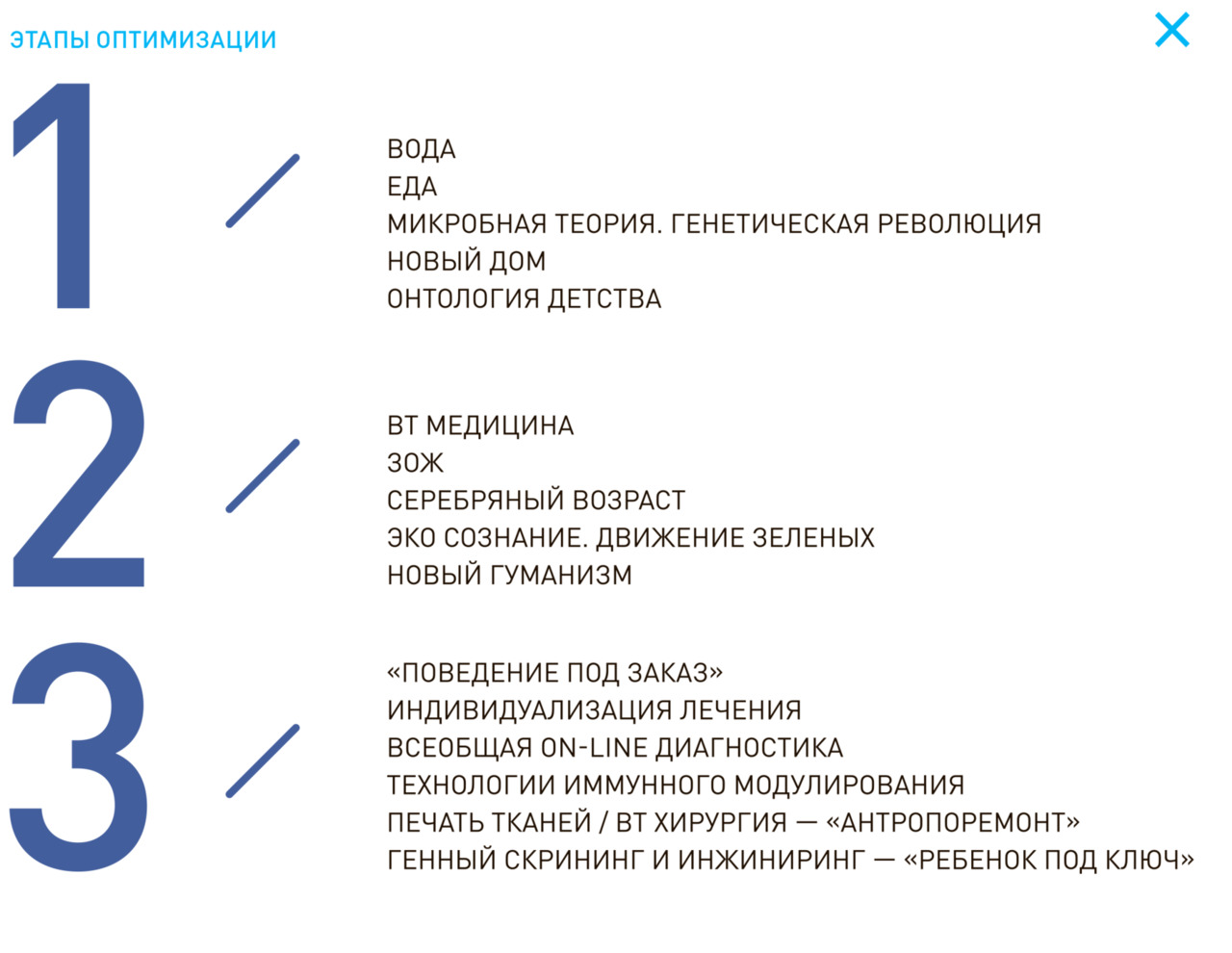
Еда. Это тоже понятная вещь. Если у вас массовое голодание, да еще в период зимы-весны, это значит, у вас падает иммунная система. Если у вас массово упала иммунная система, значит, у вас все предпосылки к вспышке эпидемий. Поэтому с едой должен быть порядок. Почему так любили империи? Потому что империи организовывали большие рынки. Что давал огромный рынок? У вас природные циклы так расположены, что у вас всегда где-то урожай, где-то неурожай. Когда у вас большой рынок и хорошие дороги, вы можете быстро и оперативно все это перебрасывать. У вас всегда где-то избыток, а где-то недостаток. Как только вы теряете эти вещи, например, когда Римская империя перестает контролировать дороги и два главных рынка хлеба, а это африканский рынок (что позже Магрибом будет названо Карфаген) и дунайский рынок хлеба. Сама Италия к тому времени уже не производила никакого зерна. И соответственно, последствия: под волнами варваров все хуже и хуже. Здесь же важно и технологии консервирования рассматривать обязательно! Это уже вторая половина XIX века. Например, пастеризация, связанная с именем Пастера. Почему? Потому что технология консервирования дает вам возможность эту колебательную кривую сгладить. Осенью урожай, и у вас избыток, а весной еще нет нового урожая, и у вас предельное падение, а после зимы ослаблен организм. Технология консервирования позволяет переместить эти продукты просто, часть этих продуктов с осени на весну.
Дальше микробная теория. Вы можете себе представить, что еще в середине XIX века ученые не верили в микробную теорию?! А не веря в микробную теорию, нельзя было перестроить все медицинское дело. Я на лекциях, которые читаю, часто привожу цитаты, сейчас я не буду это все делать, по Крымской войне, например, или по Парижу второй половины XIX века. Там смерть от инфекций, связанных с ранениями, или смерть от пули или осколка 1 к 20. Почему русская хирургическая школа поднимается в Крымскую кампанию? Потому что небольшое загноение — резали и, соответственно, ставили технику хирургии. А резать нужно было почему? Потому что иначе не могли остановить процесс заражения крови. А парижский пример характерен следующим. Когда стала развиваться медицина, соответственно, женщины стали рожать в больницах, и это, как ни странно, повлияло худшим образом. Мужчины, которые были врачами, перемещались из пространства в пространство. Здесь они учат студентов, например, в анатомическом театре, то есть они режут, здесь они смотрят гнойных больных, а потом они заходят и принимают роды. И переносят все эти инфекции. Каждая пятая роженица в Париже умирала! Это была трагедия. Были всегда люди, которые пытались ответить на эти вопросы, часто рисковали репутацией за это, например, Земельвайс, австрийский врач, который понял, что дело в микробах, и стал уговаривать своих коллег. Они его высмеяли, он закончил свою жизнь в психиатрической больнице. Хотя он буквально в своей больнице внедрял антисептику и показывал, насколько это эффективно работает.
В общем, предел этого — открытие пенициллина. И вы точно можете знать, что его открытие было в 1926 году сделано Флемингом, насколько я помню, но только в 1942–1943 году вышло на промышленные масштабы.
Дальше для меня еще интересней. Новый дом. Понимаете, первый эпидемпереход характерен тем, что появились инновации практически в каждом доме. В каждом доме появился санузел, одно из величайших изобретений. Потому что это место, куда вы сможете свести подачу чистой воды, отведение грязной воды, и там разместить все средства гигиены. Понимаете, просто не было такого! А это нужно было изобрести, ввести в норму, спроектировать и установить как обязательные вещи для каждого дома. И это дало фантастический рывок. Соответственно, моющие средства я упомянул, они должны быть в доме. И то же самое холодильник. Портящиеся продукты, не портящиеся продукты. Холодильник — величайшее изобретение, позволяющее перебрать. Фактически, появился новый дом, и у вас появилась новая история, новая продолжительность жизни.
Наконец, онтологические вещи. Произошла онтологическая сдвижка. Гигиенисты и социологи конца XIX века, которые работали в России, показывали, что практически невозможна пропаганда гигиены, потому что когда ты разговариваешь с крестьянами, у родителей простая установка: дети — это то, что бог дал, бог взял. Рефлексия по поводу того, что ребенок умер, казалась излишней. Более того, она казалась какой-то антирелигиозной. Как же, это ведь понятно, что дети, они с Небес приходят, поэтому они туда же и уходят. А переход к тому, что «да здравствует мыло душистое», — это сложная конструкция. Ведь часто смеются над Корнеем Чуковским за эти строчки: «Как из маминой из спальни кривоногий и хромой…» У людей разные ассоциации на эти слова. Я читал письма Корнея, а он пишет: «Меня поклевывают за эти вещи, спрашивают, что я курил, когда писал это?», а я говорю: «Вы не представляете, какое количество мальчиков и девочек Советского Союза под воздействием этих стихов стали просто мыть руки и чистить зубы!». Важнейшая вещь, без которой не бывает никакой продолжительности жизни.
Понимаете, нет золотого решения, нельзя сказать: «Вот у меня есть какое-то новое технологическое изобретение или социальная новация. Я ее делаю и облагораживаю сразу всех». Нет, это пакет решений, и это, конечно, сумма подвигов отдельных людей, которые пробивали эти решения.
Второй эпидемпереход. Что для него важно? Конечно, это уже высокотехнологичная медицина. Это и диагностика, и сложные операции, это и более сложная диагностика и так далее. Как только вы очищаете смертность от эпидемий, появляется другой род проблем, связанный с эндогенными проблемами. У вас смертность на этом куске продолжительности жизни связана, как правило, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте онкология. И вам нужно развернуть так высокотехнологичную медицину, чтобы эти риски не снимать, в смысле, убирать вообще, а отодвигать. Вот сейчас у нас немного лучше ситуация в России, а когда вы еще 5–8 лет назад берете два рисунка смертности какой-нибудь страны Западной Европы и Российской Федерации, то вы увидите, что там умирают от того же самого, только на 15 лет старше. А это организация высокотехнологичной медицины, которая не только должна быть, но еще должна быть применена. А тут возникают сразу конструкции, например, страховой медицины. Потому что не только должна быть больница, в которой есть кто-то, кто может сделать своевременную операцию. Вас туда должны доставить, и у вас должны быть основания, чтобы вам сделали эту операцию. У вас либо это социализм, либо страховая медицина. Потому что кто платит? А высокотехнологичная медицина по определению дорогая.
Следующий момент. Здоровый образ жизни. Оказалось вдруг, что недостаточно только медицинских возможностей, в этом смысле вы не можете это положить исключительно в инженерию. Для того, чтобы у вас люди имели продолжительность не 60 лет, а 85, они должны сами что-то делать. Потому что они же еще и помещены в ситуацию, помните, когда мышечные усилия передали на аутсорсинг, мыслительные передали на аутсорсинг, едим бройлеров, воду заменили энергетическими напитками. То есть сами еще все и ухудшили предельно. И вот вам нужно вводить массовое образование и создавать какие-то образцы для того, чтобы люди ему следовали. И это постепенно, постепенно… Это, как правило, связано с культурной революцией, которая на Западе в 1960-х годах в лучших условиях протекала и привела к более экологичному сознанию и сознанию, больше нацеленному на себя, на конструирование себя, своего здоровья. У нас в России этого было гораздо меньше, отсюда наше 15-летнее характерное отставание.
Третий момент. Нужна была философия и культура «серебряного возраста». То есть за 50–60 лет. Что это? Не старость, что это, на самом деле? Расцвет? Золотая осень, как ее стали называть. Что это как раз, наоборот, гормоны успокоились, счет в банке уже есть, дети уже выросли и уже не зависят от тебя. Начинается самое прекрасное время, и ты можешь, наконец, заняться тем, о чем всю жизнь мечтал, но не мог себе позволить. Или ты и раньше себе много чего позволял, но теперь ты позволяешь себе с большим умом. Это серебряный возраст без которого вы не выигрываете эти поколения 60–70 лет. Потому что мы очень много рассматривали мужскую сверхсмертность, которая для России, Украины, Белоруссии, Казахстана была характерна. Она была связана с тем, что в этом возрасте у мужского поколения нет смысла, нет таких социальных институций, которые им позволяют эти смыслы построить. Попробуйте побегать трусцой в Москве и попробуйте побегать трусцой где-нибудь в Германии, в Калифорнии, в Израиле и так далее. И сразу все сравнить. И что с этим делать? Слава богу, сейчас Москва так много работает с центром. Эти инновации очень нравятся.
И новый гуманизм — это та самая культурная революция 1960-х годов, которая положила такое представление о человеке, которое позволило реорганизовать все социальные институты для того, чтобы работать с этим возрастом. Тут, соответственно, то, ради чего затеяли этот цикл лекций, здесь мы будем говорить совсем о любимых темах, которые люди любят обсуждать.
Итак, за счет чего можно обеспечить третий эпидемпереход? Или как мы сейчас, всматриваясь в то, что происходит, вытаскиваем компоненты, из которых будет сложен третий эпидемиологический переход? Первое — это, конечно, программа «Ребенок под ключ», генный скрининг и инжиниринг. Я отчасти этого уже касался, еще раз повторю. Итак, есть представление о том, что многие заболевания коренятся в человеческом геноме, соответственно, куски генома можно изучать, худшее вырезать, лучшее — вставить. Инженерная вполне задача: достал, просмотрел, вырезал, спроектировал, опять вернул женщине в матку, она уже выносила, ребенка родила. Это все больше и больше будет происходить. Пока это дорогостоящие технологии, но вы сами знаете, что при огромном спросе, особенно со стороны домохозяйств они становятся доступнее. Смотрите на развитие всех гаджетов, как правило, под этими технологиями оказывается экономика. А значит, это бурный инновационный рост.
Второе, поведение под заказ. Здесь очень простая история. Вы знаете, мальчики немного у нас гиперактивные, а девочки немного депрессивные. Есть такая гендерная разница. В общем, и родителям, и учителям не хочется с этим сталкиваться. Поэтому дал утром таблеточку, и мальчики стали более медленными, а девочки более быстрыми. И с ней проще. Вы смеетесь, но речь идет о 30–40% населения развитых стран, которые сидят на этих чудо-таблеточках. При этом понятно, что эффекты сглаживаются все больше и больше, потому что все более тонкие инструменты создаются. А если будет индивидуализация лекарств, то еще меньше будет побочных эффектов, и в этом смысле поведение будет формироваться. У Фукуямы есть хорошая книжка, где он приводит дискуссию, которая сейчас в западном обществе обсуждается на вопрос приличия. Потому что получается следующим образом, что у кого-то есть представление о том, что такое хороший мальчик и хорошая девочка, и они с помощью фармакологии начинают подводить живое существо под этот стандарт. В том числе это приводит к тому, что такой унисекс появляется. Потому что одних подравняли так, других подравняли эдак.
Третий компонент, который мы сейчас наблюдаем, — это печать тканей, печать органов. И обязательно к этому должна примыкать высокотехнологичная хирургия. Потому что понятно, если даже что-то быстро напечатали, да еще из ваших собственных клеток, все ваше. Взяли, вырастили, вставили. Быстро и эффективно. Антропоремонт. И, конечно же, понимаете, это тоже такая развилка, перед которой стоит человечество. Многие вещи зачем делать? Можно безбожно пить, например, потому что понятно, что печень тебе поменяют, и недорого. Можно безбожно ходить в «Макдональдс», потому что понятно, что проведут липосакцию и избавят тебя от этих десятков килограммов жира, и так далее. В общем, с человеческим телом они начинают играть и работать все более инженерным способом.
Всеобщая онлайн-диагностика. Это самое приличное направление из перечисленных. Я помню, проводили проектную сессию в Томском государственном университете, с детьми работали. Мы формировали группы отдельно физиков, инженеров, экологов, биологов, медиков и так далее, и они проектировали различные инструменты будущего. Здесь очень хорошо голова работает. Это ведь понятные вещи — человек от природы ленив, в этом уже никто не сомневается. Поэтому вам всегда нужно такое решение, которое было бы связано не с каким-то усилием человека, а с тем, что он делает естественным образом. Например, понятно, что хорошо онлайн-диагностику вставить в часы, которые он и так носит, или в гаджет, который всегда при нем. Или в подушку, на которой он спит каждую ночь. Или в пижаму, которую он надевает каждую ночь. Но система строится так, особенно в отношении групп риска, что вы спите, у вас осуществляется диагностика, сигнал поступает на компьютер. Если у вас выходит что-то из строя по-настоящему, то сразу идет сигнал, и к вам приезжают. Вспомните даже нескольких за последние годы российских звезд, которые умерли. Выехали на дачу и умерли. Потому что понятная история — с человеком что-то случилось, ему никто не оказал помощь. Откуда идея скорой помощи? Идея скорой помощи — это оказать вам помощь в таком временном отрезке, когда можно минимизировать последствия того, что с вами произошло. И если у вас есть 20 минут, даже от инсульта могут не быть последствия. А если вы вышли за 20 минут, уже последствия. Если вышли за два часа, то может быть и смерть.
Поэтому всеобщая онлайн-диагностика — великая вещь. Конечно же, есть критика людей, которые экологично настроены. Потому что понятно, что у нас все есть для того, чтобы самостоятельно осуществлять эту диагностику собственного тела путем вслушивания, для человека веры — путем молитвы и так далее. Способы работы с собой, с собственной психикой, телом, мышлением. Мы от этого отказываемся, потому что проще купить прибор, который за нас это делает. Это те самые теневые стороны аутсорсинга, которые продолжает человек осуществлять. Технология иммуномоделирования. Здесь тоже понятно, что многие вопросы решает ваша иммунная система. Если она у вас больная, ее нужно излечить, а может быть, можно построить искусственную. Поэтому все эти проекты в области построения искусственной иммуносистемы и запуска ее внутри вас будут продолжаться.
И конечно, индивидуализация лечения. Здесь вообще все красиво и просто. Здесь три этапа. Этап первый. Например, онкологический случай. Вас отсканировали и составили хорошую 3D-модель, по слоям все видно. Выделили на уровне клетки зоны поражения. Дальше, соответственно, у вас идет средство доставки лечения. Либо, если это лучевая терапия, вот наши коллеги из «Росатома» над этим работали, они мне объяснили, что идет частица на низком энергетическом уровне, она заходит в эту клетку больную, там происходит выброс основной энергии, она ее разрушает и опять на низком энергетическом уровне выходит. Таким образом, она разрушает только ту клетку, в которой происходит выброс, а не как сейчас при лучевом лечении вас «шарашат», и она убирает все подряд. Это третий эпидемиологический переход, и в результате каких действий мы получим эти 120 лет.
И позвольте тогда завершающую часть. Я обещал поэтическую. Она такая, характерная. Итак, о бытие и бессмертии.
Когда я размышляю о 120-летнем человеке, я, конечно же, не размышляю о бессмертии, поймите меня правильно. И вообще, нужно различать вечность и бесконечность для того, чтобы понять эту идею. Всякая бесконечность тупа. Вот если вы берете мышление христианина или мусульманина, оно не терпит бесконечности. Размышлять о бесконечности бога — это такое школярство. Вселенная в своем полагании бесконечна, но источник, творец всегда вечен. И, по крайней мере, в теологии это четко удерживается. Смерть — мерило жизни. Носить внутри себя смерть — это мужская духовная практика, сопоставимая с тем, как женщина носит внутри себя жизнь. Вера не обслуживает идею бессмертия, но говорит о жизни после смерти. И поэтому 120-летний человек куда больше обостряет наши отношения со смертью, чем эпоха черной чумы в XIV веке. Практика 120-летнего вглядывания в смерть еще больше делает нас людьми. Я отношу себя к гераклийской винной провинции, соответственно, это Севастополь, это те земли, куда еще в VI веке до рождества Христова прибыли дорийцы из города Гераклия, который находился тогда в районе нынешнего черноморского побережья Турции. Они добрались до места, где почитали Деву всегда, еще до греков. И там основали город Херсонес. С тех пор это регион очень качественного виноделия. Это было утрачено в мусульманский период, и в советский период этим особо не занимались. Потому что вкус русского человека, который через князя Голицына и других затеял виноделие в Крыму, он был настроен на крепленые и десертные вина. Особенности были такие русской культуры, которая выдвинулась на юг. А сейчас в Севастополе очень редкие терруары, наиболее близкие по качеству к терруарам провинции Бордо. Так вот, у нас есть целая программа, стратегия, которую с Алексеем Михайловичем Чалым мы делаем, она посвящена созданию мощного кластера авторского или элитного виноделия, который строится на самостоятельных небольших хозяйствах от 5 до 20 Га, но полного цикла. Тот, кто выращивает виноград, он и делает вино. Это очень важно. Так вот, я философию вам про лозу скажу. Лоза должна страдать. Лоза должна трудиться. Если лоза для вина, ее нельзя поливать, иначе она не устремится вглубь. Лоза, в принципе, может дать корень на 25 метров ниже в борьбе за воду, но она не дурна. Если ты ее начинаешь поливать, она вдоль поверхности земли в стороны просто распускает корни и живет себе так, как человек. Ничем не отличается. Но лозу и не надо истощать, иначе через пару десятков лет ее вырубают и выбрасывают. Человек полностью похож на лозу. Мои размышления о 120-летнем человеке могут опираться на этот образ. В способности проникать вглубь культурных почв кроется долгожительство, особенно творческое долгожительство.
И позвольте на этой точке и завершить эту лекцию. Я готов отвечать на вопросы.
СЛУШАТЕЛЬ 1: У меня вопрос про лишних людей. Потому что эта тема поднималась уже на предыдущих лекциях. Озвучивалась гипотеза: все процессы роботизации приведут к тому, что 2 миллиарда будут способны создавать всю добавленную стоимость на планете — и управленческую, и конструкторскую, — и технологические процессы будут достаточно автоматизированы и так далее. И в нашей экономике возникает вопрос лишних людей, когда что-то работает просто для того, чтобы их занять. Отсюда мой вопрос. Вся эта концепция, эта история про 120-летнего человека — это для всех или это для элит? Опять-таки что под ними подразумевать, и где эта грань проходит? Или это вопрос осознанности?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Первое, когда я говорил о 120-летнем человеке, я говорил о статистических вещах. Понимаете, много жили всегда отдельные люди. Всегда так было. Вопрос же в следующем: можем ли мы за счет определенных усилий поднять общий уровень. Точно так же, как мы подняли общий уровень образования. Да, в какое-то время способность читать и писать казалась магией, потом искусством элит, потом всеобщим, а теперь обязательным. Поэтому, когда мы говорим о 120-летнем человеке, речь идет о проекте для всех. Хотя понятно, там есть эта статистика, там есть разброс. Все равно у вас всегда останутся какие-то показатели младенческой смертности, и всегда у вас останутся долгожители и сверхдолгожители. Это первое.
Второе, лишние люди. Это про нашу способность вообще людей вовлекать и организовывать в большой социальный организм, больше ни про что. Нет физически людей, которые лишние, есть наша неспособность построить систему образования, построить систему мотивации, построить систему воспитания или вообще замыслить такие задачи, которые бы гораздо больше людей создавали эту добавочную стоимость. Поэтому это конструкторская задача, не более того.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Несмотря на то, что предсказания — дело неблагодарное, все-таки, говорим о будущем. Скажите, по временным отрезкам как вы видите третий переход? На первый переход понадобилось тысячелетие, на второй переход около 100 лет. Когда произойдет третий? Связано ли это как-то с 2045 годом?
С. Г.: Нет, это не так. Смотрите, для Западной Европы ничего до конца XIX века особенного не происходило. Этот переход, эта вся история, если даже от самого начала, — 150-летняя. Численность населения росла всегда. Был, конечно, скачок, когда мы перешли к оседлому образу жизни, одомашниванию и созданию способности больших баз продовольствия. Потом следующий скачок произошел, эта кривая, которой покойный Капица всех пугал. Это история, действительно, меньше, чем 150 лет. В эти 150 лет эти три перехода умещаются. Первый переход, если вы берете Россию, на ее примере можете все хорошо увидеть. Первая всероссийская перепись, 1897 год. Скажите, какую продолжительной жизни мужчин она показала в столицах — Москве и Санкт-Петербурге?
СЛУШАТЕЛЬ 2: Скорее всего, от 29 до 32 лет.
С. Г.: 27 лет. Вы понимаете, почему? Потому все дворы без канализации, чудовищная младенческая смертность, детская смертность, мужская. То, что мы сейчас показываем, произошло за 100 лет. Москва точно за 100 лет добавила 50 лет средней продолжительности жизни москвича. За 100 лет — 50 лет. Поэтому, когда мы говорим, что сегодня она под 80, например, в Москве может быть, я не смотрел последние статистические данные, но под 80 по женщинам, и я думаю, что 30–40 лет достаточно для того, чтобы взять этот барьер.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Примерно лет через 30 придет переход на другой уже уровень?
С. Г.: Мы не можем предугадать скорость, но даже если вы берете средний прирост, который существует по Европе, там 0,7 года в год.
СЛУШАТЕЛЬ 2: И тогда в дополнение к этому, предполагается ли, как кажется вам, четвертый переход?
С. Г.: Наверное. Мы ведь будем в это играть! Мы стремимся к этому. Здесь один мой товарищ находится, он мне говорит: «Ты библейскую историю напомни тоже». Я ее тоже иногда рассказываю. Человек изначально замысливался как вечное существо, без знания, что есть смерть. Потом, в результате грехопадения, он становится смертным. Но если вы берете Писание и смотрите, сколько жили от Адама до Ноя, вы видите, что, в принципе, Мафусаил 969 лет, все остальные к 900 приближаются или переходят эту цифру. Дальше, после Ноя, все начинает проваливаться, проваливаться и проваливаться. Если вы берете Моисея, брата его Арона, Марьям, его сестру, и так далее, то это вокруг 120 лет крутится, у них был 120-летний возраст. У Авраама, по-моему, 170, если мне память не изменяет. Потом уже стенания эпохи царей, это уже о 70-летнем возрасте, который нам отпущен, ничего нет вечного под луной. В средние века, когда мы все это потеряли, там и до 40 упало, и до 35, 30. Мы начинаем как бы возвращаться. За счет усилий, за счет инженерных вещей начинаем нагонять этот возраст. Вы знаете, есть движение трансгуманистов, которые вообще мечтают о техническом бессмертии. Они с помощью инженерных вещей хотят это решить.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Сергей, сначала, видимо, реплика на понимание, а потом вытекающий отсюда вопрос. Смотри, для меня твой доклад очень красивый и очень простой по сути, как я его понял. Ты говоришь, что природные механизмы, такие как лень, можно добавить жадность и страх, очень надежны, но очень неэффективны. И когда за счет культуры и техники вместо того, чтобы бегать за мамонтом и получать нагрузку, естественным образом поддерживая себя, появляются другие культурные штуки, они более интенсивны, точны, высвобождается время, срок жизни и так далее. Но вот куда этот высвобожденный ресурс направляется, кроме как на потребление, наслаждение и прожигание жизни? Здесь у меня начинает возникать много вопросов, потому что я видел двух своих реальных знакомых людей, которые перешли на питание без твердой пищи. Их в мире около 150 тысяч. Один год продержался, второй — два года. Высвобождается столько времени и денег, что когда перестаешь «жрать», непонятно, куда их тратить. Поэтому главный мой вопрос: видишь ли ты, под какие проекты на уровне индивидуума и даже, может быть, социума эти дополнительные годы и эти дополнительные мощности? Кто заказчик и кто будет смотрящий для того, чтобы этот ресурс не прожигался, чтобы он не превратился в фастфуд?
С. Г.: Я понимаю этот взгляд, но он сложен в том, что он на очень короткой дистанции. И поэтому трудно его верифицировать или фальсифицировать. А когда ты берешь длинную дистанцию, то мы получаем другое анатомическое строение, другой мозг, и вообще оказываемся наверху пищевой пирамиды. Вот эффект очень серьезный, я бы сказал. Более того, с этим мозгом мы начали делать ряд вещей, которые сегодня запечатаны в культуру и цивилизацию. Второй пример: мы высвободили мышечную энергию, построили более сложную систему. Если бы все работали только над обработкой земли или обработкой металла… у вас нет просто даже социальной возможности организации людей в сложные институции в виде академий, лицеев, астрономических коллективов и так далее. Или третий период, про женщин. Понимаете, почему-то вдруг появляется возможность перейти от неэффективного к очень рациональному и эффективному деторождению. Не надо рожать 12! У моей бабушки было 13, и мой отец единственный выжил… Вы родили одного, и он точно выжил и дошел до репродуктивного возраста. Но вы в него вложились по-максимуму. Кто может 2–3, у кого есть эта щедрость и сила, то пожалуйста. Но в принципе женщина подо что высвободилась? Гораздо больше сегодня женщин делают науку, делают культуру и карьеру. Почему вы не считаете это приобретением? Это ведь не только пожрать!
СЛУШАТЕЛЬ 3: Ты ведь не отвечаешь на мой вопрос «Зачем?». Ты говоришь: «Высвобождается ресурс, а потом как-то всем миром мы его куда-то направляем, и получается неважно, как правило». А я спрашиваю, есть ли управляемость сейчас в этом процессе, подо что-то конкретное это выделяется, или это естественный процесс, будет день — будет пища?
С. Г.: Это надо в другом масштабе работать, чтобы отвечать так на этот вопрос, как ты его ставишь. Я в нем не работал. Потому что, мне кажется, там очень много спекуляций. У меня есть друзья, которые говорят: «Вот наука в 60-е годы была настоящей наукой. Сколько открытий, сколько всего! Сейчас чтото непонятно, чем занимаются». Я говорю, а почему не видите те прорывы, которые осуществляются в науке о человеке? Сейчас точно так же сотни и тысячи коллективов борются для того, чтобы запустить искусственную жизнь, по-настоящему ее создать, спроектировать и взять за нее ответственность. Чем это не величайший прорыв в истории человека?
СЛУШАТЕЛЬ 4: Правильно я понял, что прозвучало: есть 5–6 таких агломераций, где большое скопление народа и так далее, и именно в них возможна точка роста, и там будет пирамидка? Сейчас, вроде бы, эко-поселения, отдельное жилье умное, в леса все собираются, родовые поселения делать. А у вас прозвучало, что есть 5–6, и что там есть такая критическая масса, что только сейчас в Москве можно следующий рывок дать, а не где-нибудь в Сибири?
С. Г.: Здесь тоже масштаб ответа. Это как в инновационных вещах. Понятно, что в гараже что-то можно создать инновационное и так далее, но, чтобы этим облагодетельствовать человечество, чтобы это вошло в каждое домохозяйство или вошло в стратегию большинства людей, крупные корпорации должны это превратить в продукт и за счет больших маркетинговых стратегий навязать его или тактично предложить. И настолько попадают в ожидание людей, что это все срабатывает. Также и здесь! Конечно, какие-то вещи могут быть в каких-то небольших эко-поселения созданы. Но основной прорыв, который меняет структуру населения и свойства большой человеческой популяции, рассматриваемую как единую популяцию, за счет этих точек сгущения.
СЛУШАТЕЛЬ 5: У меня несколько вопросов. Первый: 120 лет — это принципиальная или расчетная величина? Почему не 150 и почему не 100? Второй вопрос. Наша земля находится в разных условиях. Если Америка, Япония вперед выделяются, мы находимся в средней части, а Африка находится совсем в другом месте. 120 лет — это для России или средняя продолжительность? И последний вопрос: 120 лет — это приблизительно как мы с вами будем ходить, думать, бегать, или это будет общество лежачих больных, которых на сегодняшний день уже на ИВЛ находится дома?
С. Г.: Вопросы понятны. Давайте с конца. Конечно же, когда мы разговариваем о 120 годах, мы говорим о желательно длинной и творческой жизни. Никто не хочет последние 30 лет сидеть в кресле-качалке или с Паркинсоном, с дрожащими руками и так далее, и тем более в овощном состоянии. Поэтому, конечно же, мы научились поддерживать людей в этих ужасных состояниях, по-другому не скажешь. Поэтому такой кризис с этикой, кстати. Тут этика жизни и смерти. Но когда я, по крайней мере, с коллегами размышляю про эти вещи, мы еще раз говорим о полноценной 120-летней жизни. До 120 лет самостоятельное перемещение, самостоятельное мышление. Соответственно, коммуникация, которая приносит радость и вам, и тому, кто с вами коммуницирует. Это ответ на третий вопрос.
Ответ на второй. Теория эпидемперехода и теория демографического перехода настаивает на том, что, несмотря на то, что есть лидеры и аутсайдеры этого процесса, тем не менее, все человечество следует одному и тому же графику. Сергей Капица это в своей книжке хорошо показывает. Действительно, есть такое представление, что этот переход осуществляется вне зависимости, верующее или неверующее большинство людей в этой популяции, какие особенности этой религии, которая доминирует, какой климат там доминирует и так далее. Нет, это зависит от того, как цивилизация захватывает и конструируется на этой территории. Африка отстает, соответственно, у них такие последствия. Как только она начинает догонять, у нее все эти вещи происходят, которые происходили с нами, причем еще более выражено. Понимаете, как получилось? Европейцы же собой таранили это будущее, поэтому оно было более длинным, и этот переход был более смягченный. А, например, когда вы берете в том числе африканские страны, там получается так, что европейцы из благих побуждений экспортируют туда технологии снижения смертности, и кривая смертности резко падает. А культура не перестраивается, и дает по-прежнему высокую рождаемость. И у вас сразу образуется этот гэп. И отсюда демографический взрыв. Поэтому демографический взрыв в европейской части, демографический взрыв в латиноамериканской или африканской части — разной величины. Потому что есть лидеры, они на ошибках проходят эту дистанцию, а другие уже пользуются этими благами. Отсюда и все проекты, в том числе и спекулятивные, направленные на создание каких-то условий для того, чтобы сдерживать искусственным способом демографический взрыв в третьих странах, который ведет чаще всего к катастрофе, и даже экономику нельзя запустить. У экономистов ведь любимая тема, что в Африке ты не можешь запустить экономику, потому что демография съедает все ресурсы. Это про второе.
Ответ на первый вопрос. Это аналитические условности. Вот в Европе колебалось 30–35 лет, потом первый эпидемпереход где-то 60–65 лет. У нас даже это было чувствительно, потому что у нас ведь в 1964 году, когда тренд смертности сломался, и она начала расти в 1964 году у мужчин, а у женщин просто остановилась, это тоже было примерно на этой границе. И когда мы с демографами обсуждали, считали, что это как раз 60-е годы с обрушением культурной революции и культурного проекта. 1964 год. Отстраняется Хрущев, приходит Брежнев, все социальные показатели, на которые у нас любят ссылаться, начинают расти. Уровень зарплат растет, количество квадратных метров на душу растет, количество людей с высшим образованием растет, количество автомобилей на душу растет, а смертность тоже растет, то есть продолжительность падает. Уникальный феномен! Поэтому мы остановились тогда из-за отсутствия определенных культурных кодов на границе первого и второго эпидемперехода. Поэтому такая отбивка. Когда ты думаешь про второй, что дали 30 лет, то начинаешь думать, и видишь, что сейчас на 90 стремится, но у тебя уже запускаются структурные компоненты третьего перехода, а значит, второй, связанный с вызовами сердечно-сосудистых и онкологических систем, где-то в 90 и упирается. И дальше думаешь: тут 30, тут 30, наверное, еще 30 можно добавить. Это одна логика. Но вы ведь на какую-то логику должны опереться! Плохая или хорошая, но есть такая.
Есть вторая, она упирается в мнение геронтологов. Они считают, что биологический предел у нас примерно 120 лет, и все, что мы делаем, мы подчищаем под этот возраст. Мы не можем удлинить пока биологическую действительность, выходящую за 120 лет, но мы можем устранить все причины, которые ее обрубают раньше. Поэтому в 120 лет мы упремся, а дальше нужно либо инженерное решение, либо действительно какие-то открытия в области живых систем и управления жизнью. А третья есть еще библейская версия, про 120 лет там очень многое сказано. Дальше в зависимости от вашей онтологии вы выбираете логику.
СЛУШАТЕЛЬ 6: Сергей, если брать тему с высокотехнологичной медициной, с тем, что мы уже научились искусственно создавать органы, биологические материалы и так далее, улучшается качество жизни, и, логично предположить, качество смерти? С. Г.: А что такое «качество смерти»?
СЛУШАТЕЛЬ 6: Я имею в виду, что мы сможем уменьшить срок между отсутствием физической активности и смертью.
С. Г.: Вы качеством называете внезапную смерть?
СЛУШАТЕЛЬ 6: Да, можно и так сказать. Вместо того, чтобы на тех же искусственных аппаратах находиться. И как вы считаете, как это отразится на нашей жизни?
С. Г.: Понимаете, качественную смерть можно практиковать и сегодня. Мой друг все время прыгает со скал. Причем, откроется, не откроется, он никогда не знает, что у него за спиной. Древний человек всегда практиковал. Есть древние техники. Эти люди знали качество. У меня ответ такой, чтобы не вдаваться в этот экскурс. Работа со смертью вещь такая, что она всегда будет делом немногих. Потому что она требует другого уровня взросления и другого уровня самоорганизации. Будет ли процент в будущем больше, чем в прошлом… Тех людей, которые работали с этим сознательно, я не знаю. Не знаю даже, как можно ответить на этот вопрос. Он ведь не из пальца высосан.
СЛУШАТЕЛЬ 7: Вопрос сначала на понимание, как говорится. Когда я в школе учился, мне учительница по биологии говорила: «Ребята, чем крепче наше здравоохранение, тем хилее наше поколение». В связи с этим правильно ли я вас понял, что третий переход, о котором вы говорили, связан в том числе и с развитием генной инженерии, необходимостью развития генной инженерии и изменением именно генетического материала? И второе, насколько велик риск того, что этот переход не преодолеет неких этических норм?
С. Г.: Есть разное представление о здоровье. Если вы по-прежнему можете переносить кирпичи 10 часов в сутки, при этом стоя с мокрыми ногами в воде, и после этого не заболеть, типа вы здоровы — это одна история. Никогда вы не были на берегу Байкала? Я всегда, когда туда приезжал, вспоминал песню «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах». Вот этот бродяга подходит к Байкалу и пытается его переплыть. Мне даже в голову такая мысль не придет! Я по сравнению с ним абсолютный хиляк, это понятно. Но понимаете, есть другая концепция здоровья. Здоровье — это то, что позволяет тебе осуществлять деятельность, востребованную в данном обществе. И в этом смысле вся система цивилизации настроена так, что она позволяет производить людей, которые здоровы не вообще, не в биологическом смысле слова, а в этом залоге деятельности, который необходимо осуществлять. Это значит, что не 8 часов по колено в воде строить «Беломорканал», а 16 часов у какого-то экрана, осуществляя сложную когнитивную работу за счет того, чему ты был обучен. Понимаете? Соответственно, из вашего вопроса я бы задал сам себе следующий вопрос: о каком типе здоровья придется говорить в рамках этого 120-летнего человека и тех задач, которые мы будем решать? Какой человек будет наиболее эффективен? Анатомически вы все это видите. Давайте вспомним начало лекции. Первая оптимизация, когда мы жертвуем ради мозга длиной ЖКТ. Понятно, что современный человек в диких условиях не может прожить на неперерабатываемой пище. Есть книга, я не помню сейчас автора, он исследовал все случаи выживания человека, которые известны и нормально задокументированы. Тихий океан, какие-то острова и так далее. Везде, где по-настоящему человек выживал и долго, он жил на обрабатываемой пище. Теплообработка. Точно так же следующие вещи. Конечно же, современная женщина — это очень хрупкое существо. Приезжаешь в Москву — глаз радуется. Понятно, что ее нельзя поставить загружать бидоны молока на машину, как я видел в детстве смоленскую женщину. Структура тела, ноги, туловище, плечи, бицепс, трицепс — все под вид работы, под ту эффективность, которая необходима. Сейчас вы видите, как на глазах меняется анатомия женщин. Они становятся более хрупкими, но они становятся более эффективными для других видов деятельности. Соответственно, меняется стандарт красоты, стандарт здоровья и требования к здравоохранительным учреждениям.
Приближающаяся сингулярность в контексте уже происходящей тотальной автоматизации
ЛЕКЦИЯ 11 24/10/2014

Я должен буду вам я рассказать о будущем. И при этом я прекрасно понимаю, что передо мной уже рассказывали 10 человек, и они, вроде бы, все уже рассказали. Но будущее необъятно, думаю, мне тоже будет вам что рассказать.
Я хотел бы начать свое выступление с просмотра коротеньких интернет-роликов. Они есть в интернете, опубликованы у меня в блоге. Это проект «baby X», и все, что вы видите на экране, не относится к живым людям. И как мне все пишут в комментариях, что если бы нам не сказали, что это все неживое, то не поверили бы никогда. Вот когда вы читаете слова про всякие сетки нейронные, про то, что у нас большие продвижения, обычно очень трудно себе представить, как это выглядит на экране. А выглядит это таким образом.
Демонстрация видео http://ailev.Hvejournal.eom/l 133262.html
Вот это то, что видит камера, как учат. Это то, что там происходит внутри, а это вывод программы компьютерной. Этого ребенка нет. Как вы понимаете, есть та самая нейронная сетка компьютерная, совокупность математических моделей. И вы видите, как это происходит. Это вывод того, как моделируется мозг, который учится говорить. Убрали мышцы, убрали все. Вот движение глазных яблок (куда внимание, туда и глазные яблоки). Вот это современный более-менее State of the Art, как это все происходит. Видите, движение за стимулом, как нейронная сетка учится играть, вывод эмоций, эмоциональный интеллект. Все это отлично моделируется, компонуется. И когда мы смотрим на наше будущее, то мы представляем, что все это робототехническое нам дает в больших количествах кинематограф, мультипликация (например, «Футурама») дает образцы будущего, как они будут выглядеть. Но мало кто представляет, как реально это будет выглядеть.
Реально оно выглядит совершенно по-другому. Совсем не означает, что этому «будущему» нельзя показывать слова, требовать распознавания речи, распознавания текста. При этом обучение происходит ровно так же, как у детей. Учится нейронная сетка, а не люди пишут правила. Вот смотрите: показывается картинка со словом, говорится, как это слово произносится, привлекается внимание. Вы видите: «Baby, look at me». Слышите? Потому что процессы отмоделированы те же самые, что и в реальной жизни. Вот так оно и происходит. И когда мы сейчас будем говорить о скучных и неживых технологиях, я хочу, чтобы вы помнили этот мульт. Страшненько, конечно. Но реализация все лучше и лучше. Я думаю, что вполне достаточно.
Дальше мы работаем со слайдами. Вы видите мои координаты. Мой адрес интернета не менялся с зимы 1991 года. Я должен сказать, почему я тут, почему я вам могу говорить про будущее, и при этом не стесняться, не краснеть. Да, есть у меня что-то в организме, что позволяет мне оказываться где-то в районе эпицентра этого будущего каждый раз, когда оно происходит. Mashin learning, тогда это называлось pattern recognition, причем в химии, я занимался этим с 1977 года. Это ровно то самое, чему сейчас учат всех этих deep-learner. Точнее, более общее — они начинают со статистики, как
я в 1977 году, но только тогда были большие проблемы — интернета не было. Я хочу, чтобы вы поняли, как мы живем, и насколько сильно изменилась ситуация. Я ходил по химфаку и всех спрашивал: «Что такое регрессионный анализ?», — мне все говорили: «Мы вообще не понимаем, откуда это». А у меня был в руках переведенный издательством «Мир» труд, который назывался «Распознавание образов в химии», и там был упомянут регрессионный анализ. И я не мог понять, что это. Пока я случайно совершенно не встретил, чуть ли не на какой-то дискотеке, людей из мехмата, и они сказали, попробуй найти учебник статистики, и он там есть. Смотрите, Google не было, в библиотеку ты идешь, какой регрессионный анализ? Как искать? Ничего не было! Как вообще человечество жило, я понять не могу. Но то, что сегодня происходит, вы же понимаете, это самое начало того, что только будет. То чудо, которое казалось, наверное, мне в 1977 году, помните все эти «Всемирные информаторы» из фантастических произведений? Чудо! Или я пришел сюда и говорю: «Вот там где-то австралийцы запостили видео месяц назад, я в блоге у себя написал». Можно мне в начале этой лекции это все вывести, и вы все это видите через 5 минут после этого заявления на большом экране, да еще и с тач-скрином. Можете вы себе это представить три года назад? Три года назад это было на грани фантастики, а сегодня, вроде бы, это обыденно.
И когда мы говорим о будущем, этот предмет распадается. Ну как будущее?! Вот мы все живем в будущем, и я живу в будущем все время. И больше всего это зависит, наверное, как-то от нас. Мне свезло, я в это будущее регулярно попадал. Потому что инженерия знаний, предмет, о котором сейчас говорят, до сих пор более-менее о будущем, я первый редактор знаний в 1985 году сделал. Последний редактор мы сделали в этом году, онтологический редактор. Кто читает мой блог, знают этот проект dotl5926. И в antology sammit я регулярно участвую. Но, в принципе, в 1985 году это все еще было, и это было такое же далекое будущее, как и сейчас для многих. Точно так же еще не много людей об этом знают. Проблема в том, что в 1985 году мало людей знало, и не было никаких каналов довести это знание до всех остальных. Сейчас, если вы что-то услышали, вы можете тут же с ваших планшетов набрать слова «онтологический редактор» и через 2 минуты вы выкачаете эту программу, сможете ее тут же поставить и даже попробовать. Там 150 страниц документации на английском, но это же не важно! Шанс попробовать есть. При этом вы вряд ли попробуете, но я знаю, что нас слушают из многих регионов, и тамто люди точно попробуют, это известно! Они сделают меня вместе со всеми презентациями в маленьком окошечке или на втором экране рядом и все это попробуют. И это сегодняшний день. Это надо четко понимать, что жизнь изменилась, она и менялась всегда, но один из основных тезисов, что меняемся мы сами, мы не замечаем этих изменений, и в какой-то момент изменения будут настолько сильны, что мы уже не будем понимать, что происходит. Сейчас, когда мы отслеживаем: «Смотри, как было, как есть и как оно будет», — нет, все гораздо хуже! Мы будем говорить: «Смотри, как было. Как есть, вообще не понимаю, на что смотреть. Все меняется с такой скоростью, что уже „есть“ как-то растворилось. А как будет, даже непонятно, как об этом говорить». Поэтому я рад и счастлив, что в 2014 году, запомним эту дату, можно одну из последних лекций прочесть о будущем, которая про будущее хоть что-то скажет осмысленное в надежде на то, что вы увидите в будущем следы того, о чем я говорю, а не что-то совсем новое и не в будущем, а скажем, через 20 минут после лекции.
В 1987 году я понял, что все уже с этим государством не так, ушел из госсектора, так и не возвращался. Методология, ситуационная инженерия методов с 1987 года, безбумажные ценные бумаги, я занимался ими с 1990 по 1997 год. Ушел из рынка ценных бумаг до кризиса, задолго до кризиса. Добровольно, сам, сказав, что не будет никакого нормального рынка ценных бумаг тут. Интернет с 1991 года по примерно 2004 год. Первый web-сайт сделал в 2004 году. То есть все время оказывался более-менее в эпицентре. С 2007 года по настоящее время у меня идет системная инженерия. Прямо сейчас я занимаюсь нейронетом, прямо в этом помещении было заседание рабочей группы нейронета. И робототехника, регулярно принимаю участие в разных мероприятиях. И вы понимаете, мы работаем немного с онтологическими редакторами и языками. Я время от времени читаю предприятиям лекции о будущем. Никаких общих картинок бытия в целом, технологического бытия, сингулярности, всего такого в этих лекциях нет. Тем не менее это лекции о будущем, потому что предприятиям нужно понимать, что происходит. Поэтому я вам сейчас говорю: «Знаете, я профессиональный чтец лекций о будущем».
Вы должны при этом понимать, что я исхожу из позиции системного подхода. Говорят, что система в глазах смотрящего, есть разные люди, у них есть разное отношение к деятельности. И это определяет взгляд на систему. Те, кто смотрит на меня сзади, они видят совершенно другое, нежели те, кто смотрит на меня спереди. А бог времени, если вы помните, он же рисовался — двуликий Янус — с двумя лицами: одно молодое, другое старое. И фишка была в том, что с каким из лиц Януса вы столкнетесь, он же бог врат, бог прохождения через ворота… И вы все время должны помнить, что во времени тоже всегда это есть. То, как вы смотрите из будущего на прошлое, совершенно не то, как вы смотрите на прошлое из реализовавшегося будущего.
Из настоящего вы смотрите и на будущее, и на прошлое совершенно не так, как смотрите уже из этих двух времен. И вообще, вы до лекции смотрите на эти предметы одним способом, прошло буквально два часа, вы со мной поговорили, у вас поменялся взгляд на будущее — на те же самые предметы вы смотрите по-другому, у вас появилось новое знание. И поэтому, когда мы говорим о будущем, что мы видим в этом будущем, как мы его распознаем? Что называется, видим мы вид спереди или вид сзади, на какое из лиц этого двуликого Януса мы смотрим, это зависит от каждого конкретного человека и от его уникальной ситуации, от его профессиональной ситуации, от его личного опыта, от того опыта образовательного, который он имеет. И у каждого будет свой уникальный взгляд на будущее. Поэтому я, конечно, буду рассказывать свой личный взгляд на будущее.
Прежде всего, я бы хотел вам сказать, что есть такое явление, как технологическая сингулярность. Можно в нее верить, не верить, считать, что это байки, считать, что это не байки, говорить, что это способ рассказа о том, что будет происходить, — как угодно вы это называйте, но нам надо познакомиться, в основании нашего рассказа должна быть эта технологическая сингулярность. Идея была высказана формально в январе 1983 года, популяризация тезиса была от Гуда в 1965 году. Просто Вернер Виндж, он писатель. Он прочел хорошего человека Гуда в научной литературе, подождал еще 20 с чемто лет и далее на весь мир объявил; все, теперь у нас В индж — автор этой сингулярности, и он сказал, что 30 лет примерно до создания искусственного интеллекта. То есть это было в прошлом году. Вы понимаете, в прошлом году искусственный интеллект должен был быть создан. Но где? А на самом деле, он ошибся формально очень мало. Потому что формально тест Тьюринга, который в 1964 году был объявлен в его постановке, в этом году был пройден. 30% людей перепутали за 5-минутный разговор в чате бот и человека. Не смогли различить. То есть формально какие-то отдаленные коннотации, я бы сказал, аналогии, флер искусственного интеллекта в этом году уже присутствует. Хотя опять же в очень узких кругах, разве что, скандал с этим тестом Тьюринга был довольно большой, все кричали, что это неправда, что никакого интеллекта искусственного нет. Я тоже говорю: «Никакого искусственного интеллекта нет, не будет, и вообще этим неправильно заниматься». Это мы как раз на следующих слайдах посмотрим. Тем не менее искусственный интеллект, когда он появится, он применит свой интеллект для усиления своего интеллекта. После этого будет происходить очень много разных интересных событий. Взрыв интеллекта. То есть интеллект дорабатывает себя, становится большим интеллектом. Тот больше дорабатывает себя, становится еще большим интеллектом, далее ставит под контроль некоторые физические устройства, добавляет себе вычислительных мощностей, становится большим интеллектом. В этот момент все уехали, уже никто не понимает, что делает этот искусственный интеллект. Hard take off, жесткий взлет. Очень скоро после этого — понятие «очень скоро» надо понимать — если вы думаете о какой-то единице времени, поменяйте ее два раза и поделите на 10, то есть очень скоро после этого человек перестает быть царем природы, как сейчас приматы, и невозможно предсказать, что будет после этого. Мир будет меняться с такой скоростью, что простой человек не может разобраться.
Это базисная штука. У нас, оказывается, есть какой-то временной горизонт будущего, после которого нет будущего. Почему? Потому что какое будущее? Вы в настоящем уже не понимаете, что происходит, потому что будущее как-то связано с настоящим тем, что хотя бы вы можете о нем рассказать в тех словах, которые есть сейчас. А если вы сейчас уже не знаете, как описывать в словах, вы не понимаете, что происходит. А значит, что вы не сможете рассказать, как оно будет изменяться. И это проблема, она абсолютно теоретическая.
Я не собираюсь залезать за пределы этой сингулярности. И более того, я не собираюсь обсуждать искусственный интеллект с точки зрения интеллекта.
И это есть некоторая проблема, она абсолютно теоретическая, и я делаю мелкую заявку, что я не собираюсь залезать за пределы этой сингулярности. И более того, я не собираюсь обсуждать искусственный интеллект с точки зрения интеллекта.
Первое, я считаю все дискуссии об искусственном интеллекте вредными. Каждый раз, когда меня втягивают хотя бы на 5 минут в пустопорожнюю дискуссию про искусственный интеллект, это примерно как дискуссии про либерализм в целом, победу коммунизма на планете в целом. То есть важная дискуссия, что-то из этой серии происходит, что-то очень интеллектуальное, наверное, будет. Как только мы начинаем определять, что это, начинается базар… Не произносите этого слова! Все будет плохо. Многие люди, которые занимаются совершенно классическим искусственным интеллектом, не произносят сегодня слова «искусственный интеллект» абсолютно.
Второе, ни в коем случае не обсуждайте, что такое сознание. Вредно, никому не надо! Люди, которые сутками обсуждают сознание, бесплодны. Спросите, что они сделали? Они сделали очередное обсуждение сознания и демонстрируют полностью это сознание. У меня большая дискуссия со всеми любителями просветления, осознанности и всего такого. Я им говорю, что если они такие умные, то пусть предъявят любой результат творческой деятельности. Они предъявляют, в основном, спортсменов, в лучшем случае, произведения искусства. То есть достижения из «Книги рекордов Гиннеса». А что-нибудь, что я, например, могу программировать на языке Haskel, или я настрою этого робота в четыре раза быстрее, чем все остальные, или вот моя «нобелевка» — этого никто не демонстрирует. А добрые дела, вы понимаете, что добрые дела делают в том числе люди, которые про сознание слыхом не слыхивали. У меня иногда впечатление, что чем меньше они слыхивали, тем больше от них добрых дел. Замечу, что такая же бесплодная дискуссия вокруг термина «сознание», как и вокруг термина «искусственный интеллект». Вы ничего не добьетесь, если будущее будете обсуждать в терминах, что там будет с сознанием, а что будет с искусственным интеллектом. Литература, искусство… в области балета, вы понимаете. В том числе искусственно-интеллектуального балета.
Варианты теста Тьюринга. Не надо их обсуждать. Это все равно как я должен пройти сейчас тест на то, человек я или не человек. Какой тест может быть на то, человек я все-таки или не человек? И вы знаете насчет психованных — есть совершенно психованный, псих, его в больнице надо держать. Или он все-таки псих, но мирный, или он просто такой, знаете, как говорят акцентуированная личность, начинают изобретать разные слова. Или это, как на Западе сейчас принято считать, мягкое отклонение от нормы. Далее задается вопрос: «А что такое норма?». Вот это все, эти все слова, мы ими не занимаемся. Проблема general refusal IE, мы ее не обсуждаем, никаких общих искусственных интеллектов, как общую способность адаптироваться под любую предметную область. Если у вас хотя бы это останется в памяти после всей моей лекции, я буду глубоко благодарен, потому что это сэкономит вам и окружающим вас людям много сотен бесплодных часов разных обсуждений. Потому что это самая модная сейчас тема — говорение о будущем. Но ровно через это, как вы понимаете, определяется сингулярность. И тем не менее я поддерживаю, что сингулярность есть, будет, и все это интеллектуальное, оно будет. Кроме главного — не будет там этого искусственного разума. Слово «разум» не произносите. Идея «Дженерал артифишал интеллидженс» очень простая. Мы, говорят, сделаем искусственный интеллект общий (тот самый, адаптирующийся) на уровне, скажем, семилетнего ребенка. Далее следует здравая идея. Они говорят: «Мы к нему прилепим мощный комплекс программ работы с химией, с физикой, математикой», — представьте, семилетний ребенок, к которому приделан нормальный машиностроительный САПР… Эта идея развивается полным ходом! Siri в телефонах, все эти программы — это же ровно оно! У вас через некоторое время персональный ассистент, и он будет с интеллектом как раз семилетнего ребенка. Голосовой помощник. А далее у него сзади Google полный. Очень много пользы… если уж собаку с ее интеллектом двухлетнего ребенка ухитряются к пользе какой-то приторочить, то тут-то пользы вообще немерено! Это основная идея General IE.
Следующий вопрос: а что такое интеллект семилетнего ребенка? В этом месте, как вы понимаете, начинаются ровно те самые неправильные разговоры. Потому что вы должны будете опять обсудить сознание, вы должны будет обсудить, что такое разум, что такое разумность, что такое интеллект, чем они отличаются, чем отличается ум от разума. Есть много людей, которые любят это обсуждать. Ум от разума, от сознания. Есть ли это у искусственного интеллекта. В конце концов, после всех этих обсуждений возникает подозрение, что люди придерживаются, как я говорю, теории витализма, что жизнь — это не просто жизнь, а есть нечто — бессмертная душа или… Эликсир какой-нибудь — его «кап-кап», и есть после этого жизнь. А вот не «кап-кап» — и жизни без этого нет. И интеллект. Есть все: крякает, как утка, плавает, как утка, выглядит, как утка, значит, утка. И интеллект: выглядит, как интеллект, крякает, как интеллект, плавает, как интеллект… «Нет, — говорят, — не интеллект, что вы! Потому что не хватает нечто запредельно трансцендентального, чего нет в компьютерах, в логике, в математике, в физике и вообще во всем, о чем вы говорите. И без этого оно признаками настоящего творчества не обладает».
Но там есть интересная проблема — проблема common sense. Компания «Сайк» сказала: «Мы делаем простой сервис. У нас 30 человек пишут отчеты по госпиталю. А госпиталь большой, 30 тысяч человек лежит. Но мы делаем отчеты, и 33 человека заняты тем, что раз в месяц сообщают, сколько у нас было инсультов, сколько у нас было нестандартных случаев применения аппарата такого-то». Они читают примерно столько инструкций, как писать этот отчет, и выдают раз в месяц — представляете американскую бюрократическую систему? Компания «Сайк», как я понял, за очень немаленькие деньги сделала следующее. Она посадила туда искусственный интеллект и сказала, что нам пришлось добавить 1% медицинских знаний поверх общего этого интеллекта. Но компания умная, компания «Сайк» была образована в 1984 году людьми, которые сказали, что наш проход к интеллекту обычному не работает, потому что есть понятие здравого смысла, common sense. И они определяют так, что вот любой же человек знает: если стакан переворачиваешь, не из курса физики, а из опыта, и в большинстве случаев вода льется из стакана. Вот так ставишь — не выливается. Простой факт. В жизни миллион этих фактов, давайте их назовем здравый смысл, common sense, и просто туда будем лить. Это та же самая идея, что и у «Дженерал артифишал интеллидженс» (General artifi cial intelligence (AGI)). У нас есть нечто, которое знает обо всем, мыслит, рассуждает в среднем обо всем на базе множества простых, тупых фактов про жизнь. И далее мы к нему прибавляем для этих отчетов 1% знаний. Говорят, какое было удивление, когда мы выяснили, что из этого общего запаса, над которым 1%, дергается иногда до 17% информации. Почему? Потому что он пишет, что больной из Нью-Йорка, а в другом месте он помянул Большое яблоко. Это надо сообразить, что Нью-Йорк называют Большим яблоком, сходить куда-то. Фактически как эта штука устроена? Оказывается, что она устроена так: 1% медицинских знаний, а далее тот самый IBM Watson компьютер, который, как вы помните, отвечал на все вопросы и выиграл у всех в игру «Джопорди». Это «Своя игра» у нас телевизионная, там, где надо быстро узнать все на свете — от киносценариев до инженерии — и быстро отвечать на эти вопросы. Они там чемпионы, вот у нас известный Вассерман в это любил играть, «что-где-когдисты», они такие. Вот компьютер Watson всех обыграл в Америке на английском языке. Почему? Знал все. Но, смотрите, там очень хитро: надо знать обо всем, потом добавляется маленький кусочек специального знания. Эту идею надо запомнить. И запомнить следующую идею: вам совершенно не обязательно, чтобы знание обо всем было не именно знанием обо всем, и ограниченно более или менее способами рассуждения над этим знанием, а чтобы это был именно интеллект, сознание, разум, адаптация к любой предметной области. Водораздел понятен?
Вот мой тезис в том, что будущее будет развиваться по той самой линии, когда вся эта компьютеризация и интеллектуальность будут реализованы простыми подручными средствами, которые друг с другом даже связаны не будут. Вот тут будет Watson стоять, тут будет Siri, которую Apple будет выпускать в версии 18. A Microsoft объявила, что ее персонаж будет такой же, но, оказывается, людям нравится, когда на них компьютер орет. И были исследования сделаны, что люди охотней роботу подчиняются, чем человеку. Охотней. Потому что человек — у него arterials мотив, подоплека есть, чего он к тебе лезет и заставляет тебя работать. Манипулирует, гад. А робот, он же тупой! Что он манипулирует? Он сказал — я сделал. «Ага!», — сказала Microsoft. После чего они сказали: «Наша Siri будет с характером», — и сделали Картана. Взяли образ ее, вы видели на экране фильм? Образ хорошо известный. Персонаж — искусственный интеллект, конечно. Bing, поисковая система за этой Картаной, конечно же. Картана шутит не в меру, регулярно грубит. В общем, стервозная такая тетка на поверхности. И сказали, что стервозная тетка гораздо больше нравится, чем все эти нейтральные вежливые Siri и прочие персональные помощники. Оказывается, людям нравится, что, когда вы делаете большую базу знаний, вы делаете маленькую программу, которая выполняет что-то типа теста Тьюринга. Она что делала? Там одессит был в команде, и, собственно, одессита программировали, Евгения Гусмана. Это наша команда победила. Она хоть и международная, но понятно, что костяк отсюда. И там шутки были совершенно неожиданные, по теме, и тщательно блок юмора проектировался. Обратите внимание, ничего не говорю про то, что проектируется вся жизнь и общие универсальные способности человека, что там же великий художник, и в области балета может какое-то суждение… Моделировались очень конкретные ходы из области шуток, юмора. Маленький кусочек цивилизации. Знаете, если 20 лет писать программу, то можно сделать программу, которая не на все темы, но на очень маленькое число тем очень хорошо шутит. И вот мы начинаем: большая база данных, типа Google, маленькая программа, которая хорошо шутит, а иногда она на тебя может наорать, и психолог, который тщательно отлаживает этот кусок. До какой степени она может орать? И маленький профессиональный кусок, который будет заниматься чем-то, типа медицины. Добавочка в 1% к этой большой информации. И когда вы начинаете набирать все эти маленькие, большие и прочие программки, то результат у вас будет примерно такой же, как вы работаете с человеком.
Со мной вы сейчас говорите про будущее. Вас, в общем, не волнует, что я когда-то занимался бальными танцами. Если вы будете работать с этой Картаной, вы с ней будете говорить про ваших маленьких детей. Она будет ходить в базу маленьких детей, из облака брать специальную педагогическую программу для маленьких детей, и вы никогда, точно так же, как со мной, не познакомитесь с тем, что Картана ничего не знает про бальные танцы. Кроме того случая, где с ней будут говорить про бальные танцы, она подключается программой по бальным танцам.
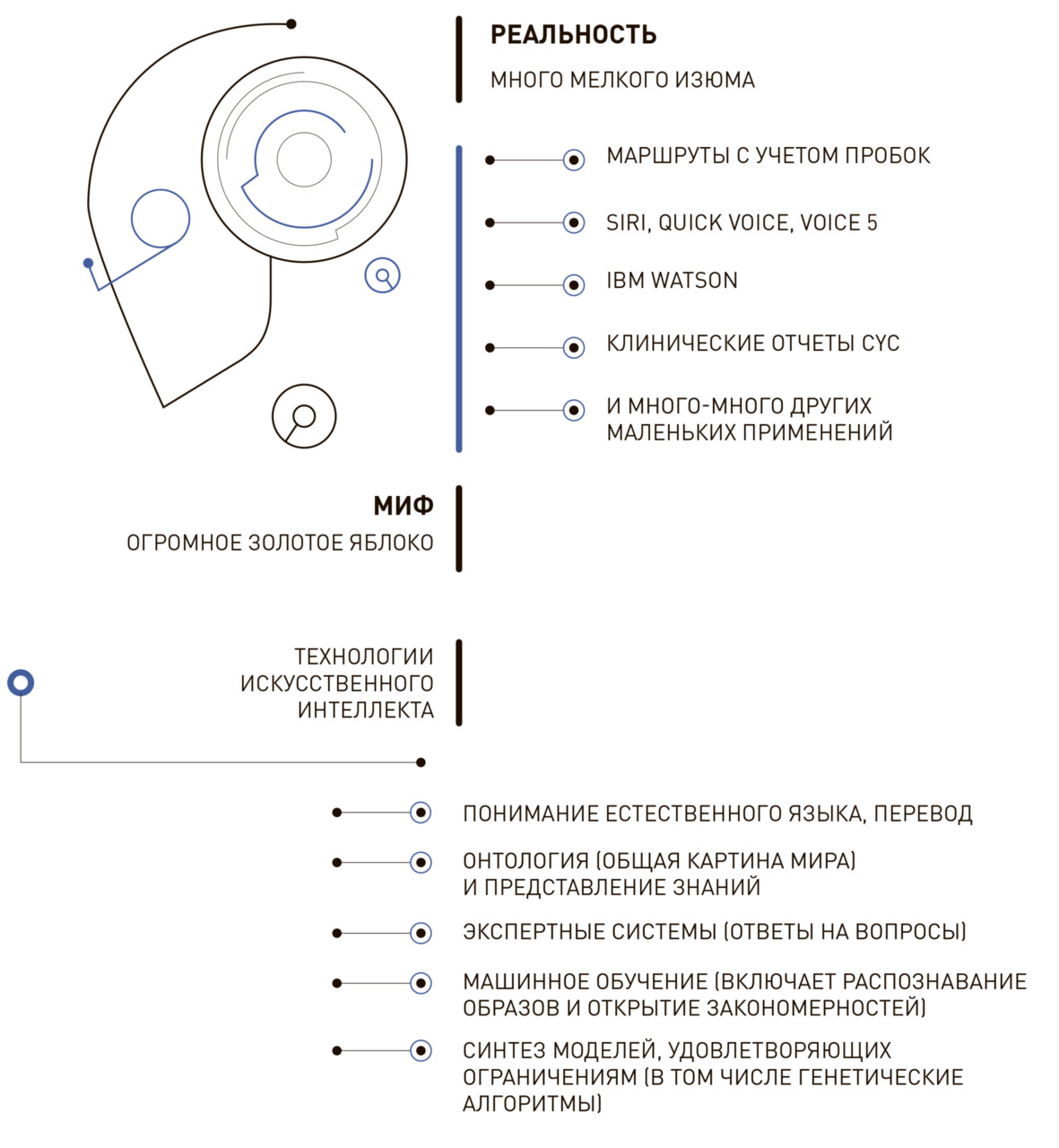
Замечу, совершенно не обязательно она воспитывается в этом месте долго, долго учится танцевать. А подключается к этой программе, быстро стыкуется… Но тогда ничего не говорите про маленьких детей, понятно? Либо говорите за отдельные деньги. И будут задержки в ответе. Потому что состыковать несколько предметных областей — это долгое время. Так и я, если вы будете со мной одновременно про бальные танцы, будущее и маленьких детей, наверное, тоже буду давать некоторые задержки в ответе при переключении из предметной области на предметную область. И когда мы начинаем это стягивать, эти разные обрывки не интеллектов, а решений частных задач на больших массивах данных, на больших объемах вычислений с выходом очень часто в физику, мы получаем все то же самое, что описывают люди, когда они говорят такие невнятные слова, как разум, скайнет, интеллект. При этом никого не волнует, ошибка это или компьютерный вирус, или еще какой-то эффект, или злобный интеллект решил всех загробить на планете. Когда бывают разные явления, как описываются в фильмах ужасов, каждый раз будет же свое! Один раз сбой и какая-то программа, которая захлопывает все ворота гаражей, которые зеленого цвета. Знаете, компьютерные ошибки ведь хитрые бывают! Вот раз, захлопнулись все гаражи только с воротами зеленого цвета. А далее начинаем искать, это был злой умысел искусственного интеллекта, часть плана по захвату мира или это был сбой кого-то из детей, который когда-то пошутил, а потом это легло в большую базу данных, а потом неправильно на вычисле ния повлияло? Вы же понимаете, что это отладка. Как у любого программирования. Так вы и детей отлаживаете, иногда годами не понимая, чего он такой, гад, растет, когда мы все правильно говорим! А чего вот эта, чего ей еще надо в ее 12 лет, чего ей не хватает! Все же одинаково, мы же понимаем. Но внутри оно не будет реализовано так, как искусственный интеллект из модулей. Это надо понимать.
Дружественность искусственного интеллекта мы не обсуждаем. Почему? Раз у нас нет искусственного интеллекта, то у нас нет дружественности. Мы обсуждаем другие способы безопасности. Вот утюг, он безопасный или не безопасный? При этом Microsoft говорит: «Утюг должен быть с характером». Мы говорим: «Да, хорошо, мы согласны. Утюг будет шутить». Что гладит, по поводу того и шутит. Гладит трусы — шутит по поводу трусов, нет проблем. Утюг ходит в интернет? Конечно, ходит в интернет! Сейчас холодильники ходят в интернет, почему бы утюгу в рамках интернета вещей не ходить в интернет и не брать свои шутки, например, оттуда. А распознает он как? Сам распознает, через камеру, через Google-очки ты смотришь, что гладишь, или моторчик у него, он сам бегает, гладит, или робот ему принес соответствующий пеньюарчик на глажку, это мы не знаем. Мы говорим, что мы не обсуждаем дружественность. Почему? Есть люди, которые это обсуждают. Пусть обсуждают! Они правильные люди, они инженеры. Если они считают, что будет такой искусственный интеллект, у него проснется самосознание. А я говорю, что не знаю, что такое самосознание в техническом смысле. У человека я могу еще пообсуждать, а у искусственного интеллекта я не понимаю этих витализмов. Конечно, я говорю, что любая программа рефлексивна. В курсе программирования написано, что программа имеет доступ к своей структуре. Структуры программы лежат в тех типах данных, которые есть у программы. О, нормально, самосознание у программы есть, называется рефлексивность. В вузах учат. Но такого большого я не понимаю. Поэтому сингулярность есть, эффекты как будто от искусственного интеллекта есть. А искусственный интеллект как нечто большое, особенное и крутое мы не обсуждаем, мы обсуждаем те детальки, из которых сделано что-то, что похоже на рассуждение, размышление и то, что мы обычно от интеллектов ожидаем. Также мы не обсуждаем embodiment intellige nce, потому что чем дальше в лес, тем меньше внимания на тело. Смотрите, какое у меня сейчас крутое тело! Во-первых, у меня шкура специфическая, у меня удлинение рта, мне тут приделали, причем, вы видели, тут же прямо цепляли. У меня длинные руки, я шевелю пальцем и меняю картинки на экране. У меня глаза, как у того волка. «А почему у тебя такие большие глаза?» — «Это чтобы тебя, деточка, лучше видеть». Со стеклом. И говорю: «Где у меня тут тело?». Пятки твердые, не стопчешь… А когда я надеваю на себя самолет, то я вообще далеко лечу. А роботы, они вообще стаями ходят, стадами, я бы сказал, потому что swarm — это рой. Принято говорить, что работник swarms, рои. Какие они рои? Стада роботов! Стаи, если дикие роботы.
Вот embodiment intelligence это, опять же, если я не знаю, что такое intelligence, то я и про embodiment говорить ничего не буду. Какая мне разница, интеллект тот же самый в теле или он абстрактно не тот же самый? Проблема есть, я знаю. Конечно, если есть тело, то надо думать о теле. А если два тела? А если три тела? А если мы вместе танец сделаем, «Лебединое озеро» на четверых лебедях-роботах? Это один интеллект делает танец, один интеллект танцует или четыре все-таки разных, которые соединяются. Все эти вопросы мне не хотелось бы сейчас обсуждать. И последняя тема, которая неправильная для обсуждения, — это тема аплоада. Тема аплоада следующая, что в будущем будет понято, как работает мозг, понято, как работает машина. И поэтому мы содержимое мозга можем загрузить в машину. Мой тезис простой, что если мы уж поняли, как работает мозг, с этого момента это уже не мозг. То есть мы его сумеем твитнуть так, что мало не покажется — интеллект у него будет IQ 1000, и корпус у него будет — не совсем моя «черепушка». Потому что если я понял, то я его и компактней сделаю, и энергии в нем будет меньше, и все вообще будет лучше. И та машина, куда я его гружу, это не та машина, которую мы представляем. Совсем все другое будет. Поэтому сама проблема этого аплоада в этот момент, когда ее можно реально обсуждать, а не абстрактно, в этот момент поменяется. И понятие личности, может быть, в этот момент будет совершенно другое. Вы же понимаете, меняется понятие «человек». Об этом чуть дальше.
И смотрите, ужас сейчас в том, что я вам многое рассказываю, лекция о будущем, а на самом деле, у меня, как заповеди… Меня все время удивляло, как заповеди устроены. Ведь нормальный человек как живет? Делай то, делай это, делай это. А все заповеди устроены почему-то ровно наоборот: не убий, не укради… А делать-то что? Нет, делай, что хочешь, только не вот это. Я лекцию о будущем примерно так даю. А будущее в чем? Не это, не это, не это… А что там? Я говорю, всякое разное в будущем будет. Негативное такое определение, заповедное определение будущего даю. И смотрите, какие в результате у нас были ожидания? Многие же прочли про искусственный интеллект, и у них такая картинка, где огромное золотое яблоко есть. Мы берем это огромное золотое яблоко искусственного интеллекта, которое в 1000 раз умнее всех, которое золотое, а не дегтярное, которое не дружественное и всех съест (далее сценарий «Скайнета»). А получили что? А получили мы маршруты с учетом пробок. Фишка в том, что раньше все те задачи, которые сейчас интеллектом не называются, они считали задачами для искусственного интеллекта. Вот построить маршрут с учетом пробок, решить сложную задачу с графиком — это во всех учебниках искусственного интеллекта. Вы будете удивляться, до сих пор учебники искусственного интеллекта содержат решение этих задач. А почему? Когда-то операция деления в римских числах, за нее давали докторскую степень, ее в университетах учили. А вы пробовали когда-нибудь в римских числах делить? После того как арабские числа появились, еще некоторое время прошло, и оно ушло из вузов в школы в старшие классы, а потом и в младших классах начали изучать арифметику. И сейчас это интеллектом никто не называет. Арифметические операции? Да компьютер считает вон, 20-значные числа перемножает вот так. Его же интеллектуальным из-за этого не дают!
Есть такое смешное определение интеллекта, что интеллект, как только мы понимаем, как что-то работает, как что-то устроено, как что-то думает, в этот момент слово «интеллект» меняется. Вот смотрите, мы умеем строить маршруты с учетом пробок — все, это не интеллект. Siri, та же Картана, — это ведь не интеллект! Мы же знаем, это называется personal assistant. Это программа, обновление такое-то, выходит тогда-то. Дзынь — попала к вам, обновилась, с этого момента, например, распознавание голоса в Google не привязывается к серверам вот с такой-то версии Android, по-моему, с 4.1 или с 4.2. Какой интеллект? Что, можно вот так загрузить интеллект? Вроде бы, нет. Умеет человечество это делать, знает, как. Ну все, не интеллект. Понятно, да? Мы роботам то же самое рисуем. Корнилов любит говорить, вот когда мы не понимаем, как это устроено, делается, это робот механический. Как только становится понятно, например, робот-кондиционер у «Тошибы». Никогда кондиционер себя не чистил, а тут кондиционер себя чистит, и людям непонятно, как это? Не надо обслуживать? Сам чистит? Все! С этого момента мы слово теряем. Это робот, а потом не робот, а просто кондиционер. Я замечу, так в жизни человека все время происходит. Бухгалтерия — механизированная, компьютеризированная, бухгалтерия (потому что некомпьютеризированных не бывает). Почта — электронная почта, просто почта. А если отправить по обычной почте, то, первое — уже не во всех странах это можно сделать, второе — каждый раз приходится явно пояснять, что это обычная почта. И не перепутай! А почта — это почта. Так и тут: какая-то задача, маршруты с учетом пробок. Непонятно, как решать! Это задача искусственного интеллекта. Если решим, значит, искусственный интеллект. Вот шахматы, помните, это задача искусственного интеллекта была. Помните, Гарри Каспаров проиграл машине IBM. Это подавалось как пик искусственного интеллекта. А оказывается, машина теперь может играть в шахматы и побеждать гроссмейстеров. Ба-бах! Теперь у меня программа играет в любом телефоне, как я понимаю, на уровне среднего гроссмейстера она играет. Почему-то никто это не называет искусственным интеллектом. Вы чувствуете, как эта граница в будущем того, что называется интеллектом, исчезает? Вам теперь понятней, почему я все время говорю, давайте обсуждать сингулярность, быстрое изменение всего? Нет в будущем этого искусственного интеллекта. Почему? По мере приближения, знаете, как горизонт, это будет все время отдаляться, отдаляться. Что я буду обсуждать то, что я все равно не догоню. А главное, зачем? Тут и так всего столько происходит! Давайте лучше обсуждать как раз, как сделать то, что непонятно, без переписывания этих слов. Что вам надо от интеллекта? Чтобы он песни сочинял? Сочиняет! Вам надо, чтобы он на пианино играл? Есть конкурс типа Чайковского для компьютерных программ. Проводится раз примерно в пару лет, собирается 3–5 компьютерных программы на семинаре по компьютерной музыке и играют. Там условия просты: выдают партитуру, и машина должна эту партитуру сыграть. И ты не имеешь права больше ничего делать. Вот тебе судья выдал партитуру, и ты ее сделал. А в некоторых случаях разрешается, там есть одно соревнование, примерно 2–3 минуты настраивать дают программу, пару коэффициентов подогнать под тип произведения. Потому что ты не знаешь тип произведения. Сначала слушать было невозможно, в первый год они играли, как первый класс музыкальной школы. А сейчас играют на уровне… еще не совсем выпускники музыкального училища, но точно уже лучше. А сейчас еще хуже, потому что когда они начали рисовать фазовые диаграммы, то есть правильные оси координат, они говорят: «Глянь, как ритмика устроена!», и оказывается, там рисуются разного сорта колечки с петельками и говорится, что если ритмика устроена по такой вот петельке, то это великий исполнитель такой-то. А если с овалом в эту сторону, то великий исполнитель такой-то. А если петелька так пошла, то это великий исполнитель такой-то. Следовательно, мы вам даем информацию, как после музыкального училища играет этот музыкант, а как — этот. В этот момент можете ли вы считать это искусственным интеллектом или компьютерным творчеством? Нет, вы не можете считать!
А еще лет пять назад я любил демонстрировать, сейчас я даже этого не буду делать, ставят микрофон, ставят фонограмму оркестра, и выходит девочка и играет на скрипке. Демонстрируется искусственный дирижер. Его задача понять, что девочка играет, понять эту ритмику. И одну функцию дирижера она делает со всем симфоническим оркестром, который идет в записи. Как вы знаете, запись можно тормозить, не меняя тона, сейчас. Это элементарный совершенно акустический расчет. И чуть-чуть ускорять. Эта программа делает прогноз, что девочка будет играть в следующих нотах. И она ускоряет и тормозит всю эту запись в зависимости от того, как страстно, нервно, ритмично играет девочка. То есть идеальная связь даже не машины, потому что машины симфонический оркестр записали, как метроном, безо всякого дирижера, и человеческое исполнение. Все эксперты в слепом прослушивании говорят: «Надо же, задача дирижера оказалась решена». Причем, решена грубо, неприлично (то есть там никаких особых программ, выяснилось, что есть один параметр, это темп, там чуть-чуть громкость, но это неважно). И выяснилось, что элементарно: девочка играет, как бог на душу положит, а весь оркестр за ней плавно идет, все 33 музыканта, потому что из микрофона слышно, как она играет, и строится прогнозирующая функция вперед. Но вот прогнозирующая функция вперед — да, для этого пришлось попотеть. Но делается же! Все, решена задача. Публикация в каком журнале? Правильно, не в музыкальном журнале. В журнале искусственного интеллекта была публикация, получили соответствующие премии. А все последующие публикации идут в музыкальных журналах. Все, это уже не задача искусственного интеллекта.
Принцип понятен, да? Появляется нечто, люди понимают, как оно работает, и в будущем оно уже как предметная область, оно не является задачей творческой, задачей интеллектуальной. Просто исчезает из повестки дня. Переводчики текстов. Раньше это был искусственный интеллект, кто-нибудь сейчас считает, что переводчик Яндекса, Google-переводчик — это искусственный интеллект? Нет, не считает, потому что это просто программа-переводчик. Мы же понимаем. В крайнем случае скажем, что это лингвистические программы. Но, ребята, еще 10 лет назад проблема перевода — типичная проблема искусственного интеллекта — в учебниках только по искусственному интеллекту и рассматривалась. И я хочу, чтобы вы эту картинку запомнили. Мы получили много мелкого изюма, он очень вкусный, полезный, с микроэлементами, но никакого одного большого, целого, универсального разумного золотого яблока. И никакого человекоподобия, ничего этого нет. Но это совершенно не означает, что у вас нет в этом месте какой-то другой массы съедобного чего-то. Может, даже более съедобного. Потому что изюм более полезен, чем золотое яблоко, которое, как вы понимаете, и укусить нельзя.
И какие у нас есть технологии, которые развиваются с бешеной скоростью? Мы даже на этом останавливаться не будем. Понимание естественного языка, перевод. Конечно, IBM Watson не понимает естественный язык, а вот «Сайк» понимает. Почему «Сайк»? «Энсайклопедия» — это как бы из слова «энциклопедия». Онтология — это общая картина мира. Поскольку если у вас много разных картин мира у разных людей, у разных машин, у разных вещей из интернета вещей (у каждой вещи своя картина мира, включая тот самый утюг), вам надо как-то их соединить в одно, представить, как они в мире. Это проблема искусственного интеллекта. Но заметьте, это частная проблема. Представление знаний — типичная проблема. Представьте себе людей, которые пытались делать компьютер не с двоичной системой исчисления, а с десятеричной системой исчисления… Вы же понимаете, что знания надо представлять так, чтобы с ними можно было работать. Это громадная проблема. Но это ведь не искусственный интеллект как искусственный интеллект. Это искусственный интеллект в старом его понимании. Иногда разделяют, и это надо запомнить: есть strong IE, сильный искусственный интеллект (это тот, который очень умный или очень злобный) и есть weak IE — слабый искусственный интеллект. Он не искусственный интеллект, это отдельные математические (очень редко — физические) дисциплины, философско-логические дисциплины, лингвистические. В общем, вы видите, что интеллекта тут нет, но когда мы их вместе собираем, они выдают то, что у человека сейчас считается признаком интеллекта. То, что я умею считать, а если компьютер умеет считать, это не интеллект. А я вот умею считать, это я очень интеллектуальный. А вот есть мнемоник, который в Индии выступает с расчетами 20-значных чисел, он на жизнь себе зарабатывает. Он показывает, что человек тоже умеет считать, как компьютер. Но не спрашивайте у него никаких других задач. Он не умеет. Мы это интеллектом не считаем. Знаете, собрали все вместе по чуть-чуть и вроде бы интеллект получили. Вот это интересная мысль.
Экспертные системы, машинное обучение, открытие закономерностей сюда же. Ученых сюда. Синтез-модели, удовлетворяющие ограничениям, в том числе генетические алгоритмы сюда же. Где там генетика? Где там алгоритмы? Где там искусственный интеллект? Но формально это область искусственного интеллекта, творчество в этом самом месте. Приложение, обработка естественного языка. Вы же понимаете, что в этом направлении сейчас идет все, и все неинтеллектуальные системы получают системы работы с голосом, системы работы с речью. И у нас интерфейс самыми неинтеллектуальными системами вполне себе голосовой. Я уже вполне себе голосовым интерфейсом вытаскиваю и говорю: «Туда-то и туда-то». Вы знаете, появляется фрагмент карты, понимает, что я хочу, куда. И маршрут рисует. Голосом. И еще приятным голосом также говорит: «Через 20 метров поворот направо». Естественно, ты проходишь мимо. Он говорит: «Маршрут перестроен». Вот это ровно оно. Где используется? Вы будете удивляться, например, все эти голосовые технологии, прежде всего, начинают использоваться в голосовых call-центрах. Знаете, 500 человек, все в наушниках. Поток звонков help. Что надо сделать? Там есть 4 тома, которые надо в совершенстве знать. И звонок: «Как мне, у меня не включается 4 кнопочка моего 15-го прибора». Надо флегматично спросить: «А какая модель?» — «Черт его знает, какая модель». «Посмотрите на заднюю стенку, в левом углу у вас…». Оператор такой работой занимается во многих странах. Причем, очень часто это ломаный английский, а вам надо, чтобы это был ломаный голландский, датский. Вы что делаете? Вы берете программу, и, смею вас заверить, она справляется с этой задачей даже лучше, чем люди-операторы. Иногда плохо слышит, плохо говорит, но говорит с каждым годом все лучше и лучше и слышит с каждым годом лучше и лучше. Но найти из этой пачки правильную страницу, где написано, куда смотреть и как исправить — это проходит за 2 секунды. А девочка в этот момент, которая хорошо слышит и говорит, произносит: «Я вас переключу на специалиста». Далее специалисту вы будете рассказывать все то же самое по четыре раза, все мы это проходили.
Как говорил один разработчик робототехнических систем: «Самые восхитительные задачи, самые лучшие задачи — это самые тупые и скучные задачи. Я решаю простую задачу. Я делаю робота-разгрузчика. Вот стоит груда коробочек, приехала в универмаг фура. Надо разгрузить. Но вы должны разгрузить так, чтобы вы не взяли нижнюю коробочку. А у вас эта рука, он быстрый». И там еще одно мелкое ограничение: «Мне надо сделать так, чтобы погрузчик этих коробок продавал за 120 тысяч баксов. Потому что, — говорит, — это будет коммерчески выгодно. И еще мне надо разогнать скорость примерно втрое». Приводились цифры, что человек одну коробочку порядка 6 секунд разгружает. Он успевает за это время ее взять правильно. Там ведь ее грузили так же, в навал. А товары, представляете, — разные коробочки разного диаметра, они все аккуратно еще чем-нибудь закрыты. Веревочку снимаешь, и она начинает сыпаться. А тебе ее надо разобрать так, чтобы не рассыпалась. 6 секунд. Он говорит: «Мне надо, чтобы 4 секунды, — быстрее, чем люди, — и 120 тысяч, с учетом работы в три смены, и все». Вы представляете, сколько грузчиков во всех магазинах исчезают? На всех производствах. Типовая операция, сеть поставок. А тупая-тупая! Вам надо просто правильно распознать правильный алгоритм, за какое место взять правильный алгоритм этого манипулятора, в правильную точку принести. Правильно подъехать, правильно закрепить… Все правильно сделать — с этого момента много миллионов уходят. То же самое происходит с автопилотом автомобиля. «Тесла» уже объявила: «Какой гугломобиль! Мы будем первыми», — сказал Элон Маск. Это ведь стыдоба, выпустить электромобиль и не быть первыми. Google на это промолчал, комментариев не было. Когда Элон Маск говорил: «Моя ракета будет садиться на дюзы», ему отвечали: «Мужик, сколько лет развития космонавтики, такого не будет». Дальше пошли ролики с YouTube: садится на дюзы ракета. Замечу, что сегодняшняя технология сильно отличается от технологии вчерашнего дня, и многие легенды, а это один из пунктов моего рассказа, становятся нелегендами. Жизнь поменялась и поменялась сильно. Например, что означает, что у Элона Маска ракета садится на дюзы? Это означает, что примерно, я ожидаю, при нормальном развитии этой технологии стоимость космического полета падает в 100 раз. Не в 10 раз, в 100 раз падает стоимость полета на орбиту. А вы же понимаете, что никогда не бывает спроса. Всегда бывает сначала предложение, а спрос и применение неожиданно появляются после того, как есть дешевое нечто. Если у вас есть дешевый полет на Луну или на Марс, вы найдете, куда его использовать. А дешевле будет в 100 раз по сравнению с текущим. То есть у вас не только научные интересы в этот момент появятся или туристические. В принципе, уже туристических хватает, как я понимаю. Задача до этого считалась невыполнимой. Почему? Представьте себе 10-этажный дом, тут у него сила, которая этот 10-этажный дом толкает вверх, с заметным ускорением причем, не как самолет, а разгоняет до скорости 8,6 км/с. Представляете, сила? И вам надо, чтобы этот 10-этажный дом балансировал, очень четко держался. И точно так же он садился бы еще. Или как вертолет летел. Очень красиво, я никогда такого не видел. Потом возвращается также вертолетом и аккуратно садится, как в фантастических рассказах. И такой любой взлет стоит 102, в 100 раз дешевле, чем любой другой взлет, который вы видите сегодня по телевизору. Другого класса технология. Как надо было научиться, чтобы выдерживать этот баланс. Вот вам домашнее упражнение. Попробуйте не реактивным мотором, а взять метровую линейку, и вот так сколько вы ее продержите. Попробуйте теперь сделать ковринг. Вот так: поднять на метр сюда, на метр назад и сюда. А потом вы найдете в Google ролик, где ровно то же самое делает квадрокоптер. Он делает баланс, потом он делает вот так… и шест (это обратный маятник, кто не знает обратного маятника: в этой точке он подвешен, а сюда он может качаться, как угодно, задача его балансировать так, чтобы он не качнулся). Вот квадрокоптер его балансирует, потом у него — раз — и прямо показывается в ролике картинка, как происходит расчет. В этот момент сюда подлетает другой квадрокоптер и аккуратно его под правильным углом принимает и ставит на баланс. Вот так они перебрасываются обратным маятником. Раньше это была задача искусственного интеллекта. Потому что любая робототехника такого уровня считалась невозможной. И там много чего еще невозможно. Потому что ну как же? «Для этого роботу требуется иметь глаза, которые работают не хуже, чем у человека, а у него 4 миллиарда нейронов, вы же не понимаете, какая это вычислительная мощь».
Я много раз читал это на разных сайтах в интернете, а в интернет оно попадает из таких толстых книжек. И каждый раз выясняется, что проходит чуть полшага в будущее, и все невозможное становится возможным. Сегодня инженерия эти вопросы решает, нет такой проблемы — киберфизические системы. Выход в физику из искусственного интеллекта теперь тривиален. Нет, для этого, конечно, много чего надо сделать, но вы на всякий случай запомните, что выход в физику — это не такая сейчас проблема. И все это делается для чего? Все это делается для того, чтобы в какой-то момент мы взяли, убрали людей в call-центре, в какой-то момент мы убираем грузчиков. Автомобиль у нас Элон Маск делает и Google, а собственно, и Volvo заявил уже. Элон Маск уже поставил автопилота, который говорит, что, в принципе, наш автомобиль, если считать, что мы не ездим по лицензированным дорогам, уже этот софт способен вывезти автомобиль из гаража во двор без участия человека и подогнать к крыльцу. Почему? В вашем дворе вы имеете право ездить без водителя, без лицензии, без ничего, не сдавая тестов. При этом, я вас смею заверить, если по двору ходят какие-нибудь животные или люди, там все это уже учтено наверняка. Но в принципе этот софт уже есть. А те, кто купили автомобиль раньше, получили уникальный сервис. Кто купил модель S предыдущую, у них софт обновился. А автомобиль не обновился. Но автомобиль появился новый, теперь у автомобиля есть автопилот. Паркуется он сам, выходит из парковки сам, круиз-контроль держит. Но из мелких вещей он, конечно, сейчас сам не водит, потому что, вы понимаете, какой общественный скандал это будет иметь, но у него мелкая особенность — он с одной полосы движения на другую перестраивается, когда вы его об том просите. Без рук, рулить не надо. То есть тормозит, как надо, сигналит, улаживает все скорости и аккуратно перестраивается. Все медленно и постепенно, по такому маленькому изменению в год. Подождем 3–4 года и далее, как вы считаете, с какой скоростью все автомобили будут такими? Мы теряем всех водителей. Причем если три года назад, кто внимательно за прессой следит, вы читали, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что регулирование не позволит, потому что это безопасность. То теперь аргумент ровно наоборот, потому что это безопасность, а мы показываем вам реально, что наши автомобили гораздо меньше статистически на единицу километра попадают в неприятности, чем любые другие автомобили, то ровно поэтому вы обязаны будете убрать человека из всех опасных контуров вождения, например. Это же вождение! Как можно руками?! Ровно обратная идея, чувствуете? Так три года назад этого не было. Вы ведь читали, что разрешено будет только в особых местах, только при сохранении контроля за человеком. Вы обязаны сохранить все уровни управления. А сейчас идея другая, что для безопасности вождения вы должны сделать это автоматом. Для разгрузки человека при погрузочно-разгрузочных работах вы должны убрать всех роботов… И так далее пошли. Мы начинаем работать с самыми скучными работами. Вся неквалифицированная рабочая сила — водители… Или квалифицированная, гонщики туда же. Мы же понимаем, что с гонщиками так же можно. А далее часть этого отвлекается на водителей — дронов. С водителями самолетов это уже происходит, с пилотами. Армии уже пилоты почти не нужны. А у космонавтов еще хуже было. Один из космонавтов в лунном модуле прославился тем, что в нарушение всех регламентов сказал: «Принимаю управление на себя», — и американский астронавт взял и целых 60 секунд на ручном управлении вел лунный модуль. Далее был разнос везде, потому что считается, что это только в аварийном режиме надо делать, когда у тебя вообще модуль развалился, и тогда ты можешь взять управление на себя. А ежели у тебя рука дрогнула, а если у тебя не то состояние сознания. Автоматика тебя хоть как-то выведет.
Известно же, что в космосе самый развал — ручное управление. А в жизни? А в жизни у депутатов было наоборот. Сейчас у депутатов появляется это же космическое сознание, после чего мы будем видеть, что стремительно профессии просто вылетают массово. Примерно как секретари-машинистки, очень была распространенная специальность! Исчезли. А сейчас у нас есть кто? Есть, конечно, офисные девушки, которые чай заваривают. Как в Японии их вежливо называют, офис-леди. Они не машинистки, а офис-леди. Что-то делают. Они будут стремительно исчезать, потому что, в принципе, и чай робот принесет. Он его по норме заварит, он проверит, насколько чистая чашечка, все сделает по уму, не забудет, на свист придет.
Вы просто должны понимать, что технологии могут все. И они ровно в этом направлении и идут. И нет ничего, что бы сейчас запрещало это сделать, потому что то, что раньше считалось, что это запрет, интеллект или для этого нужен особый витализм, божественная душа, сейчас люди в это не верят.
Дальше мне придется сильно ускоряться, потому что времени мало, а мы только рассказываем, чего там не будет. Нам надо рассматривать материал Мэтью Веста, который регулярно в Россию приезжал. Он говорит: «Давайте посмотрим, как у нас производственная система устроена». Та, которая из мира проектирования. Наверное, идеальная программная система та, которой вам не надо говорить, что делать, она сама делает, сама учится, сама знает, что она делает. Все у нее само как-то происходит. Идеальная система. Давайте посмотрим, как близко эти системы попали к идеальным. И он ввел три уровня. Смотрите, раз обсуждаются уровни интеллектуальности, вы чувствуете, что как только заговорили об уровнях интеллектуальности, вся дискуссия про витализм, она ушла. Все, что у нас естественный искусственный интеллект, этого просто нет, а слово «интеллектуальность» используется в техническом его смысле. Технический смысл, конечно, остается. И вот, уровень 0: подразумеваемый мир, пассивное взаимодействие с пользователем и фиксированная структура. Хотя тут есть такие слова, как «понимает мир», «взаимодействует с миром», «самосознание». И говорится, что у нас есть три критерия, три зоны, в которых мы эту интеллектуальность рассматриваем. И мы понимаем, что уже производственные информационные системы, например, они давно прошли этот этап. Мы сейчас реально на уровне 1: это аккуратно представляет мир в целом. Это означает, что есть какие-то структуры данных, которые позволяют нам аккуратно представить мир. Там засада, замечу. Потому что для этого пришлось много решить интересных вопросов. Например, вы не можете аккуратно представить мир в реляционном формате, программисты меня поймут, в объектно-ориентированном формате. Если перейти на гуманитарный язык, это означает, что, как Аристотель представлял мир, вы не можете мир аккуратно представить. У вас большие проблемы с «аккуратно». Что такое аккуратно? Это когда у вас ракета точно долетает на Марс, например, и посадку делает на Марс. Почему? Это не гуманитарное знание. Это в гуманитарном знании килограмм плюс-минус километр, кого-то уговорили, я понял или не понял, да кто же поймет! А там ракета имеет один шанс. Она либо долетела и села, либо не долетела и не села. И лететь туда год, и там ремонтников нет, и у тебя один шанс вообще. И стоит этот весь полет пару миллиардов по нынешним ценам. Это аккуратное представление мира. А можете ли вы объектно-ориентированно представлять? Нет, потому что если у вас реально большие системы, то вам приходится несколько разных представлений о мире соединять, несколько предметных представлений о мире теоретически несоединимы, и вам нужно работать с семантикой, в логическом представлении. И от объектов с атрибутами (в одном проекте объект, в другом — атрибут, и наоборот). И программисты вам говорят, что мы не можем склеиться, мы можем переписать обе системы, реструктурировав все наши схемы данных. Или вот у нас большая база данных, но мы не можем вашу крошечную базу данных влить к нам, потому что для этого придется реструктурировать всю нашу базу данных. Программисты любят такое заявлять. Это теоретически правильно, они абсолютно правы, их так учили. Это их родовая болезнь.
А в 1905–1906-х годах логики — Чёрч и особенно Пирс — сказали, как представлять информацию так, чтобы можно было просто добавлять информацию. Если у вас есть модель мира, то вы эту информацию добавляете друг другу, семантическое представление. Это очень недавно случилось. И весь этот вопль насчет Web 3.0, когда вам надо со всего web все собрать, медицинские базы, которых 96 штук собрали в одном из проектов. Это все делается путем перехода на графовые базы, на семантические форматы данных. Это как раз и есть этот ход на аккуратное представление мира в целом. Но это не аристотелевское представление. Мы не мыслим мир в объектах и их атрибутах, мы мыслим мир в объектах и связях между ними. Ничего не можем сказать про объект, мы можем только сказать, как этот объект связан с другими объектами. И в столкновении через отношения с другими объектами определяем, что это за объект. Атрибуты объекта — нет такого понятия «атрибут». А как же Аристотель с тем, что у каждого предмета есть его сущность? Да, люди тоже долго считали, что Земля плоская. Неудобно для очень многих задач. Для многих задач удобно, что Земля плоская, но для очень многих других неудобно. Так и тут. Тут надо сказать, что мы же понимаем, что это процесс медленный. Крис Патридж сказал, что уже выученного, с высшим образованием программиста переучить на аккуратное представление о мире практически невозможно. Поэтому он давал прямую рекомендацию: вы берите любых инженеров и кого угодно. Кроме программистов. Потому что у программистов спецтренинг был в этом месте.
И дальше что? Спроектированное взаимодействие с другими системами, содержит данные о себе, это уже ого-го. Открыл капот, а она про себя знает, здоровый я или не здоровый. А дальше идет, смотрите, применяет теории для достижения целей. То есть цели целями, а теория теорией. Помните, чем отличается применение теории? Знание теории освобождает от знания фактов. Поэтому если вы знаете теорию, вам не надо прописывать 856 особых случаев, особых кнопок для решения 856 особых ситуаций. По идее, вы сможете применить эту теорию. А адаптивно взаимодействуют с другими системами. Это означает, что система не втыкается в заранее предусмотренную розетку, имеет API интерфейс, а приходит, смотрит — там какой-то API. Система разбирается, что за API, и втыкается. Чувствуете, совсем другой уровень.
И мониторит свою работу. Это означает, что: «Ой, что-то мне тут нехорошо, надо бы…». И далее начинает менять. Резилиент называется система, которая упруга, она выживает. Очень, кстати, смешно у системных инженеров. Раньше все время говорили sustainable. На мой взгляд, нет ничего более sustainable, чем мумия. Она 2000 лет одна и та же. И когда мне говорят о sustainable развития, я говорю: «Ну да, sustainable означает гомеостаз, и они к слову «гомеостаз» добавляют слово «развитие». Но как?
Я этого понять не могу. А сейчас заговорили, что, наверное, sustainable неправильное слово, и теперь мы делаем системы не sustainable, а «резильент». Резильент — система определяется по-другому. Это система, у которой нет режимов запроектных аварий. У системных инженеров, у атомщиков так и есть, аварии, конечно, есть. А как без аварий? У них все системы, наоборот… Система работает как система в определенном количестве режимов, а потом они считают, примерно сколько аварийных режимов. Что будет, если самолет упал? Что будет, если все взорвалось? Что будет, если катастрофа глобальная и землетрясение? Что будет, если… Понятно, регулярно не попадают. Например, хорошо работают с самолетами, но какое-нибудь цунами, и вы видели, что было. Хотя там тоже много разных историй. Говорят и по-другому, что вопрос задавался, а сказали: «Да черт с ним». Время — деньги инвестора. Цунами-то не сегодня, не в момент приема-сдачи, а деньги сейчас. Но главное, что есть нормальный режим работы, проектный, и есть проектные аварии. А есть запроектные аварии. Мы о них сказать ничего не можем, потому что проекта не было. Системные инженеры сейчас говорят: «А у нас не должно быть запроектных аварий, потому что нормальный системный инженер делает резильент — систему, которая упруго работает в ситуациях, когда вы неправильно оценили начальные условия или что-то произошло, чего вы не предусмотрели вообще, но система в этот момент упруга, она должна выжить, среагировать, перестроить себя примерно так, как это делают люди». Там, замечу, очень интересный момент с этим происходит, потому что меняется подход к проектированию. Если у нас раньше была система проектирования отдельно, то теперь все эти системы стали с использованием компьютеров. Тот самый искусственный интеллект, он туда помещается. Разобранный. Где интеллекта нет, но много его составляющих заложено. И дальше что? У нас все равно есть компьютер, все равно есть САПР, которым я проектировал систему. Чтобы система могла себя перестроить, что надо сделать? Понятное дело, взять САПР, который строил эту систему, и поместить внутрь системы на ее компьютеры.
А дальше что? У нас есть проектировщик, который работал с этим САПРом, надо взять его мозги аккуратно и засунуть в тот же самый компьютер, в эту систему. После чего мы получаем систему, которая выполняет свою функцию, и одновременно система проектирования в нем есть. Принцип понятен? То, что было в САПРе там, стало внутри.
Получается как? Вы мой учитель, вы меня учите, учите, говорите: «О, хороший Левенчук». Я пошел, говорю: «Глянь, я столкнулся с жизненной ситуацией. Ты меня не учил». Нет, наверное, там что-то происходит другое. Наверное, складывается умение учиться, умение спросить. И когда я столкнулся с ситуацией, говорю: «О!», — и начинаю перестраивать мозги, читать литературу. Все, уже обучения не надо, в какой-то момент это вошло. И то, что было раньше применимо только к людям, начинает быть применимо к системам.
Уровень третий — формировать теории для достижения цели. Насчет «формировать теории» — кто этим занимается? Ученые, философы. Да, как раз тот самый уровень. Физическое взаимодействие с миром, то есть в этой точке без робототехники мы не обходимся и управляем своей работой, это мы уже тоже примерно понимаем. Это третий уровень. Смотрите, слово «искусственный интеллект» ни разу не употребляется, потому что все то же самое — к ракете, к автомобилю… Ну как? Если раньше мы смеялись: «Глянь, корабль: закрой дверь и стартуем», — мы этого не понимали, то сейчас мы такие же функции говорим своему смартфону, а когда будет электромобиль, будет то же самое: «Закрывай двери, поехали во Владивосток». Мы даже не будем слышать, что через 10 метров поворот, пожалуйста, поверните налево, потому что моя левая рука сказала моей правой руке: «Поверни налево». Это все тихо проходит: просто двери закрылись, и мы поехали. Так ведь? А поскольку Владивосток, то произойдет заказ пиццы, прилетит дрон на пиццу через крышу, где-нибудь в Пензе предоставит. Я даже не говорю, эти сценарии легкие. Труднее вот эти вот сценарии, когда речь идет о машине, которая себя по ходу дела может перестроить, и дрон может принести запчасть.
Например, где надо вообще смотреть, дрон ли принесет запчасть, и как вообще это будет устроено? Смотреть надо, конечно, на космической станции. Вот у нас есть система, которая ломается. Что в этот момент происходит? Они говорят: «Давай мы туда запустим принтер, который будет из титанового порошка печатать запчасти. При этом нам по радиоканалу надо только чертежи туда передать, и запчасти будут». — «А еще чего не хватает?». — «Ну, нам надо туда робота закинуть, который смонтирует». Сейчас они закинули туда принтер, закинули туда первого робота, и идут первые эксперименты. Кстати, очень многие не представляют, что такое космическая станция. Я вообще понял, что люди про деятельность инженеров ничего не знают. Длина космической станции — 110 метров, если кто не знает, со скоростью 8,6 километра в час, минимальной — я уже не помню, какая скорость там, порядка 9 или 10 километров, довольно высокая орбита, — плывет по коридору в 100 метров. Это нормально. Там 900 кубических метров — поддерживаемый объем под давлением, то есть это большое сооружение. И, вы понимаете, там надо обеспечить автономность. И вот инженеры начинают думать. Это представление как-то делает проброс того, что будут инженеры делать с будущим.
Что еще не обсуждаем? Мы не обсуждаем религию, включая в будущем приходы мессии, концы света, концы календарей, астрологию. Хотя я знаю, что тут многие, даже на этом лектории, обсуждали. Много мест, которые я не хотел бы обсуждать: всемирные заговоры, помимо прогресса, мировую закулису, вашингтонский обком и кремлевский обком, кто там рулит миром и куда, заодно пришельцев и их влияние на земную цивилизацию, в самом разном виде. Потому что вы же знаете, что есть церковь саентологов. И половина считает, что их придумали, половина считает, что они были. Там было много вариантов, но этого мы не обсуждаем. Сепаратизмы и глобализацию в мире, как будет мир жить, сепаратистски или глобально, а также мешанизм, потому что капитализм — уже всем очевидно — не победил, социализм и коммунизм, очевидно, не победили. А что победило? А победил мешанизм, когда в голове винегрет из первого и второго, и все понимают, что хочется всем коммунизма, чтобы было счастье даром всем, бесплатно, дешево и справедливо. Потом кто-то задает вопрос: «А кто за это заплатит?». Ему говорят: «Ладно, на S минут оставили это и пошли в капитализм». Все говорят: «Ну, капитализм — это тут же расслоение и несправедливость. А, давайте еще социализм». А вот победил мешанизм — мешанизм в мозгах. Всемирное правительство и что будет с государством, мы не обсуждаем, а это же все разговоры о будущем. Что будет у нас? В будущем же будет мировое правительство, вы же знаете, что это главная идея всех фантастических произведений. Вариант, у нас не мировое правительство, у нас есть корпорация, которая правит всем миром. Экологию, включая урбанизацию, как будут жить города в мире, будут ли вообще города или это будет одна большая деревня, экологию мы не обсуждаем, потому что пустопорожние все разговоры: разговоры идут отдельно, а деятельность людей идет отдельно.
Исчезновение видов не обсуждаем. Я бы сейчас обсуждал другое. Вы считаете, что много-много миллионов видов исчезает — тысяч или миллионов, все по-разному говорят. Но обсуждать надо виды, которые сейчас вот-вот появятся. Еще неизвестно, обрадуемся ли мы биологическому разнообразию, которое нас ожидает буквально в ближайшие годы. Я не про овечку Долли говорю, которая клонирована, потому что клонировать, повторить — это да. А когда 18 тысяч биохакеров начнут делать в год 3–4 варианта живых существ, а моделисты — кружок имени Элана Маска — будут запускать их баллистическими ракетами на разные континенты, начиная с безлюдных островов, чтобы попробовать, вот в этот момент начнется веселье. Но дальше мы не обсуждаем экзистенциальные катастрофы, в том числе потому, что я тоже много и долго готов рассказывать про то, что в ближайшем будущем человечество ждет — вот Эбола всех убьет, а тех, кого не убьет, убьет другой вирус… Понятно, да? Потому что вирусы же всегда приходят. А если они их не убьют, то убьет глобальное потепление — всех. Ну, затопит, в крайнем случае. А если ученые говорят, что у нас не потепление, а ледниковый период, все больше и больше ученых говорят, что ледниковый период наступает, то мы немедленно переключаемся на метеоритную опасность от астероидов. Вы, кстати, не заметили, что аккуратно-аккуратно переходит перенастройка политического трепа на разбазаривание денег и общественных богатств с проблемы климата на проблему астероидов? Не заметили? Отследите, посмотрите кривые: космическая опасность, астероидная опасность и как бы глобальное потепление. Там интересные процессы найдете, то есть политикам всегда есть куда поделить большие деньги, так же как рынок квот на СO2, будет рынок квот на участки неба, там много чего будет интересного. Не обсуждаем экзистенциальные катастрофы, когда человечество откроет атомную войну против самого себя и сгинет путем атомной войны.
Не обсуждаем также всякую гуманитарщину: конец эпохи авторов, конец эпохи композиторов, конец эпохи писателей, конец эпохи искусства. Ну, вы знаете, что авторов уже нет. Пять минут под музыку посмотрели титры к любому фильму и поняли, что авторов нет. Эти 200 человек — ну, никак там не авторы. А конец эпохи композиторов — это у нас Мартынов любит писать об этом. Он говорит: «Ну, как великий композитор, и все». Раньше на них равнялись. Но нет великих композиторов, в принципе уже нет. С великими писателями? Тоже, наверное, подвымерли, где-то еще в восьмидесятые годы последние подвымерли. Великие художники? Ну да, те, которых нет, они великие. А из настоящего уже великим не будет никто. И то же самое у нас происходит со многими другими. Режиссеры еще как-то остались, но, учитывая те же самые титры, там тоже они совершенно не остались. Мы же понимаем, что тезис-то есть, но мы его не обсуждаем, потому что, на мой взгляд, в будущем вот эти вот все сценарии, они для многих людей очень интересны: люди — тревожные существа, люди беспокоятся о своем существовании, люди беспокоятся о своей безопасности. Но когда я начинаю читать газеты, в которых пишут только о катастрофах, и еще добавляют по субботам, вы знаете, обязательно раздел «Происшествия». Ну, материала не хватает, любого, добавляют раздел «Происшествия» в субботу и воскресенье. Это известно, это все СМИ используют.
Но мы же тут не СМИ, у нас же лекция про будущее. Я же вам не газета, поэтому вот этих всех пугалок и не совсем рациональных путей рассуждения о будущем мы касаться не будем. Будущее тело мы не обсуждаем, но должны бы. Но при этом я понимаю, что у вас тут были уже лекции про техническое бессмертие. При этом я, хихикая, говорю, что, если у нас и произойдет вирусная катастрофа, то наиболее вероятный сценарий — это изменения в генной инженерии. Я говорю: «Вот вам будет вирус, заразят вас вирусом — и вы станете технически бессмертным». Почему технически? Ну, это от того же самого стероида не спасет, от метеорита по голове не спасет, это, может, не спасет от каких-то конкретных, может быть, болезней. Но механизм старения, болезни по старости — вот то, что отключат, — то уже на полном ходу вот этот дедушка, который не оченьто и дедушка, а Обри Дегрей из вот этой Ассоциации бессмертия, он уже начал фандрайзинг. Я охотно верю, что эта программа абсолютно выполнима. Это я вам скажу как химик по образованию. Там все будет, там все берется. Ничего там особо интеллектуального нет, просто не хватает, как всегда, сосредоточенности, денег. Как ругается один мой товарищ: вот западная медицина пришла. Кто-то говорит, что бизнес-модель, которая есть в западной медицине, приводит к тому, что, явно или не явно, получается так, что человек будет болеть, но не помирать», то есть вечно больной, вечно старый, долго очень жить, но это как бы никого не волнует, чтобы вылечить, так, чтобы не старел. Потому что, если не стареет, тогда он прекращает болеть, и тогда ему вообще вся медицина не нужна. Вот он и говорит: «Пока эту бизнес-модель поломать нельзя, вот так вот и будет». Все препараты, они не лечат, но симптом держат. 20 симптомов? 20 симптомов держат, помереть не дадут, но это не жизнь. Вот такая медицина. Если, как он говорит, чуть-чуть вот этих денег из этой бизнес-модели вынуть и направить в модель, которая найдет пути старения, то чего?.. Просто не было такой программы. Вот программа появляется. И я рекомендую вам, продолжение моей лекции вы можете посмотреть в художественной форме, обязательно прочтите книжку Пола Ди Филиппо «Рибофанк». Я очень советую. Я прямо список литературы обязательно дам — обязательная литература к лекции. И там вот пути биологического развития. Не искусственный интеллект, о котором я сейчас рассказываю, а именно как живое могло бы развиваться, то есть что там будет дальше. Вы посмотрите, очень интересно. Я считаю, что это и будет.
А вообще дальше там очень много разной теории. У меня времени остается только бегло сказать, о чем я вам сегодня не успею рассказать подробно. Очень много всего. Но я знал, на что шел. Будущее необъятно, говорить о нем можно много. Я же профессионально говорю, поэтому говорю обо всем, долго, могу неделю читать про будущее. Вот смотрите, почему трудно обсуждать будущее? Потому что непонятно, зачем обсуждаем. Ну, каждый за своим пришел, по идее нужно читать каждому индивидуальную лекцию. Но вообще непонятно, зачем? Мы как предприниматели тут сидим, карьеристы, правители, ученые? Что вы будете делать с моим текстом? Вот я вам текст сказал, картинки показал. Далее, на потоке контринтуитивность, то есть это означает, что мы прыгали в основном ножницами, то в какой-то момент высота полета ассоциируется с безумным: я подхожу к планке спиной, толкаюсь пяткой, перелетаю, и в пик полета я — лапками кверху. Представить это до 1968 года было совершенно невозможно. Представляете, человек спиной берет высоту выше двух метров, не смотрит, куда прыгает, а лапки кверху задирает и так перемахивает? То же самое с будущим. Вот парадигмы умирают с их носителями. Но когда я тут сижу, и у меня вот эта парадигма про плоскую землю, обсуждать, что там земля будет круглая — просто невозможно. Понятно, да? Поэтому я вам ничего не могу рассказать, с вашими текущими мозгами, про будущее. А когда вы будете в будущем, то прошлое вы будете еще понимать, помнить, как оно. Может быть. А может быть, уже и не будете. Но вы тогда не сможете как бы сказать, что там дальше в будущем будет.
А как мы смотрим на время? Я чисто формально говорю. Есть же два варианта. Первый вариант — это когда линия времени проходит у нас вот так. В голове-то у нас есть представимое будущее, это чисто психологический феномен. И если у нас время показывает вперед — там будущее, там прошлое, там, тогда, мы же показываем, и все понимают, о чем речь идет, — то это очень тяжело, потому что настоящее тогда стоит вот так, ближайшее будущее мне просто тупо не видно, а отдаленное будущее вообще не видно. А прошлое? А прошлое меня не держит, потому что где прошлое? Где прошлое? Ну, линия времени-то там, прошлое там, то есть вы же понимаете, что вот тут вот все события не видны, а вот эти события… вот этого события не видны, потому что настоящее перекрывает.
Поэтому применяется очень часто прием, который я вам крайне рекомендую. Для того, чтобы обсуждать время, вы должны выскочить из времени. Вы не должны обсуждать внутри времени, когда время идет через вас. Вот смотрите, это важный прием. Иногда это называют английским временем, а иногда временем Ближнего Востока, южным временем. Вот люди, которые себя ведут в соответствии с этой картинкой, это как бы экспрессивные народы Ближнего Востока, считается, а это не совсем так, но какая-то правда за этим есть. Они импульсивны, у них очень сильная привязанность к настоящему, они живут здесь и сейчас. Но у них не очень с будущим — не ведет никуда, здесь и сейчас побеждает — и с прошлым. А вот это — это английская флегма, когда, помните, анекдот: «Темза, сэр…»? В пять часов мы пьем чай, в шесть часов у нас подвиг и война. Почему? Потому что мы не во времени живем. Время перед нами равно представлено: настоящее, прошлое, будущее… Мы все видим: как оно будет, как оно было, чем оно успокоится. Мы все видим, но нас в этом нет, эмоционально мы вытащены из времени. Мы можем переживать как в кинотеатре, но не как в жизни. Но, чтобы рассуждать про время, вам нужно уметь все-таки переходить вот в это. Гибридные формы есть, самые необычные. Я вам должен сказать, как это происходит в НЛП. Это нейролингвистичное программирование, оно предложило эту штуку. И они говорят, что человеку легко это изменить. Как только он понял, как у него линия времени, он ее мыслительно представляет, передвигает и от этого странные эффекты, которые влияют вообще на жизнь, на его стратегии, по-разному представляются в памяти. Вот это хитрые моменты. Найдите это в интернете, посмотрите.
Вот еще один момент. Если вы хотите работать с миром, будущее обсуждать, чтобы вы не оторвались в эти самые религии, эмпирии, сознание, вам придется все время обсуждать, как вы доходите до физического мира, чтобы постучать можно было. Слышите, я стучу? Это физический мир. Я не теряю присутствия в мире. Вот все эти процессы, сознание, интеллект вам надо как-то заземлять на физический мир и делать это так, чтобы это было представлено во времени. Это делается через 40-экзистенциализм, где наряду с настоящим материальным миром уже существует прошлое, существует будущее, и там вы такие простые диаграммы можете делать: пространство, время, вот это все 3D, а это отдельное измерение времени. И, конечно, тогда у объектов есть, кроме частей пространственных, временные части. Например, стул, когда он стоит в этой аудитории, вот на этом конкретном месте, а физические части — у него есть спинки, сиденье и отдельная металлическая подставочка. Но временная часть у него была, когда он был на заводе, когда его везли сюда, а это вот та временная часть, которая стоит в зале. Вот так представлять мир вам надо. При этом важно, что вот это рассмотрение происходит точно так же вне времени, как на предыдущей картинке, потому что это время — это же время этой картинки, этого пространства. А мои рассуждения — они вне времени по отношению к той картинке. Это надо обязательно понимать, что есть как минимум две перспективы — психологическая перспектива и философско-логическая.
Еще вы должны понимать, что никакого сверхчеловека нет, давно. Есть только сверхорганизации, которые работают со сверхмасштабами, со сверхскоростью, потому что, например, 18 месяцев — время жизни полупроводниковой технологической линии, она срабатывается в ноль, после чего все закрылось. 18 месяцев завод живет. Просто дальше этот завод демонтируется, продается в третьи страны, уничтожается, перестраивается — завода нет. И сверхресурсы, потому что, если вы представите ресурсы Goggle, ресурсы Apple, ресурсы Exon, то бюджеты ТНК, они вообще сравнимы с масштабами государства, но если в государстве они, как вы знаете, размазываются по всем хотящим тонким слоем, то в ТНК они на какой-то довольно узкий сегмент концентрируются. Поэтому у нас сверхресурсы во многих местах. Вот это вы должны понимать, это характеристика уже текущего момента.
Дилемма инноватора — это очень коварная штука. Говорится, что если у вас есть прорывная технология, то характеристики лучших продуктов на рынке по такой кривой идут, а худших продуктов на рынке — они идут по такой кривой. И поэтому, когда они находятся вот тут, то эти ребята на них вообще внимания не обращают, потому что это не конкуренты. Через год они появились на радарах: эти вот на столько улучшились, а эти вот на столько. А еще в этот момент эти начинают дергаться, но ничего сделать нельзя, потому что у них станки куплены, маркетеры налажены, презентации на 3 года вперед сделаны, и очень много компаний, особенно на рынке IT, вот в эту дилемму инноватора попадают. Что делать? Нашу отлаженную компанию закрывать и переходить на совершенно новые рискованные продукты или не закрывать и не переходить? И вы знаете, что происходило с теми, кто не перешел с mainframes на малые машины, с малых машин — на персональные компьютеры, с персональных компьютеров — на смартфоны?.. Вся вот эта линия — про вот это. И вообще это про многие технологии. Но когда мы начинаем с этим работать — это вот Клейтон Кристенсен из Гарварда, «Дилемма инноватора» книжка называется — то мы начинаем понимать, что эта работа — это же и с гуманитарными технологиями. Вот это вот S-образные кривые развития, это вот технологии управления проектами. Такие же. В шестидесятых годах мы получаем очень быстрый рост технологии сетевого планирования, а потом, сколько бы мы ни вкладывались в сетевое планирование, мы ничего не получаем оттуда.
Но в этот момент быстрый рост идет в девяностых годах второго поколения. И мы вроде бы с этими S-кривыми развития — искусственный интеллект там дальше будет — сталкиваемся, но проблема следующая идет в том, что существует проблема с предсказаниями и аналитикой. Это теория о технологическом будущем, не получившая распространения, потому что она красивая, она хорошо подается, но не работает. У нас нет отдельных технологий, каждый раз, когда вам говорят, что есть вот такая-то технология — смартфоны, дроны, роботы, ядерная энергетика — это блеф, потому что на самом деле это винегрет миллионов других технологий, в которые были вложены миллиарды на каких-нибудь совершенно других рынках. Весь этот мир переплетен очень сильно, и поэтому у вас никогда нет красивой вот этой кривой, а у вас есть всегда множество, ткань вот этих S-образных кривых — кривулечек, то есть полотно. И тогда вы сказать ничего не можете, потому что непонятно, о какой кривой вы говорите. Это очень важная штука, потому что очень популярна теория кривых развития, вообще идея технологического развития как развития конкретной технологии, которая мозгами овладевает, она неверна. Вот есть кембрийский взрыв технологии, о нем вот так вот можно еще говорить. Помните, как в кембрии количество форм жизни резко рвануло? Если можно сказать, там бактерии. Пока никто не знает, почему — то ли астероид какой-то был, то ли еще чтото, — но форм было очень много, существа на земле появлялись самые разные, двенадцатиногие моллюски, много чего было. Вот у нас то же самое. Технология беспилотного дрона — это технология: вот беспилотный дрон, все обсуждают, рынок обсуждает, и все такое. А на самом деле там GPS. В 1981 году — замечу, 1981 год, я уже в этом году только-только институт закончил, первый коммерческий передатчик GPS весил 15 килограммов и стоил больше 100 тысяч долларов. Представляете, GPS? Сегодня это 0,3 грамма ЧИП и 5 долларов цена, хотя, боюсь, что это немножко устарело, скорее всего, каждый год он будет стоить еще вдвое меньше. Там же закон Мура действует. Это GPS. И вот тут этот GPS есть.
А вообще, вы же понимаете, что это самая что ни на есть шпионская технология, как это обсуждалось 10 лет назад, а еще 5 лет назад с GPS можно было в районе военного городка загреметь куда-нибудь, потому что явная шпионская технология. Теперь никто это даже шпионством не считает. Смотрите, этот дрон, он же без GPS — не дрон, он же не знает, куда лететь. А вот инерциально-измерительный блок измеряет скорость ориентации и ускорение дрона. И в шестидесятых годах для программы «Аполлон», которая высадила, между прочим, 24 человека, — этого никто не знает — на окололунную орбиту, а на Луну посадила 12 человек. На окололунной орбите трое побывали вообще дважды. Еще по Луне ездили автомобили на скорости 18 километров, потому что быстрее там трудно ехать, подпрыгивает автомобиль, сила тяжести маленькая, на титановых колесах. И этого тоже никто не знает. Так вот, для этой программы больше 15 килограмм весил вот этот вот акселерометр, как говорят. А теперь акселерометр стоит 1 доллар, другая технология немножко… Но, что такое другая технология? Мы же рассматриваем технологию дрона, а тут, смотрите, другая технология. А что такое другая технология? Там внутри другие технологии. Мы начинаем цеплять, цеплять, цеплять. Я говорю: «Ребята, S-образная кривая чего? S-образная кривая вот этого дрона, S-образная кривая технологического развития GPS, компьютера, который то ли облачный, вместе с картой, то ли не облачный, потому что компьютеры — тут вообще без вопросов.
Что произошло с компьютерами, даже мы не говорим.
Цифровые камеры? Я помню эту историю, что пленка никогда себя не забудет, потому что никаких пикселей не хватит… Ну и чего? Я раньше ходил тоже с фотоаппаратом, а сейчас это телефон. А теперь где этот фотоаппарат? Все, аппарата уже нет, потому что тут уже такой аппарат, что мне не надо другого аппарата. Все сейчас бьют тревогу, что других аппаратов-то не надо. Вот когда мы говорим о вот этих вот кривых технологического развития, мы понимаем, что все эти технологии являются катализаторами друг друга, дешевеют стремительно, развиваются бурно. И мы не знаем, по какой S-кривой. Мы никогда не говорим об одной кривой. Поменялись инструменты, и то, что казалось невозможным в соседней вот этой S-кривой, вдруг раз — и ее резко продвинуло. Вопрос: о чем мы говорим, о развитии рынка инструментов или о развитии целевого рынка? Понятно. Это всегда так работает. Потом собрали — получили вообще принципиально новое устройство. Так что у нас там промискуитет этих S-образных кривых: все — со всеми. Когда у вас соберется нескольких этих кривых, вы не понимаете, в мозгу изобретателя что появится, тем более что потребности в нем нет никогда, а потребность у вас появится тогда, когда вам нечто покажут, вы придумаете, куда его приладить, потому что времена маркетинга, который не создавал потребности, они давно прошли.
А как быстро все будет? Вот свеженькие данные, чтобы вы понимали масштабы. Этих масштабов никто не понимает. Человечеству очень трудно двигать вещества. Но то, что эти вещества могут двигаться маленькими кусочками, человечество с трудом тоже понимает, потому что, когда вы посмотрите 22 сентября, это буквально сейчас, то больше 10 миллионов свежеобъявленного IPhone 6 и IPhone 6+ через три дня после запуска 19 сентября. Это означает, что его продали в мире в количество 10 миллионов экземпляров за 3 дня. Вы представляете вообще, как работать должна организационная машина, сколько там компьютеров сработало? Еще у каждого деньги назад взяли, назад привезли, вложили их в исследования дальше. Ну как это? Туда-сюда, сколько из Китая привезли этих самых телефонов, сколько атомов собрали, а там по пять миллиардов транзисторов на чипе — это сложность изделия. Представляете, это только на одном чипе? Сейчас запредельные чипы, которые самые коммерческие чипы, большие — это 7,5 миллиардов транзисторов. 7,5 индивидуально проименованных чего-то там на маленьком вот таком вот кусочке кремния. У каждого свой номер, и главное — они же все совместно работают, делают какой-то результат. А далее мы делаем аналогичные, да еще и по нескольку штук. А еще туда разных антенн… Вот в таком аппарате примерно восемь антенн. Вы не представляете, восемь антенн! Почему? Вы понимаете, что эта штука вообще запредельная. И вот мы говорим, что 10 миллионов вот этой запредельной сложности сделали. А дефекты? Дефекты — 6 сигма, то есть 3,2 дефекта на миллион изделий. Ну, сейчас не все производства добиваются такого эффекта, но в будущем-то мы вот в это целимся, да? Вы представляете отзыв айфонов, которых наплодили 10 миллионов и за три дня продали? Так это только первые три дня. Дальше, как вы понимаете, многие только в этот момент поняли, что что-то вышло, то есть это еще основной праздник не начался.
И к концу года, через три месяца, это 26 сентября, новый айфон будет доступен в 115 странах мира. И когда мы смотрим, что человечество уже сегодня вот на это способно, мы понимаем, что заплевать всю планету любой этой новой технологией, любым результатом промискуитета — это дело, как вы понимаете, трех дней, то есть по правильной цене сделать устройство управления вашим автомобилем в виде приставки к обычному автомобилю (там, моторчик, который будет крутить ваш руль). Не новый автомобиль, а ваш, который есть. Снимите рулевое колесо, посадите на него коробочку — и все остальное будет. По правильной цене — и через полгода все с удивлением обнаружат, что водителей уже нет.
Что делать профессиональным водителям в этот момент? Это не мой вопрос, но на него надо отвечать. В принципе то же самое делать, что операторам ЭВМ. Их век шел недолго. Их были миллионы. Но почему-то мы начинаем задумываться: а если это водитель? Ну и что, что водитель? А что произошло с кучерами? Кучеров-то тоже было в процентах от населения ого-го! А что делать со школами верховой езды, где каждый образованный человек должен был уметь ехать на лошади? Вопросы, на мой взгляд: что вы будете делать со всеми этими людьми? — они не корректны. Дело не в том что они есть и что эти люди будут делать, а «что вы будете делать с теми людьми?..» И дальше мы говорим, что прогресс по технологической линии, он всегда с ограничениями, со многим-многим, потому что как же вы можете развивать интернет, когда у нас кабельные операторы, телевизионные загибаются от вашего интернета? Вот МГТС у нас загибалась прямо с ее земляными каналами передачи от ваших сотовых телефонов, потому что сотовых телефонов и вообще всех ваших новых технологий надо меньше. Потому что вы, новые, давите старых, старые же не виноваты, что они старые. Да, я говорю, старые не виноваты, что они старые, но новые не виноваты, что они новые. Этот вопрос в голову не приходит. Они виноваты, потому что кто первый встал — того и тапки. Вы должны понимать, что все происходит более чем быстро, эта обычная картинка — это традиционная метрика: годы покажут, что нечто используется четвертью населения Соединенных Штатов. И вы видите, как-то очень скорость увеличивается нелинейно, вот уже до 2000 года WEB взял меньше за 10 лет четверть населения Соединенных Штатов. Это казалось запредельным. Но когда мы смотрим, за сколько времени берет какой-нибудь IPhone, это что-то! Вот скорость распространения в XXI веке.
В 2004 году впервые массово было предложено посоревноваться автомобилям без водителей. А в 2012 году, два года назад, гугл-мобиль прошел 483 тысячи километров практически безаварийно. Один раз в него въехали, но не автопилот был виноват, потому что автомобиль стоял на светофоре в этот момент, он просто стоял на светофоре, и в него въехали, тронуться не успел, увернуться не успел, он стоял. Понятно, да?
И тут очень много интересных вещей. Например, вы знаете легенду о том, что человеческое зрение, потому что оно поддержано четырьмя миллиардами нейронов, лучше любого компьютера. То есть компьютерное зрение вообще никакое. Тем не менее соревнование по дорожным знакам произошло в феврале 2011 года, и впервые выяснилось, что, если камера смотрит и идет распознавание изображений, то поступает команда на дорожные знаки, которые могут быть под углом, на них может тень попасть, листик может упасть и распознает эти знаки машина и команда людей. Машина распознает лучше команды людей. Вот было выиграно первое соревнование. То же самое сейчас происходит в распознавании рукописных шрифтов и иероглифов. Смотрите, какое это будущее! Оно сейчас только неравномерно распределено, я покажу эту фразу через слайд. Вот, в принципе, все эти байки и легенды уже сейчас опровергнуты, что вся технология, в принципе, чего-то не может, потому что есть божественное существо — человек, он все может. Я говорю, там нет уже такого существа как человек, потому что, посмотрите хоть на меня: какой я человек? У меня зубы и то более или менее искусственные в значительной мере. Ну, я без этого телефона уже не человек — полчеловека. Не верите? Оставьте его дома и погуляйте недельку без него. Вы поймете, что у вас полмозга вынули. Оказывается, у вас есть какая-то еще часть мозга, внешняя. Ну да, она раньше существовала в другой форме: блокнотик, книжка. Сейчас вот такие, развитые формы. Только они уже думают, не только вы думаете. Уже книжки, они все настоящие, они думают. Вы пишете, а оно вам говорит: «Парень, ошибочку сделал». Моя учительница из первого класса сидит в каждом «ворде» и говорит: «Что ты?
Ошибочку сделал».
Вам понятно, что жизнь изменилась тотально и дальше это только ускоряется? Потому что HD-телевидение впервые появилось в 2004 году в Европе. Впервые. Вот этот вот экран 1080 в Европе впервые появился в 2004 году. Ребята, это 10 лет назад. А сейчас? Уже с тех пор было HD TV, заполонило все, было 3D, было экспериментальное исследование, которое показало, что фильм смотрится с одинаковым эмоциональным откликом в 3D и в 2D, и после HD TV сказали: «Ну да, тогда забыли про 3D — это обычная „фишка“ всех новых телевизоров — и идет по линии HD TV, делаем тогда 4К, следующее». Сейчас сходите в магазин — 4К телевизоры стоят. И 4К телевизоры стоят не только по цене 5 тысяч баксов, а они стоят уже по тысяче баксов. Большие, 42 дюйма. Пойдите и сходите в какое-нибудь «M-Видео», все уже есть. Так это я говорю про HD TV 4К. Вы понимаете, что скорости меняются в мире? Хотя в мире это всегда было. Но как-то в сознании это не проходит. Но вот смотрите, индекс цитирования какой-нибудь Total quality management — это мода и поветрия на вот эти новые практики. Сколько лет они существуют сейчас? С 1989 года прошло, и к 1999 году практически свелось на нет. 10 лет прошло. Это цитируемость. Total quality management — вот та самая служба качества откуда идет, стандарты 9000. У нас было 10 лет на внедрение практики и как бы сход ее, сегодня у нас три года на эту практику: появляется практика, исчезает. Три года назад у нас орали все, что Web 3.0, 5 лет назад орали, что Web 2.0. Где они? Сейчас у нас Big Data. Я просто к тому, что сколько живет один термин?
Да он, можно сказать, живет три года.
Завтра уже сингулярностью пахнет. То есть вы только успели за год накатать какие-то презентации по Big Data, а они как бы — раз, и уже не модно? Вот это большая беда. При этом, смотрите, есть методы, есть моды, а есть поветрия. Чем мода от поветрия отличается, кто-нибудь знает? Они отличают следующим: поветрие пришло и ушло, реально. А мода? А мода пришла, и в тот момент, когда все это берут, это модно, все берут. А потом? А оно осталось. Оно уже не модно, оно просто в жизни есть. Было очень смешно, я впервые столкнулся с явлением моды, когда смотрю, девушка идет, а у нее вот тут вот пальто застегнуто и косыночка вот так надета, это как раз был конец семидесятых. Я говорю: «Как неаккуратно одевается». Смотрю, еще одна идет, неаккуратно одетая. Смотрю, через 100 метров еще одна — неаккуратно одевается. Тут я понял, что это, наверное, неспроста. А еще через год все одевались уже аккуратно. И, знаете, до сих пор одеваются аккуратно. Это типичный пример поветрия. А потом появились мини-юбки, это была мода. Почему? Вот хожу я этим летом… Мини-юбки не в моде, они просто есть, они везде, и макси — точно так же, везде. Макси оказалось тоже не поветрием, а модой. Но в какой-то момент, когда юбки только появлялись, это была мода. То же самое у нас с технологиями. Есть технологии, которые только появляются, — они модны. Сейчас Big Data: все начинают под них делать что-то… Это как мода, за год пришло, технологии встали — все. Облака — мода? Да, мода была. Почему? Ну, сейчас все в облаках. Какая мода? Как бы жизнь уже такая. Тем более, компьютерные облака Amazon, Goggle — сейчас лидеры. Я говорю: «Ну да, а дальше облако у меня вообще вокруг меня», потому что эта штука тоже как облако, это же вычислитель. Вокруг нее много будет часов, очков, всяких ритмоводителей, интернет вещей. Облако вот тут будет жить. Сейчас появилось понятие гибридного облака, когда половина облака у меня дома, половина — где-нибудь в Goggle, еще от предприятия соседнего кусочек доставляется. Гибридное облако — я нахватываю облака отовсюду.
На всех уровнях идет компьютинг. Смотрите, это то же самое, это приходит, чтобы остаться. Это моды, но модность — я хочу до вас донести — она будет 10 лет модно, то есть 10 лет тренд, потом три года сейчас тренд, а потом один год тренд. Почему? Ну, малиновые пиджаки были модны где-то году в 1990-м, помните. Все, кому надо, имели малиновые пиджаки. Не было такого, что еще два года прошло — я принял решение купить малиновый пиджак. Еще год прошел, все их сносили — были зеленые пиджаки модны. Сейчас, смотрите, малиновых и зеленых пиджаков нет, это были поветрия. Но сроки, смотрите: год, два, год, два… А раньше пиджак покупался на 15 лет. Все об этом забыли. Раньше вы оборудование ставили на фабрику. Она сколько лет работала? 25 лет. А теперь? А автомобиль? Ну, автомобиль! Он же 20 лет должен работать. А рассчитывают его сейчас, чтобы он бегал 5–6 лет. Я молчу про телефоны, я даже не знаю, на сколько лет они рассчитываются. Но я вообще не понимаю. А их же должны делать неубиваемыми. Их делают неубиваемыми. Почему? Если вы выпустили 10 миллионов штук и у вас пошли возвраты?.. Ну, лучше вы их сделаете надежными. И сколько они существуют? Вот этому уже больше двух лет. Но вы же понимаете, что сейчас другие телефоны. Я, правда, не понимаю, зачем они мне нужны. И очень многие люди на рынке понимают, что эти телефоны уже не нужны, и пытаются что-то изобрести, что-то сделать, чтобы я раскошелился на такой же гуглофон. Вот это первый гуглофон у меня. Что бы вот такое сделать, чтобы я раскошелился? Очень много мозгов этим озабочено. А если они придумают? Раскошелюсь не только я. Сколько человек? Ну, за три дня 10 миллионов — прецеденты есть.
Итак, вот оно, будущее уже здесь, просто оно еще неравномерно распределено. Это не мой тезис, это Уильям Гибсон. Скорость интернета? Вы тоже понимаете, сейчас гигабит на телефон «Самсунг» продемонстрировал на прошлой неделе, 4К дисплеи, вы видите, что такое 4К. А в 2015 году начинают вещать вот на таких экранах. Вот этот экран, чтобы вы представляли, вот вся эта доска — это вот этот вот сиреневый уголок. Софт меняет свое значение. Это мало кто понимает. Софт становится еще одним видом медиа: кино, газета, софт… Появляются магазины софта, как магазины книг, магазины кино. Компьютер — это просто плеер для кода, такой кинотеатр, но для кода. Программисты работают, пишут. Коммодитизация кода идет. Вот сравните код программный: картинки, звук, видео… Это мысль, которая мало кому в голову приходит. Это текущий момент. Представляете, программисты переходят в те же разряды, что просто писатели, художники, вместо пупа земли. А дальше — конец эпохи композиторов, вы помните. У нас восхитительный момент: у нас закон Мура наконец-то дал дуба, вот как раз в этом году. У нас уже квантовый компьютер — вовсю. Оптически первый демонстрируется. Алан Кей говорит в этот же момент, что компьютерная революция еще не началась, и первое заявление, которое он дает: «Ребята, мы работали в 1875 году с машиной „Элбароуз“», и в те времена компилятор работал у меня вот столько времени. Вот посмотрите, я посчитал. Теперь берем закон Мура, считаем: сколько сегодня на сегодняшней элементной базе должна быть производительность вот того компилятора? Если мы просто тупо повторяем машину, мы получаем в тысячу раз больше. Отдайте мою тысячу раз. Я беседую с другим великим пионером компьютерщиков Гарольдом Лаусеном. Гарольд Лаусен говорит: «Кей прав: тысячу раз эти гады, крупные корпорации, нам недодали. Это была большая ошибка — наши вот эти Intel и Windows, большая ошибка человечества, потому что мы потеряли тысячу раз». Понятно, что это означает, что если мы сделаем три шага назад и сделаем в другом направлении в компьютерах три шага вперед, то мы получаем тысячу раз без всякого закона Мура. Это я просто хочу, чтобы вы это понимали.
Компактность кода — другая совершенно сейчас обсуждается. Обсуждается, что вся эта Windows может поместиться с ее функциями, более или менее, в 20 тысяч строк кода. Очень сложного кода, но это будет маленькая книжечка, и вы ее за одну жизнь способны будете расшифровать, с начала и до конца. А если сейчас, если простого кода, но примерно вот такая стенка будет томами этого кода забита, миллионами строк кода, то вы не имеете шанса за одну жизнь понять — просто понять! — что там. Другая философия рассказывается. Это означает, что компьютерная революция не началась. Компьютинг сейчас не как computer science — на одном процессоре, на одной машине решить олимпиадную задачку по программированию. А у вас тысячи процессоров в разных частях вселенной, и вам надо собрать их работу как будто работает одна программа, вычисляет какую-то одну задачу, так называемое programming in the large, да еще и разные программисты делают куски этой программы. Это требует изменения образования компьютера, вообще всего образования. А еще гибридные вычисления, когда часть — аналоговая по принципу, статистическая, а часть — логическая, то есть логический вывод, формальный. И вы не можете пойти ни по одному пути — потому что там дохло, ни по другому пути. Цивилизация развивается через формальные модели, а вся физика сидит на физике, то есть там статистика работает, числа. А это — на логике работает. Надо соединить диа вида вычислений. Сейчас эта тема только-только начинает обсуждаться, каким образом вообще познакомить тех людей, которые работают со статистикой, и тех людей, которые работали с логическим выводом. Как их хотя бы познакомить! А уже как им собрать одну программу, которая общее думание, гибридное, делает, логическое и численное — это вот тема дня. Поэтому с IT там самое начало.
Вы говорите, что цифровая революция, цифровизация всего… я говорю: «Ребята, мы к этому еще не прикоснулись. Это как бы только бледные тени появились, компьютерные». Еще и мощностей компьютерных нет, настоящих. Еще и программ нет, программистов настоящих нет. И теории нет. Это как бы только начинается, там только задачи ставят. Это будущее, о котором я говорю, его только обсуждают. Аргумент: «Вы сто лет уже про это говорите», он не работает. Это точно не работает, потому что все говорят: «О, искусственный интеллект, машинный перевод, компьютерное зрение… вы 100 лет говорите, а нет этого. Автомобиль без водителя. Вы 100 лет говорите, а ничего не было». Я говорю, ну да, но человечество так устроено. 100 лет говорили, а не было летательных аппаратов тяжелее воздуха. Ну, не было. А потом самолеты братьев Райт, и сейчас самолеты спокойно совершенно летают. То же самое с компьютерами. Вы знаете, много лет хотели, делали — ничего не получалось. Потом раз — и Intel сделал микропроцессор, и сейчас у каждого в кармане крутой микрокомпьютер. Теорема Ферма? Доказали. Много лет не доказывали, а сейчас доказали. И вот как-то происходит… И когда вы смотрите, термояд… «Сколько лет вы говорите про термояд, не будет термояда». Будет термояд. Быстрее, чем все думают. И завалит всю планету за несколько лет. Не в той форме, в которой ожидают. Я не верю в ИТР-проект. Но много других проектов. Из них что-нибудь вылезет. А поскольку она маленькая, компактная, то его сумеют оттиражировать. То же самое с топливными элементами, быстрыми топливными аккумуляторами, дешевыми и быстрыми экранами высокого разрешения. Требование объема уже отпало. Ладно, трубопроводные скоростные поезда — точно так же: много лет говорят, но сделают. Вот на эту технологию я прошу обратить особое внимание. Это как раз из разряда того, что первый раз первый результат был получен в 2006 году. Всегда считалось, что мы должны нейронную сетку научить на нескольких уровнях, как в мозгу. И много лет математики умели научить нейронную сетку из одного уровня. И все, персептрон она называлась. Много лет. В 2006 году впервые научились.
Сейчас отрапортовано, что на 30% улучшено распознавание речи за счет этой технологии одной. Причем улучшена память в 100 раз, скорость в 100 раз и качество распознавания на 30% выше, за счет того, что сумели научить глубокую сетку. И сейчас стремительно падает стоимость, как всегда. Вот это вот применение этих соревнований. Вот эти самые машинные знаки, вы видите: черные, под углом. Выиграла программа Swiss Artifi cial Intelligence Lab. Никакого общего разума там нет. Она умеет только распознавать и, скорее всего, только знаки распознавать, на это научена.
Ремонт по состоянию. Как у нас устроена сейчас технология? 85% отказов оборудования происходит невзирая на своевременное календарное обслуживание. Чтобы вы знали, вся наша отечественная система инженерного обслуживания — она настроена на календарное обслуживание, профилактические ремонты. 85% не зависит от этого ремонта. Вот вы делаете ремонт по состоянию, когда вы состояние определяете ровно по вот этим алгоритмам, то есть в какой момент оно вылетит. Представляете, какая там экономия? Кроме того, наука начала развиваться как спорт, реально, то есть соревнования. Раньше слово «соревнование» не применялось. Очень смешно, кстати, в вузе, когда приехал к нам человек — впервые я увидел иностранца, — я начал на него нападать, я советский тогда парень был, он — в университете. Я ему говорю: «Конкуреншен у вас. Конкуреншен — это плохо». Он аккуратно говорит, что нет такого слова «конкуреншен». Я говорю: «Как нет? Конкуреншен — это же конкуренция по-английски?». А он: «Нет, там слово completion». Я говорю: «Ты меня не дури, competition — это соревнования». Он говорит: «О!..» И я тут впервые узнал, что, оказывается, у них там звучит это дело как соревнование. У нас наука стала соревновательной. Вот все, о чем я говорю, вот эти все технологии — по зрению, по распознаванию речи, по роботам — по всем есть соревнования, по скорости компьютерной — там есть соревнования. Делаются правила, выходят команды… По робототехнике выходят сотнями команд, по Big Data выходят сотнями команд: от двух человек до мощных коллективов. И на равных: два человека, мощный коллектив, не бог весть какие вложение. Как вы знаете, математику требуется ручка и бумажка, а тут требуется компьютер мощностью, наверное, как вот этот телефон. Небольшие вложения. Но идет соревнование, поэтому все происходит очень быстро, потому что соревнования — это очень мощный способ обучения, образования, тестирования и это двигатель прогресса. Вы помните, что конкуренция — двигатель прогресса. Ну, реально, вот она. И ухитрились придумать как сделать науку соревновательной.
А роботизация? Вот почитайте Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Это в 1965 году, помните, придумали про искусственный интеллект, который начинает сам себя улучшать быстро. В 1965 году Стругацкий говорит, что дубль — это интересная штука. Как правило, это точная копия творца. Не хватает человеку рук — он создает себе дубля безмозглого, безответного, только и умеющего что паять контакты или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Вам не кажется, что это напоминает очень сильно то, что я вам рассказывал про искусственный интеллект? Вот он ничего не умеет, но распознает изображения реально хорошо, а вот эта вот гадость не умеет писать стихи, но зато ведет автомобиль без аварий реально хорошо. Стругацкие, наши, отечественные авторы, философы искусственного интеллекта, они это написали тоже в 1965 году. Я считаю, что надо их вклад в науку взять. Тут понятно, что у вас появился планшет, универсальное устройство, к нему ноги уже приделывают, то есть вставляете планшет на моторчик… Руки ждем-с. Это роботы телепрезенс. Вставляете планшет, руки от любимых производителей, из любимых магазинов: розовую руку — для девочки, голубенькую — для мальчика; у руки робота для девочки маникюр такой, вот сюда, а у любителя буддизма вот сюда, за затылок идет третья рука. Она играет на пианино, потому что мы же верим, что только пальцами надо играть на пианино. И вот такие три руки, а в середину вставляем самый свежий планшет, потому что там правильные нормы в микрочипах.
Это очень интересный график, он показывает фактически точку по энергоемкости бега, то есть насколько мы умеем делать роботов, которые сравнимы с животными. Уже умеем, то есть наши роботы бегают не хуже животных. А вот так робот насыпает кофе. Это фото. Я боюсь, что просто многие не понимают. Это 2013 год, это уже старье. Но если вам надо точно что-то отсыпать, то робот делает точно так же, как люди: тык, тык, тык… Я себе чай так отсыпаю. Очень точно получается. Проблемы — мимо. Они есть, но они решаются стремительно. Порождающее проектирование производство — это когда компьютер думает, а не человек. Проектирование уходит в компьютеры, это мы обсуждали. ЗD-печать как метод — важная штука. Мало кто понимает, почему она важная. Потому что у вас большое и маленькое становится достижимым. Вот эти 200 микрометров — это анод и катод микробатареи. 200 микрометров, вы видите, напечатано. А это вы печатаете домик на берегу канала. Одна и та же технология, одинаково мышление устроено, очень простой выход на печать, но вы с принтерами, думаю, все понимаете, наверное, и так.
Экспансия инженерии на нетрадиционный материал нас ожидает. Вот этого никто не ожидает. Это программная инженерия, онтологическая инженерия, генная биоинженерия, молекулярная, наномашины, метаматериалы, лекарства, подводные разработки ископаемых… Вот я только прокомментирую, что программная инженерия — это не все так просто. Обсуждалось, как образовывать программистов. Я застал эти обсуждения. Это чудище огромного, обзорного лая, и никто не знает, как его образовывать: как инженеров, как ученых или как математиков? Или как кого? И в результате огромной дискуссии пришли к тому, что надо программистов образовывать так же, как инженеров, хотя очень хотелось образовывать как математиков. Выяснилось, что природа труда программиста другая, и то же самое сейчас обсуждается в генной инженерии. То же самое сейчас обсуждается в инженерии. И, в конце концов, возникнет момент: как мы медиков воспитываем? Как медиков ли, традиционно, или все-таки, может быть, надо их воспитывать как инженеров, для того чтобы у нас организмы не ломались, а то у медиков ломаются, а у инженеров-то не ломаются и надежно работают. Вот это нам еще предстоит. Плюс к этому — новая физика, новая логика. И диверсификация профессий, конечно, будет такая, что этим извозчикам раньше мало покажется. Вот эта проблема уже была.
Это громадная образовательная проблема.
Вот, например, алгоритмике учат всех, моделированию данных просто не учат никого пока. Нет таких людей, не учат. А это базисный курс. Я со многими людьми говорил. Профессионалы не видят существования предметов, а потом признают, что да, в средней школе надо учить. Вы вообще слышали, что моделированию данных надо учить в средней школе? А в средней школе программированию не учат, учат алгоритмике. Вот то, что у них информатика называется. Понятно, программисты не понимают, пока не покажешь, не сделаешь. Происходит все настолько стремительно, что профессионалы отстают и не успевают учиться, они выпустились чуть раньше и базисных знаний у них нет, чтобы оценить новые знания. А есть интересный ход. Оказывается, в будущем у нас не будет вот этого образования в области физики, математики. Почему? А оно по всему миру провалилось. Не хотят девочки — да и мальчики тоже — учиться физике, математике, инженерии. И придуман был очень интересный ход. Нам-то надо что из них сохранить? Рациональность мышления, логику, ход на формализацию. Поэтому давайте, мы будем заставлять людей, которые сдают дипломы учить предметы формализовывать. И в тот момент, когда мы будем заставлять его сдать диплом, скажем, чтобы формальный механизм применял: «Сделай по правилам логики». Почему? Ну и юристов логике учат. Философов учат философской логике. Это они признают. Вот, говорят, давайте требовать. А поскольку логика лежит в основании всего этого цикла, то нам этого будет достаточно. Если надо, он и до бинома Ньютона дойдет.
И, в конце концов, искусственные интеллекты-то эти тоже учить надо. У нас, кроме педагогики, появляется артегогика. Я заканчиваю тем, с чего начал, что и тут выясняется, что у нас уже не человечество, а робовечество, которое все надо воспитывать и учить, и роботы будут учить людей. Есть такие эксперименты. А люди будут учить роботов, все они будут учить друг друга. И в этот момент уже не будет понятно, что такое человек, мы отойдем окончательно от птолемейской модели человека. И мир сильно изменится. И этот измененный мир есть уже сейчас, поскольку я показывал вам видео того, что ждет в будущем и вы видели, что все работало. Просто оно действительно неравномерно распределено. Спасибо за внимание. Запомните эту цифру.
ВОПРОС ИЗ ЧАТА: Анатолий Игоревич, вопрос, может быть, банальный, но кто будет отвечать за сохранение скопированного человечества?
АНАТОЛИЙ ЛЕВЕНЧУК: Я не понимаю, что такое копирование человечества. Вы представьте себе: кто будет отвечать? Отвечать — это полномочным быть, то есть кто сумеет скопировать так, чтобы… Что, вопрос про господа бога? Ну, задавая такой вопрос, надо же думать, как отвечать на него? Вы что, ожидаете ответа, что Господь бог будет отвечать? Есть некоторое всесильное, всезнающее существо, которое сможет ответить за копирование человечества. Ничего такого не будет. Более того, я считаю, что люди будут уезжать на Марс и другие звезды, в частном даже, а не государственном и прочем порядке, потому что, если не Господь бог, то, наверное, государство, то есть великий президент какой-нибудь, отец нации. Поэтому не знаю. «Не возникнет ли соблазна банально его стереть?». У кого возникнет соблазн — задаю вопрос — стереть человечество? У террористов регулярно появляется соблазн стереть хотя бы какую-нибудь одну страну. Ну и что? Некоторые этим занимаются, некоторые не занимаются. Я бы не соблазнами занимался. Это по линии психбольницы, поэтому мы это не обсуждаем.
ВОПРОС ИЗ ЧАТА: Как вы относитесь к будущему референдуму в Швейцарии, содержание которого подразумевает ежемесячные выплаты каждому гражданину в связи с наступающей автоматизацией производства?
А. Л.: Видите ли, идея пенсий, ежемесячных выплат — это тот самый коммунизм против капитализма. И никакого отношения к автоматизации этот вопрос не имеет, решаются другие задачи. Вообще другие. Вы бы обсудили это, когда вводились ткацкие станки и отбойные молотки на шахтах. Там те же самые вопросы. Так что не надо.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Добрый день! Во-первых, большое спасибо за очень интересную лекцию. И вопрос, тем не менее: кто будет отвечать на те вопросы, на которые вы предпочитаете не отвечать?
А. Л.: Вот ровно на те вопросы, на которые я предпочитаю не отвечать, желающих ответить очень много, потому что, как известно, все разбираются в сексе, воспитании детей, футболе, экономике, политике. Разбираются все, поэтому спросите любого.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Тогда как вы отнесетесь к такому вопросу? Недавно проходила конференция «Глобальное будущее 2030 или 40», я сейчас не помню точно…
А. Л.: Подставьте любую цифру, это как бы не важно. Особенно 40. Вы же помните, сингулярность.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Конференция, на мой взгляд, была очень интересной. Там были физики, лирики, представители всех духовных конфессий и рассказывали в том числе то, о чем вы рассказываете, про точку сингулярности, про размер вычислительного элемента, про размер сетей, про скорость передачи данных, сколько людей будут в сети и так далее. И все сходились примерно как раз в эту цифру — где-то между 2030 и 2050.
А. Л.: Видите, значит, я не одинок, то есть не соврал. Я рад.
СЛУШАТЕЛЬ 1: И там был один из выводов конференции, что если человечество не изменит свои этические принципы, то оно просто само себя уничтожит. Это к вопросу о том, что уничтожит человечество.
А. Л.: Помните, экзистенциальные катастрофы: астероид прилетит, ядерную бомбу все взорвут, этические принципы изменят — это раз. Второе, появляется странный объект — человечество. Не знаю такого. Я говорю, что только в этом месте у этих людей одни принципы, у этих — другие принципы. Чьи принципы менять будем? На какие? Кто кому навяжет свои принципы? Правильно ли я понимаю, что те люди, которые так ставят вопрос, — вот ровно как тот вопрос, который пришел через интернет, — господь бог поменяет принципы у человечества? Или человечество — оно такой субъект, что в полном человеческом сознании поменяет себе мозги общечеловеческие и поменяет эти этические принципы? Это исследование. Они говорят: «Если у человечества само это произойдет, и по результатам замеров мы узнаем, что этические принципы поменяются, то все будет в порядке».
СЛУШАТЕЛЬ 1: Правильно ли я понимаю, что вы рассматриваете только техническую сторону, но никак не рассматриваете социальную, психологическую, культурную?
А. Л.: Я рассматриваю, но при этом меня крайне волнует методология этого рассмотрения, то есть некоторые типы вопросов, там меня абсолютно не устраивает, как они поставлены.
СЛУШАТЕЛЬ 1: А в каком виде вас бы устроило, чтобы они были поставлены?
А. Л.: Очень хорошо. Даю намеки. Вот, например, есть методологический индивидуализм, концепция такая — австрийская школа экономики из этого дела растет, — и там, в частности, показывается, что есть каталактика, каким образом из независимых автономных систем, примерно так же, как в агентских системах, как у нас появляются системы более высокого уровня, самоорганизованные, то есть каким образом ресурсы распределяются. Там нет вот того одного центрального мозга, потому что я замечу, что в моем мозгу тоже нет центрального мозга, который руководит мозгом, а как-то там все улаживается. И когда мы втроем, вчетвером собираемся и беседуем, то тоже улаживается, даже если начальника нет. Но вот есть такие теории, но они не позволяют говорить, что какой отдел моего мозга осознанно заменит сейчас этику вот в этом мозге на что-нибудь другое. Ну, там вопрос будет просто странный.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Если подняться на еще более высокий уровень к системному подходу, про который Вы говорили, например, самовосстанавливающиеся системы — у машины оторвалось колесо, система уже знает, как она устроена, она сама себя лечит, — если социальную систему рассмотреть так же? Вы не пробовали так?
А. Л.: Смотрите, система же в глазах смотрящего. И социальную систему, я на своих курсах всегда студентов учу: там и тогда, где и когда в социальной системе, в технической системе или в любой другой системе появляется человек, то там будьте очень осторожны с применением чисто инженерных принципов, потому что у человека есть самопринадлежность, он сам себе принадлежит. Его планы развития, личные планы, могут не совпадать с теми планами развития, которые хозяин всей большой системы делает, если вообще там есть какой-то хозяин. И когда вы говорите, все время так и чувствуется ситуация. Вот у вас прямо видно, что вот оно общество, вот у него есть некто, который выступает как хозяин, самосознание, представитель, а вот там какой-то конкретный человек. И вот этот вот говорит: «Я хочу от этого общества получить следующее свойство. Для этого мне надо в каждом мозгу чуть-чуть вот тут вот подкрутить, заставить их самоорганизовываться, быть добрыми и все такое». А теперь рассматриваем вот этого вот. Он говорит: «Там есть некоторая сволочь, которая меня — при этом мне неважно, хоть господь бог, тех, кого с детства они учат, что Господь бог всем рулит, все, то вы должны ему кланяться, просто кланяться…» Я говорю: «Первое, он мной хочет рулить? Что, я должен от него не защищаться всю жизнь, не выстраивать защиту, а именно кланяться, поклоняться, говорить, что он добро какое-то делает? Я свои планы собственные имею, поэтому там и тогда, где и когда появляется вот этот вот resilience, когда тот будет неожиданные мировоздействия делать, этот resilience будет точно так же адаптивно меняться. И поэтому, если у вас в голове вот этого нет — это называется система систем, то очень трудно будет представить, как вы будете работать вот с такими системами, потому что у вас старый системный подход, допотопный, когда у вас всегда есть один архитектор, один хозяин, один проектировщик, и он сказал: «Так, давайте все вместе…», и все. Ракета, которая летит, это нормальная система. Вы представляете, вот летит ракета, а у нее ускоритель говорит: «Не хочу лететь на Венеру, это далековато. Я хочу лететь на Луну». И начинает тихо-тихо подруливать всю ракету к Луне? Понимает, что не долетит. Но если ей удастся еще вот этот ускоритель уговорить, то хотя бы…
Вот это человеческие системы. И когда вы начинаете системно-инженерное мышление применять, вместо ракеты, к людским системам, то получаете вот такие странные эффекты. Первое, вот придет ко мне человек и скажет: «Мы тут на конференции решили, и ты, Левенчук, должен взять под козырек вот это наше коллективное решение», я скажу: «Сколько вас там было человек? 200 человек? Вот все 200 идите куда-нибудь». А они куда идут? Они идут в правительство. Они начинают уговаривать правительство. Почему? Потому что правительство ко мне придет со штыками. А со штыками придет и скажет: «А ну, давай, Левенчук, делай: плати налог, и мы этот налог будем делать не на бессмертие… а на помощь крымским детям». Вот куда-нибудь. Не Алтайскому краю, а Крыму, потому что Алтайскому краю чего помогать — там климат как климат. А Крым — это же курорт. Поэтому там помогать надо больше.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Вы обозначили тренд на сокращение жизненных циклов развития технологий и, соответственно, освоение технологий.
А. Л.: В той мере, в которой можно говорить о технологии, потому что я сделал еще второй тезис, оно же внутри так устроено, что там внутри еще много-много тоже еще более коротких жизненных циклов.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Что это ткань жизненных циклов мелких технологий. В данном случае вопрос связан с тем, что сложность вашего смартфона позволяет решать очень сложные задачи, но, как правило, решаются простые задачи: сфотографировать, выгрузить, послушать. Соответственно, вопрос связан с тем, каким образом сократить разрыв между сложностью постановки задачи и соответствии технологиям?
А. Л.: Есть давнишний спор: универсальная отвертка или швейцарский ножик победит, или все-таки когда у вас есть инструменты, которые очень хорошо выполняют одну функцию, но их много-много? Потому что каждый раз, когда вы берете универсальный инструмент, то он не эффективно, плохо, неудачно выполняет любую функцию, которая есть. Вот смартфон — неудачный компьютер, поскольку компьютер, конечно, лучше. Если бы он только вычислял, но понятно, что за счет камеры, за счет много чего можно было бы сюда напихать побольше. Камера у него просто ужас. Передатчик — тут компромисс, потому что батарейки, размеры, он не очень дальнобойный, соты приходится ставить часто… понятно, универсальный инструмент. И специальный, например, рация, которая сразу у вас дает 16 километров, в том же примерно объеме. Камера, которая в том же объеме дает шикарные снимки, еще и видео шикарное. Но всегда выигрывает универсальное устройство. Ужас! Вот всегда выигрывает. Вот Microsoft выставил Microsoft offi ce, который закрыл desktop computing, и уже никто не вспомнит, что когда-то был Lotus, когда-то был Word Perfect, потому что Microsoft вытащила программу, которая универсальна. И все она, может быть, делает чутьчуть хуже, чем специальные программы, но зато делает все, примерно, а других больше нет. И смартфон выжил. И все остальное так же будет выживать.
Следовательно, автомобиль будет одновременно умный, он вам споет песенку, он сфотографирует вид за окном, он покачает вашего ребенка на сиденьи и будет делать это хуже, чем специальные устройства: люлька автоматизированная… И как-то он будет при этом передвигаться еще. А велосипед подстрижет газон, совершенно верно. Любой робот сможет вас посадить на спину, не так хорошо, как автомобиль, но до Владивостока полпути добежать.
Универсализация — она бьет. Когда люди говорят про искусственный интеллект, они ровно на это и напирают. Они говорят: «Вы, конечно, каждый одну задачу решите, но можете ли вы сделать плохонькое, на среднем уровне, но решение любых задач?».
Фактически это тот же самый тезис.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Фактически это вызов.
А. Л.: Это вызов. Мне когда-то очень трудно было это мозгами брать, потому что я программист, я сражался за то, чтобы иметь мощный вычислитель, потом, когда я работал в «Менатепе», там первый компьютер был куплен и поставлен секретарше. Документы на нем начали делать. С моей точки зрения, просто… Я говорю: «Ну как? Микроскопом гвозди заколачиваем?». А мне говорят: «Ты ничего не понимаешь, это же main stream. Вот туда оно уйдет». Я говорю: «Как уйдет? Как же так, процессор, а я за него ночами не спал, чтобы чуть-чуть вычислительной мощности… А вот такой, но секретарше, а он у нее еще и стоит». А теперь я хожу, у меня задействованы все эти процессы: DSP, GPU… тут много чего — оно вообще меньше нуля. Оно вообще стоит и спит все время. А мощность примерно как у тех компьютеров, которые я сейчас обсуждаю. Это был 1987 год, a UBM PC XT. Сколько тут вот мощности? Ой-ой. И это, конечно, разбазаривание ресурсов, это то же самое, как при капитализме: как они, гады, производят столько, да еще выкидывают эти товары? И все равно дешевле получается, чем нам произвести специализированное наше, нужное, важное… один головной институт иметь. Это вот ровно то же самое. Это очень сложный лом в мозгах — вот эта вот парадигма ухода от эффективных универсальных узких вещей к малоэффективным общим, которые простаивают значительное время. Системы нет, а функция выполняется. Системы просто дешевеют на глазах. Понимаете, это избыточный ресурс, он есть. И почему бы его не использовать?
Серийное технологическое предпринимательство
ЛЕКЦИЯ 12 23/11/2014

Вы не хуже меня знаете, что большинство наших контактов, но не только контактов, но и результатов собственной деятельности — из этих результатов мы ничего для себя не извлекаем. Попробуйте себе задать вопрос, какой опыт вы извлекли из того, чем занимались 10 лет назад? Можете ли вы сегодня сформулировать основную суть, которую вы вынесли из этого? Или попробуйте вспомнить, с кем вы встречались два года назад, и что из этого извлекли? Вот на решение этой проблемы направлена работа тех, кто занимается формированием специальных средств мышления и языков. Я буду пользоваться в своей речи, с одной стороны, представлениями о деятельности. О них здесь говорил до меня, в частности, Петр Щедровицкий. Это линия, которой, наверное, лет триста в европейской философии; лет сто пятьдесят более активно она разрабатывается, в частности, австрийской экономической школой. В России в первой половине XX века это психологи, Выготский, историческая концепция, а во второй половине — это работы Георгия Щедровицкого и его коллег в системомыследеятельностной методологии. Это тот язык и тот способ мышления, который позволяет мне говорить об опыте. А с другой стороны, это та работа, которая вот сейчас ведется упомянутым Петром Щедровицким, Владимиром Алейником и их коллегами по разработке концепции разделения труда. Ну, или по «реинкарнации», так сказать, этой достаточно старой идеи в современную действительность и попытке вернуть смысл ее и таким образом размышлять об экономике и о процессах, происходящих в ней.
Хочу заметить, что я не пользуюсь инженерно-научным языком; я, может быть, об этом скажу два слова отдельно, но это не тот язык, на котором я буду
обсуждать технологическое предпринимательство и тем более — серийное технологическое предпринимательство.
Я также буду говорить про то, что я не понимаю. Мы сталкиваемся с ситуациями, в которых ничего не понимаем. В этот момент мы обычно замолкаем или на место этого непонимания притаскиваем что-нибудь, чтобы срочно понять, какой-нибудь уже имеющийся в бэкграунде опыт; тем самым закрываем для себя возможность какого-либо нового понимания. Вот я, когда сталкиваюсь с такими ситуациями, обычно перехожу, так сказать, в разряд философствующего. Поэтому мой язык говорения о том, чего я не понимаю, о том, что лежит за границами ясности, будет скорее философский, чем какой-либо еще.
Я хотел бы начать с очень важного пункта, который часто является сложным как с точки зрения понимания, так и тем более с точки зрения деятельности. Вы, наверное, хорошо понимаете, что типовой изобретатель всегда направляет свои усилия на предмет своей деятельности, на свое изобретение. Но вы, наверное, также хорошо понимаете, что достаточно бессмысленно обсуждать изобретение, если не обсуждать способы его применения. Во-первых, способы его применения, а во-вторых, собственно стоимость производства этого изобретения. Потому что в каком-то смысле за бесконечное количество ресурсов можно изобрести что угодно. Цена изобретения определяется не тем, сколько на него затрачено, а тем, какой доход может извлечь предприниматель, который включает это изобретение в свою деятельность.
Поэтому, чтобы изобретение было включено в предпринимательскую деятельность, должна произойти процедура, которая на финансовом языке называется «дисконтирование». Причем, чем больше был срок, в котором изобретатель находился в ситуации непонимания того, как его изобретение будет использовано кем-то, тем больше приходится дисконтировать, тем больший объем средств и ресурсов всех видов, и в том числе времени изобретателя, потраченного на это изобретение, приходится списывать. Если такое списание не произвести, то любой продукт будет бесконечно дорогим.
Как вы понимаете, масштаб сопротивления этому процессу — гигантский. Это, наверное, ключевой пункт, в котором расходятся позиции и такие жизненные установки тех, кто занимается изобретением и наукой, и тех, кто использует изобретения, а именно — предпринимателей.
Часто невозможно произвести это дисконтирование, пока ситуация не дойдет до кризиса, например, в форме банкротства того или иного научно-исследовательского института или государства, которое финансирует этот научно-исследовательский институт. Оно больше не может это делать, и тем, кто изобретает, тем, кто ведет эту работу, не остается никакого другого варианта, как пойти на это дисконтирование. Сопротивление этому дисконтированию приводит к тому, что огромное количество разработок, в том числе потрясающих изобретений, либо десятилетиями нигде не используются, либо иногда просто забываются на столетия. И мы можем сейчас переоткрывать то, что было сделано триста лет назад, и удивляться, как это мы всем этим не пользуемся.
В тот момент, когда изобретатель начинает помимо своего предмета думать и включать в свою работу результаты размышления о том, как это будет использовано, и одновременно — какова стоимость средств, которыми он пользуется, в этот момент он переходит из позиции изобретателя в позицию технологического предпринимателя. Даже если он совершает в этой оценке ошибку, все равно это уже другой тип мышления: мышление технологического предпринимателя.
Вот один из моих партнеров, бельгийский центр Imec. Это самый крупный в мире независимый некооптивный, не связанный ни с одной корпорацией дочерними узами центр по микронаноэлектронике и ее применениям. Вот у них есть формат, который называется affi liation program. Это формат устроен следующим образом: несколько корпораций одновременно платят за одну и ту же работу. Структура его формирования примерно следующая. Каждый из входящих партнеров, заказчиков, индустриальных партнеров платит так называемую entrance fee (плату за вход). Чем позже ты вошел, тем больше ты платишь, потому что у тебя есть накопленная история IP. Если ты вошел раньше всех, то ты заплатил меньше всех. Entrance fee есть всегда. Когда мы ведем переговоры с изобретателями, технологами, инженерами о том, чтобы начать их технологию использовать внутри предпринимательского дела, мы всегда тем или иным образом платим entrance fee. Эта система не работает как институциональная внутри НИИ и других учреждений в России, в отличие от того примера, который я привел, но это происходит. Это происходит просто другим способом.
Итак, какую операцию проделывает предпринимательское мышление и технологический предприниматель соответственно? Инженерная технология, как и любое другое средство, может быть использована разными способами. То, что делает предприниматель — он из одной индустрии или из одного применения переносит технологию в другое. Чтобы осуществить эту операцию, нужно затратить ресурсы. Обычно это называется инвестициями. Когда начинаешь этот процесс, ты заранее знаешь, что эти инвестиции (во всех смыслах, включая твое время, деньги, доступ к определенному типу оборудования, группу сотрудников, инженеров) в общем, исходно не определены. Любые попытки их оценить важны с точки зрения, наверное, финансовой такой культуры, но технологический предприниматель заранее знает, каков статус этой оценки. Вот такая инвестиция в перенос технологии или средства из одной сферы в другую может быть оправдана для предпринимателя только одним: расчетом на то, что он в результате этого переноса займет в новой индустрии монопольную позицию. Потому что только из монопольной позиции, ну или близкой к монопольной позиции ты можешь извлечь достаточный объем ресурсов, чтобы возместить понесенные тобой затраты во всех смыслах слова «затраты» и собрать ресурс для следующего проекта, следующего своего действия.
Понятно, почему монопольные ситуации приносят прибыль. Потому что у того, кто использует технологию, нет другого варианта, как использовать твою технологию, а поэтому ты устанавливаешь цену. А у того, кто поставляет тебе какой-то компонент, нет другого варианта, как тебе это поставить, поэтому ты тоже определяешь стоимость, которую ты ему платишь в ответ на поставку. И в этом смысле вопрос, который решает предприниматель, — это вопрос о том, каково адекватное соотношение; решает в каждый момент. Адекватное соотношение затрачиваемых им ресурсов и возможности занятия этой монопольной позиции. Это тот фокус, в котором он работает.
Например, компания ASML, созданная тридцать лет назад голландским технологическим предпринимателем господином Дель Прадо, произвела замену базовой технологии в литографии. До нее, грубо говоря, была клинопись, то есть впечатывание, механический процесс. Она заменила его оптическим процессом, перенеся эту технологию из других индустрий. Вы знаете, что Голландия с XVII века — один из мировых лидеров в оптике. Компания ASML этим переносом обеспечила себе свою нынешнюю позицию, а она заключается в том, что 80% рынка литографических машин занимает эта компания. Калифорнийская компания «Сутег» за счет того, что перенесла лазерную технологию из медицины, а конкретно — из офтальмологии в литографию наиболее успешным образом — лучше, чем другие, дешевле, чем другие, — стала монопольным поставщиком компании ASML. Капитализация компании ASML — двадцать миллиардов, «Сутег» — два миллиарда, обороты каждой в пять раз меньше, чем капитализация.
Сегодня в миниатюре этот же процесс происходит на моем опыте в Троицке. Одна из наших компаний, которую мы создали вместе с троицкими инженерами, предпринимателями, занимается тем, что разрабатывает новый источник сверхъяркого света для литографии в претензии на монопольную позицию. А рядом есть компания, которая осуществляет перенос технологии из той же самой офтальмологии, с точностью прямо до примера про зарубежный опыт, в литографию, лазерную технологию в литографию. Я не знаю, получится ли у нас это. Пока вот исходная ставка, которую мы сделали, не оправдывается: на то, что эта технология способна занять такую позицию, способна быть принятой. Но никакого другого способа формирования предпринимательской деятельности из инженерной деятельности нет. Это невозможно объяснить, невозможно понять, это можно только начать делать и, начав делать, получить какую-то практику, из которой дальше можно извлечь опыт.
Сам по себе перенос технологии из одной сферы в другую еще ничего не означает с точки зрения масштаба прибыли, которую может извлечь предприниматель. Можно что угодно перенести куда угодно.
Опять-таки в той же литографии есть замечательный пример — это попытка переноса другой, не лазерной, а электронно-лучевой технологии в литографию. Компания тоже голландская, причем созданная тем же самым технологическим предпринимателем, который тридцать лет назад создал компанию ASML. В какой-то момент он продал свой пакет акций, когда компания еще не заняла монопольную позицию, а потом, увидев, что с ней произошло, решил, что он обязательно сделает еще одну инновацию на этом рынке и вложился в другую технологию. В тот же самый процесс переноса из одной области в другую. Сейчас эта компания существует в виде «престарелого» стартапа, которому уже десять лет, в который проинвестировано достаточно большое количество средств, ну и еще по их планам десять лет до разрешения.
Если представить, что у предпринимателя все-таки есть границы его ресурсов, то он старается потратить на этот перенос меньше, чем тратят другие. Хотя бы потому, что идея о переносе одной конкретной технологии в другую сферу пришла в голову не только ему. Она может прийти в голову одновременно нескольким предпринимательским группам, и они реализуют этот перенос. Так вот, ты заработал денег только в том случае, если ты сделал это дешевле, чем другие. Все очень просто.
За счет чего это можно сделать дешевле? Только если ты опираешься на уже созданную инфраструктуру, то есть на то, что было проинвестировано ранее, до тебя, а не тобой. Но опять-таки мы точно знаем по своему опыту, что часто старые инфраструктуры, которые делались под другую деятельность, вообще не работают под твою. И в той мере, в которой предпринимателю удается все же поставить задачу и изменить способ работы этой инфраструктуры, если удается поставить такую задачу, и стоимость этой постановки задачи и ее реализации адекватна, тогда предпринимателю удается снизить и в целом стоимость такого переноса. Сюда относятся стоимость денег, доступность и цена нужных предпринимателю человеческих компетенций, стоимость пользования какими-то инфраструктурами, например логистической инфраструктурой, плата за коммуникацию с потенциальным потребителем этой разработки, который мог бы поставить требования к ней, стоимость труда и так далее.
Вот еще один пример из практики Imec в их работах по гибкой электронике. У них есть ряд заказчиков, индустриальных компаний, которые ставят им задачи в этой сфере. Ну, например, крупнейшая в мире компания, которая делает игральные карты, и вот в нее интегрируются гибкие… fl exible electronics. Но помимо того, что Imec решает задачу для этой компании, он еще одновременно решает задачу, собственно, где и за сколько это произвести. Если нет этого условия, если он это не понимает, то он может сделать такое решение, для которого потом надо будет разворачивать всю инфраструктуру, которая стоит бесконечно много денег. Так вот Imec, работая в электронике, например, знает, что 90% всех заводов, построенных под производство дисплеев, особенно в Юго-Восточной Азии (на Тайване, в Китае), загружены на 10% в среднем. Фактически инвесторы уже давно списали этот капекс себе внутри. Была волна, переинвестирование, и теперь стоят там эти мощности. У нас тоже в России много такого — красивого, нового и не производящего ничего. Так вот, Imec разрабатывает технологию и проводит конкурс между заводами, кто из них примет эту технологию, а также примет от Imec технологию модернизации технологии этого завода, потому что понятно, что на этой конкретной базе невозможно сделать то, что им нужно. И в этом смысле Imec получает второй R&D-контракт. Но дело не в том, что он получает второй контракт, а в том, что он использует, и вот этот перенос технологии из одной сферы в другую возможен, только если ты можешь задействовать уже вложенные кем-то инвестиции в твоем нынешнем цикле, в твоей нынешней задаче.
При этом сам технологический предприниматель, в общем, ничем не рискует, потому что все он собирает извне. Он не рискует капиталом, это не его капитал. Он не рискует тем недозагрузкой используемой инфраструктуры. Это не его задачи. Он не рискует временем и трудозатратами своих работников. Он рискует только своим временем. И еще — репутацией. Но что такое репутация? Предприниматель чаще всего платит за пользование ресурсами других позиций не деньгами (у него их обычно нет), а долями, то есть будущей прибылью от переноса этой технологии в другую индустрию. То есть он платит. Его репутация — это качество гипотезы о том, как изменится система разделения труда в другой индустрии за счет использования этой технологии. В той мере, в которой та гипотеза подтверждается, у этого технологического предпринимателя хорошая деловая репутация. В той мере, в которой он ошибается — хуже. В той мере, в какой он извлекает опыт из своих ошибок и снова в делает в какой-то мере верный прогноз, резко повышается.
Один мой бельгийский коллега Jan Callewaert (компания Option) сейчас находится в третий раз в ситуации, когда его компания, до этого выросшая до капитализации триста миллионов евро, падает до тридцати. Третий раз в жизни за двадцать лет. Тридцать по сравнению с тремястами — значит, до нуля фактически. А в каком-то, в 2009 или в 2005 году ему дли премию «Лучший предприниматель Бельгии». Почему? Потому что в тот момент он вывел в очередной раз компанию до нужных высот. Он в третий раз полностью меняет содержание деятельности своей компании. Почему люди продолжают с ним работать? Потому что, несмотря на то, что есть падение, он каким-то образом извлекает опыт, и его следующий прогноз верен, его следующая гипотеза верна.
Итак, как предприниматель может сформировать такую гипотезу? Еще раз хочу сказать, что фактически это гипотеза о том, как изменится глубина разделения труда в индустрии, в которую осуществляется перенос, за счет этого переноса. То есть, по-простому говоря, сколько и каких новых компаний и в каких бизнес-моделях появятся в этой индустрии. Вот сейчас в какой-нибудь индустрии пять компаний, и они друг с другом осуществляют кооперацию, и все работает. За счет включения в эту индустрию, за счет использования какой-то технологи из пяти может стать двадцать. Это значит, что появятся еще пятнадцать новых мест, а те пять, скорее всего, тоже изменятся; скорее всего — исчезнут, скорее всего, все двадцать будут новые в той или иной степени, даже если названия сохранятся.
Каким образом предприниматель может формировать гипотезу о том, как изменится система разделения труда, а поэтому адекватен ли перенос именно этой технологии и средства, затраченные на него? Если он находится в центре рынка, например, в точке в мире, которая наиболее динамично сейчас развивается в этой сфере, то, в общем, этот вопрос решается или снимается естественным образом за счет плотности коммуникации. Потому что центр рынка всегда характеризуется в первую очередь очень плотной коммуникацией. В Левене, городке с населением в 50 тысяч человек, есть специализированная компания, которая занимается организацией профессиональной коммуникации, проводит двести мероприятий в год, фактически каждый день, профессиональных, по темам, которыми занимается Левен. В Троицке, городке с аналогичной численностью, проводятся пять мероприятий в год.
А если вы находитесь на периферии? Ну, как мы, например, находимся на периферии всех рынков, не какого-то, а вот всех, но при этом мы собираемся, почему-то считаем, что возможно перенести что-то их тех технологий, которые у нас есть, в новую индустрию. Как мы делаем эту гипотезу? Мы должны заплатить тем или иным способом за доступ, выстроить канал доступа к этой коммуникации. Фактически мы должны специально платить за эту коммуникацию. Поэтому, кстати, технологические предприниматели на периферии всегда зарабатывают меньше в итоге, чем технологические предприниматели в центре рынков. Периферия платит больше за все, в первую очередь за то, чтобы понять и сделать гипотезу о том, куда двигаться. Мы в своей практике специально, например, создали компанию в одном из ядер рынка электроники в Эйндховене, для того чтобы через ее деятельность войти в коммуникацию с определенной группой компаний. Компания сама занимается лизингом инженерного персонала. Партнеры, которые у меня работают, имеют эту практику. Это ее базовая деятельность с точки зрения самой компании, но для нас инвестиция в эту компанию — это инвестиция в коммуникацию в первую очередь. Ее эффективность будет определяться тем количеством новых стартапов, которые мы создадим.
Во-вторых, любая гипотеза, как вы понимаете, может стать несостоятельной, пока ее реализуют, потому что система разделения труда меняется быстрее, чем реализация переноса технологий из одной сферы в другую. Поэтому предприниматель должен быть готов к тому, чтобы несколько раз за период реализации стартапа менять цели, а значит, менять и средства, а значит, во многом, может быть, отказываться от этой технологии. То есть, начав с одной технологии, он через пять лет вообще-то может заниматься совсем другим, а то, с чего он начал, станет совсем незначимым или менее значимым объектом или предметом его деятельности.
Поскольку гипотеза о разделении труда, о его изменении его и есть то, что позволяет предпринимателю собрать ресурсы, часто в практике предприниматели используют термин sweat equity, то есть сам предприниматель, раздав в том числе доли за ресурсы, зарабатывает на том, что трудится, осуществляет свою предпринимательскую работу.
Следующий момент. Понимание того, что многоиндустриальное использование одних и тех же технологий делает продукт любой компании существенно дешевле, приводит к тому, что подавляющее большинство компаний — технологических лидеров в развивающихся секторах и, соответственно, менеджмент этих компаний занимаются фактически только одним: они расширяют масштабы своего технологического «аутсорсинга». Я беру слово в кавычки, потому что это обычно ассоциируется с выделением из компании уборки и мойки окон, а речь идет не об этом. Речь о том, чтобы отдать за пределы традиционной компании все, кроме самой проблемной, ну а значит — той зоны, в которой ты можешь удержать монопольное лидерство. Вот из моего примера компания ASML. 9% литографической машины (литографическая машина стоит сто миллионов евро) производят ее поставщики. Несколько тысяч компаний участвуют в этой кооперации. 50% R&D производят за пределами. Если вы думаете, что это очень радостный процесс для компаний, особенно старых компаний — вы ошибаетесь. Это очень болезненный и неприятный процесс. Некоторые компании умирают в силу этого процесса. Вот сейчас очень интересно наблюдать за тем, что происходит с Philips, который лет 10 уже находится в цикле полной реорганизации, но поскольку это голландцы и у них как бы с чувством разделения труда все в порядке, то есть шанс, что справятся.
Смысл этого процесса в том, чтобы каждая отдельная единица делалась дешевле, каждый отдельный компонент. Если у тебя это делает твое подразделение, то это стоит 100%, если у тебя это делает компания, которая работает еще на пяти рынках, то это стоит 20%. Простая экономика. А значит, твой конечный продукт может быть дешевле, ну или, по крайней мере, ты сможешь больше заработать.
Вот один из последних примеров, который мне очень нравится, — компания IВМ передала все свои мощности по производству чипов компании Global Foundries (это один из четырех мировых лидеров в этом производстве), и за то, чтобы Global Foundries забрала у нее эти четыре или пять заводов, заплатила полтора миллиарда евро или долларов и контракт на десять лет, что Global Foundries будет для нее производить, и все IP передала по этой теме. Зачем? Затем, чтобы IВМ могла сконцентрироваться на том, что считает наиболее важным. Это она не считает уже более важным, даже если это было самым важным двадцать или сорок лет назад. И она платит за то, чтобы у нее это забрали. Это и есть главная забота всех топ-менеджеров развивающихся технологических компаний. Нет никакой проблемы у технологических предпринимателей вступить в коммуникацию с руководителями, первыми лицами таких компаний, потому что они открыты к коммуникации по поводу того, если они знают, что с той стороны предприниматель, который заберет часть работы на себя. Нет такой проблемы доступа к этой коммуникации.
Дефицит предпринимательской работы, то есть работы, о которой я рассказываю, одновременно с избыточностью инвестиций в развивающихся отраслях, индустриях формирует рынок компаний, они же — стартапы. Проблемы доступа к какой-либо технологии не существует. Есть только проблема стоимости и скорости этого доступа. Для технологического предпринимателя, особенно если это крупная компания, развилка между тем, чтобы сделать отдел у себя и интегрировать цельную собранную инженерно-организационную машину — оно только кажется, что первое дешевле. Что это значит? Он должен заплатить предпринимателю, который ее собрал, не только затраты, которые он понес, но и ту прибыль, которую предприниматель ожидает получить. Поэтому на стартап тратится пять миллионов, а на ранней стадии через два года он продается за двадцать пять. Это плата за не полученную предпринимателем прибыль, которому говорят: «Так, давай ты чем-нибудь займись другим, если готов, конечно, я у тебя это заберу как собранное, а вот тебе плата за это, потому что ты от этого уже не получишь свою прибыль в будущем». То есть это как бы «деньги в студию», вот этот момент. Собственно, вот за этот опыт предпринимательский и идет оплата.
Кто покупает стартапы? Во-первых, те, кто сделал ставку на монополию за счет какой-то технологии. Те, кто находятся в догоняющей позиции, тоже покупают. Мы знаем, насколько агрессивны сегодня на этом рынке китайские компании. Huawei купил компанию «Каллиопа», бельгийскую компанию из Гента, в которую мы были одними и претендентов на инвестиции вместе с другими предпринимателями, дав двойную цену, просто чтобы внести технологию кремниевой фотоники внутрь своего портфеля, и не просто технологию, а вместе с опытом работы. Компания полуторагодичного, ну, двухгодичного, два года с момента рождения. Несколько десятков миллионов евро, четыре инженера, пять лет до продукта.
Плата из догоняющей позиции.
Есть еще те, кто привлек капитал, но не справился и вынужден закрывать эту дыру таким решением.
Чтобы максимально дешево произвести перенос одной технологии из одной сферы в другую и при возникновении возможности работы на рынке стартапа максимально дешево сделать стартап, нужны специфические инфраструктуры. Мы все о них знаем и слышали, некоторые даже работали. Венчурные фонды, в которые приходят деньги и альтернативы — из государственных и частных структур, как альтернатива банковским вложениям или прямым инвестициям. Далее разложили в десять компаний; 80% из них погорели, 20% — выстрелили. Те 80% списали, а заработали 1000%. Появляются так называемые «упаковщики проектов». В России очень много таких компаний, которые описывают деятельность.
К инфраструктурам со стороны предпринимателя такое же требование, как и к тем средствам, которые он использует: они должны быть функциональны и дешевы. И более того, понятно, что предприниматель, если сталкивается в том месте, где он живет и работает, с дороговизной и нефункциональностью инфраструктуры, он в конкретном своем случае может их поменять. Уехать, воспользоваться инфраструктурами в другом месте. Довольно часто из зоны более дорогих и менее функциональных инфраструктур предприниматели со своими проектами перемещаются в те зоны, где дешевле.
Те предприниматели, которые не могут переместиться по каким-то причинам (это могут быть разные причины), либо игнорируют эту возможность, ну и в этом смысле закрывают свой предпринимательский проект, либо становятся ее заложниками. Как только государство при этом объявляет, что оно теперь инвестирует в инфраструктуру, как это сделало наше государство какое-то количество лет назад, в инфраструктуры рванули те, кто занимался раньше совсем другим. Кто рванул? Рванули инвестиционщики. Поэтому предприниматели, приходящие в институты развития, пишут тонны прогнозов, бумаг, финансовых моделей, не имеющих никакого отношения к жизни. Потому что как бы «инвестиционщики» пришли из зоны привлечения инвестиций в простые объекты, например, в завод. Консалтеры с их нормо-часом стоимости работы и с взаимно-безответственной коммуникацией с менеджерами крупных компаний. Менеджеры крупных компаний, которым главное, так сказать, чтобы собрать консалтера, финансиста и обосновать свой ресурс перед финансистами. Чиновники, которые увидели в инфраструктурах у нас новый предмет контроля — технопарк, кластер, неважно.
Что это такое? Это, грубо говоря, перенос моделей из старой деятельности в новую. Почему это должно работать хорошо? Ни почему. Это не может работать хорошо. Отсюда возникает ситуация, что отдельный технологический предприниматель либо становится заложником этого процесса, если эти инфраструктуры менее эффективны, чем в другом месте, либо переезжает и пользуется инфраструктурами в другом месте. У него нет третьего варианта. Есть еще особо талантливые инженеры, которые используют всю эту ситуацию, так сказать, чтобы получать бесконечное количество воспроизводимого бесплатного как бы ресурса. Это так называемые «грантожоры», но это не предприниматели.
Собственно, вот здесь только в первый раз и появляется то, что было в заглавии сегодняшнего разговора, а именно — серийное технологическое предпринимательство. Сам по себе отдельный предприниматель никогда не сомасштабен никакой инфраструктуре, потому что инфраструктура — это всегда многопользовательская штуковина. Ей должны пользоваться ей сотни, тысячи предпринимателей. Каждый из них в отдельности, как бы он ни хотел, не может предъявить требования к тому, чтобы эта инфраструктура както сильно кардинальным образом изменилась. Но, как я уже говорил, у него всегда есть возможность сменить этого поставщика услуг, если что-то его не устраивает. Действительно предъявить требования к инфраструктуре может только тот, кто является ее серийным пользователем. Если мы постоянно пользуемся чьими-то услугами, то мы можем предъявить требования. К парикмахеру своему, условно говоря, или к зубному врачу. А если мы пришли первый раз к зубному врачу, а потом придем в другом месте — какие требования мы будем ему предъявлять?
Кто это такой — серийный пользователь инфраструктуры, зачем ему этим все время пользоваться? Только в одном случае: если он изменил предмет деятельности, и то, что было у предпринимателя целью деятельности, сделал своим предметом. То есть у предпринимателя цель деятельности — сделать компанию, встроив ее в разделение труда; для серийного предпринимателя это не цель, а это предмет его деятельности. Это то, с чем он имеет дело; не для чего, а с чем.
Что такое компания как продукт? К этому предъявляются такие же требования, как к любому другому продукту. Она должна быть максимально дешево произведена.
Чтобы производить компании, как вертолеты или сапоги, серийный предприниматель фактически должен сфокусироваться не на том, чтобы просто повторить процедуру переноса одной технологии в другую, потом другой в третью. Его предметом деятельности является будущее изменение или углубление в системе разделения труда. Он занимается тем, что он одновременно создает весь набор будущих позиций. Дело не в том, что он пять разных технологий переносит из пяти разных сфер в пять разных сфер. Дело в том, что он работает с какой-то сферой и, предполагая, делая гипотезу о том, как изменится структура этого рынка, какие там могут появиться позиции, создает сразу все, потому что бессмысленно создавать одну. Если ты создал одну, а другие не созданы — эта одна не будет работать. Это вот как у нас диалог между стартаперами и специальными представителями инноваций в госкомпаниях, отвечающих за программы инновационного развития. Там невозможен диалог, потому что отдельный стартап не является тем, что может изменить структуру деятельности этой компании.
Один наш шведский друг, серийный предприниматель говорит так: «Иногда я делаю компании, чтобы просто не забыть». Он занимается карбидом кремния, работает в одной технологической платформе, делает там десятки компаний. В какой-то момент работы у тебя появляется понимание о еще одном месте в будущей теме разделения труда. И чтобы не забыть об этом, ты делаешь юрлицо, компанию, называешь ее соответствующим образом, и она у тебя там два года ждет, пока ты ей займешься, например.
Это пример размышления, которое проводит серийный предприниматель. То есть это не тот, кто много раз осуществил перенос разных технологий из разных сфер в разные, а это «многократный предприниматель». Его друг сделал компанию силовой электроники, продал ее за полмиллиарда евро, и улетел в космос. В прямом смысле: он был одним из первых космических туристов. Пока он, готовился, летал, возвращался, прошла пара лет. Компания в капитализации упала до тридцати миллионов. Он вернулся, купил ее (у него остались деньги с полетов, между стоимостью продажи и затратами на полет) и опять ее через два года продал за триста. Как бы осуществил еще раз то же самое. Это как бы многократное, я хочу отличить, почему? Потому что деятельность серийного предпринимателя — она совсем про другое. Еще раз: его предметом является то, что для обычного предпринимателя является целью. Он распределяет между компаниями, местами в будущей кооперации и разделении труда ресурсы. Ему все равно, где точка прибыли. Ну, точнее так: он ее определит ситуативно, в разное время она будет разной. Если на какую-то из компаний затрачено много денег, например, для того чтобы вложить, ну, нужны какие-то капитальные вложения, требуется оборудование — это не значит, что эта компания будет капитализирована и что в ней будет точка прибыли.
Возвращаясь к инфраструктуре. Инфраструктуры серийный предприниматель создает так же, как и стартапы. В каком-то смысле никакой разницы нет. Он так же их стремится потом продать, просто там другой способ продажи. Там скорее это передача партнеру, чтобы просто самому не заниматься. Но каждая из этих инфраструктур — бизнес, потому что если это не бизнес, она не будет инфраструктурой в том смысле, что ты не сделаешь свой продукт дешевле, чем где-то в другом месте. Дешевле может быть сделано только в логике бизнеса. Когда это субсидиарное производство, например, сделали тридцать инжиниринговых центров в стране, как только закончились деньги по кластерной программе — двадцать девять закрылись. Это не инфраструктура.
Что значит — сделать бизнес? Во-первых, надо найти партнера, с которым ты сможешь сделать инфраструктуру. Ну, например, компанию инфраструктурную по механической обработке мы сделали с партнером, который занимается лазерами, и у которого внутри его компании раньше было собственное производство. Мы фактически выделили из него это производство, собрали остальные куски производства из пяти мест, в смысле — перенесли задачи. Не в смысле — перенесли оборудование. И создали центр мехобработки. Ему — этому партнеру — почему-то это должно быть нужно: поменять структуру своей деятельности и стать партнером в создании инфраструктуры у серийного предпринимателя. Зачем? Обычно это происходит, когда что-то не так, когда какой-то кризис. Чтобы опять свой продукт сделать тоже дешевле. Как-то нужно умудриться передать, когда начинаешь это делать, исходный смысл и интуицию, что такое инфраструктура и как это должно работать. Обычно никогда не получается, поэтому возникает много содержательных конфликтов, но, главное, готовность к их прохождению. В каждый момент можно разойтись, и предприниматель, начиная работу с кем-то из партнеров, должен быть готов к тому, что партнер выйдет из этой ситуации, потому что это сложный вид деятельности. Проинвестировать как в бизнес, но оставить гибкость финансов, потому что модель много раз может поменяться, и мы, когда начинаем, вообще-то не знаем, как она будет устроена через пять лет. Вот прошел год с момента запуска Центра технологического обеспечения в Троицке, мы сейчас полностью меняем модель его деятельности. И таких инфраструктур нужно сделать десятки. То есть создание инфраструктуры — это тоже серийный процесс. Каждая из них — бизнес, просто имеет другие показатели, чем бизнес под названием, который обычно называется стартапом, и чуть-чуть по-другому создается. При этом понятно, что старые инфраструктуры всегда мешают этому процессу. Если рядом с нашим центром мехобработки возникает центр, созданный за государственные деньги, с чиновником во главе, у которого нет никаких рамок, как выставить цену, у которого нет никакой задачи сделать что-то дешевле, а у него вообще совершенно другое пространство для его решений, то нам это вредно. Поэтому всем «грантожорам» серийные предприниматели стараются помочь «умереть» поскорее в той или иной форме.
СЛУШАТЕЛЬ 1: Можно ли сказать, что наличие серийных предпринимателей, особенно их количество в том, что сейчас условно принято называть новыми отраслями или формирующимися, и это для них более критично, чем для традиционных, либо это просто должны быть разные модели? И если для новых это действительно критически важно, то правильно ли тогда сказать, что во всех дискуссиях, которые сейчас идут про создание новых отраслей в России, в тех отраслях, в которых Россия может занять какие-то конкурентные позиции на каком-то обозримом пространстве, это значит, что собственно серийных предпринимателей, то бишь тех, кто могут делать, если я вас правильно услышала, такие, ну, то есть своего рода сборки, то есть не просто делать отдельные стартапы или артикулировать заказ со стороны технологических корпораций и так далее, а именно вот такие сборки, то их должно быть много? И тогда крайний вопрос. Занимается ли кто-то этим сейчас системно? Потому что сейчас…
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ: С моей точки зрения, нет никакой разницы между новыми и старыми индустриями или отраслями, кроме одной: в одних происходит процесс углубления разделения труда (в этом смысле их можно назвать новыми или развивающимися), а в других не происходит, а происходит, например, обратный процесс. Очень просто идентифицировать. Задайте вопрос себе, в каких? Вот вы, например, думаете про какую-то отрасль. Посмотрите количество новых форм деятельности, которые возникли в этой отрасли за последние пять лет, и сравните с предыдущей пятилеткой. Вы ответите на вопрос, это новое или старое в вашем языке. Самих по себе как таковых старых или новых нет. Электроника — это старая или новая отрасль? Почему старая или почему новая? На мой вкус, только по этим причинам. А там, где есть этот процесс, там есть и предприниматели, потому что предприниматели идут туда, где есть тренд на углубление разделения труда.
Возвращаемся к инфраструктуре. Инфраструктура всегда локальна. Это фактически означает, что к ней имеют доступ те, кто находятся в регионе — в широком смысле, не в смысле в субъекте федерации. В регионе деятельности. Если элемент инфраструктуры, находящийся в этой точке, будет выполнять свою функцию инфраструктуры только для тех, кто тоже находится в этой точке, то это одна степень эффективности. Таких инфраструктур — сотни во всем мире. Но есть иной тип качества инфраструктур, элементы которого выполняют функции для других точек. В нашем случае — как в России для других регионов, так и, например, для других точек в мире. И здесь возникают новые или дополнительные особые условия для деятельности серийных предпринимателей. Серийные предприниматели в это инвестируют. В той мере, в которой я хочу, в той мере, в которой я вкладываюсь в то, чтобы сделать свою сеть деятельности инфраструктурой для входа на российский рынок иностранных предпринимателей и их компаний с технологиями, в той мере я могу рассчитывать на получение входа в их рынок. Если я этого не делаю, то я не могу рассчитывать на то, что я туда войду, никаким образом. В какой-то момент происходит то, что называется формированием хабов; это когда одна инфраструктура накладывается на другую.
Вот в Троицке у нас сейчас происходит такой интересный процесс. С одной стороны, центр мехобработки; это группа станков с очень высокой точностью обработки металла, которые в том числе могут выполнять функцию прототипирования. С другой стороны, компания, которую мы сделали с самым серийным в стране промдизайнером Сергеем Смирновым («Фабрика промдизайна»). Оказалось, что при наложении этих двух инфраструктур количество работ, которые может проводить эта компания по промдизайну, резко увеличилось, а стоимость уменьшилась за счет, например, прямого быстрого доступа к прототипированию. Теперь мы делаем еще один шаг развития. Мы мехобработку достраиваем технологиями 3D-принтинга и аддитивными технологиями, другой тип технологий, который сейчас только начинает развиваться, но скорее всего пока не живет без базовых технологий, ну, вот как бы такой традиционной мехобработки, точной, но традиционной, лазерной например. А с другой стороны, достраиваем это литьем пресс-форм, что является еще одной инфраструктурой деятельности промышленного дизайнера. Наложение этих инфраструктур друг на друга дает эффект хаба, то есть у тебя процессы как бы проходящие начинают мультиплицироваться за счет скорости и за счет дешевизны.
Как вы понимаете, это достаточно сложный вид деятельности, который я описал. И, наверное, вы догадываетесь, что это неосуществимо никаким отдельным человеком, будь он хоть семи пядей во лбу. Поэтому, то, что я называю серийным технологическим предпринимателем — это не человек, это отдельная структура разделения труда, система разделения труда со своей специализацией. Базовая задача, которую мы сейчас в своей, как я это называю, предпринимательской артели решаем — это задача технологизировать определенные куски нашей деятельности, то есть избавиться от того, чтобы каждый раз тратить время мышления на то, чтобы осуществить эту операцию. Технологизация позволяет тебе еще раз это не тратить. Ты уже знаешь, как это надо делать, нормировать и передать. Во-вторых, чтобы разгрузить себя, чтобы вовлечь в нашу деятельность большее количество участников, потому что работать в не технологизируемом, то есть в ненормативном пространстве могут далеко не все. Большинство людей склонны работать в структурах, которые описаны, в которых есть какие-то нормы деятельности. Если этих норм нет, то сложнее. Поэтому та деятельность, тот основной процесс, который мы сейчас осуществляем — это пытаемся спустя два года опыта работы извлечь часть опыта из нашей работы и какие-то его части попробовать перевести в нормативную плоскость и попробовать этому дальше, например, кого-то научить, а потом опять что-то вместе сделать, потом — еще раз; ну, такой безостановочный процесс, который один раз запущен, дальше должен все время воспроизводиться. В этом смысле еще один ответ на вопрос, почему серийный предприниматель иногда принимает решение о продаже какой-то из своих компаний — это чтобы перестать ей, наконец, заниматься. Как вот создается юрлицо, чтобы не забыть, так и продается часто даже не для того, чтобы извлечь какую-то суперприбыль. Можно было бы еще три года позаниматься и заработать в пять раз больше. Но иногда надо перестать чем-то заниматься, чтобы заняться чем-то другим. И баланс времени в работе предпринимателя — наверное, ключевая внутренняя единица, с которой он работает, то есть он его и делит в себе.
С моей точки зрения, серийное предпринимательство — безальтернативная форма деятельности для ситуации так называемого догоняющего индустриального развития, в которой мы, в смысле наша страна и все постсоветское пространство в полной мере находится.
Три вопроса возникают, когда мы думаем из этого места.
Первый. А откуда вообще я из этой периферии что-либо узнаю про то, что происходит в развитии технологических платформ? Ну, мы знаем, что технологии «ходят» не по отдельности, а группами, и вот когда они накапливаются, происходит их реализация в тех или иных индустриях. Что я буду делать? Закажу отчет Маккинзи. Два миллиона долларов — очень много полезной информации. Только, к сожалению, это анализ того, что было сделано когда-то, это не про сейчас. У меня нет другого выхода, когда я нахожусь в догоняющей позиции, кроме как использовать свои инвестиции в стартап как форму доступа к этому знанию. В этом смысле я заранее готов списать 80% инвестиций как плату за мое понимание (мое в смысле предпринимательской артели серийных предпринимателей) устройства технологических платформ и того, что в них происходит. Когда вы меня спрашиваете, какие индустрии в России разовьются — есть как бы книжные ответы, то есть много разных гипотез аналитики делают, и часть из них точно реализуется, а часть точно не реализуется, мы заранее знаем. Но я вам из моей практики отвечу так. Вот те сферы, в которых серийный предприниматель массово вложится в стартапы как форму доступа к этому знанию и к этой коммуникации — вот в тех сферах и будет происходить развитие. А в тех, где не вложится, не будет, будет стагнация.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Это значит, что надо вкладываться не только в России, но еще и в других странах?
Д. К.: Сто процентов — да, и это один из процессов, которые мы реализуем, он безальтернативен. Приведу в пример того же шведского предпринимателя, который занимается карбидом кремния. Этот материал — один из претендентов на кандидатную технологию, технологическую платформу для пакета отраслей. Представляете уровень глубины рассуждения этого предпринимателя про эту технологическую платформу? В той мере он является серийным предпринимателем, в которой он двигает вот эту самую технологическую платформу за счет глубины ее погружения, а погружение достигается только опытом инвестиций и действия, никак по-другому. Не аналитикой, не предсказанием, а действием и извлечением опыта из этого действия. В той мере он серийный предприниматель и в той мере в какой-то из его компаний окажется центр прибыли, а в другой — меньше, и он примет решение, что с ними делать.
Второй вопрос, который возникает в догоняющей позиции. Как открывать региональные рынки? Я уже об этом говорил, и мы точно знаем, что на данный момент программа под названием «Программа инновационного развития госкомпаний» не оправдала тех надежд, которые были на эту программу возложены. Не хочу обсуждать причины, но что понятно? Что расфокусировка этого нажима, который осуществило государство, ну а точнее — ответственные в правительстве за инновации, на госкомпании, поскольку это усилие было очень расфокусировано, а не сконцентрировано, то на точке, которая, на мой взгляд, является ключевой (а именно технологический аутсорсинг), фактически не было заострено никакого внимания. Наверное, это может быть сделано чуть-чуть по-другому. Но не надо ждать, что от этого нажима что-то изменится в деятельности самих компаний. С моей точки зрения, пока нет никакого предложения от серийных предпринимателей, ну или пока есть отдельные опыты, в которых серийные предприниматели предлагают какие-то решения крупным технологическим компаниям с государственной собственностью. Потому что, конечно же, еще раз говорю, им бессмысленно предлагать отдельное решение и стартап. Им некуда его вставить. Они организованы по-другому, эти компании. Решение может быть только пакетное. В этом смысле, если уже делать бенчмаркинг, то делать его про это. Про то, сколько видов, форм деятельности участвуют в одной и той же сфере в России и в развитых системах разделения труда. И осуществлять этот перенос. Что мы чаще всего делаем? Мы переносим не сами технологии в Россию. Технологию в каком-то смысле невозможно перенести. Можно перенести только форму ее использования, ну а если быть точным — группу форм ее использования. В этом смысле, если говорить о копировании, то это копирование не технологий, а бизнес-моделей или форм деятельности. Да, безусловно, мы работаем в этой логике, тем самым пробуем те или иные участки и сегменты российской индустрии развивать, то есть углублять разделение труда внутри, создавать вместо меньшего числа позиций большее число позиций. В этом смысле существует примерно 15% стартапов. 80% будут способом разбирательства понимания технологических платформ и устройств разделения труда, а 15% будут работать, производить продукт и не принесут сверхприбыли.
И, наконец, третий вопрос. А откуда взять серийных предпринимателей в периферийной ситуации? Я знаю опыт двух регионов, которые решили эту задачу за последние сорок лет. Первый — это Кембридж, второй — это Левен, ну а сейчас это не только Левен, а треугольник Левен — Эйндоховен — Ахен (ЭЛАт). В Кембридже все выросло из технологического консалтинга. В Левене — из центра трансфера технологий Левенского католического университета. И Кембридж, и Левен находились в ситуации догоняющего развития по отношению к чему? По отношению, конечно же, к Калифорнии. И, в каком-то смысле, они, конечно, пытались воспроизвести опыт Калифорнии. Но понимая, что опыт напрямую не переносится никогда, они вынуждены были придумать новую форму деятельности под названием «серийное технологическое предпринимательство» и особый тип мышления, которым участники этой формы деятельности распределенным образом обладают.
Поэтому сегодня Кембридж производит пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, до ста технологических стартапов в год, Левен — грубо, двадцать.
У нас сегодня эту функцию выполняют так называемые институты развития. То, что сделано сегодня в форме так называемых нанотехнологических центров, — это не существующая позиция серийных технологических предпринимателей. Это не инвестор, потому что инвестором является фонд инфраструктурных образовательных программ, который проинвестировал наноцентр. Это не предприниматель сам по себе, потому что это те, с кем работает наноцентр, кто является предметом, кооперация с кем является предметом деятельности наноцентра. Удастся ли это — мы не знаем. Но это специальное место, сформированное, чтобы там появилась эта позиция. Другие институты развития пытаются быть инфраструктурой для технологического предпринимательства и часто в отношении серийного предпринимательства выполняют отрицательную роль. Ну, когда в институт, в котором я когда-то работал, например, или в другой институт дают грант или государство дает субсидию лаборатории в НИИ, оно лишает их возможности стать партнерами предпринимателя. Зачем? У них и так все в порядке. Поэтому само по себе серийное технологическое предпринимательство из воздуха не появится. Оно появится как результат опыта из какой-то деятельности. Эту специальную позицию надо создать. В разных регионах мира она появилась из разной деятельности. У нас есть такая попытка. Посмотрим, как получится.
В качестве заключения. То, что я изложил, совсем не является ни в коей мере инструкцией или законченной картиной мира, для того чтобы ее взять и начать в ней спокойненько жить. Есть большое количество вопросов, лежащих за границами ясности нашей деятельности. Это не означает, что не надо осуществлять деятельность. В этом смысле я знаю точно по себе и, наверное, многие из вас это тоже в себе замечают, что мы вообще такие фанаты понимания. То есть мы, пока что-то не поняли, вообще ничего делать начать не можем. Вообще-то это как бы — как сказать? — проблемка, вот так сказать мягко, если не сказать — болезнь. Невозможность приступить к действию в отсутствие понимания. Ну а поверить? Почему бы не начать действовать, просто поверив? Или почему нужно считать, что пока ты не начал, пока ты все не понял, а значит, понял столько же, как тот, кто тебя зовет в деятельность, ты не будешь ничего делать? Но какая тогда кооперация? Почему не потратить два года или сколько нужно лет жизни, для того чтобы, выйдя из старой практики, выполнять задачи и выполнять рекомендации того, кто тебя зовет в новую практику, не задавая каждый раз, не ставя себе условием начала этой деятельности свое полное понимание того, куда тебя зовут? Это невозможно. Не пройдя какой-то путь, невозможно извлечь опыт. Опыт не передается разговором, даже хорошо подготовленным.
На три момента я хочу обратить внимание. Первое. Я не знаю, откуда возьмутся способности и силы кооперироваться у меня и моих партнеров в течение следующих двадцати — тридцати лет в ситуации, когда мы, во-первых, выросли все из антикооперационной культуры. Об этом гениально рассказывает Владимир Николаевич Княгинин в своих тезисах, которые он периодически в разных местах произносит про так называемое «поколение миллениум». Можно как угодно определять его границы, но понятно, что это примерно наше поколение. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Все противостоит тому, чтобы группа людей в столь долгом периоде кооперировалась и еще и разделяла друг по отношению к другу общий труд, вообще что-то делала.
Второе. Границы технологизации существуют, я понимаю, что не все может быть технологизировано, мы упремся в границы мышления. В этом смысле — какую часть из той деятельности, той практики, которой мы занимаемся, мы сможем перевести в технологию (а от этого, конечно, будет зависеть масштаб и скорость нашего развития серийных предпринимателей) — я не знаю. Эти границы точно есть, и они в первую очередь проходят по способности тех или иных мыслительных средств и методов быть технологичными. Я знаю две школы, которые в России что-то по этому поводу делают. Сможет ли кто-то из них внести свой вклад в технологизацию этого типа мышления — я не знаю.
И, наконец, я не знаю, каким образом порождаются новые формы деятельности. Тот язык, который я использую (язык системы разделения труда, деятельностный язык, анализа деятельности), хорошо, с моей точки зрения, подходит для того, чтобы смотреть на уже сделанное и из него извлекать опыт. Но в какой мере он подходит для того, чтобы организовывать себя для дела, и в какой мере этот тип мышления может быть производительным с точки зрения создания новых форм — я не знаю. В этом смысле — каковы границы этой рабочей онтологии, которой я пользуюсь? Я знаю, что они есть, как у любой рабочей онтологии, их не может не быть. Но каковы эти границы — я не знаю. И ответ на вопрос, почему именно в Англии при переносе опыта или задач кораблестроения из Голландии возникло проектирование, а в других местах оно не возникло, — сейчас, спустя двести или двести пятьдесят лет, можно обсуждать. Но тогда смогли бы мы сказать, что такая новая форма деятельности появится? Не индустрии конкретные, а форма деятельности? Новая форма деятельности, которая сделала Англию на следующие несколько десятков лет центром мирового развития и промышленной революции. Я не знаю, как порождаются эти новые формы деятельности, и единственное, что я могу в этой ситуации делать — я могу создавать такие формы, из которых я дальше могу извлечь опыт. Я могу специально закладывать эту мою задачу по извлечению опыта в то, что я сейчас делаю. Спасибо.
СЛУШАТЕЛЬ 2: В любом бизнесе, я так понимаю, в серийном технологическом предпринимательстве есть конкурентная борьба, есть поглощения, ну и агрессия со стороны более, может быть, богатых и капиталоемких коллег. Есть какие-то наработки практики, как защититься от ситуации, когда ты портфель проектов набрал, мозги собрал, предположим, начинаешь заниматься, например, гибкими экранами, и на тебя начинает нападать тот же самый Samsung? Как удержать в свом управлении этот проект, чтобы его не перекупили, чтобы твои мозги не уехали за рубеж, предположим?
Д. К.: Боюсь, что Вы не очень услышали мой главный тезис. То, что Вы описываете — это ситуация, в которую постоянно попадает технологический предприниматель. Серийный технологический предприниматель. В этом смысле нас, конечно, путает слово. Если бы мы слово «предприниматель» в одном из этих двух мест, в любом из них, заменили, было бы уже легче. Если в первом заменить его словом «бизнесмен», технологический бизнесмен, во втором оставить «предприниматель», то, может быть, было бы легче.
Как таковой конкуренции в серийном предпринимательстве нет внутри этой деятельности. То есть представьте себе, какого типа конкуренция это должна быть. Это если одна артель в Левене создает тридцать новых элементов будущего разделения труда, системы разделения труда, единиц деятельности, а вторая в Кембридже — тоже тридцать в этой же сфере. Нет, ну немножко в других, наверное. И вот они схлестнулись за право как бы повлиять на индустрию. Может быть, когда-то мы себе такое представим, но пока процесс прямо противоположный. А именно: количество задач, которые можно решать, количество кандидатных индустрий, в которых может быть произведено разделение труда, резко превышает возможности производителей изменения в системе разделения труда. Грубо говоря, индустрии стоят в очереди за тем, чтобы в них конкретно за счет этой технологической платформы были произведены изменения. Они говорят: «Можно у нас теперь? — Нет, подождите, у вас через пять лет. — Хорошо». Или: «Пять лет не протянем, надо через три. — Тогда дороже. — Хорошо».
И вот обратная ситуация. На примере крупных корпораций вы видите то же самое. Опять-таки в литографии. Отсутствие конкуренции не означает низкого качества производимого продукта. Некоторые инженерные объекты так сложны, что весь мир может позволить себе делать их только в одной компании. Бельгийский центр Imec возник в тот момент, когда затраты на R&D Intel и других игроков рынка стали выше, чем они могут себе позволить, и они решили скинуться и создать от себя — от всех из них — независимую точку. И создали ее в Бельгии во многом потому, что в Бельгии не было никакой микроэлектроники в этот момент. Если бы она там была, они не решились бы на это, потому что было бы влияние. Поэтому они, например, не сделали ее в Гренобле во Франции, где вообще-то был один из игроков, и предлагали такой вариант. А в Бельгии не было ничего, голое поле. Идеальный вариант для создания нового центра. Да, и одна небольшая научная группа — шестьдесят человек — в католическом университете.
СЛУШАТЕЛЬ 2: Второй вопрос. На карте России Сибирь и Дальний Восток как центры и хабы так называемые, о которых Вы говорили, вообще для Вас просматриваются, либо это совсем периферия, глушь, одни медведи?
Д. К.: Еще раз: хабы для меня — это не точки на карте. Хабы — это название ситуации, с которой пересекаются несколько инфраструктур, друг на друга накладываются, тогда хаб формируется.
СЛУШАТЕЛЬ 2: В этом плане Академгородок Новосибирска — наверное, это хаб, где есть технологии для всего мира, в том числе разрабатываются.
Д. К.: Сам по себе Академгородок не является никаким хабом, еще раз. Хаб — это название новых видов деятельности или эффектов, возникающих от того, что в одной точке наложены разные инфраструктуры друг на друга. Если они там не наложены, то это не хаб, какая бы замечательная история у этой точки ни была. Мой ответ здесь тот же самый: в той мере, в которой по каким-то причинам в Академгородке в Новосибирске будет продолжать действовать группа серийных предпринимателей, один из лидеров которой — Андрей Брызгалов, с моей точки зрения, скорее так мыслит, как серийный предприниматель, в той мере это будет точкой на карте. Но в той мере, в которой этот тип деятельности (а значит, мышления) там почему-то будет воспроизводиться, в той мере там будет эта точка.
СЛУШАТЕЛЬ 2: А как часто новые точки создаются?
Д. К.: Нигде в России нет пока никакой концентрации. Как часто они создаются? Я не уверен, что этот процесс можно описать словом «создание». В какой мере они случаются. Потому что исходный набор, исходные предпосылки совсем разные. Но точно, с моей точки зрения, связанные с почему-то принятым решением о том, что группа лиц, осуществляющая определенный вид деятельности, продолжает находиться в этой точке или в этой точке группа лиц начинает этот вид деятельности. То есть дело даже не столько в перемещении людей, сколько в том, сохраняется ли на оставшихся эта структура деятельности или нет.
СЛУШАТЕЛЬ 3: Какова роль методологии проектного управления в серийном технологическом предпринимательстве?
Д. К.: Я не знаю, я не пользуюсь. Мне кажется, что это из пакета инфраструктур мышления, обслуживающих определенный этап развития иерархических корпоративных систем. Это их попытка адаптации к меняющимся условиям. Ну, помимо того, опять-таки, о чем говорит Владимир Николаевич Княгинин, что это просто теперь все мы называем проектами, раньше работа была, а теперь проекты, «у меня проект», «я в проекте».
СЛУШАТЕЛЬ 3: Уточняющий вопрос. Вы отметили две школы, которые работают в сфере решения задач серийного предпринимательства, но какие школы, я не услышал…
Д. К.: Нет, я сказал, что они не то чтобы работают в решении задач серийного предпринимательства. Они занимается длительным способом длительное время разработкой каких-либо технологий мышления. Они вообще ставили себе такую задачу. Одна из них — я назвал в начале — это системомыследеятельностная методология, а вторая — это ТРИЗ. Я других не знаю, которые решают задачу. Может быть, они есть, я просто не знаю.
ПАВЕЛ ЛУКША: Спасибо большое за лекцию. Я вижу, как развивается твое понимание технологического предпринимательства, поскольку уже несколько инкарнаций этой лекции слышал. И вот здесь очень мне показалась интересным тезис о том, что за границами ясности наступает момент, когда нам просто нужно поверить… Конечно же, нам нужно поверить в любом случае, потому что доверие позволяет строить эти сети, и в каком-то смысле доверие к тем, кто более глубоко погружен в это глобальное разделение труда, позволяет нам включиться и обучиться и освоить. Это понятная позиция. Но вот есть что-то еще, что, мне кажется, в этой схеме в целом упущено, я хотел бы понять — сознательно упущено или это такая лакуна. Есть понятие места в будущем разделении труда. Нигде не предъявлена тема про контур употребления технологии или продукта, который создаются. Может быть, ты скажешь, что это грубо говоря, отживающий формат, но если мы берем такую технологическую корпорацию, как Boeing или Airbus, которая по сути дела есть сейчас экосистема организации труда множества технологических предпринимателей в этих цепочках разделения труда, то они в том числе проектируют вот этот самый контур употребления, а именно — модель транспорта. И по сути дела конкуренция идет не столько даже за технологию, сколько за способ жизни людей, которые предъявляют вот эти большие экосистемы. В каком-то смысле тем же занимаются компания Apple и любые другие вот эти крупные технологические игроки, стоящие в центре процессов, имеющие прямой контакт с конечным потребителем, с большими объемами людей, заказывающих тот или иной конечный сервис, для которого технологии собственно и нужны. Вопрос — это сознательно исключено или это где-то в схеме есть?
Д. К.: Во-первых, мне казалось, что я это не исключил. Я несколько раз говорил про то, что способ использования является тем, что меняется предпринимателем. Для меня нет разницы — это, условно говоря, лазерная технология из медицины в электронику или это не технология, а другой, чуть более сложно организованный предмет, и на той стороне другая отрасль, другая индустрия. Теперь второй момент. Потребление — это, безусловно, один из типов кооперации внутри разделения труда. Есть такой тип отношений, который мы называем потреблением. В той мере, в которой мы фокусируем свое внимание на месте, у которого есть этот тип кооперации, с так называемым конечным потребителем. Ну а у другого места в разделении труда этого нет, но при этом у него тоже есть свой потребитель, ничем не отличающийся от меня с точки зрения типа связи, которую он реализует. Теперь третий момент. Вопрос только в том, в какой мере я могу работать с этим так называемым потребителем. Если это, как это говорят, MLM-бизнес, то вроде тут понятно: там компания, там есть типа ответственный человек, он пришел, написал тебе ТЗ, ты его принял и сделал. Здесь как бы кажется понятным. Но почему? Это вопрос только в том, как я с этим работаю. Там просто этот тип связи, этот тип кооперации — там есть другие средства для этого типа связи. Чем характерна позиция компании Apple? Тем, что она находится, может быть, в самом сконцентрированном в мире рынке так называемых конечных пользователей, с населением пятьдесят миллионов человек. Стоимость проверки любой гипотезы в десятки раз ниже, чем в другом месте, в десятки, просто потому, что этот регион в течение пятидесяти лет потребляет инновации серийно. Почему Samsung туда переместил центр R&D? Не потому, что там инженеры талантливые, ну или не столько потому. Потому что это центр рынка фактически, это экспериментальная площадка, в которой прорабатываются все изобретения, где на той стороне тип потребителя под названием «Человек». Ну а на самом деле там надо сложнее, там где-то человек, где-то домохозяйство и так далее, где-то семья. Везде чуть-чуть разные потребители.
Но это центр рынка.
Теперь, когда ты находишься вне центра этого рынка, вот в нашей деятельности, например, частично эту функцию выполняет промдизайнер. Почему? Потому что промдизайнер мне замещает работу с так называемым потребителем. Он за счет специальной аналитики переносит знания в мою деятельность о потребителе, если у меня к нему нет такого оперативного доступа, как есть у компании Apple в Калифорнии.
П. Л.: А здесь еще можно уточняющий вопрос? Как я слышу, все равно базовой моделью является нащупывание этой потребности, собственно, и удовлетворение, ну или как бы вот будь то перенос из одной сферы в другую или нащупывание потребности у конечного потребителя.
Д. К.: Ну, в каком-то смысле эксперимент.
П. Л.: Да. Но есть и обратная ситуация. Вот, собственно говоря, в конкуренции Boeing и Airbus, но не только там, я думаю, еще десятки кейсов, где вот этот самый способ потребления проектируется…
Д. К.: Так и я же про то же говорю. Конечно, способ потребления проектируется, естественно. Но когда говорим — проектируется, мы сразу слишком много всего связываем с этим словом. Это только кажется, что это управляемый процесс. Я бы сказал мягче — отрабатывается. Способ потребления отрабатывается, конечно. Способ потребления iPhone был отработан в наиболее инновационно-восприимчивом регионе мира — Силиконовой долине в Калифорнии, и потом перенесен в другие места. Это чисто технологический процесс на 100%. Вообще как бы продукт Apple — это на 90% его добавленная стоимость. Это, конечно, промдизайн. Поэтому Apple собрал у себя в определенной сфере лучших промдизайнеров, поставил им задачу нового типа, которую раньше не ставили. iPad же собран из тех технологий, которые хорошо отработаны. Там нет ни одной технологии, которую им пришлось разрабатывать. Они взяли готовое, осуществили промдизайн и инжиниринг. Поэтому с точки зрения размышления и того, как это устроено, никакой разницы.
СЛУШАТЕЛЬ 4: Какие знания или умения должны быть у серийного предпринимателя? Экономические знания или инженерные или какие-то научные?
Д. К.: Какие знания должны быть у деятеля, предметом деятельности которого является структура другой деятельности, структура разделения труда в индустрии? Разные. Точно не что-то одно из того, что названо. Ну, например, то, чему учат в MBA, не подходит в этой деятельности; там учат другому.
Что из управленческой подготовки может быть перенесено в деятельность, о которой я рассказывал — это отдельный вопрос интересный, наверняка продуктивный, то есть наверняка что-то можно перенести. Но понятно, что это «что-то» в процессе переноса изменится — и, наверное, так, что потом не узнаешь. Но это хорошо, а не плохо.
Какой из типов инженерного знания, языка может быть использован в этой деятельности — хороший вопрос тоже, мне тоже очень интересно. Я обращал на это внимание в работах Анатолия Левенчука, который здесь тоже выступал. Мы с ним несколько совместных работ в атомной отрасли делали. Это, безусловно, очень сильный кандидат, не в смысле человек, а в смысле школа, системная инженерия, на то, чтобы описать и дат ь знание такое, которое вот мною в моей позиции может быть использовано.
Заключительная лекция о будущем России и мира в горизонте 2035 года
ЛЕКЦИЯ 13 24/12/2014
УЧАСТНИКИ:
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, президент Фонда «Центр стратегических разработок»
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ, руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ, китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель, общественный деятель
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ, руководитель аппарата Законодательного собрания Севастополя
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ, технологический предприниматель, директор Троицкого нанотехнологического центра «Техноспарк», член комиссии по технологическому развитию России
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, заместитель генерального директора — директор проектного офиса ОАО «РВК»
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Добрый вечер! Мы начинаем финальную встречу проекта «13 лекций о будущем». Как-то хорошо, по-доброму, этот проект получился. Мы надеемся, что на основании каждой из этих лекций вырастет что-то большое, светлое, в чем мы ближайшие десятилетия будем жить. Мы долго думали, у нас были очень жаркие споры о том, кого мы должны позвать на последнюю лекцию с тем, чтобы завершить цикл. Это было такое большое, сложное наше внутреннее обсуждение. Было много разных споров, и мы думали, что нам нужен какой-то человек, который будет максимально точно отражать то будущее, в которое мы все сейчас стремительно входим. Мы придумали формат на стратегической сессии в Севастополе, что самая эффективная группа, которая продуцирует будущее, у нас называется РЭП, это сокращение от трех слов: ребенок, энтузиаст и предприниматель. И когда вот именно эта тройка — ребенок, энтузиаст и предприниматель — собирается вместе, у них самые крутые вещи получаются, поэтому у нас здесь есть тайные «ребенки», большое количество энтузиастов и некоторое количество предпринимателей.
Так вот, когда мы думали, а кто этот человек, который должен завершать все это, мы вдруг поняли, что на самом деле такого человека нет; и, если мы говорим, что, как нам рассказывал Анатолий Левенчук, у нас наступает эпоха сверхсложных систем, если мы говорим о том, как нам рассказывали Евгений Кузнецов, Павел Лукша, Владимир Княгинин, что у нас эти системы настолько сложные, что нет ни одного человека, который их может удержать в себе, что условно главный конструктор больше невозможен, что это удерживание будущего, удерживание проекта — это коллективная работа, мы, собственно говоря, тогда поняли, что тринадцатая лекция должна автоматически собираться из первых двенадцати, и всех, кто сможет дойти до этого финала, мы позовем и поговорим вместе как единый коллективный лектор. С коллективным сознанием, с протоколами обмена мыслями друг с другом на расстоя нии, способного к пониманию традиции и того, как из традиции возникает новое. Этот наш суперлектор, он понимает и про телесность, он понимает и, соответственно, про технологии, он понимает, как со всем этим надо жить государству и корпорациям. И вот такого суперлектора, собранного из нас, выступающих, собственно говоря, мы и хотели бы сегодня вам представить. При этом мы понимаем, что закончились все форматы, с которыми мы жили в XX веке. Закончились. Их век завершен. И одной из тех вещей, которые уже умерли, но которые еще в таком зомби-формате продолжают жить среди тех, кто остался в XX веке, является то, что называется форматом выступления со сцены, когда есть какое-то выделенное пространство, и там есть некоторое особое знание, и ему кто-то внимает. По этому мы решили, что на самом деле мы ничем не отличаемся от других, у нас есть разные позиции, и мы в общем-то в таком же сложном пространстве находимся и хотели бы сегодня в ближайшие полтора часа поговорить об этом совместном будущем, занимая определенные позиции, но, не «возвышая» себя на сцене.
У нас есть несколько групп, которые мы определили территориально. У нас есть вот в этом распределенном сознании три человека, которые работают с будущим как с окном — вот там оно, будущее, откуда-то оттуда светит, а мы пытаемся какие-то проблески этого будущего из окна поймать. И вот Павел (Лукша), я (Песков) и Евгений (Кузнецов), мы решили, что вот эти трое спикеров, они будут работать с будущим, как с окном, из которого они ловят какие-то проблески.
У нас есть более традиционная группа, которая представлена Сергеем Градировским и Владимиром Княгининым, к ним присоединится через несколько минут Исак Фрумин. Мы сказали, что это группа «книжных мудрецов». Вы их видите, они сидят позади, на фоне книг, они черпают из них мудрость и направляют ее в будущее.
РЕПЛИКА: И всем, кто ленится их читать, рассказывают.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Конечно. У нас был человек, которого точно некуда было посадить в пространстве. Это Анатолий Левенчук. И мы решили, что появится его тезис, а он сам особенно нам не нужен в этой модели. Он расплывчат. У нас есть Дмитрий Белоусов, он занимает традиционную позицию. Вы видите, он за столом сидит, и это вот навыки того, как надо работать в будущем в позиции человека из государства, из крупной компании. У него есть практически все атрибуты: книги, что-то похожее на письменную атрибутику. Он готов вести прием по поводу вопросов будущего. Единственное, что у него там же есть, мандарины и Чебурашка. Что он с этим сделает, я не знаю. Это вот про то, что будущее все-таки — это тяжело немножко. При этом мы же понимаем, что на сегодняшний день будущее — это несостоявшееся прошлое, и наше прошлое очень часто оказывается нашим будущим, особенно в России мы это видим очень хорошо, от цикличности никто не уходил и, видимо, никуда не уйдет. И поэтому мы решили, что Брониславу (Виногродскому) внешние никакие атрибуты не нужны, нужно традиционное место в проникновение всего этого. И вот у нас это такая внутренняя геометрия сегодняшнего разговора: группа книжных умников, группа людей, занимающих позицию «из окна», группа серьезных аналитиков, группа традиций. И есть лишь один человек, у которого нет четко определенной географической позиции, но который по своей сути перемещается между позициями, у него есть свобода на своем стульчике в ходе дискуссии взять и пересесть куда-то: в сторону традиций, под окно, в общем во все те места, где он может заработать денег. И поэтому у нас есть Денис Ковалевич, который представляет собой функцию технологического предпринимателя, а им же, предпринимателям, какая разница, на чем зарабатывать? Если он сможет заработать на технологиях или традициях, то он на них заработает. Вот примерная геометрия сегодняшнего разговора.
Следующий блок, который мы обсуждали, проектируя лекцию: а о чем будем говорить? Была идея обсудить 2035 год, но ставить жесткие ограничения не очень хотелось. И мы решили: поскольку мы — единый распределенный лектор, то каждый из нас заранее знает все, что может сказать другой выступающий. Поэтому мы сегодня проведем такой эксперимент: попробуем начать с озвучивания свои тезисов, а дальше будем озвучивать тезисы других участников. И если это будет получаться, например, кто-то подхватил мысль другого — значит, эта мысль зажила.
У меня единственная просьба ко всем выступающим: каждое свое выступление ограничивать одной минутой. Вот я сейчас закончу и буду выполнять только функцию модератора, пожертвовав своей частью, потому что знаю, что Павел Лукша ее сможет озвучить. Но давайте попробуем держать одну минуту.
Я попрошу каждого из лекторов высказать один, два, три, четыре тезиса, которые, с его точки зрения, наиболее важны для понимания будущего. Дальше мы в очень коротком формате попытаемся дособрать эту модель со всем. Подходит? Я думаю, можно начинать. Я, честно говоря, не помню, в какой очередности у нас шли лекции. Поэтому пойду от прошлого к будущему, начну с группы книжных мудрецов.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Все, что я делал во время своей лекции, я занимал терапевтическую позицию, я объяснял, что Homo Sapiens — это такое существо, которое всю жизнь приспосабливало собственное тело и все, что можно выразить как продолжение этого тела, под свои функциональные задачи. И неважно, что на заре это была гастрономия, которая позволила перестроить желудочно-кишечный тракт и расширить место под мозг, а сегодня, возможно, это нейронет. Я говорил о том, что всегда, в любой онтологии человека — религиозной или агностической — боялись этих событий, всегда им приписывали всякую чертовщину, но, тем не менее, это как локомотив, который невозможно остановить. Мы перестраивали и будем перестраивать все то, в чем живет наша бессмертная душа.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Как только Жаккард сделал карточку в действительности в жаккардовском станке, эту карточку использовали для того, чтобы пробивать дырки, перфорировать информацию, а потом создали IBM на этих карточках, которому больше 100 лет, по-моему, мы получили управление несуществующими, неосязаемыми объектами: и производства, и промышленности. И то, с чем мы сейчас имеем дело — это с огромным количеством невидимых, неосязаемых, расчетно-аналитических объектов. Промышленность с этим живет. Она становится все сложнее, производство запредельно растягивается, все границы плывут, поскольку аналитика охватывает практически все. Управлять этим возможно, только строя специальные экосистемы или среды, где это все перепакуется и связывается. Меня это вдохновляет, я вижу, что с этим все работает. Оказывается, мы способны решать немыслимые по своей сложности и невероятности упаковки разного рода неосязаемых объектов. Те, кто смогут с этим работать, в ближайшие 20–30 лет имеют возможность что-то вещать про себя миру. Нам кажется, что миру мы сообщаем ценность, но в реальности — в нашей экономической реальности — мы сообщаем миру технологии. Если мы не несем за собой технологии, мы с ним — безъязыкие, бессмысленные, отсутствующие. И, собственно, если мы с этим работаем, то мы должны быть готовы к сверхсложному, растущему, динамическому миру.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Исак, твоя минута — рассказать о самом важном в твоей лекции, что должно остаться в воспоминаниях и действиях тех людей, которые собрались здесь сегодня, и тех людей, которые услышат эту лекцию потом.
ИСАК ФРУМИН: Главное, что я хотел сказать в лекции: не надо обманываться, что будущее определяется технологиями. И я искренне в это верю. Я верю в то, что технологии затрагивают только поверхностный слой. Это, если угодно, рябь на воде, а будущее определяется массовыми процессами. Их можно называть новыми социальными технологиями. И чем дальше, тем больше я верю в то, что есть массовые социальные процессы, которые имеют свои закономерности, мы их плохо понимаем. Эти процессы определяют будущее. И в этом смысле для меня все, что Володя (Княгинин) видел в Силиконовой долине, кажется менее важным, чем, например, гендерная революция, которая там происходит, процессы новых этнических смешений и, конечно, появление новых возрастов. Вот что мне хотелось бы зафиксировать из моего выступления.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я напоминаю всем, что на следующем этапе мы не сможем усилить собственные тезисы, но мы сможем брать в течение одной минуты тезис предыдущего выступающего и его раскрывать.
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ: Я бы три момента хотел отметить. Первый состоит в том, что действие, облеченное в какую-то форму, например, то действие, о котором я рассказывал и называл его стартапом, есть единственный способ что-то понять про происходящее: как про происходящее, так и про так называемое будущее. В этом смысле предпринимательство — это и есть, на мой взгляд, единственный способ говорить — и делать — будущее. Второй момент: мне кажется, чрезвычайно важно понимать, когда мы начинаем что-то делать, мы вынуждены всегда, в отношении любого ресурса, с которым мы работаем, производить дисконтирование, в том числе в отношении своих старых представлений и опыта работы и своих старых умений. Если мы когда-то научились где-то, например, прогнозировать, то привнесение прогнозирования в предпринимательство или в технологическое предпринимательство может оказаться совсем не тем видом работы или не тем ресурсом, который может чему-то в этом технологическом предпринимательстве помочь, то есть стать для него ресурсом. Это касается и технологий железобетонных, и технологий мышления, например, технологии упомянутого прогнозирования.
И третий момент, на который я хотел обратить ваше внимание: мне кажется, что ответ на вопрос, что же будет в 2035 году, в следующем: те зоны, сферы, технологии, которыми займутся предприниматели, вот они и будут в 2035 году, а не технологии, о которых вам кто-нибудь расскажет или вы прочитаете где-нибудь, что кто-нибудь этим занимается. Ответ о профиле того, что будет происходить, в ответе на вопрос: в отношении каких предметов и почему те, кто что-то делает, предпринимают те самые усилия?
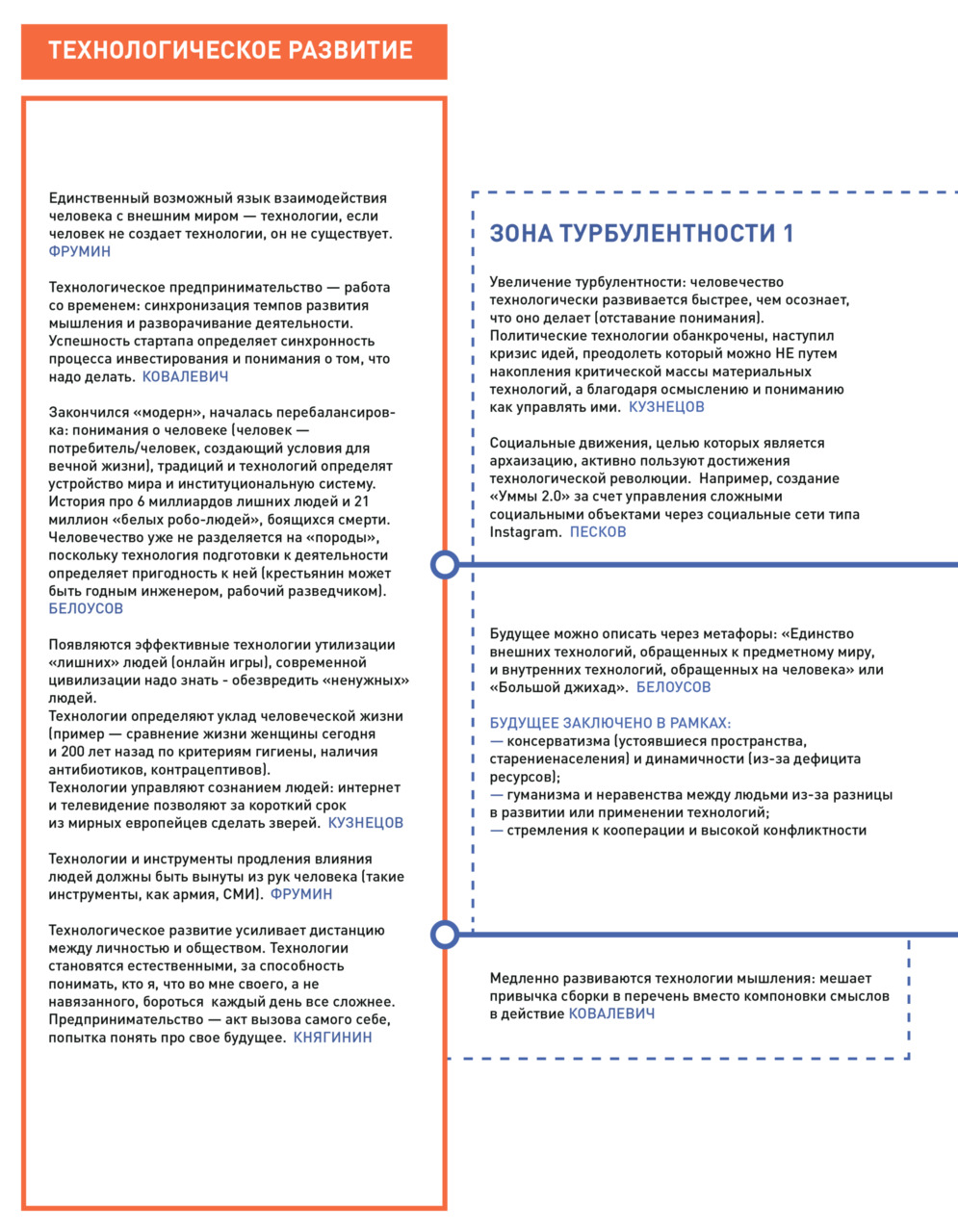
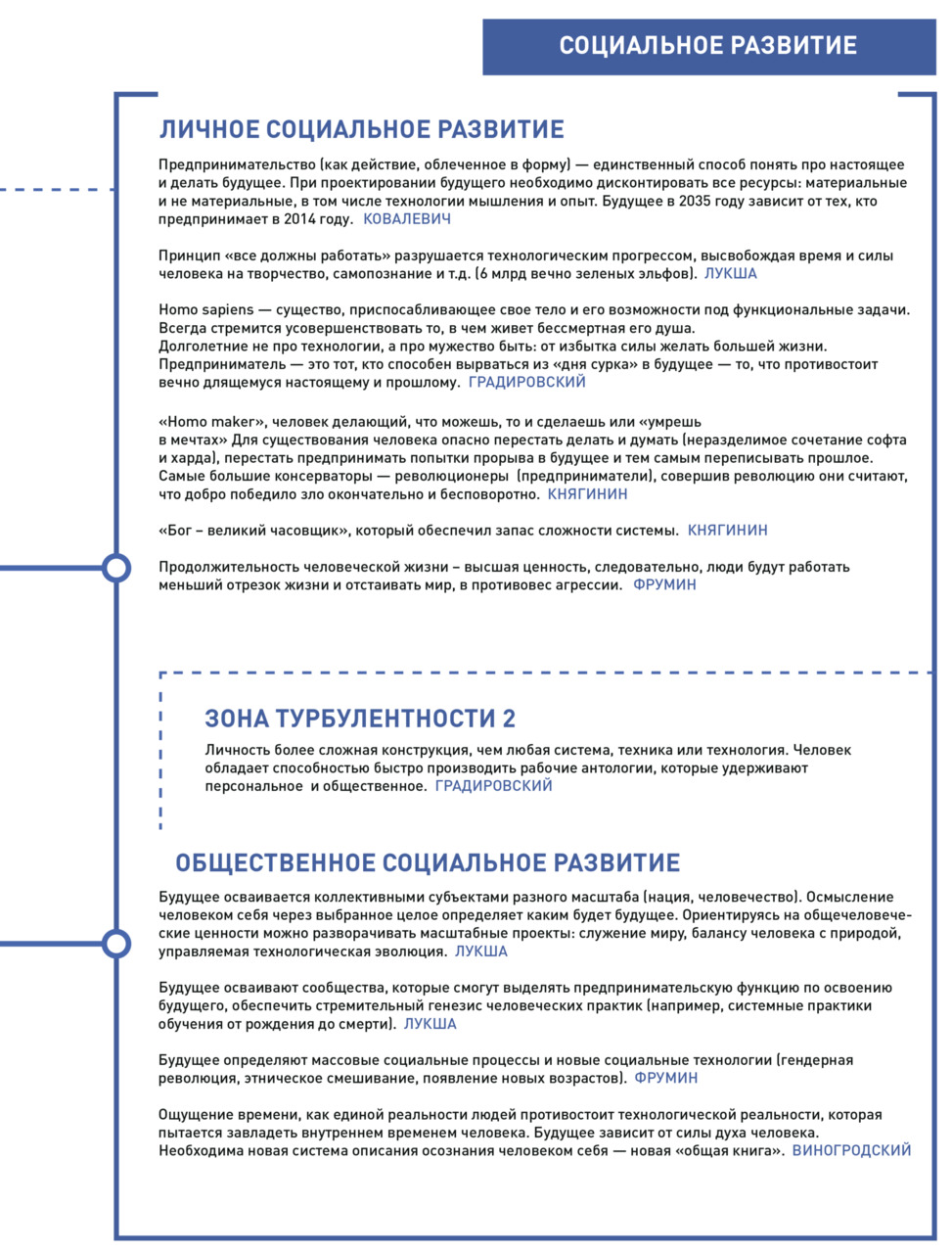
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: Я на самом деле, в отличие от остальных, о будущем-то почти не говорил. Я пытался нарисовать другим — и себе больше — те рамки, в которых надо искать будущее. Рамки эти примерно таковы, что нам предстоит строить будущее в условиях, когда у нас уже нет избытка финансовых ресурсов, в мире в целом идет старение населения, у нас и в мире в целом происходят попытки найти свое место и в технологической структуре, и в экономической структуре, и в структуре игроков нового мира, который явно на некоторое время перестанет быть моноцентрическим и глобальным. В этой связи можно ожидать, что и ответ на вопрос, сможем ли мы найти это место в ситуации, когда природные ресурсы уже не значат так много, а человеческих и финансовых ресурсов просто не хватает, зависит оттого, будет ли существовать это культурное пространство или оно будет поделено и диссоциировано. На самом деле будущее будет, судя по всему, и наше место будет определяться тремя странными балансами: с одной стороны, будущее будет более консервативным, просто в силу того, что этот консерватизм — то, с одной стороны, условие существования этих пространств, с другой стороны, это результат старения населения. С другой стороны, оно будет более динамичным, потому что поддерживать равновесие за счет финансовых балансов или избытка каких бы то ни было ресурсов не получится, потому что избытка этих ресурсов не будет. Второе: в силу дефицита человеческих ресурсов будущее будет более человекоориентированным, первый раз мы вступаем в мир, который, возможно, окажется радикально не гуманистичным. Это мир, в котором впервые может возникнуть технологическое неравенство между людьми, в зависимости от их места в технологическом процессе, от того, что они с собой сделают как с биологическими организмами и так далее.
И, в-третьих, этот мир, с одной стороны, более кооперабелен, потому что взаимодействие между этими плитами, в ослабление жестких институциональных рамок, будет более интенсивный диалог, с другой стороны, несомненно, этот будущий мир гораздо более конфликтен. Собственно говоря, этот процесс мы можем наблюдать по телевизору. Этот весь процесс будет только нарастать. Скорее всего, мир будущего описывается двумя метафорами. Одна метафора — это большой джихад, который охватывает как джихад внутренний, так и джихад внешний, как известно. Но это некое единство внешних технологий: технологий, обращенных к предметному миру, и технологий, обращенных на человека, того, что человек делает сам с собой, если он хочет сохраниться. И это все — некие части повестки дня, внутри которой можно говорить о том, как будут развиваться наши институты, наши форматы, цели и так далее.
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Будущее — это, во-первых, про время. Время — то, как о нем в настоящее время говорится, оно совсем не такое. Время — это такая ощутимая реальность, и как только возникнет на подходе способность одновременно ощущать единое время, тут же технологическая реальность, которая пытается завладеть нашим внутренним временем, превратится в нечто другое. Будущее совершенно фантастично, оно совершенно не похоже на все те модели, которые мы сейчас строим, потому что модели лишь для того, чтобы эти модели построились, чтобы мы поиграли с этими моделями. И это все зависит не от моделей, а от способности внутренних действий сердца и духа. Будущее — в духе.
ПАВЕЛ ЛУКША: Есть такая иллюзия, что каждый из нас присваивает себе будущее и осваивает будущее, то есть мой тезис был и остается таким, что будущее осваивается не людьми, а надперсональными сущностями, то есть коллективами. Вот сейчас коллективный лектор осваивает пространство лекций о будущем. И эти коллективные субъекты — они разного масштаба, и XX век проявил прецедент возникновения, столкновения — в начале XX века — больших национальных субъектов, а Вторая мировая война и то, что после нее происходило, — это уже были наднациональные большие субъекты. Мой тезис в том, что люди, в общем-то говоря, формируют эти субъекты и выбирают, кому в этом смысле служить. И выбор этого служения — он много очень определяет, каким будет будущее. И, мне кажется, что самая верхняя рамка, о которой стоит всегда помнить, — это то, что мы все — люди, мы все — есть человечество. Человечество не существовало как единое целое, не осмысляло себя до самого недавнего момента. И вот оно себя внезапно предъявило. Это называется интернет. И мы входим в эпоху, когда человечество начнет себя осознавать как единое целое. Тогда тканью его осознания, его нервной тканью станет то, что мы называем «нейронет». И этот такой футурологический заход означает очень практическую вещь, что уже сейчас, в настоящем, можно, ориентируясь на общие человеческие ценности, разворачивать общечеловеческий проект: дело служения миру, разнообразию, балансу с природой и управляемой технологической эволюцией. И в этом смысле все остальное, что здесь есть: предприниматели — есть эритроциты вот этого человечества, экосистемы технологические — это хрящи, кости и так далее, культурные пласты — это мышцы, то есть это все то, что формирует движение человечества как целого. Мы должны осознанно подходить к тому, как мы разворачиваем свое действие, имея в виду вот эту самую верхнюю рамку.
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я бы хотел немножечко, может быть, в продолжение своей лекции, сбить некоторый благодушный настрой, потому что движемся мы по пути увеличения турбулентности. Я не знаю, наступит ли сингулярность к дате, которая написана на экране, но то, что будет жесткая турбулентность до этого времени, это я гарантирую. То, что я говорил и рассказывал в свое время про то, что управлять технологическим развитием чрезвычайно сложно и история человечества знает не одну и не две истории, когда после блестящего технологического роста самые великие цивилизации обращались в руины за достаточно компактный срок. И на данный момент нет ни одной причины полагать, что это же не постигнет нашу цивилизацию в текущем состоянии. Хотя, конечно, мы можем надеяться, что нашей разумности хватит на то, чтобы максимально минимизировать ущерб, связанный с тем, что мы развиваемся быстрее, чем осознаем, что мы, соответственно, делаем. Хотя весь этот год только усилил у меня понимание, что в способности людей, управляющих мировой политикой и экономикой, управлять в ситуации, когда технологии развиваются быстрее, чем они понимают, они все-таки сильно отстают. И, похоже, благодаря всем тем, кто сейчас стоит у руля в мире, мы все-таки влетим в какой-нибудь кювет на следующем повороте.
Второй важный момент — это то, что мы уже приблизились к глобальному кризису идей и понимания, что мы делаем вообще, то есть тот запал, который провозгласила Великая французская революция, он исчерпан чуть более чем полностью. Мы вообще не понимаем, как должно быть устроено человечество, и все политические идеи и все политические смыслы либо обанкрочены, либо поставлены под очень серьезное сомнение. И при этом всем в мире появилось сразу несколько цивилизационных лидеров, возродившихся из пепла, на самом деле, кто живет в парадигме, которая не осмыслена сейчас культурным языком. Возникают совершенно восхитительные кентавры, типа ультрарыночного коммунистического государства и так далее, то есть ни в одну парадигму это не вписывается. Парадигмы будут меняться: склад ума, склад мышления, представление о настоящем, вообще о том, кто мы и что мы, должно сильно измениться. Представление не только о том, что такое национальность и государство, представление о том, что такое человечность, тоже будет меняться.
И в этой связи я, конечно же, полагаю, что будущее связано с технологиями, но с технологиями не только железными и с технологиями не только теми, на которых мы традиционно делаем деньги. Реально будущее зависит от того, как быстро мы нарастим пласт организационных, гуманитарных технологий, технологий управления, технологий понимания, кто мы, что мы, и как этим всем управлять, и куда двигаться. И история показывает, что на самом деле рывки происходят не тогда, когда наступает критическая численность технологических инноваций, а когда возникает осмысляющие их управленческие или социальные инновации, которые дают возможность управлять и двигаться управляемо вперед на том фундаменте технологических разработок, которые накопились. Сейчас технологии сильно забежали вперед, и придется компенсировать то, что в голове.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Тогда второй круг: выбор одного из тезисов, которые были озвучены, его развитие в течение минуты.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Я возьму одну тенденцию, которую я заметил у разных выступающих, и начну с ней дискутировать. Итак, я считаю, что уже в начале XX века, по крайней мере, европейские интеллектуалы поставили вопрос: а что, в принципе, может противостоять технике и науке? Освальд Шпенглер или Мартин Хайдеггер задавались этим вопросом, потому что то, что сегодня описывается нашими друзьями, например, Княгининым — это сложность, которая как бы вытесняет человека. То, что описывается еще рядом участников здесь, мне кажется, это такая тенденция к деперсонализации. Мало кто верит в то, что человек способен нести нагрузку понимания сложных систем. И это призыв кооперирования и так далее. Так вот, какой бы призыв кооперирования ни звучал, личность — это более сложная конструкция, чем любая система. Мы как-то забываем про это, потому что мне кажется, мы провалились в такой философский бекграунд. Мы его недорабатываем. Личность — более сложная конструкция. Поэтому мне ближе высказывание Ковалевича, который фактически нагло заявляет, что то, что сегодня спроектировали предприниматели, то и будет завтра. Это мне, конечно, напоминает анекдот про семью Рокфеллера: сидит большая семья за большим столом; и мужчины спорят накануне Первой мировой войны, будет мировая война или не будет. И вдруг бабушка говорит: «Мужчины, перестаньте. Дадим денег — будет мировая война, не дадим денег — не будет мировой войны». Также, собственно говоря, и будущее представлено в отчете Дениса Ковалевича.
И, соответственно, я считаю, что в это же место бьет и Евгений Кузнецов, который говорит про отставание понимания. Вот это депрессивное понимание больших процессов — собственно говоря, мы на это и отвечаем. Был первоначальный вопрос о том, что нужно делать. Мы это делаем. У нас в январе будет очередная игра на тему «Технологии мышления». Я делаю ставку на технологию под названием «антологизация». Мне это нравится, я с группой людей над этим работаю. Антологизация — способность быстро производить рабочие антологии, которые позволяют удержать вот это, собственно, личностное и персональное.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Добровольное или принудительное?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: А есть разница?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Вот это меня и пугает.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Честно говоря, был homo aviator — человек путешествующий, а думаю, что сейчас есть homo maker — «что можешь, то сделаешь». Конечно, можно мечтать о чем угодно, но, если ничего сделать не способен, собственно говоря, умри в мечтах. Это тезис номер один. Тезис номер два…
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Чей?
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Мой.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: А вы не можете сейчас свой брать. Вы должны взять чужой и его развить.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Когда мы обсуждаем, способны ли мы построить новые социальные процессы, способны ли мы промыслить гигантский, доступный нам сейчас объем информации и гигантский, доступный нам объем действий других людей, когда мы заявляем, что мы не способны это сделать, говорим только об одном: мы, находясь в данном времени, обладаем ограниченным инструментарием мышления и действия. И если мы откажемся от того, чтобы захватывать эти инструменты, осваивать это время и мыслить, то это называется «умри в слоновой башне размышлений внутри себя, созерцая себя» и, собственно говоря, на этом можешь просто в пещере окаменеть. Это первый момент. Второй момент, который всегда нас подстерегает, в том, что самые большие консерваторы — это революционеры, потому что они совершают революцию, считают, что добро победило зло, и на этом готовы сидеть, пока не заплесневеют. Надо помнить, что любого революционера, как Оливера Кромвеля, выкопают из могилы и обязательно повесят несколько раз, потому что придут другие революционеры. Есть книжка «Революция инженеров». Вот они совершили революции и умерли, потому что пришли «манагеры», осуществили революцию и их забыли. Йозеф Шумпетер, конечно, вывел предпринимателей, и казалось, что все, это предприниматели — навечно те, кто двигают будущее. Боюсь, что в 2035 году будущее будут двигать другие истории. И с этим надо будет разбираться. Тезис номер два в этом смысле: самые большие консерваторы — революционеры. Совершив революцию, они считают, что окончательно и бесповоротно добро победило зло. Ну, надо помнить, что вас обязательно выкопают и стопроцентно повесят. Уже как скелет.
ИСАК ФРУМИН: Мне показалось действительно парадоксальное суждение Дениса Ковалевича интересным, я про него стал думать. Все было интересно, во-первых, коллеги, как-то политически некорректно мои товарищи высказались. Я должен сказать, что все тезисы мне понравились, я готов их развивать. Но остановлюсь на тезисе Дениса и Жени Кузнецова, потому что они оба мне понравились, но они конфликтуют. Мне тоже кажется — это, кстати, связано с суждением Сергея Градировского относительно человека — грубо говоря, будущее — это про то, насколько сильным становится человек, насколько он становится энергичным, насколько у него драйв появляется. Предприниматель — это человек с драйвом. С другой стороны, вот Евгений, он фиксирует совершенно очевидный такой, несколько пессимистический взгляд на будущее относительно того, что оно настолько усложняется, что, если такой драйв появится, грубо говоря, вот этот самый драйв все и угробит. В советское время, кстати, была такая шутка: что опаснее дурака? Дурак с инициативой. И в этом смысле я пытаюсь развить Женин тезис, думая, что вроде бы тогда единственной возможностью становится ограничение влияния. Вот куда у них дотягивается рука, там пускай кончается их сфера. А в этом смысле такие инструменты продления влияния, как армия, контроль за средствами массовой информации — эти инструменты должны быть вынуты из человеческих рук и, может быть, просто ликвидированы.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я понял: на каждого активиста-предпринимателя должен быть тормоз-чиновник, и тогда есть баланс. Я вот эту картину представил себе, если нынешним предпринимателям дать в руки хрупкие игрушки.
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ: Во-первых, спасибо, Исак Давидович, за то, что как бы помогли доформулировать то, что я хотел сказать. Я в этом смысле отнесусь к тому, что сказал Женя Кузнецов, и к тому, что говорили про время вообще другие участники дискуссии. Безусловно, вопрос о разнице темпов действий и темпов развития собственного мышления и понимания является ключевым. Если взять мою практику и посмотреть, что такое стартап и какая главная проблема в стартапе, то в стартапе самая главная проблема — это различие скорости инвестирования, то есть увеличения темпа деятельности этого стартапа и скорости разворачивания твоего понимания того, что, собственно, надо делать. Если ты слишком быстро инвестируешь, то ты попадаешь в засаду переинвестирования и теряешь практически все, что ты проинвестировал сверх того понимания, которое у тебя есть. Если ты недоинвестируешь, то твое понимание зашкаливает, и получается как бы обратная ситуация: тот, кто занимается этим, бросит заниматься тем, чем он занимался. И, собственно говоря, мне кажется, что разные позиции по-разному работают со временем. Вот те, кто занимается технологическим предпринимательством, они таким образом работают со временем. И в этом смысле синхронизируя процессы развития, темпа развития мышления и темпа разворачивания деятельности, они, собственно, определяют время из своей специфической работы или позиции.
Поэтому чрезвычайно важны обе стороны. Чрезвычайно важно не понимать слишком много про технологии, то есть не быть таким технологическим макроцефалом, гиперцефалом, который как бы все понимает и с этим пониманием ничего сделать не может, и одновременно работать над технологиями мышления. Здесь то, что сказал Сергей, на 100% ложится в мою ориентацию. Двигать этот процесс одновременно с разворачиванием действий. Насколько это будет синхронизировано, настолько и, собственно, время будет собрано. Насколько это расфокусируется, разбалансируется, настолько и происходят все те эффекты, которые мы видим в разных проявлениях: социальных и других.
Спасибо.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Дмитрий, пожалуйста.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: На самом деле мне проще всего, потому что за меня-то мою речь почти сказал Женя Кузнецов. Мое дело только подпевать, что называется. То, что он сказал, и возникновение неких коммуно-либеральных химер, кризис системы институтов и прочего действительно знаменует собой то, что мы находимся на грани одного большого проекта — причем большого проекта модерн — и никак не можем это понять. Ведь кризис состоит даже не в проблеме институтов, а в проблеме антологии и проблеме понимания человека, который стоит за этими институтами. И главная проблема в том, что нам одновременно предстоит понять, как в будущем устроен баланс между человеком, которому предстоит измениться, основными христианскими представлениями о человеке и личности, представлениями ислама и, скорее всего, иудаизма. Потребитель умирает, породив при этом довольно странный феномен белого человека, боящегося смерти и ради этого создающего целый цивилизационный рывок в технологиях медицины, долголетия, хранения информации о себе любимом и так далее. Как будет устроена традиция и культура, к которым адресуется человек? Потому что сейчас мы видим, как в исламском мире просто развертывается проект неоархаизации, в ряде случаев убивается их собственное представление о модели развития. Именно в тех местах, где был шанс двинуться вперед, там наиболее странные феномены: восстановим Средневековье, восстановим правосудие. И технологии, потому что мы впервые получили возможность технологизировать самого человека, причем и извне, то есть получить возможность создать манипулируемого человека, и изнутри, то есть мы еще можем — или вот-вот сможем — создать человека, специализированного к тем или иным действиям. И совершенно не факт, что эта специализация не будет навязываться извне. Скорее всего, будет, конечно.


В этих рамках предстоит понять, как может быть устроено общество, в котором для удовлетворения основных потребностей человечества в целом достаточно, может быть, 20 миллионов работников. Сейчас вот Игорь Агамирзян говорит, что для развития ИКТ в целом достаточно миллиона человек в мире. Скорее всего, для остального производства 20 миллионов на круг хватит. Остальные шесть миллиардов — они при чем здесь? И вот это некий набор. И ключевой — это некое согласованное развитие, перебалансировка человека, что и будет как-то определять повестку, в том числе будет определять и структуру институтов, структуру целей, может быть, конфигурацию союзов и мест в этих союзах тех высказываний, которые мы будем предъявлять миру: консервативные ли они, про развитие ли они, про консервативное ли развитие или про что бы то ни было еще.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Шесть миллиардов лишних людей и 21 миллион белых роболюдей, боящихся смерти. Бронислав Виногродский, чей тезис берете?
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Чей-то коллективный. Вообще будущее и разговор о будущем — это разговор о системах описания. И, собственно говоря, все настоящее в системах описания, возникшее из каких-то базовых текстов, таких, как иудейское пятикнижие, ведическое пятикнижие и китайское пятикнижие, сохранившихся на данный момент типов дискурсов, породило всю эту огромную технологию описания самого себя, побочным продуктом которой явилась кибернетизация и система описания сознания в рамках кибернетической модели в конечном счете. Поэтому я вижу единственный ход — через возвращение к истокам, потому что речь идет постоянно только о деривативах, а по сути действительного системного научного исследования источников и составных частей современного дискурса не начиналось и не производилось. Между тем существует методология, великолепная, разработанная, в том числе и кибернетическая, которая должна, основываясь на базовых каких-то методологических принципах семантики, семиотики и генетики, нейрофизиологии, квантовой механики, переописать эти тексты. И вот только тогда вообще будет понятно, куда оно все едет, вот тогда оно начнет ехать. Пожалуй, я об этом скажу.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я понял, надо Уотсона напустить на три пятикнижия, и он тогда даст нам ответ.
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Уотсона надо научить читать, для начала.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Правильно.
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Вообще читать. Читать можно только правильно.
ПАВЕЛ ЛУКША: Как говорил чекист Яков Агранов, «на белую и черную магию мы должны ответить нашей красной магией», с чем я в принципе согласен, что это часть задач. Не единственная задача, но часть задачи. Мне хочется в этой связи ответить на то, что говорил Евгений Кузнецов и, может быть, как бы увязать с тем, что говорил Владимир Княгинин: да, турбулентность, да, будет только хуже в этом смысле. И мы уже потеряли управление. Мы просто сейчас начали это осознавать. Единственный способ, в каком смысле восстановить контакт с этой реальностью, — это начать стремительно порождать из себя принципиально другие практики, забывающие в чем-то или возвышающиеся над тем, что породило европейский ум, потому что, конечно, европейский ум не может ухватить то, что мы сейчас уже имеем. И в этом смысле век модерна закончился. А новое явление, то есть экосистемный, например, подход или способ управлять этими коллективными образованиями, которые множатся, проявляются, тут же исчезают, это то, что уже неизбежно, то, во что мы входим. И, видимо, этот стремительный генезис, генерация, может быть, большого количества новых человеческих практик и будет нашей задачей следующего шага.
И часть этих практик, кстати сказать, будет как раз в том, что мы начнем копать обратно к корням. К примеру, мы входим в эпоху, когда мы будем вынуждены учиться всю жизнь — всегда и везде — и уже сейчас становится ясно, что нет лучше проработанных моделей обучения всю жизнь, чем, например, было в Веданте, иудаизме и у доколумбовых индейцев. У них были системные очень практики работы с обучением всю жизнь: от рождения ребенка и до самой смерти человека. Это часть ответа, но не единственный ответ, потому что мы должны изобретать новое. И в этом смысле точкой становления нового будут сообщества, в которых есть те самые предприниматели, рядом с ними — энтузиасты, дети, многие другие. Здесь я с Ковалевичем не соглашусь тоже, кстати, что будущее будет освоено не предпринимателями, а сообществами, которые будут выделять из себя предпринимательскую функцию по освоению будущего.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: То есть в РЭПе ты ставишь не на буку П, а ну букву Э?
ПАВЕЛ ЛУКША: Я еще на букву М — красные маги.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я вот позволю себе чуть вернуться, вспомнить, что я тоже лектор, заметить, что, когда мы говорим о социальных движениях и о противоречиях между социальными и технологическими движениями, то мы видим, как социальные движения, которые являются архаичными по своей сути, которые целью своей ставят глобальную архаизацию, прекрасно пользуются наилучшими и последними достижениями технологической революции. И ИГИЛ (запрещенное в России) не было бы так эффективно, если бы оно с таким удовольствием не использовало механизмы «Инстаграма». А они прекрасно строят модель Уммы 2.0 мусульманской, со всеми ее ужасами, вот в этом ужасном ее представлении, основанной на новейших технологиях: соответственно, видеозаписи, выкладки и управление сложными социальными объектами через «Инстаграм». Мы знаем, что у нас даже глава одной из наших российских республик тоже такую модель управления через «Инстаграм» использует, поэтому здесь не вижу этого противоречия.
Коллеги, дальше продолжаем точно так же: вы подхватываете тезис из тех, что уже прозвучали, но не в дискуссии, стараемся идти дальше. Что дальше? Вот этот поезд, он несется, за ним — сингулярность, она же турбулентность, она же пропасть. Ктото говорит: «Давайте сложные практики выращивать», — это один ответ, который я здесь услышал. Другой ответ: «Давайте, пока поезд несется, разберемся с тем, что у нас внутри и вообще из чего наш поезд состоит». А он уже туда идет. Третий говорит: «Давайте мы жить будем дольше, возможно, все сгорим в пламени атомного взрыва, но в последнюю секунду своей жизни будем пить хорошее тридцатилетнее вино». Вот куда?
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я продолжу в рамках первого круга. Раз уж задан канон, то буду действовать в нем и противопоставлю две мысли, высказанные Денисом Ковалевичем и Павлом Лукшей. На мой взгляд, вся история развития социального представления о человеке — это постоянно увеличивающаяся дистанция между пониманием человека как личности, способности его к самостоятельным поступкам и понимания общества как коллективного субъектам, которое движения какими-то общими целями и какими-то общими принципами. Чем больше появляется технологий, например, сначала письменность, потом какие-то печатания, потом газеты, потом радио, телевидение, сейчас интернет, тем больше вырастает эта пропасть между способностью человека вообще быть самим собой, а не каким-то субъектом, который манипулируется и управляется, вообще говоря, извне. Если картинка с телевизором, и мы вроде как себя убеждаем, что телевизор на нас не влияет, но нами еще не осознается влияние того, что сейчас принесли гаджеты и интернет. Я помню, приводил этот пример на лекции, когда Facebook поставил знаменитый эксперимент, на 5% поменяв эмоциональный окрас публикаций, тем самым добившись качественного изменения настроя читателей. Достаточно на 5% подкрутить позитив или негатив в ленте, чтобы ввести человека либо в позитивное, либо в негативное мироощущение, то есть мы в этом смысле все — на ниточках, все на проводках. И что в нас — нашего? Это очень большой вопрос.
В этом смысле Дмитрий Песков абсолютно правильно сказал, что закончился модерн. И то, что мы сейчас называем постмодерном, когда мы уже не способны придумать ничего нового, а способны только комбинировать, — это та эпоха, которую нам надо перешагнуть. И перешагнуть мы ее, действительно, можем только каким-то импульсом. Импульсом абсолютного, может быть, даже иррационального творчества. И в каком-то смысле то, что подпитывает те же самые террористические и другие группировки, это желание совершить какой-то рациональный акт по отношению к порядку, который их кардинально не устраивает. Именно потому возникает такое абсолютное представление о терроризме, потому что оно на самом деле дает ответ на ключевой вопрос о бессмысленности всего происходящего. Поэтому на него так легко покупаются, например, жители благополучных стран, они из Лондона едут воевать в Сирию не просто потому, что они бедные, но они не понимают будущего, они хотят бросить ему вызов. Это очень опасная история; мы в нее попадаем и расползаемся. А в этом смысле предприимчивость дает какой-то вызов, именно поэтому предпринимательство становится актом вызова, именно потому к нему обращаются. Но наша способность понять, ради чего это все, сейчас под большим вопросом. И поэтому за способность быть самим собой и понимать вообще, кто я, есть ли во мне что-то мое, на самом деле каждый день приходится бороться.
Это, на мой взгляд, главная особенность времени.
И чем дальше, тем страшнее.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Начну с вопроса Жени Кузнецова: что в нас — нашего? Я просто думаю, что это древний вопрос. У меня был период, когда я изучал всю эту историю психологии и психотерапии, я помню XX век, как вдруг эти социальные философы, психологи уже начали обсуждать тему, что раньше традиция и инстинкт говорили человеку, что должно и что можно делать, сейчас никто не говорит. Отсюда они выводили эту массовую потерю человеческого достоинства и потерю ориентира в жизни. Что в нас — нашего? Еще раз скажу, это самый древний вопрос. Можно спорить, насколько технологические вещи обостряют его, но я точно знаю, что это не новый вопрос. И в этом смысле мы возвращаемся опять к способности человека противостоять; дальше идет перечень — чему противостоять. Я называл технику и науку, для меня это было важно, в залоге технологического предпринимательства, которое здесь много обсуждается, но точно так же можно увести это в другую сторону — в способность противостоять коллективу, семье, социальности как таковой, левиафану государственности и даже самому себе, то есть выращивать из самого себя хоть какую-то личность.
Была реплика про долголетие. Мне она важна. Вот представьте, что долголетие — это не про страх смерти, долголетие — это про мужество быть. Вы способны от переизбытка силы желать большей жизни. Про мужество быть передается тоже старым анекдотом: «Изя, ну почему нам все так тяжело дается?..». И это про мужество быть: вот это все, которое мы тащим на протяжении 120 лет. Я, когда говорю про 120-летнего человека, проповедую о 120-летнем человеке, я говорю не про испуг белого человека перед темной реальностью смерти, а я говорю про избыток жизни, про избыток задач, про желание вновь и вновь повторить эксперимент над самим собой, про Предпринимательство с большой буквы. Предприниматель — это ведь тот, кто способен вырваться из потока повторения, из дня сурка. Предприниматель ломает схему, которая делает тебя рабом вневременности, и поэтому, собственно говоря, будущее — это то, что резко противостоит вечно длящемуся настоящему. Будущее и слово «быть» — это однокоренные вещи. Будущее — это призыв к человеку: стань, будь тем, кем ты обязан стать, и что в тебе заложено. Вырваться надо. И в этом смысле вот такой выделяющийся, вырывающий себя из всего человек, в том числе из коллективного мышления, — это и есть тот человек, который способен собрать в себе самом целостную картину мира. И в этом смысле оказаться в будущем. Не потому, что оно вытекает из прошлого, а потому, что оно принципиально противостоит любому прошлому, любому настоящему.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Сергей, когда ты говоришь про этих людей, это 21 миллион или шесть миллиардов?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Вы понимаете, это единичные случаи.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Стодвадцатилетних?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Это единичные случаи. Сколько их будет? Подожди, а зачем тебе переход в статистическую действительность? А какая разница?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: У меня есть внутренний вопрос тогда: если шесть миллиардов активных 120-летних предпринимателей, то какой шанс избежать всеобщей атомной войны?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Действительно, а к чему еще предприниматели ведут? Знаешь, какой подход меня смущает все время? Откуда-то у нас есть такое представление, что все должны работать, откуда-то есть представление, что, если у тебя из шести миллиардов один миллиард занят делом, то это катастрофа. Да это лучшее положение дел.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Я даже не знаю, что говорить. Тут такого понаслушаешься, что как к этому отнестись — просто оторопь берет. Ты, кстати, соткан из штампов европейского мышления: сначала «Мужество быть» Телиха помянул, потом «Философию настоящего» Мида процитировал, потом, собственно говоря, кучу вещей из хрестоматии утопического социализма, Оуэна там помните, этого: серафимы и серафимки, херувимы и херувимки, и прочее, и прочее. Сплошное сборище штампов вполне европейского мышления. Но такой крутой замес, приводящий еще к тому, что, грубо говоря, в будущем часть людей не будет работать, а будут просто питаться. Я их сейчас видел. Они стоят на улицах Сан-Франциско и толкают друг другу траву. Полностью не работают, только просят. Хорошее будущее у этого человечества, если у них поражены речевые центры и ноги плохо работают, поскольку наркотики первым это поражают. Но возвращаюсь к твоему тезису, собственно говоря, мне больше нравился Бронислав Виногродский, я даже думал, как бы отнестись к его тезису о времени, потому что в европейской традиции и культуре Бог — великий часовщик, по крайней мере в той культуре, которая связана в какой-то момент с протестантским переходом. Бог — великий часовщик. А англичане, которые были так себе, посредственной нацией, жили на своем острове, ели эту овсянку, овес ели только лошади и англичане, больше никто из приличных людей этого не делал. В какой-то момент эта нация совершила промышленный рывок за счет того, что, собственно говоря, французские власти стали оказывать гонение, в том числе и на часовщиков. Часовщики поднялись и переехали в Англию, где их приняли, и где они стали делать очень сложные вещи: запасать сложность, потому что часовой механизм запасает сложность.
И вот эта история, после которой, кстати говоря, англичане и сделали промышленную революцию. Будущее принадлежит тем, кто его делает. Не можете ничего делать, вы можете что угодно рассказывать, но будущее принадлежит сейчас тем, кто его делает. Оно последние, не знаю, сколько лет, принадлежит тем, кто его делает. Более того, если относиться к Миду и его «Философии настоящего», прошлое переписывается тем, кто делает будущее. И в этом смысле к каким истокам мы собираемся вернуться? Да они все время переписываются теми, кто делает будущее. В этой истории, собственно говоря, самое опасное для нас — это перестать делать, увлечься чем-то, что лишает нас возможности хоть что-то сделать в этой жизни.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Руками?
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Слушайте, в том числе и руками. Но дело в том, что разделение между софтом и хардом — оно условное. Каждый раз, когда вы делаете софт, в нем впаяна формула харда, и софт без харда не существует. Бессмыслица. А хард без софта — не более чем неодушевленный, несуществующий предмет, он становится артефактом только тогда, когда мы в него вдохнули вот эту вот софтовую часть. Но, честно, я еще раз говорю, я слушаю эти коннотации, которые бродят… Я вроде бы должен быть книжным червем, а слушая вас, я думаю: вот книжек-то поначитались, такими штампами лупите, что просто сознание останавливается.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Хорошо, тогда я вынужден признаться, что я, во-первых, еще несколько штампов скажу, а во-вторых, то, что я белый человек, который хочет долго жить и считает долгую жизнь единственной фундаментальной ценностью — долгую жизнь человека. Я уверен, что средняя продолжительность жизни является самым главным, самым основным параметром оценки качества общества. Общество, в котором люди живут мало и бравируют тем, что они, как пелось в одной советской песне «За нее мы кровь прольем с охотой», — это общество для меня нехорошее, вот так я могу сказать. Это же вопросы ценности на самом деле. Но поскольку мы — те, кто хочет жить долго… Из этой ценности танцует следующая ценность: что мы драться не любим, не хотим. И, в данном контексте, я понял, кстати, какой смысл для меня имеет эта дискуссия. Извините, я тут сделал такую рефлексивную остановку, чтобы польза и для меня была какая-то. Вот мы сейчас обсуждаем в нашем институте образования, что нам надо дальше исследовать. И у нас был один уже мозговой штурм, сейчас будет еще один. И, вы знаете, все больше появляется голосов в защиту такой темы, которая была, к сожалению, испорчена несколько лет назад очень сильно, естественно, федеральной целевой программой соответствующей — это развитие толерантности. Но мы сейчас обсуждаем, как нам перейти к будущему мирному. Для нас мир, так сказать, а не агрессия, становится самостоятельной ценностью. И с этой точки зрения я черпаю очень много из сегодняшней дискуссии, особенно благодарен, действительно, Сергею, с подачи которого я жестко теперь свою позицию относительно будущего зафиксировал.
И мы, белые, которые хотят долго жить, кто-то из нас будет работать, кто-то из нас не будет работать. Я в своей лекции говорил о том, что у нас будет увеличиваться детство и молодость, и старость будет увеличиваться. Может быть, будет большее количество людей работать, но они будут работать в чистом виде меньший отрезок жизни. Вот такое будущее мы видим. А те, кто хочет производить, и тем более производить танки и ракеты, и хочет, чтобы ему будущее принадлежало, — посмотрите, какой оборот Княгинин использует: «Кому принадлежит будущее?». Вот те пусть нам хотя бы не мешают, а дерутся сами с собой.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: А почему вам не мешать, если вы не готовы отстаивать?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Дмитрий, у вас через одного будет возможность развить этот тезис.
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ: Во-первых, я полностью согласен с Сергеем Градировским, что ничего нового в технологическом развитии нет, мне кажется, что каждое поколение за последние 400 лет сильно преувеличивает роль этого технологического развития в своей собственной судьбе и жизни. Я думаю, если бы мы посмотрели на такую дискуссию, как сейчас происходит, 100 лет назад, мы бы увидели то же самое преувеличение: мы очень важную роль отводим этому процессу. Поскольку технологии стали тактильны, появляются очень рано в нашей жизни и все время сопутствуют нам, то нам кажется, что это очень важно. Но я все время говорю только об одном, что процессом, который лежит под процессом технологического развития, является процесс развития мышления, а он происходит порядково более медленно, чем нам кажется. Сложность того, о чем сказал Владимир Николаевич Княгинин, в том, что сделали часовщики в Англии, запустив проектирование. Способны ли мы сегодня это повторить? Не в смысле повторить проектирование, а в смысле того, чтобы создать свою технологию мышления, на которую дальше встанем ножками и начнем заниматься и другими видами технологий. Способны ли мы повторить эту сложность и сделать эту процедуру сами? Это еще большой вопрос. В этом смысле как технологии-то, кажется, что идут вперед, но наши с вами мыслительные технологии вполне могут идти назад.
И тут я, кстати, тоже разделяю не удивление, а беспокойство, потому что вот эта привычка сборки, то есть составления перечня вместо компоновки, — она точно совершенно присуща, по крайней мере, моему поколению. Мы очень хорошо умеем описывать то, что где-то услышали, и многие из вас, например, отсюда перепишут 30 тезисов, которые были сказаны здесь, и как бы нормально. Вот 30 тезисов — и в порядке. Но усилия по компоновке этого в действие — это совершенно другое усилие, нежели усилие по перечислению. В этом смысле, как говорил Ницше, веселое чудовище гораздо ценнее сентиментального зануды.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я хочу сказать единственное, что для людей, которые 100 лет назад вели такую дискуссию в Москве, эта дискуссия носила принципиально важный характер, и они не то чтобы не переоценивали будущее, они его кардинально, все, недооценивали, потому что 80% участников этой дискуссии погибли в ближайшие 20 лет после ее прохождения. А в некоторых ситуациях погибло 99%, в разных ситуациях, тех людей, которые в центре Москвы 24 декабря 1914 года обсуждали, соответственно, влияние технологической революции и социальных движений на свое общее будущее.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: На самом деле, может быть, я продолжу вашу мысль. Выход-то в том, о чем как раз говорил коллега Градировский. Если человек превращается в набор осколков, слабо связанных между собой и непонятно зачем существующих, тут начинается истинная скука смертная. Мало того, что он становится предметом всевозможных манипуляций, так он еще и теряет, собственно говоря, качества человечности. Поэтому тут важнейший социальный эксперимент-то был поставлен как раз большевиками, которые, при всем своем агрессивном антихристианстве, как раз пытались заниматься индустриализацией. Они внезапно продемонстрировали, что творчество — техническое, научное — это не предмет занятий мальчиков из хороших семей. На самом деле человечество — на тот момент, по крайней мере, надеюсь, что и на этот — не разделяется на породы, что крестьянин, прошедший стройку и вуз, способен быть вполне годным инженером, что рабочий, прошедший соответствующую подготовку, способен быть годным разведчиком. И эта годность проверяется жестко и непосредственно.
Собственно говоря, тут у половины такие семейные истории. С одной стороны, это давало повод сбить спесь с неоницшеанцев о том, что мы где-то даже сверхлюди, потому что у нас где-то пять поколений благородных предков, учившихся в университетах, а эти тут в «дерьме» копаются и не так пахнут. С другой стороны, это дало надежду людям, которые пятьдесят поколений копались в «дерьме» и не так пахнут, в том, что в общем-то можно подняться буквально до любых высот. И мне кажется, что, если какое-то будущее есть, оно в восстановлении вот этой возможности. Причем одновременно и на базе образовательных технологий, и на базе некоторого баланса между традициями, которые создают идентичность, и развитием, которое эти традиции делает живыми. Так что, воля ваша, но в европейских неоисламистах, которые отвергают не только образ жизни, но и само развитие, больше психиатрии, чем чего бы то ни было другого, на мой взгляд, просто вот так разрушается европейская личность. И, как сказал один мой давний знакомый, с крахом карательной психиатрии очень многие остались без адекватной медицинской помощи. Разумеется, я гадость сказал, но что-то в этом есть.
И не могу просто не заметить предыдущего оратора. Мы должны понимать, что человек толерантный, прежде всего, требует тоталитаризма, потому что защищать вас тогда должен не человек, а жесткая машина, которая принуждает других к ломке и определенному образу жизни. То есть вас защищает человек с ружьем: «Я защищаться не буду сам — тогда меня ешьте. Это честная позиция: отдаю свою жену, свою одежду, потом с меня шкуру снимают, делают из меня перчаточки». Либо я говорю: «Нет, я не хочу, чтобы из меня перчаточки делали, пусть человек с ружьем меня защищает. Но человек с ружьем мне не нравится, поэтому пусть меня защищает абстрактный закон, который будет в исполнении замечательных бюрократов лупить по площадям, желательно заранее кастрировать тех, кто не вписывается в жуткий стандарт граждан, которые не представляют собой никакой угрозы никому». Боюсь, что тут лекарство уж точно хуже болезни.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Хорошо. Меня пугает, что мы начали говорить про будущее, и нас начало прямо пожирать наше прошлое. И чем дальше мы пытаемся смотреть в будущее, тем больше мы апеллируем к кровавым аспектам прошлого. Это вот нас прямо утягивает. Но сейчас мы сделаем некоторое упражнение по этому поводу.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: 2014 год. Что вы хотите?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Ну да, я отреагировал. Я тоже такой же. У нас же коллективное сознание лектора сегодня.
БРОНИСЛАВ ВИНОГРОДСКИЙ: Опять я возвращаюсь к тому, что вообще будущее неважно, так же, как и прошлое. Важно равновесие по оси времени, которое проходит через душу каждого. И только когда появится возможность умения в общем поле делать это усилие, и это усилие станет неким критерием достижения успеха человека в жизни, тогда вопрос о том, как это будет, отпадет. То есть тогда наука способна будет действовать в методологии искусства, то есть искусство станет основным действием, которое будет производиться душой, коллективной, личностной или индивидуальной, и будет создавать не посредством знания, а посредством какого-то другого усилия. Я опять возвращаюсь к духу — равновесие на оси времени, проходящее через душу каждого.
ПАВЕЛ ЛУКША: Нет ничего более прекрасного, чем технологический прогресс, отбирающий у людей их работу. В том смысле, что да и черт с ним, зачем мы себя превратили в роботов? Зачем сделали это в какой-то момент добровольно, продав душу за кусок хлеба, что в принципе было оправданной сделкой?
Потому что, как сказал Исак Фрумин, большинство людей, в общем-то, принимало это на том основании, что «я белый человек, хочу жить сыто и долго». Но в какой-то момент мы выстроили ту самую систему порождения искусственной деятельности, которая нас может теперь спокойно заменить в большей части вот этих разных видов деятельности в экономике. Давайте туда дальше смело, с открытыми глазами двигаться, давайте как можно больше передадим техносреде, чтобы, наконец, освободиться от этой самой рутины и заняться тем, что мы, люди, собой представляем. Вот тем самым самопознанием, прояснением своих оснований, превращением себя в играющих людей, в познающих людей, в творящих людей. И в этом смысле надо рассматривать это движение, этот стремительный поезд не как угрозу, а как замечательную возможность. Давайте возьмем метафору волны. Да, это цунами, но на это цунами надо научиться просто сесть, аккуратненько, своей лодочкой, и поплыть, или, может быть, флотилией. И в этом смысле вот те самые практики опоры на себя — на человека — на свое сообщество и будут тем, что позволит нам это будущее оседлать. Надо к нему относиться с легкой душой.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Павел упрямо верит в шесть миллиардов «вечнозеленых» эльфов. Если дать шести миллиардам людей свободу, то они не убьют друг друга, а займутся саморазвитием.
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я опять вернусь к заданной рамке, буду относиться к высказываниям. Этот круг начался с тезиса о том, что технологии ничего не меняют. Среди выступающих — ни одной женщины. Половина в зале — девушки, женщины. Я приведу свой любимый пример. 200 лет назад средняя женщина рожала раз в 2–3 года, происходило это 8, 10, 15 раз, и, кроме как рожать, прийти в себя и немножко работать на этом фоне, ее ни на что не хватало. Потом появилась сначала санитария и гигиена, которая привела к экспоненциальному росту, расселению и колонизации как минимум Северной Америки. Потом появился антибиотик, который начал спасать детей, умирающих в младенчестве. Потом появились контрацептивы. Сейчас средняя женщина рожает 2–3 раза, делает это осознанно, а все остальное время может заниматься тем самым саморазвитием и творчеством, о котором здесь все говорят. Вот теперь объясните мне, насколько технологии меняют или не меняют человеческую жизнь?
И далее. Когда я проводил лекцию, началась очередная «движуха» на Украине.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Это было когда?
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я не помню. А «движуха» весь этот год все время, поэтому можно спокойно апеллировать. Это вернуло лично меня к вопросу, который задавали 60–70 лет назад: как можно из приличных европейских жителей европейского государства за очень компактный срок сделать зверей? Вот мы сейчас видим людей, живущих в абсолютно антагонистичных реальностях, абсолютно озверевших и готовых на абсолютно бесчеловечные действия. Это было сделано за очень короткий период времени благодаря интернету и телевидению. Вопрос, насколько человек способен к собственному поведению, а насколько он — коллективное животное, которое гонится вперед определенными импульсами, задан
«в полный рост». Поэтому говорить о том, что технологии ничего не меняют… Религиозные войны своего времени, если почитать книжки, охватывали значительно меньший процент населения, которое воспринимало все это как возню сеньоров и как повод совсем уж оголтелому сброду собраться в какую-то банду и поплыть куда-то через океан. А все остальные как занимались, например, дойкой коров, так и занимались. А сейчас это не так. Поэтому технологии нас все-таки очень сильно меняют. И на шесть миллиардов эльфов придется как минимум столько же гоблинов…
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: И закончится это битвой пяти армий.
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Да. И поэтому надо понимать, что наши битвы за человечность только начинаются. И последний, очень маленький тезис. На мой взгляд, большая часть технологий, которая сейчас связана с гуманитарными технологиями, начиная, например, с компьютерных игр, — это технологии утилизации ненужных людей. Людей производится больше, чем нужно. Технологии снижают потребность человека в труде. Твой труд становится эффективным: если ты делом занимаешься, то ты можешь трудиться, достигать существенно большего. Поэтому одна из основных задач современной цивилизации — людей чемто занять, чтобы они, грубо говоря, не начали делать то, что обществу опасно. И это превращение людей в достаточно управляемое сообщество — с управляемыми ценностями, с управляемыми желаниями, которое можно по методике геймефикации направлять в ту или иную сторону, — это вот тот момент, который сейчас переламывается. Людей, способных жить своей головой, мне кажется, сейчас становится все меньше — это очень важный challenge, — потому что это не нужно. Раньше нужно было жить своей головой, как-то выкрутиться и выжить. А сейчас не требуется. Сейчас тебя удержит социальная ткань, сейчас тебе объяснят, что делать, дадут тебе лопату и далее по тексту. Поэтому мне кажется, что технологии нас, конечно, очень сильно поменяли. И бороться за себя становится сложнее.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я хочу напомнить, что, если мы говорим про средние века, то технологии в средние века и их развитие едва не уничтожили все население средневековой Европы, потому что именно благодаря технологиям, а именно — технологиям компаса, технологиям пеньки и работы со сложными парусами, математике и расчетам — чума в XIV веке доплыла из Крыма до генуэзских портов очень быстро. И то, что раньше распространялось десятилетиями, за счет технологий едва не уничтожило всю средневековую цивилизацию. Это я говорю к тому, что мы много раз проходили этот кризис, который мы сегодня называем большой красной кнопкой. Каждый раз мы к нему все ближе. Чем глубже мы смотрим в историю, тем более кровавые примеры. Мы подходим к завершению нашей сегодняшней коллективной лекции. У нас будет один очень короткий круг сейчас.
Справа от Бронислава Виногродского представлен такой эксклюзивный — даже у меня еще нет ни одной книжки, я их тоже вижу первый раз в таком варианте — это наш доклад о будущем глобального образования на ближайшие 20 лет, который мы вместе с коллегами из Сколтеха подготовили. У меня просьба, после того как лекция закончится, взять каждому по одному экземпляру. Это будет тест на вашу способность этически прожить следующие 20 лет.
Все же возвращаемся к деятельности.
ПАВЕЛ ЛУКША: Надеюсь, что мы не провалимся.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Вот мы как раз, Паша, и проведем эксперимент, кого больше, эльфов или гоблинов, даже здесь, в такой продвинутой аудитории. У меня есть последний вопрос ко всем выступающим. И мне бы хотелось его сделать в позитивном залоге. У нас сейчас некий университет, в хорошем таком, средневековом понимании: мы пришли, собрались вместе, по желанию, и разговариваем о будущем, и учимся, как такое студенческое сообщество, друг у друга. Этот горизонт, который для себя видим, это горизонт активного жизненного поколения — 20 лет, такие четыре пятилетки, говоря советскими аллюзиями: первая пятилетка, вторая, третья, четвертая… Вот горизонт 2035 года. И мы хотим начать в следующем году такой проект, который так и будет называться «Университет 2035». Вот если все-таки — Денис Ковалевич может не отвечать на этот вопрос — говорить про 2035 год, назовите мне одну вещь, которой нет сегодня и которая, как вам кажется, будет в 2035 году. И это будет хорошо для всех нас, желающих жить долго, счастливо, активно и менять мир. Вот что позитивного вы в эти 20 лет увидите такого, чего в предыдущей истории человечества не было? Что мы увидим, какие будут у нас источники для оптимизма, чтобы преодолеть хаос, темную Москву, похожую до безумия на сердце Мордора, где эти источники оптимизма в ближайшие 20 лет будут расположены, где нам их искать? Что нового?
Еще раз, лекция о будущем. Не говорите мне, пожалуйста, что мы вернемся к истокам, еще раз их перечитаем, и будет хорошо. Это универсальный рецепт, и мы его все знаем. Что нового мы найдем в эти 20 лет? Что мы откроем, какие Америки, внутренние или внешние, которые дадут нам источники для оптимизма, чтобы нам захотелось прожить не 120, а 140 лет или даже большее количество лет? Можно инициативно отвечать на этот вопрос, если у кого-то это отозвалось. Я начну с лекторов, а дальше мы продолжим с залом.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: На самом деле очень интересное, но странное окно создает развитие квантовой информации и когнитивных технологий одновременно, то есть возникает некое партнерство, когда, с одной стороны, мыслящие машины могут дать действительно ответ на любой вопрос, а не тот, который я правильно сформулирую в Google. Где бы еще найти в Google учебник, как правильно формулировать эти вопросы? Но я сам, может быть, смогу ответить почти на любой вопрос, который только может измыслить цивилизованный человек, путем некоторого напряжения себя. Это очень классно.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Искусственный интеллект. Мы им будем гордиться, любить…
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: Искусственный и естественный в параллели.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Естественный искусственный интеллект.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: Если только искусственный, то это плохо кончится.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Да.
ПАВЕЛ ЛУКША: И вот на этом замечательном основании возникнет сеть, связывающая между собой такие человеческие и искусственные интеллекты в единое целое, а еще с интернетом вещей; и мы войдем в по-настоящему разумную среду. И я думаю, что, достаточно быстро отыграв в ней когнитивные войны, выйдем к следующим, пока непонятным для нас горизонтам человеческого развития.
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Я опять же в заданном залоге вернусь к тому тезису своей лекции о сфере достижимого. Мы уперлись в сферу достижимого достаточно давно, когда заполнили весь шарик, когда, в общем-то, все изучили. И даже обогатились другими культурами, начали заниматься йогой, становиться белыми буддистами. Нам больше нечего достигать, мы все, в общем-то, знаем. Даже копаться в себе тоже, по большому счету, скучно. Я надеюсь, что к 2035 году мы этот пузырь прорвем. Будет ли реальное освоение какого-то ближнего как минимум космоса, или это будет все-таки множество искусственно созданных миров, будь то виртуальные миры или социальные миры, будут ли это те самые эльфы, которые наконец-таки получат политические права и будут жить в своих абсолютно законных правах и так далее… Но у нас точно будет множественность реальностей, множественность возможностей, и мы свою сферу достижимого резко раскроем. Мы сможем жить не только нашими вариантами, это будет прорыв, которого мы не знали уже лет, наверное, 300.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Я, кстати, один тезис озвучу. Не знаю, есть ли в вашей заветной Красной книге супервайзеры мышления?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Есть, не волнуйтесь.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Судя по всему, к 2035 году значительное количество людей признает, что мышление существует, и что они почти не попадают в мышление, подменяя знанием, еще чем-то… И тогда понадобятся супервайзеры мышления. Но как бы относясь к технологической части, мы сотканы из страхов наступающего вот этого big data и всего, что сделано. Надеюсь, что к 2035 году мы с этими страхами расстанемся и начнем бояться чего-то другого, а с big data мы просто будем жить и уметь в связи с этим работать.
ИСАК ФРУМИН: Два момента. В 2035 году еще раз увеличат пенсионный возраст и, более того, те, кто уже успел уйти, как я, их обратно позовут заниматься полезным трудом.
ДМИТРИЙ БЕЛОУСОВ: Да просто отменят пенсию.
ИСАК ФРУМИН: И мы, конечно, с тобой будем жить еще. И второе. Я уверен, что нас ждут совершенно невероятные прорывы в обучении, причем массовом. Исполнится очень важная мечта — это не мое пожелание, об этом, собственно, писал Песталоцци, — что каждого ребенка можно будет научить понимать и любить хорошую музыку. И это будет очень важно.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Думаю, будет такая наносборка от молекулы, а не путем минимизации существующего, и в этом смысле действительно будет безотходное производство. Я надеюсь, что медицина поменяет свою базовую модель и начнет зарабатывать не на том, чтобы поддерживать вечно больного, но не умирающего пациента. И, думаю, сформируется какое-то совершенно новое отношение к биологическому телу, и люди начнут массово практиковать жизнь в разных телах, не только биологическом.
ДЕНИС КОВАЛЕВИЧ: Единственное, что я из своей позиции вижу, это то, что подавляющее число рабочих мест к 2035 году будут в компаниях размером от пяти до семи человек.
РЕПЛИКА: Чай все будут пить. Я просто поразился точности: в 2035 году — от пяти до семи. Это как?
Это просто супер.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: А это предприниматель: он как захочет, так и будет, независимо от вашего желания.
СЛУШАТЕЛЬ 1: К 2035 году, вполне вероятно, может появиться технология быстрого принятия всем человечеством некоторых решений на основе консенсуса, то есть тогда, принимая быстрые решения, можно освободиться от необходимости делегировать полномочия…
СЛУШАТЕЛЬ 2: Бездельники перестанут быть обезьянами, освоят научно программируемые приложения.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Еще есть выступающие? Бездельники станут программистами…
СЛУШАТЕЛЬ 3: К 2035 году порядка 10% населения создадут новый социум, который можно обозначить «человек выбирающий».
СЛУШАТЕЛЬ 4: К 2035 году должна появиться и начать набирать силу какая-то принципиально новая социальная концепция.
СЛУШАТЕЛЬ 5: Вполне возможно, что через 20 лет с помощью всех этих технологий будет тотальный контроль над обществом: не 21 миллион, а 21 тысяча людей будет контролировать всю жизнь всего человечества.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: И что в этом хорошего?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Коллеги, давайте на этом месте остановим сегодняшнюю коллективную лекцию, я присоединяюсь к последнему пожеланию: мне тоже очень хочется, чтобы постмодернизм поскорее закончился, мы нашли истинные ценности, лежащие в основе наших тел, мышлений, этик, преодолели эти проклятия, не уничтожили друг друга, наши новые смыслы. И мы надеемся, что все вместе мы в ближайшие 20 лет это сделаем. А сейчас всем большое спасибо!
24 ДЕКАБРЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) «ТОЧКА КИПЕНИЯ» ПРОШЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, 13-Я, ВСТРЕЧА ИЗ ЦИКЛА «13 ЛЕКЦИЙ О БУДУЩЕМ».
Все тезисы относительно будущего — самое значимое, что для нынешнего поколения важно запомнить, взять в работу, реализовать, — старшеклассница Нина Гринько фиксировала в виде изображений.
Данные рисунки и их описание художницей представлены ниже.
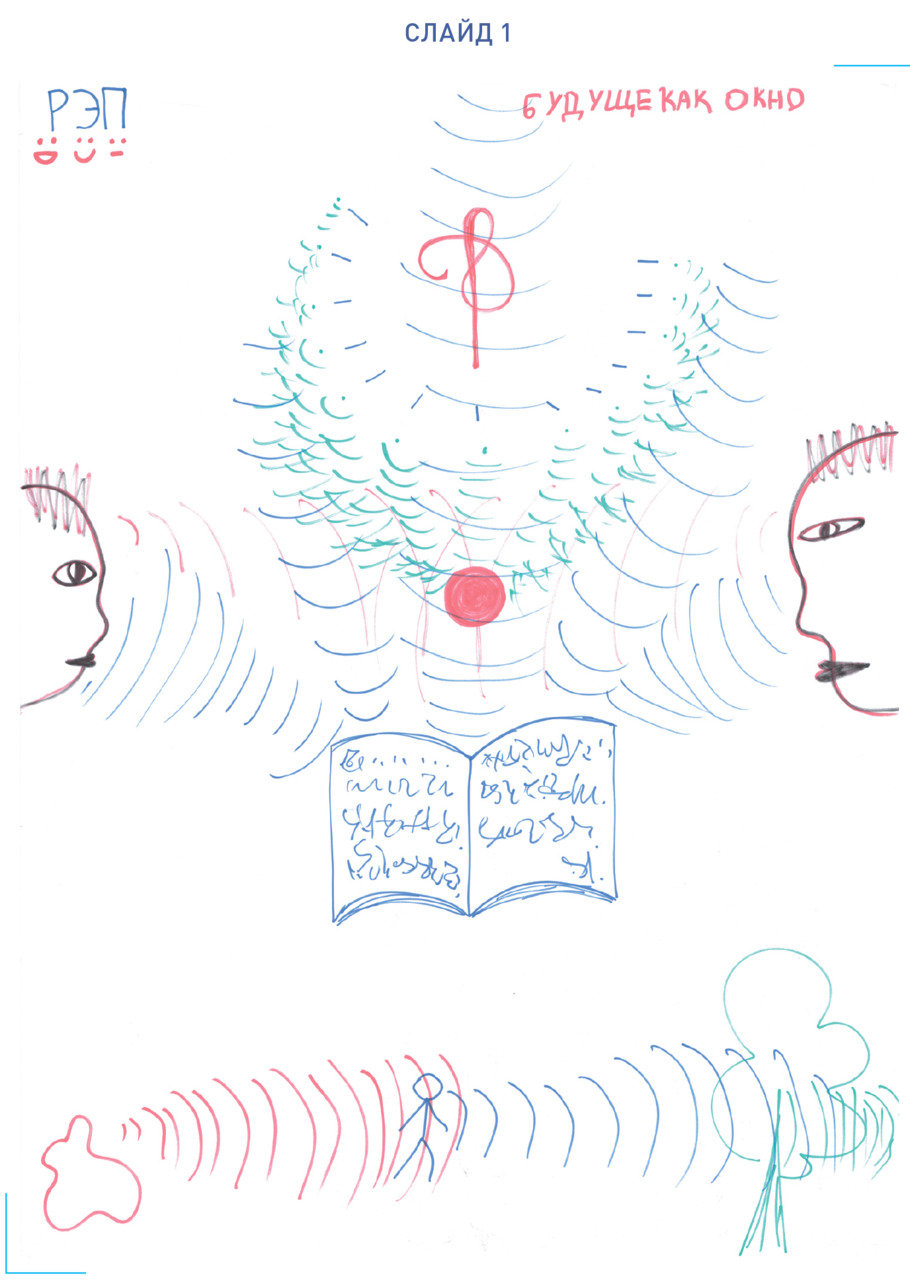
Во время завершающей лекции о будущем была слушателем — и рисовала то, что слышала в рамках Открытой дискуссии.
Наверху рисунка размещен знак, из которого выходят 13 объектов — 13 лекций, из которых выходят мысли и сигналы. Слева и справа люди, которые общаются между собой и которые также образуют мысли и сигналы. Внизу книга, которая также является источником мыслей и сигналов. Пересекаясь, все эти три элемента образуют ядро/центр. Все сигналы и мысли, которые образуют эти элементы, бесконечны. РЭП — ребенок, энтузиаст, предприниматель. Ребенок — счастливый. Энтузиаст — просто улыбается. Предприниматель — задумчивый, вовлеченный, серьезный. Будущее как окно — тезис/высказывание/мысль. Внизу изображено оживание мысли: 1-й этап — что-то, 2-й этап — мысль оживает (она попала в голову человека), 3-й этап — мысль выросла, как дерево, и дает свои плоды. Также в этом изображении присутствуют образования сигналов, которые также пересекаются друг с другом. Все сигналы также бесконечны.
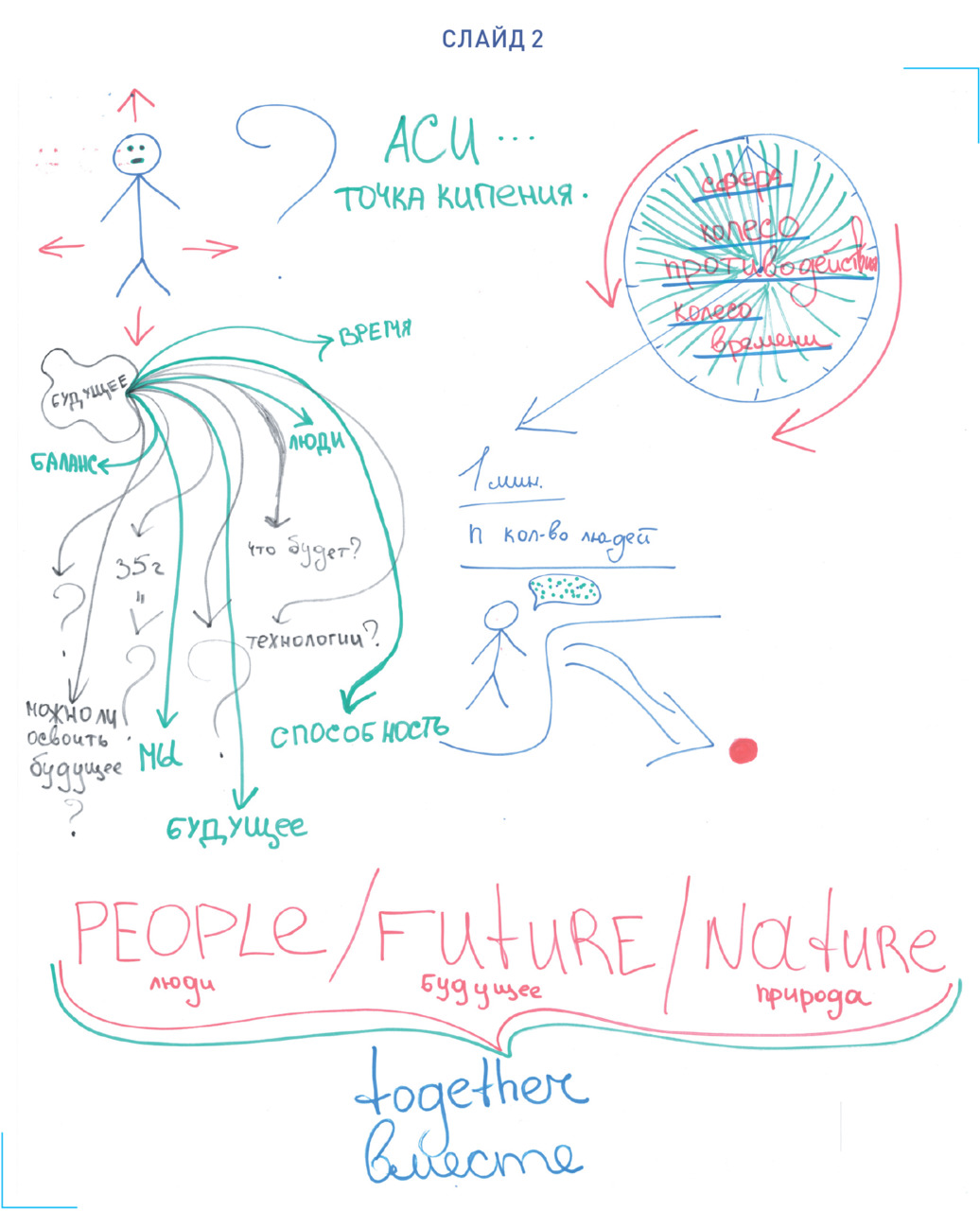
Здесь есть колесо противодействия/колесо времени. Колесо — так как оно может крутиться в обе стороны, но когда не знает, в какую сторону крутиться, то стоит на месте. Также есть человек, который не знает куда идти. Дальше представлено будущее, из которого выходят стрелки черного цвета — вопросы будущего, стрелки зеленого цвета — тезисы/слова/вещи будущего. В общем этот слайд описывает первый круг, где выносились тезисы за одну минуту. Также люди, будущее и природа должны быть вместе, чтобы найти искомое ядро/центр.
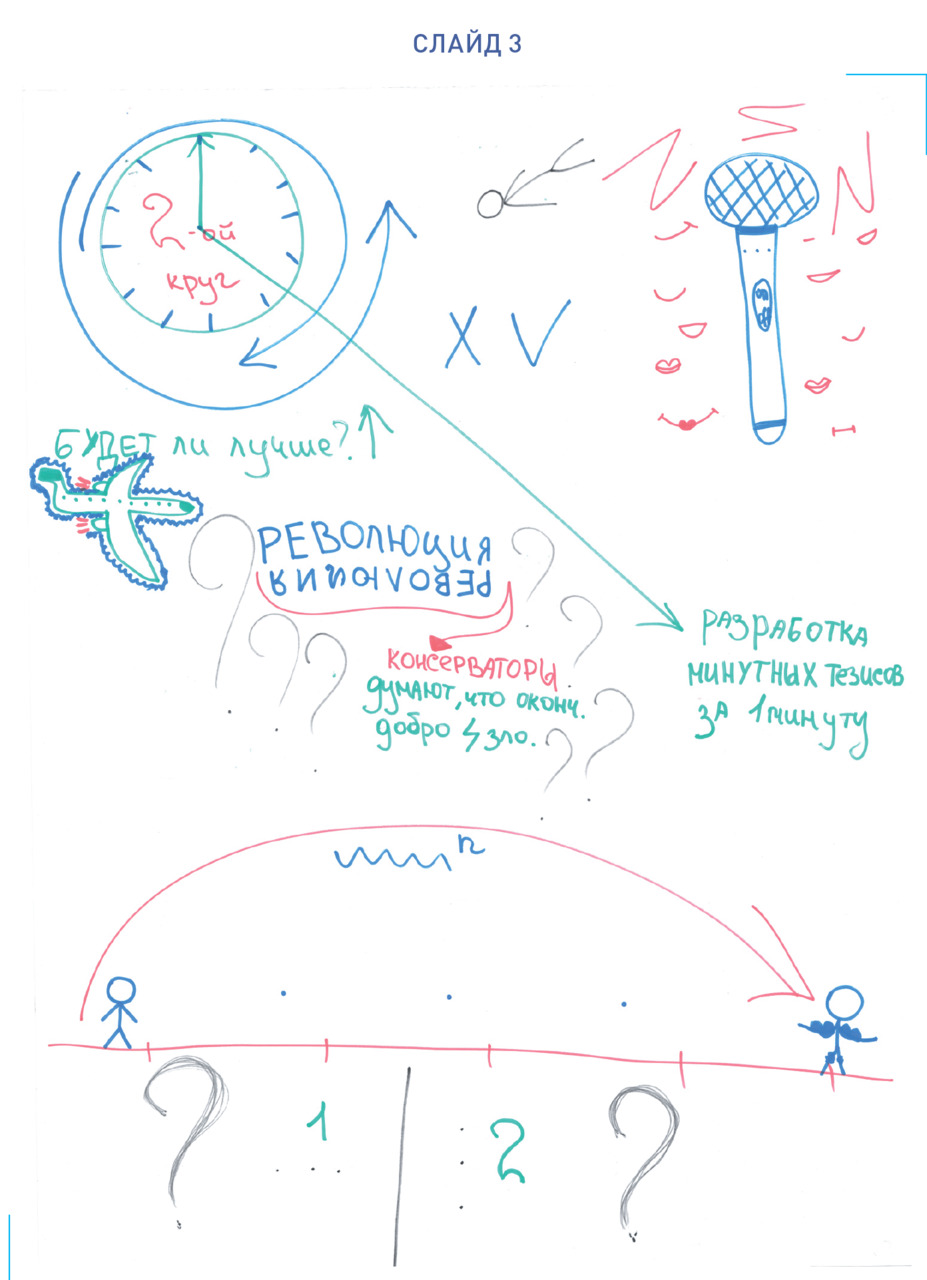
Здесь представлен второй круг, в рамках которого разрабатывали минутные тезисы за одну минуту. Также здесь есть колесо противодействия, у которого противодействие в два раза сильнее из-за углубления в процессе. Справа от него находится сам процесс. Под процессом находится колебание «верно» и «неверно». Справа от процесса находится источник общения на дискуссии. Во время второго круга возникало множество вопросов о будущем: будет ли лучше? Может же быть некомфортно и может быть турбулентность? Также к чему приведет революция, что это, как и где происходит? Консерваторы? Добро VS Зло? Появляется снова грань неизвестности. Еще возникло предположение, что человек через n-е количество времени станет сильным…

Ставки на РЭП — ребенок, который счастливый, энтузиаст, который просто улыбается, и предприниматель, который задумчивый, вовлеченный, серьезный. Ставки как надежда. Внизу изображен поезд: оторвавшийся вагон — уходящее прошлое, движущейся вагон — происходящее сейчас, сам поезд — некоторый процесс. Непонятно, где поезд движется и по чему он едет, так как удерживающая его сила неизвестна. Также неизвестно, что будет впереди, так как это и есть будущее.
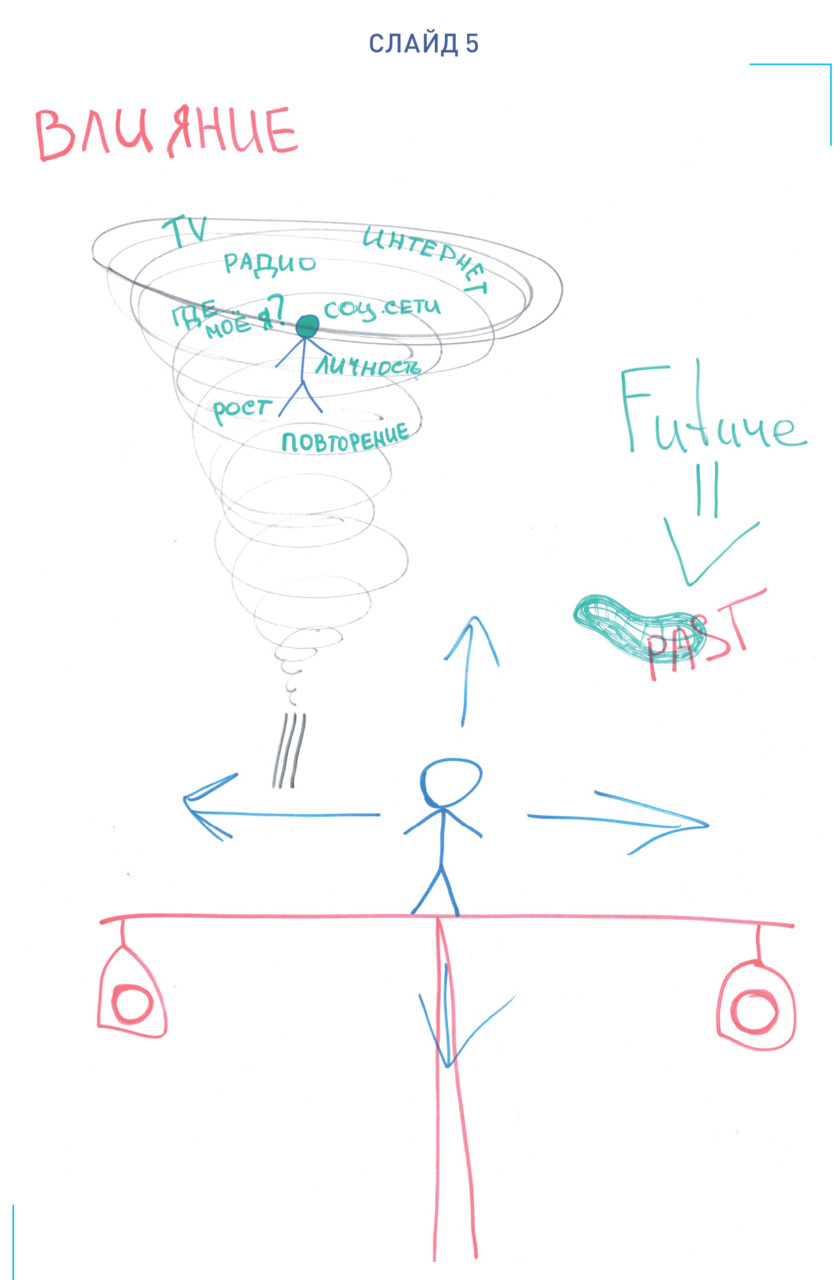
Влияние. Очень сильное. С помощью телевидения, радио, СМИ, интернета, социальных сетей, множества повторений, роста (промышленного, экономического и так далее), чужих личностей, бесконечных вопросов: где мое Я? […] Влияние затягивает нас в непонятную обитель, уводя от реальности и не давая нам двинуться к достижению поставленного в будущем. Влиянию помогает прошлое, которое нас пожирает. Из прекрасного сотрудничества, пожирающего прошлое, и сильного влияния получается человек, стоящий на середине весов и не знающий, куда идти. Снова.
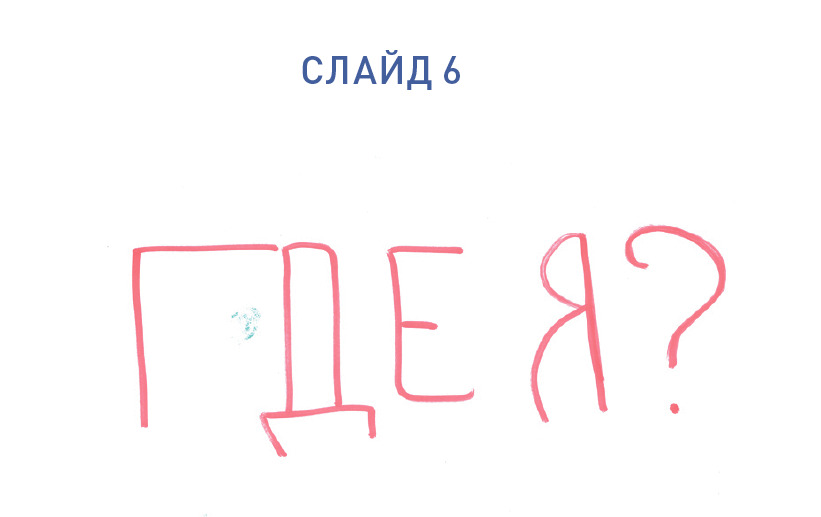
После всего что обрушилось на человека, что произошло с человеком, что утвердили человеку, у него возникает неизвестность и главный вопрос: «ГДЕ Я?» Тут не имеется в виду город, страна, улица, место работы. Тут имеется в виду потерянность самого «Я». Потерянность своей личности, своих мыслей, своих потребностей, своих фантазий, своих мечтаний, своих целей. И человек хочет найти это все и даже больше, но влияние говорит ему совсем другое, а прошлое пожирает и не дает вырваться. Причем, попрошу заметить, эти двое работают очень оперативно. Что же делать?

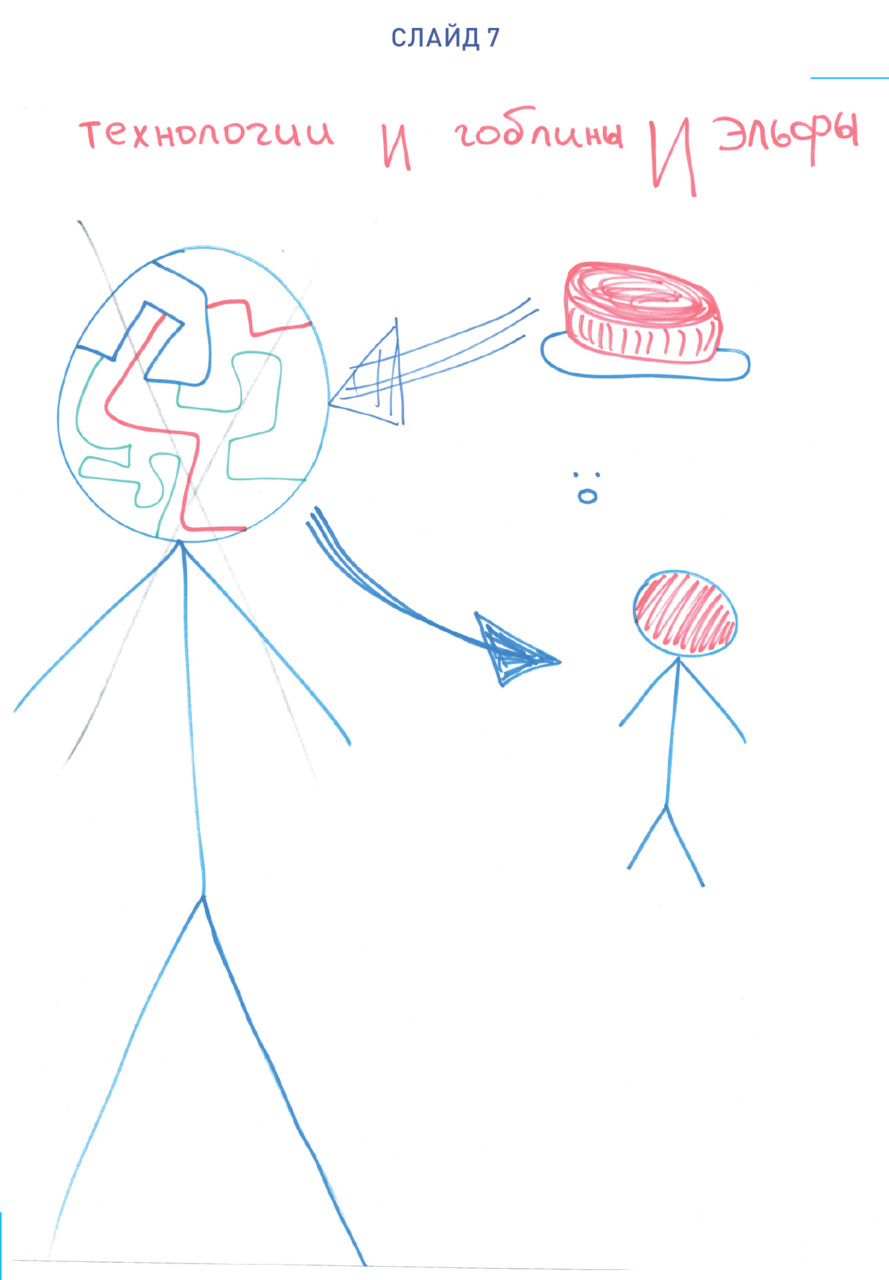
Технологии и гоблины, и эльфы. Еще факторы, которые нам мешают, не давая нам двинуться к достижению поставленного в будущем. Красная кнопка запускает процесс, то есть красная кнопка является СМИ, которые нам загружают в голову непонятные вещи, которые нам даже не нужны и не интересны, но нам приходится на них обращать внимание, так как это в каком-то смысле неизбежно. Итак, красная кнопка нажата, информация загружена, человек не понимает, что происходит (под красной кнопкой есть изображение). Чтобы этого избежать, надо найти свое «Я» и очистить свою голову от ненужной нам информации.
Тогда мы сможем двинуться к достижению поставленного в будущем. Вот ответ на вопрос: «Что же делать?».

27 декабря 2015 года авторы книги «Скрайбинг. Объяснить просто», а именно Павел Петровский, Николай Любецкий, Мария Кутузова провели в АСИ тренинг-семинар по скрайбингу. Материалом для работы стали 13 лекций о будущем.
За 18 лет до новой эры
ЛЕКЦИЯ 14 07/11/2017
МОДЕРАТОР:
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ, помощник Президента Российской Федерации
ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ, президент фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», член правления Фонда ЦСР «Северо-Запад»
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, директор дочерних фондов АО «РВК»: ООО «Инфрафонд РВК», ООО «Биофонд РВК», ООО «ФПИ РВК», а также ООО «Гражданские технологии ОПК»
СЕРГЕЙ СОЛОНИН, генеральный директор группы Qiwi
АЛЕКСЕЙ ТЫМЧИКОВ, технический директор Союза молодых профессионалов WorldSkills России
МАРИНА РАКОВА, лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного образования России» АСИ, основатель сети детских технопарков «Кванториум»
ПАВЕЛ ЛУКША, профессор практики Московской школы управления «Сколково», член Экспертного совета АСИ
АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ, проректор по перспективным проектам ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ, директор Агентства JetStyle (Екатеринбург)
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ, советник ректора Севастопольского государственного университета
МИХАИЛ ПОГОСЯН, ректор Московского авиационного института
СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ, президент компании Ward Howell
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, председатель правления Фонда ЦСР «Северо-Запад»
АЛИСА, искусственный интеллект «Яндекса»
Специализированный интеллект IBM Wotson
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Дорогие друзья, я рад вас приветствовать сегодня вечером в «Точке кипения» в Санкт-Петербурге, и мы начинаем наш новый проект «14 лекций о будущем». Многие знают, что несколько лет назад у нас прошел проект «13 лекций о будущем», и многие те вещи, которые мы обсуждали, очень быстро, гораздо быстрее, чем мы думали, стали реальными, этот проект доступен в интернете, на YouTube, издана книжка. Множество материалов. И множество лекторов, которые принимали в нем участие, сегодня сидят вместе с нами в этом зале. Давайте поприветствуем их, это очень смелые люди. Смелые потому, что они готовы отвечать за свои слова, которые они говорили всего несколько лет назад, готовы отвечать за свои прогнозы.
Итак, кто и в каком качестве участвует сегодня в нашем проекте, другое название этого проекта — «За 18 лет до новой эры». Посмотрим с вами сегодня в 35-й год, мы понимаем, что 35-й год — время, когда все будет по-другому, мы примерно понимаем некоторые характеристики, но кто знает, как это все будет на самом деле. Мы точно знаем, что жизнь необратимо изменится, поэтому второе название сегодняшней лекции «За 18 лет до новой эры». Откровенно говоря, те ребята, которые сидят сегодня за мной, могут сказать по-другому, они могут сказать «За 18 лет до нашей эры», потому что это точно будет их эра, и вряд ли эта эра будет наша с вами полноценно, потому что мы, конечно, немного динозавры. Мы все равно ментально принадлежим другой, уходящей, эпохе, и большой вопрос на самом деле, насколько это будущее, наступающее от наших с вами действий зависит, так ли важно, понимаем мы это будущее или нет. Вот представьте, например, 1 800 000 лет назад группа продвинутых динозавров ходит по полю, обсуждает, что хватит уже есть траву, пора посмотреть в будущее, и в какой-то момент кто-то из этих динозавров говорит: «Слушай, ты подними голову!». А знаете, у нас такой слоган сегодня у одной из государственных компаний: «Подними голову!». И динозавры поднимают голову, и там летит им навстречу маленький желтый шарик, и так ли важно, подняли динозавры головы в этот момент или нет? А поняли ли они неизбежность наступающего будущего или не поняли? Зависит что-то на самом деле от наших самих действий или все зависит уже вот от них, а мы здесь, так, разные осколки уходящих эпох? И если посмотреть в 35-й год, то он ведь совсем недалеко, это всего лишь 18 лет вперед. Что это за время? Для тех, кто постарше, есть простой инструмент сравнения. Вспомните, что было 18 лет назад, 1999 год. Подумайте, из 99-го года, как вы представляли себе 2017-й? Как вы лично его видели, как вы видели свое будущее в нем, во что вы верили? На что вы делали ставку? До 35-го года такое же расстояние, как между 1999-м и 2017-м, совсем немного. 18 лет — это срок, когда многие из нас будут по-прежнему работать на разных важных позициях. А дети, которые родились в 2017 году, вот здесь сложно, хотел сказать, пойдут в университет, но будут ли университеты в 2035 году так работать? Чтобы в них надо было идти, когда тебе наступает 18. А учиться мы как будем? А общество каким будет? А экономика будет какой запрос на образование, на технологии предъявлять? Мы не знаем сегодня, но можно об этом подумать. Другое дело, что вопрос в том, кто и как думает об этом будущем? И поэтому я очень благодарен тем, кто откликнулся на приглашение и пришел сегодня на этот откровенный разговор, потому что каждый из людей, которые сегодня участвуют в лекции, абсолютно уникален, у него есть свой очень специфический опыт проживания будущего в разных типах человеческой деятельности. Как мы шутим, с большей долей ответственности или с меньшей, с тем типом ответственности или с другим.
И я хотел бы здесь представить наших участников сегодняшней лекции, мы понимаем, что уж точно и ерархи уходят, поэтому у нас сегодня нет сцены, мы на разных уровнях. Разные люди здесь сегодня о будущем разговаривают. Слева от меня смотрит в зеркало Лефевра Петр Григорьевич Щедровицкий. Петр в 1999 году запускал сложнейшие социальные проекты, которые тогда были абсолютной вершиной социальной сложности для той молодой России конца 1990-х, о которых я лично только читал в журналах или заходил по неустойчивому интернету на первые интернет-ресурсы. В центре зала у нас два человека, которые по-разному это будущее создают, но довольно близко на него смотрят. И у нас участвует Евгений Борисович Кузнецов. А если кого-то и можно назвать таким евангелистом будущего в России, то это точно Евгений, он идет в это будущее в самых разнообразных форматах и, наверное, понимает это будущее тоньше, глубже очень многих других людей и не боится об этом говорить. Рядом с Евгением — Сергей Александрович Солонин, генеральный директор группы Qiwi. У Сергея свой очень забавный способ размышлений о будущем, он размышляет о будущем методом инвестирования, чем более безумные идеи в голову приходят, тем более безумно он инвестирует. Да, это такой крайний специфический тип мышления о будущем, который в этой логике особенно интересен. А дальше в центре зала два в каком-то смысле новых героя, еще не так известных нашей стране, что называется, все изменится, но которые не просто размышляют о будущем, а берут на себя ответственность за то, что кажется немного невозможным. И я хотел бы поприветствовать Алексея Юрьевича Тымчикова. Алексей — технический директор Союза молодых профессионалов WorldSkills России. Я открою тайну — прямая ответственность Алексея и тот проект, который он реализовал, — это победа России на чемпионате мира в Абу-Даби недавно, он совершил невозможное для построения принципиально новых систем подготовки кадров. И Марина Николаевна Ракова. Марина сделала вещь, которая тоже казалась абсолютно невозможной, она за два года развернула в стране сеть кванториумов с совершенно новым типом образования и подготовки детей. В такого рода темпы, такого рода возможность не верил, мне кажется, никто, во всяком случае я точно не верил. Поэтому, Марина, добро пожаловать! И справа у нас мой давний соавтор наших безумных размышлений о будущем, которые почему-то начали сбываться, и человек, который несколько лет назад сказал: «А я возьму и сделаю без ничего глобальную инициативу в области образования, поеду и расскажу ведущим лидерам мировым в области образования про то, что с образованием будет в ближайшие годы». Приезжает такой из России, в этот MIT, в Стэнфорд, в Гарвард и говорит: «Здравствуйте, я вас сейчас научу!». И это Павел Олегович Лукша. И надо сказать, что буквально на прошлой неделе все эти лидеры образования с большим удовольствием приехали в Москву и с большим удовольствием у Павла учились, поэтому здесь он тоже очень многие вещи ниоткуда сделал. Справа от Павла еще один человек — в то, что он делает, тоже до последнего времени никто не верил. Это присутствующий здесь Владимир Николаевич Княгинин — мы его потом, попозже представим — лет пять назад сказал: «А ты знаешь, в Санкт-Петербурге есть такой Алексей Боровков, и он делает то, что больше никто в мире делать не умеет». Я говорю: «Что ты мне рассказываешь?» — и не поверил тоже Владимиру Николаевичу. Но потом оказалось, Владимир Николаевич был прав, я — нет. Алексей Иванович Боровков сделает компанию и разработки, которые больше никто в мире делать не умеет. Алексей Иванович, приветствую Вас! Есть еще один человек, который, мне кажется, меньше всех сегодня себя реализовал по сравнению с тем потенциалом, который в него заложен, но этот потенциал очень сильно направлен внутрь этого человека, и он иногда вовне проскальзывает. И он, занимаясь какими-то странными вещами на уровне кода, дизайна и игр в Екатеринбурге, иногда по ходу создает какие-то федеральные феномены. Последний федеральный феномен — самая большая в стране система электронного книгоиздательства. И я очень рад приветствовать Алексея Владиславовича Кулакова, директора агентства Jet Style из Екатеринбурга.
Алексей!
И есть ряд очень интересных персонажей у нас на сцене, и вот здесь начинаются сложности. У нас от человеческого интеллекта к нечеловеческому есть определенные переходные эволюционные формы, когда часть людей представлена еще не в форме искусственного интеллекта, но в таких промежуточных формах. И вот в форме робота около микрофона у нас представлен Сергей Николаевич Градировский, который был соавтором очень многих больших проектов 18–17–16 лет назад, прошел уникальный путь, это один из самых целостных мыслителей о будущем, направленных в это самое будущее. Сергей согласился сегодня на уникальный эксперимент — впервые побыть лектором в такой частично роботизированный форме. Сергей, я тебя приветствую! Слева от непонятно Сергея, не Сергея, проблемы идентичности начинаются здесь, у нас человек, который взял на себя, наверное, самое невероятное обязательство. Он в ситуации аналоговой экономики, упадка 1990-х годов сказал, что он возьмет и создаст в России отрасль современного авиастроения, создаст современный самолет, цифровым образом спроектированный, который сможет быть современным этому самому будущему. Я, честно говоря, думаю, что тоже не очень многие в это верили, но он это сделал, я очень рад приветствовать Михаила Аслановича Погосяна, который размышляет сегодня о будущем с нами. И слева от Михаила Аслановича еще один крайне интересный человек, я сначала познакомился с ним тоже в конце 1990 — начале 2000-х годов, но не лично, и я тогда даже не верил в то, что когда-то у меня будет возможность так лично пообщаться. Но именно тогда, 18 лет назад, этот человек придумал проект, который назывался «Клуб 2015», и это было ровно то, чем мы с вами сегодня занимаемся тут, — попыткой посмотреть в будущее, увидеть это будущее, и, казалось бы, у этого человека был сильнейший инструмент, потому что он еще и расставил людей на управленческие позиции в стране, наверное, больше всех нас с вами вместе взятых. Я очень рад приветствовать президента компании Ward Howell Сергея Ильича Воробьева! И, наконец, last but not least, у нас участвует человек, который за несколько лет еще до запуска Национальной технологической инициативы всю ее спроектировал. Буквально несколько месяцев назад, перебирая старые слайды, я нашел презентацию Центра стратегических разработок «Северо-Запад» образца, по-моему, 2013 года, в которой все ключевые идеи НТИ были воспроизведены. Видимо, все, что мы потом делали, это был в каком-то смысле такой неосознанный, но плагиат, и я представляю вице-президента Фонда «Центр стратегических разработок» Владимира Николаевича Княгинина, у которого мы все учимся. У нас есть еще несколько участников в разной степени, это уже такие искусственные интеллекты следующего поколения, они такие более полноценные, и мы уже здесь общаемся с искусственным интеллектом «Яндекса» по имени Алиса. Алиса в ходе нашей дискуссии сейчас сказала, что она с удовольствием примет участие в лекции, кроме того, у нас на связи есть OK Google, специализированный интеллект «Вольфрам Альфа», и вот на первом ряду в виде маленького зеленого дракончика сидит адаптированный искусственный интеллект IBM Wotson, это такие дополнительные участники нашего сегодняшнего коллективного размышления о будущем. И мы почти готовы начинать, но еще не совсем, потому что есть некоторая технологическая часть того, что мы с вами сегодня делаем, и я надеюсь, что каждый из здесь присутствующих сегодня сможет стать полноценным соу частником и сотворцом нашей лекции.
У меня в «Фейсбуке» выложена ссылка на онлайновую систему «Кайла», в которую каждый из вас может зайти и принять участие в аргументах за или против по той или иной позиции, эти аргументы будут сохранены. Ваше авторство будет сохранено, и оно впоследствии войдет в некоторое издание результатов нашего сегодняшнего обсуждения. Помимо этого нам помогают организовывать скрайбинг наших лекций команды книги «Скрайбинг: объяснить просто» Павел Петровский и Виктория Анохина. И на тайных содержательных сборках, она потом станет явной, нам помогают лидеры-конструкторы сообществ «Практики» Денис Коричин и Алексей Яцына.
Итак, короткий круг, я прошу всех участников дискуссии высказываться предельно коротко, в горизонте трех-четырех минут, но лучше быстрее, потому что тогда мы сумеем пройти несколько кругов, и итоговые результаты будут гораздо лучше. Итак, я прошу каждого из вас обратиться в свой 1999 год и рассказать нам очень коротко, что вы в тот момент делали, как вы видели будущее образования в контексте экономики, в контексте страны, как вы видели 2017 год из 99-го, и в чем была, если была, ваша главная ошибка? То есть похоже то будущее, которое прогнозировали, вы ожидали, и если нет, то в чем вы ошиблись? Я прошу начать эту дискуссию Петра Щедровицкого.
ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: Спасибо, Дмитрий! Почти весь 99-й год я провел в здании «РИА Новости», будучи заместителем начальника штаба «Союза правых сил», и в этот момент, воспользовавшись представившейся нам возможностью проведения кампании в Государственную думу, мы с Сергеем Кириенко запустили первый кадровый конкурс «Золотой кадровый резерв», в нем приняло участие несколько тысяч человек. В 2000 году на этой базе мы провели открытый кадровый конкурс на замещение должностей в службах и администрациях Приволжского федерального округа. В нем тоже тогда приняло участие несколько десятков тысяч человек, и все это было возможно благодаря тому, что в основу была положена игровая платформа, платформа организационно-деятельностных игр, которую придумал мой отец, платформа, которую он считал своим главным результатом, предполагая, а это была середина 1970-х годов, что спустя 40–50 лет весь мир будет играть. Игры станут главным средством развития отдельных людей, коллективов, групп, команд, и те методы решения проблем в игровой форме, которые мы разрабатывали с тех пор, а я занимаюсь этим 40 лет, действительно, на моих глазах становятся все более и более массовыми. На основе платформы НТИ возникают различные более простые формы, и хотя в тот период я считал, что к 2015 году через массовые игровые тренинги у нас в стране пройдет 5 000 000 человек, я ошибался, этого не произошло. Я продолжаю считать, что это один из ключевых механизмов решения вопросов развития в самых разных областях, в том числе в сфере образования и подготовки кадров. Мы видим сейчас, что геймификация, тренажеры, методы решения проблем, мозговые штурмы, методы, которые когда-то называли синектикой, постепенно связываются друг другом в разные конструкции, и каждая следующая конструкция оказывается еще более массовой, еще более результативной при ее использовании для решения тех или иных задач, в том числе задач обучения. Поэтому, несмотря на то что мой прогноз не реализовался, и до сих пор мы не имеем такой технологии игры, которая бы захватила и смогла помочь договариваться и решать текущие вопросы каждого 10-го человека на рынке труда, я продолжаю считать, что мы движемся в этом направлении, и у нас есть достаточно широкое будущее в этом коридоре возможностей. Спасибо большое.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Евгению Кузнецову тогда тот же самый вопрос: 99-й год, во что ты верил, насколько ты был прав? Если ты был в чем-то не прав, то в чем ты больше всего ошибался?
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Да, спасибо. Я чуть лучше 98-й год, чем 99-й, помню, потому что в том году так вышло, что у меня было несколько интересных прогностических работ, я тогда этим занимался совершенно профессионально, как аналитик. Часть из них даже вошла в ряд документов, например, в доклад тогдашнего министра обороны. И смотрел в будущее я тогда с довольно большим удивлением и видел в нем несколько тенденций, насколько они сбылись, вы можете судить сами. Первое: что скорость удвоения знаний настолько высока, что знания будут разрушаться, и нужны будут новые, действительно, качественно новые знания буквально каждые 2–3 года, и это тогда еще казалось странным, потом сбылось. Второе: это уже вошло в соответствующие некоторые документы — что общее состояние сбалансированности мира рано или поздно будет нарушено. Если мы живем в относительно благотворные времена, тогда я писал, то после этого мы втягиваемся в цикл, который называется «цикл новой глобальной синхронизации», я его назвал, или «глобальной нестабильности», потому что по большому счету это цикл мировых войн. И он возникал тогда из всех расчетов между 35-м и 45-м годом, поэтому тоже можно смотреть на эту историю, насколько это подтверждается или нет.

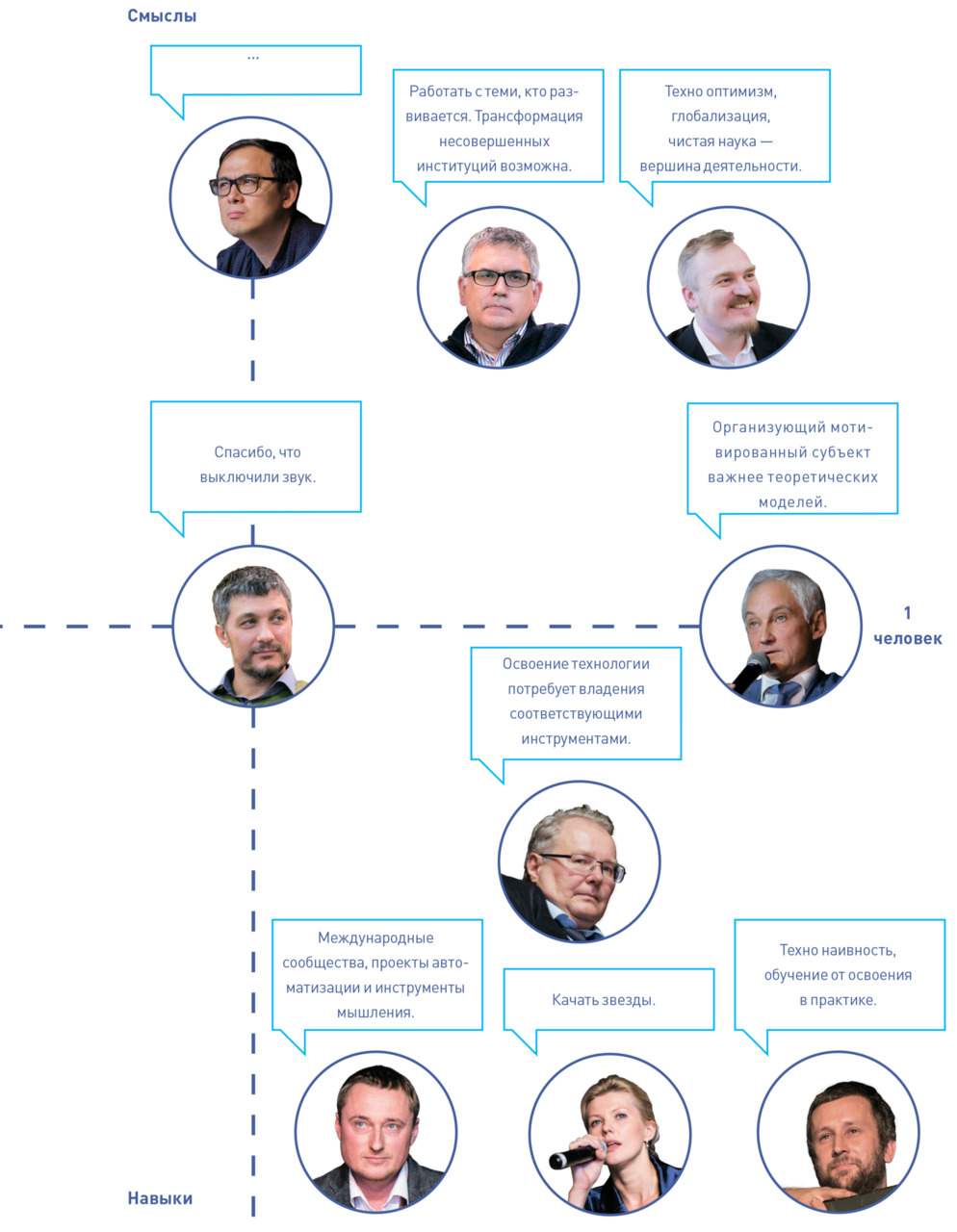
Еще был некоторый цикл технологических прогнозов, например, возможность редактирования генома. На тот момент все мои знакомые медики и биологи сказали, что это абсолютный бред, но в настоящий момент это технология, которая стала массовой. Что не сбылось, это, к сожалению, довольно тяжело говорить, но на тот момент мне казалось, что мы, Россия, войдем в этот технологический цикл более активным игроком. Потому что сейчас все-таки все фундаментальные технологические сдвиги, которые происходят, к сожалению, происходят сейчас в других странах. Я еще забыл сказать — там был один пункт, в тех бумагах, который вызывал смех, что Китай через 20 лет станет технологическим лидером. Многие смеются до сих пор, но через 20 лет Китай будет еще и экономическим лидером безусловным — и технологическим, и научным. Поэтому не сбылось, что мы развиваемся медленнее, чем мы могли развиваться эти годы, к сожалению, и надо что-то с этим делать. Потому что темп развития, который набирает цивилизация, оглушителен, он очень быстрый. К сожалению, очень многие изменения мы сейчас даже не вполне осознанно воспринимаем, нам кажется, что они происходят, но мы их не видим, к примеру, упомянутая мной технология crispr/сas по редактированию генома, а уже появились другие технологии. Но до сих в России это осуществляется единичными лабораториями. А в мире их уже 1000, мы просто пролетаем мимо величайшей революции в человеческой биологии и медицине. Поэтому главное, что не сбылось, — это на самом деле то, в каком-то смысле, из-за чего я перестал заниматься наукой и стал заниматься деятельностью, мне как-то хочется расшевелить эту ситуацию.
И это главное мое ожидание. Вот почему я так много бился над предпринимательскими университетами, потому что мало заниматься трансляцией знаний, мало заниматься исследованием, надо уже начинать что-то делать, надо уже начинать активно создавать эти новые технологии, эти новые инструменты и их надо создавать буквально там, где о них думают, и там, где ими занимаются. Мне кажется, до сих пор это не случилось, и ни одного по-настоящему предпринимательского университета в России нет. Университета, где не готовят предпринимателей, их нельзя готовить, а университета, где предпринимают попытки что-то изменить, где предпринимают попытки что-то сделать.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Про это у нас следующий цикл обсуждения. Я понял, что главная ошибка — это излишний оптимизм. Продолжаем наш круг. Сергей Солонин. Расскажи нам страшную тайну, что ты делал в 99-м году, как смотрел в 2017-й, во что ты верил и в чем ошибался, а в чем был прав?
СЕРГЕЙ СОЛОНИН: Да. Но я тоже очень хорошо помню 98-й год, потому что в 98-м году я потерял практически все, что у меня было. Я занимался до 98-го года импортом активно, продукты питания, кондитерка, и в связи вот с таким резким изменением курса я просто все потерял достаточно быстро. И в 99-м году я пересмотрел темы, которыми я мог бы заниматься, и занялся производством, то есть в 99-м году я верил в то, что на самом деле надо локализовать все производства срочно, и в этом есть огромный смысл финансовый и бизнесовый. Я построил тогда фабрику, в 99-м году я открыл фабрику «Первый Раменский комбинат», где был гендиректором некоторое время. Раменский кондитерский комбинат до сих пор существует в Подмосковье, это была первая фабрика, потом было еще несколько. Я верил тогда в производство, мне казалась, надо что-то производить срочно, производить в России, потому что импорт в тот момент был неподъемен, очень дорогой из-за курсовой разницы, я в это верил. А думал ли я об образовании? Нет, я не размышлял так далеко вперед, я думал о бизнесе, я думал, как заработать, то есть я был молодой, очень активный и мечтал заработать 10 миллионов долларов тогда, наверное. Собственно, понятно, что прошло время, и ты, наверное, прав, я так сейчас подумал, действительно мой метод говорить с будущим — это инвестиции. И за это время у меня, конечно, разворот произошел колоссальный. В 2003 году, меньше чем через пять лет, я бросил заниматься всеми вот такими производственными историями и посвятил себя полностью IT. Сейчас я занимаюсь инвестициями в блокчейн и криптовалюты, искусственный интеллект. Много разных интересных проектов, и в основном это вокруг IT, при этом где-то треть времени я уже посвящаю инвестициям в образование, размышлениям о том, как это образование должно выглядеть в будущем. В 99-м году я, наверное, еще верил в высшее образование, верил, что высшее образование действительно может сильно продвинуть и что-то дать. А сейчас я в нем разочаровался, по крайней мере в том виде, в котором оно существует, в основном инвестирую в дополнительное образование, в короткие курсы, то есть время сжимается, скорость изменений колоссальна. И никакие государственные или классические институты не могут пока найти формулу реакции, то есть то, каким образом пересобирать себя с такой скоростью, чтобы успевать за изменениями. Сегодня я верю в то, что мы радикально меняемся, мы, я имею в виду технические компании сейчас, скорее всего, за нами последуют и все остальные. А мы радикально меняем управление, мы радикально требуем от приходящих людей новых компетенций, а для меня вот этот переход, действительно, удивителен, потому что еще пять лет назад мы об этом не думали, а сейчас, оказывается, нужно работать с людьми, не которые компетентны в каких-то областях, а которые умеют собирать навыки, могут быть гибкими, умеют работать в команде. Это сейчас у нас чуть ли не на первом месте идет по критериям.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Это мы продолжим сейчас в следующих диалогах. Я прошу поддержать этот диалог Алексея Тымчикова. Алексей, твои 18 лет назад коротко. Во что верил и в чем больше всего ошибался?
АЛЕКСЕЙ ТЫМЧИКОВ: Всех категорически приветствую. Мне, конечно, непривычно находиться в такой позиции — рассказывать, вот в том-то году то, в том году то. Скорее, больше проектная свойственна мне история. Но в 99-м году я был полурядовой студент Академии государственной службы, ярый участник семинаров, организационно-деятельностных игр и методологического движения. Я, конечно, могу придумать, что у меня там были какие-то планы на 2017 год, но были предчувствия, что в столетие Великой Октябрьской революции что-то мы придумаем, как минимум в организационно-деятельностном и методологическом движении. А также я верил в безграничные возможности, вернее, видел их или думал о них, международного сообщества или стран, культуры. И, собственно, чем могу похвастаться? Может быть, это проект по автоматизации финансовых расчетов департамента финансов города Волгограда. Не знаю, весело было по крайней мере. Так вот, еще я верил на самом деле в то, что инструменты мышления будут всеобъемлющие, мы сможем их транслировать, и эту культуру, на весь мир. Что же не состоялось? Ну, во-первых, конечно, сильно деформировалось представление об окружающем мире, политическом, экономическом и все такое. Но как показывает практика, инструменты мышления — это единственные, одни из немногих самых эффективных инструментов действия в неопределенности и в переоформлении всего того, что нам представляет наша жизнь. Вот на этих двух процентах и живем. Спасибо.
МАРИНА РАКОВА: Приветствую, коллеги. В 99-м году — начало обучения и пребывания в МГТУ имени Баумана, дикий разрыв шаблонов от звезды науки, фундаментальной математики в регионе и потом моментальное погружение в такую огромную махину монстра образования высшей школы, где звезд очень много. Но при этом все-таки какие-то лидерские качества заставили очень быстро перейти в позицию лидера и в МГТУ, что позволило окунуться уже тогда в систему управления образования. Я верила тогда, что необходимо работать над созданием пространства для формирования мышления очень одаренных людей, которые погружаются в достаточно узкую, глубокую предметную направленность. И это была большая ошибка, то есть, если образно говорить, есть паровозы и машины, которые везут определенные движители и элементы, узлы, и механизмы для того, чтобы ракета взлетала. И как только мы забываем про эти машины и концентрируемся исключительно на ракетах, которые летят в космос, тогда-то все машины заржавеют, и не на чем будет довезти те детали, которые необходимы для этой ракеты. Так вот, тогда было заблуждение, что мы должны исключительно работать до тех звезд, которые уже, как у меня, в 16–15 лет обладали арсеналом 30 теорем в области фундаментальной математики. Поэтому сегодня наша система кванториума ориентирована абсолютно на всех, и мы работаем на те самые автомобили, которые смогут привезти гораздо больше деталей, и ракеты смогут поднимать гораздо больший тоннаж на орбиту. Все!
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ: 99-й год фактически, если говорить современным языком, — тотальная смена парадигмы, переход на другую бизнес-модель, это фактически переход на технологии мирового уровня, и это мгновенно позволило выйти на рынки мировые, это заказчики General Electric, General Motors. Соответственно это потребовало смены образовательной модели, когда мы идем от рынка, дальше технологии мирового уровня потребовали компетенции мирового уровня, то есть менять образовательные процессы. Фактически тогда же мы приступили к формированию экосистемы технологий, стало понятно, что технологий должно быть много, и каждая такая компания работает в своей цепочке технологий. И мы должны быть готовы как по образованию, так и по владению технологиями отвечать на эти вызовы, то есть это самое-самое начало того формирования, что сейчас вот уже получилось.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: В чем ошибались?
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ: Что-то я думал и ничего не придумал, не знаю, как-то все было сделано правильно.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Прежде чем мы пойдем дальше, смотрите, я пока в ужасе, потому что пока я слышу, что те результаты, которые есть у нас сейчас, на самом деле растут как минимум из восемнадцатилетней работы, то есть значительное количество участников думали, обсуждали и проектировали то, что выстреливает хоть сколько-нибудь массово только сейчас. Мы что, обречены? Ну, ладно, про это мы поговорим в следующем цикле обсуждения. Давайте все-таки доведем это упражнение. Павел, 99-й год твой, и в чем ошибался?
ПАВЕЛ ЛУКША: Я во многом ошибался как раз, я тебя не разочарую тем, что считаю… Мой крутой поворот состоялся на 10 лет позже. В 99-м году я был консультантом международной консалтинговой компании, которая занималась технологическими разработками в сфере зеленых технологий, сельского хозяйства, помогала обновлять сельское хозяйство в России, и в принципе я очень много ездил в регионы и работал с региональными предприятиями в Нижегородской области, в Ставрополе и так далее. Было очень увлекательно, а я искренне верил в то, что глобализация — это неизбежный процесс, что корпорации через некоторое время передавят государства, будут главным игроком. Я считал, что наука — это вершина вообще человеческой деятельности, и искренне хотел перейти из корпоративного мира, где еще студентом даже уже довольно успешно зарабатывал, очень хотел стать ученым таким вот глубоким. Когда я пошел по этому пути несколько лет спустя, я понял, что в общем-то, по крайней мере в тех сферах, в которых я работал, чистая наука — это такое довольно унылое занятие по ряду причин. И я могу сказать, что, если смотреть в дальний горизонт, в 17-й год, конечно, мне казалось, что это безумно далеко, но мне казалось, что темпы развития будут гораздо быстрее, чем то, что по факту состоялось, что наверняка уже будет реализован искусственный интеллект, исчезнут границы, интернет везде расползется и так далее. В этом плане я бы сказал, что я очень оптимистично, наверное, ощущал этот 2017 год. Когда я читал прогнозы, которые делала группа Сергея Воробьева, не помню, в 1999-м или 2000-м, мне казались они немножко такими унылыми и какими-то очень пессимистичными. Мне казалось, что, ну уж Россия за эти, условно 16–17 лет, продвинется гораздо дальше.
Если говорить про ошибки, я бы сказал, их было довольно много. Первая ошибка — я верил в то, что корпорации такую значимую роль будут играть, что корпоративная карьера имеет хоть какое-то значение, мне потребовалось еще некоторое время, чтобы осознать, что это не так, что самая правильная стратегия, конечно, предпринимать. У меня была большая ошибка, связанная с тем, что я ставил на личное развитие, а не на развитие команды, сети, сообщества. Мне потребовалось около десятка лет, чтобы понять, что более важно именно работать на сообщество. И самое важное, что я ждал, что кто-то мне скажет, что надо делать, условно так, по большому счету, в этом смысле я пытался работать на других. А самое важное было, наверное, — начать действовать в этих условиях неопределенности, формируя вот то, что, собственно, началось уже потом, формируя среду вокруг себя.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Коллеги, почему мы так подробно об этом говорим? Потому что, если университет 2035 — это про конструирование индивидуальных образовательных траекторий, то образовательные траектории практически неотличимы от карьерных траекторий, и в этом смысле мы должны взять на себя ответственность за очень такие смелые вещи, для этого вначале нам нужно честно посмотреть в самих себя, и поэтому здесь напротив спикеров, рядом с ними расставлены зеркала. Это возможность так вот посмотреть на самого себя и понять — правда ли мы верим в то, что мы говорим на камеру остальным, и насколько можно вас как героев брать для следующего поколения студентов, которые пойдут в наш университет. Вот в этой логике мы, конечно, говорим о том, что культура ошибок — одна из самых главных вещей, которую наш университет должен культивировать. Я бы хотел слово передать Алексею Кулакову. Алексей наверху у нас там, тоже с зеркалом. Алексей, твой 99-й и твоя главная ошибка?
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ: В 99-м у меня было две основные деятельности. Я, во-первых, уже два года как не учился в институте, меня выперли, потому что я был чудовищным снобом, потому что я был первым, одним из трех в городе веб-дизайнеров, считал, что веб-дизайнеры — лучшие люди, а в вузе никто этому учить не умел. И поэтому я пошел работать, и к 99-му году мой первый бизнес уже провалился. Я думал, что интернет — это то место, где я живу, я понимал, что в интернете понимаю гораздо лучше, чем те люди, которые есть вокруг меня, и я чудовищно ошибался, когда я думал, что я понимаю в интернете. У меня было ужасно наивное представление о том, что такое сеть, в целом мне казалось, что, во-первых, сеть — это место, в котором есть сайты, а сайты должны быть оригинальные. В этом утверждении неправильно все. Сеть — это не место, сайты — это не штуки, оригинальными они быть не должны. Это первая моя деятельность, а вторая — был мастером ролевых игр, достаточно известным, и меня в 1999 году волновало, что те вопросы, которые мне интересны в ролевых играх, совершенно неинтересны игрокам. Мне казалось, что я гораздо более взрослый. Ошибка моя была в том, что я думал, что вот эти две деятельности: игры и интернет — это совершенно две разные, непересекающиеся вселенные. Есть отдельно игры, отдельно бизнес. И вот это была моя большая ошибка в целом.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Я правильно тебя понимаю, что, если поменять слова «веб-дизайн», «интернет» 99-го года на «искусственный интеллект» и «блокчейн» 2017-го, то особенно никакой разницы не будет?
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ: Да, конечно, у нас чудовищно наивное представление об искусственном интеллекте и блокчейне.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Мы идем дальше в дискуссии, и слово у нас передается переходной эволюционной форме от человека к некому интеллекту в виде гибридного интеллекта — Сергея Градеровского. Пока Сергей пытается прийти в себя, идет борьба между роботизированным интеллектом и человеческим, глазки мигают, да? Я пока расскажу о главном открытии, которое мы сделали в попытке организовать вот эту коммуникацию, коллеги.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Меня слышите?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Сергей, теперь слышим, попробуй еще раз.
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Вы меня слышите?
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Слышим. Давай твой 99-й, в чем ты ошибался?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ: Как трудно быть роботом. Честность прежде всего, это первое правило роботов, которым мы, роботы, и отличаемся от людей света, поэтому могу сказать, что в 99-м году никаких образовательных прогнозов я не делал, я не был оснащен компетенциями для прогноза, и у меня не было ситуации, которая вынуждала бы… пользоваться всеми доступными формами образования… Технологическое будущее тогда еще не пришло… а политическое настоящее манило будущностью…
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Сергей, мы тебя практически не слышим, но большое тебе спасибо. Коллеги, мы только что провели живую демонстрацию и протестировали на этом кейсе одну из главных угроз, которой нас пугают некоторые евангелисты наступающего будущего, о том, что роботы забирают человеческие места. Я открою страшную тайну, для того чтобы этот робот попал сегодня на эту сцену, нам потребовалось создать шесть новых рабочих мест. Более того, судя по качеству выступления нам придется создать седьмое место для ремонтника этого робота. Вот это примерное состояние, то есть на самом деле роботизация в России, не знаю, как в других странах, но роботизация в России точно будет создавать большое количество новых рабочих мест, поэтому мне кажется, что этот тренд надо категорически приветствовать. Может быть, Сергей к нам вернется в какой-то момент, если каналы коммуникации наладятся, но мы продолжим наш разговор. И слово Михаилу Аслановичу Погосяну. Михаил Асланович, наверное, к вам вопрос максимально предметный характер носит, про Ваш Vision из 99-го. И в чем вы ошибались?
МИХАИЛ ПОГОСЯН: Я хорошо помню, конечно, 99-й год, я был молодым руководителем компании «Сухой», которая состояла из четырех крупных предприятий, несильно между собой связанных. И, собственно, стояла задача — вообще выработать стратегию развития, которая объединила бы все предприятия, которые были собраны в компанию «Сухой», в единую команду, которая бы двигалась вперед. Мы тогда разработали стратегию, и эта стратегия включала в себя укрепление позиций на рынке военной авиационной техники. Может, немножко звучит несильно интересно сегодня, но тем не менее такая задача стояла, и она была успешно решена. Второе — это выход на рынок гражданской авиационной техники. Сегодня мы говорим о том, что выход на гражданские рынки является стратегией развития нашей индустрии, мы об этом говорили 18 лет назад. Третья задача, которую мы перед собой ставили, — это цифровая трансформация. Мы понимали, что для того чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, мы должны радикально изменить подходы внутри компании, и мы перешли от использования вычислительной техники в решении отдельных задач к такому цифровому описанию изделия, и создавали нормативную базу, и формировали коллектив. Вокруг этого, вокруг формирования новой среды мы и готовили новые кадры, которые должны были решать эту задачу. Готовя новые кадры, мы решили тогда и развивали другую образовательную модель. Образовательную модель, направленную на то, чтобы наряду с базовыми знаниями люди имели практические навыки и видение того, каким образом мы собираемся дальше двигаться вперед и конкурировать на мировом рынке. Но на сегодняшний день, я считаю, что основные задачи достигнуты, авиационная техника занимает 50% в экспорте вооружения и военной техники нашей страны устойчиво последние 15 лет. Половина всего, что мы продаем на мировой рынок вооружений и военной техники, — это военная авиация, это безусловное лидерство с точки зрения экспорта. И надо сказать, что мы занимаем устойчиво больше 15% мирового рынка военной авиационной техники, что практически — максимальный результат, которого мы можем добиться, с учетом того, что 50% мирового рынка военной техники — это рынок американский, куда нам путь закрыт, еще 15% — это рынок стран НАТО, на котором доминирует американский и европейский трек, поэтому на оставшейся части рынка мы практически занимаем 50%, это максимум того, что мы могли бы добиться. Сегодня в производстве находится 154-й самолет «Сухой Суперджет-100», то есть мы, может быть, чуть медленнее, чем мы хотели, но точно уже находимся на рынке гражданской авиационной техники. Выручка компании «Сухой» сегодня составляет, я точные цифры не знаю, есть операционные, но примерно порядка 120 миллиардов рублей, что в общем-то по сравнению с одним-двумя миллиардами, которые были в 99-м году, я считаю, вполне соответствует тем целям, которые мы ставили перед собой. Я считаю, что мы имеем сегодня главным результатом передовое конструкторское бюро во главе с молодыми лидерами, то есть у нас сегодня руководитель конструкторского бюро «Сухого» — это человек, который вырос в нашей системе, в 98-м году был, не помню кем, инженером 1-й категории, но точно мы его выращивали со второго курса института, в котором его приметили в 1992 или 1993 году.
Верил ли я в достижения этих целей? Я верил в достижения этих целей, и в одном из первых интервью на эту тему, когда я излагал эту стратегию, о которой сегодня говорю, мне задали вопрос: «А Вы верите вообще в то, что это реально?». Я тогда ответил, что я не берусь за решение задач и достижение целей, в достижение которых я не верю, то есть если я не верил, то я бы не брался. Поэтому я верил и в значительной степени достиг, коллектив вместе со мной, тех результатов, которые мы планировали. Если суммировать, какие цели мы перед собой ставили. Мы ставили перед собой цель — амбициозная стратегия, новые технологии и команда, состоящая из людей, которые способны видеть и реализовывать перспективу. Чего не получилось? По-крупному получилось в основном все, что мы планировали. Может быть, я надеялся и, может быть, недостаточно четко все-таки нам удалось достроить. Я рассчитывал на большую командность, это командность в разных смыслах, не только внутренняя командность, но и командность во взаимодействии с государственными органами, с Министерством обороны, с другими заказчиками. То есть вот это та цель, если бы нам удалось и здесь чуть-чуть добиться больших результатов, то результаты были бы еще лучше. Но в целом я считаю, что стратегия, которую мы приняли, была нами в основном реализована и является хорошим фундаментом для того, чтобы сегодня порассуждать про 2035 год.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо, Сергей Ильич, Вашими трудами я в 99-м году вдохновлялся, вот точно могу сказать. Ваш 99-й? И многие здесь коллеги, насколько я понимаю, в Вашем клубном формате того времени предельно активно или менее активно участвовали, и справа, и слева, и в зале. И 2017-й от 2035-го не очень далеко. Давайте честно, как робот, скажите нам.
СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ: Добрый вечер. Про 99-й год,
35-й и ошибки, я Политех заканчивал питерский, сегодня с удовольствием с Боровковым долго беседовал, тяжело беседовать с профессором после 30 лет отсутствия, но трогательно. А чему меня научили в Политехе? Меня к третьему курсу научили учиться. Теоретическая физика меня учила, что все задачи в этом мире решаются со скоростью письма, кроме некоторых. Ну, и за этими некоторыми есть второй универсальный способ — иди в читальный зал. Теперь это называется — иди в интернет и еще сделай звонок другу. А теперь отличие в том, что другом может быть любой человек в любой точке земного шара. Это то, что не изменилось. Что было в 98-м и 99-м? Мы с группой товарищей верили искренне, что: а) нас хорошо учили в наших институтах, б) нас не научили ни на какое другое место, как Погосяна, кроме второго, а мы дефолтнули, как страна. Мы такие были отличники капиталистической экономики, и нам казалось, что мы все делаем хорошо. А тут раз — и дефолт. И нам как-то стало стыдно, и мы решили внести свои пять копеек в эту историю. Мы верили маниакально в управленческую технологию, соответственно она была применена для прогнозирования будущего, но не прогнозирования, нахождения своей деятельной формы участия в ней, сценарная технология. Мы полгода с ребятами, включая товарища Погосяна и еще кое-кого здесь в зале, напрягались и рисовали сценарии России до 2015 года, почти 18-летней горизонт планирования. Нарисовали, получилась как всегда «Русская тройка»: позитивный, никакой и черный. И обалдеть, короче, за прошедшие 16 лет страна исполнила все три. Просто поразительно, специально дочитывали книгу до конца.
Тогда было написано: позитивный сценарий был определен просто как хозяйственное мыло — это сценарий, по которому и мы, и дети добровольно остались, и мы тут побеждаем. Ничего не надо делать, цена на нефть поднимется, это сказка о потерянном времени. А черный: мы перестанем учиться, потому что мы будем гордиться собой, комплекс неполноценности нас как возьмет, мы его назвали «последний бросок на грабли», по лбу все. А главный враг был определен как патернализм, потому что позитивный сценарий — учиться быстрее, чем конкуренты. Опять-таки все очень просто — все, чему меня учили в Политехе. Черный — это патернализм. Почему? А просто никто ничему не учится, потому что формула патернализма: я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Не надо учиться ни до, правильно, коллега по Политеху, ни после. Конечно, зачем? Враг был, конечно, недооценен, а исходили из того, что мы же тут отличники такие, мы молодцы. А что бы другим не быть такими, как мы? А то, что они другие, конечно, мы недооценивали, насколько они другие. Но при этом сам процесс написания сценариев и эта вот суперцель — попытаться понять и повлиять на судьбу своей страны людям, которые до этого ни сном ни духом не пытались, — это, конечно, было увлекательно. И это ощущение полета, которое возникало, ну, рядом с Погосяном когда сидишь, оно возникает, конечно, ощущение полета. Вы не знаете, а этот человек лично построил первый в мире крупный самолет крылом вперед? Лично, вот так. Я спросил: «Михаил Асланович, а зачем он крылом вперед-то?». Он говорит: «Ну как ты не понимаешь, он когда крыло вперед, турбулентность вот здесь у корпуса обрывается, его качает меньше». И все, но зато крыло отрывается, он его склеил, чтобы оно не отрывалось. Он его на земле напряг, вы не понимаете? Надо понимать, из чего состоит современный мир. Теперь весь мир — это одна сплошная турбулентность. Поэтому у кого-то крыло отрывает сразу, еще до полета, решаться летать — это сложно. Но если мы исходим из того, что современный мир стал экспоненциален, понимаете, вот компьютерщики что же делают. Я вспомнил свои студенческие годы, где меня никто не учил, я не помню, чтобы мне специально объясняли. Ты должен ставить эксперименты, движимые гипотезами, потому что ты никогда не знаешь, где сигнал, где шум. Это у меня вот здесь, на мозжечке. Потому что когда на тебя наезжает неопределенность и вот это удвоение всего каждый год — теперь неопределенность наезжает на всех, а не только на тех, кто заказывал. Были чудаки, которые копали линию, как Погосян, хотят строить самолет крылом вперед. Ну, которые работают в спецназе, которые в «Склифосовского». Вот они хотят работать на скорой помощи. Остальные — вроде как нормальные люди, а теперь к ним приезжают. И, соответственно, как же, у них же стресс от этого всего. Ну, и вот мы в 1999 году получили колоссальное удовольствие от написания сценариев и делали, что могли, для этого. И вот это ощущение чуда полета, когда команда, о которой сегодня многие сказали, не сговариваясь, никогда в жизни вместе не работала, у нее была суперцель. Зачем тебе суперцель? Цель должна быть на порядок сложнее, чем мы все вместе взятые. Тогда мы нужны друг другу. А когда один может, раздавай команды, тогда опять вот это: я — начальник, ты — дурак. А если признаешь. что, условно, с Богом разговариваем, он умнее. Ну, давай попробуем. О, патернализм — это враг, ему 500 лет, Ничего себе! А ну-ка давай попробуем завалить его.

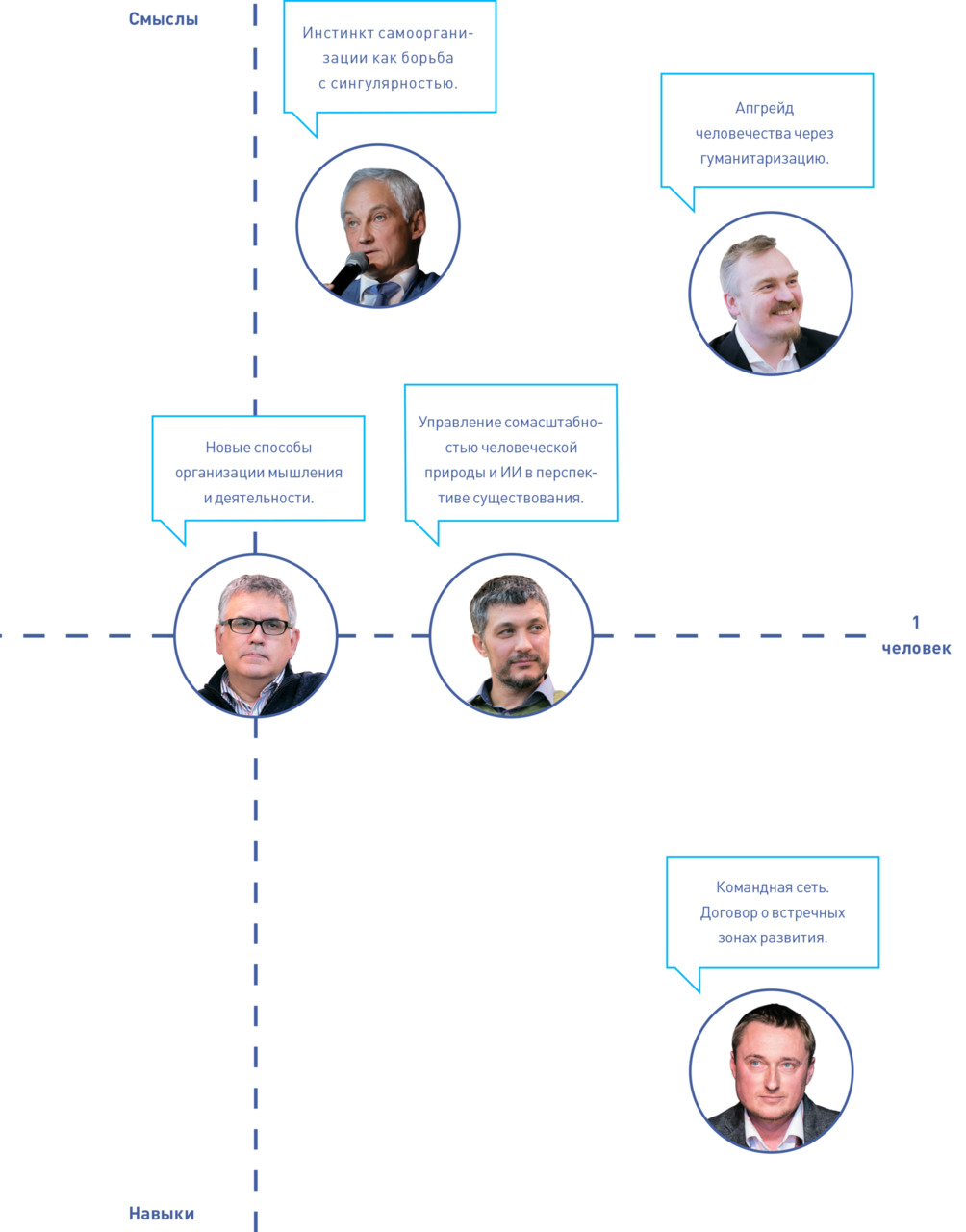
Ну, не учимся, а зачем мучиться-то при сырьевой ренте? И вот, чего еще недооценил, слава богу, мы не одиноки во Вселенной. А были места, где это RND — научные исследования продолжались. Народ не отвлекался, у него этой халявы не было.
И как-то вот он не устал.
В результате, что я могу констатировать в настоящий момент. Взгляды на 2035-й исключительно оптимистичные.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Сергей Алексеевич, рано.
СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ: А это потом скажу. Короче, тогда основной вывод из старого — ребята, никогда не сдавайтесь. А поехали, тут неправильно было написано, — полетели. Только так теперь получится.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Владимир Николаевич, время сценаристов. У вас был первый сценарист. Теперь Ваша очередь.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Чувствую себя — как в клубе анонимных алкоголиков.
Здравствуйте, меня зовут Княгинин Владимир, я вечером открываю холодильник. В 1998 году я работал, в 1999-м еще в Красноярском университете, в 1998 году мы проиграли выборы Лебедю, нас бомбил «Первый канал», было сильное давление, и жить было тяжело. В 98-м году сгорели все деньги в знаменитом банке «СБС-Агро», и личные, и корпоративные. А в 99-м, я только сейчас узнал, я сидел в одной из федеральных избирательных кампаний на Зубовском бульваре, оказывается, рядом с Петром, но об этом не догадывался. Но мы работали на разные избирательные кампании. Это было забавно, ну, буквально в двух шагах.
Выводы, которые я сделал по итогам 99-го года, пункт первый: трофейная экономика — это не моя история. Там все поделили, там все случилось в приватизацию. И эта история меня не интересует. Ставку надо делать только на развитие, работать с теми, кто развивается, вообще не ходить к тем, кто что-то делит, пилит и тому подобное — все это не моя история. Второй вывод, который я для себя в тот момент сделал: с плутократией не связываться ни при каких условиях, ни за что, ни под каким соусом, не связываться с плутократией и не идти с ней на компромиссы. Потому что это гангрена, и потом рука отвалится, если ты что-то там сделаешь. А третий вывод: я сидел все же в тот момент в Красноярске, хотя и участвовал в этих избирательных кампаниях. Мне стало понятно, что должны быть новые регионы, если мы хотим что-то сделать новое, надо выйти за границы существующего. И тогда мы запустили некоторое осмысление вот этой новой регионализации чуть позже, уже в Приволжском федеральном. Когда он был сделан, эту историю как-то двигали.
Каков итог был по университету? Во-первых, я в тот момент забросил докторскую, потому что я понял, что в университете, в зажатом стенами самом здании и живущем исключительно вот в этом маленьком локальном мирке, не надо никем становиться, это бессмысленные условия, это мертвечина, ты сам станешь этой стенкой. А второе: через некоторое время я из него ушел, перестал работать в этом университете. А в 2006 году мы с коллегами написали концепцию создания Сибирского федерального университета, потом был еще Южный федеральный университет, к которому мы тоже приложили руку, потому что идея была какая: сделать большую структуру, выходящую за границы региона. И в этом смысле это то, что называется отцентрировать рынок в надежде, что туда стекутся все ресурсы. Человеческие, финансовые и идеи, и за счет этого начать двигать вот эту новую регионализацию. Что из этого, на мой взгляд, сейчас не получилось? Глядя из сегодняшнего дня, кстати, работу над ошибками мы сделали намертво. То есть мы эти ошибки извлекли. Первое: очень тяжело рассчитывать, что brownfi eld сделает революцию, brownfi eld может оптимизироваться, вот старая структура может оптимизироваться, но сделать революцию brownfi eld-ом почти невозможно. И в этом смысле ошибка была, когда мы в Сибирском федеральном слепили его из нескольких старых склеротических структур. Потом, собственно говоря, получили огромный организационный бой на несколько лет и сожрали все ресурсы, выделенные на развитие в этой истории. А второе: у всякого процесса должен быть содержательный лидер. Организационный лидер, административный лидер должен тоже быть, но его недостаточно. Должен быть содержательный лидер, потому что университеты имеют отношение к мышлению, к знанию, к очень тонкой вот этой материи, значит, становление людей и вытягивание их — за счет развития этого мышления. Вот та история, которую мы реализовали, но было потом еще, кстати, в рамках новой регионализации Министерство регионального развития, которое мы фундировали во многом, двигаясь к определенной истории. Могу сказать, может быть, что-то еще есть несбывшееся, у меня была надежда, что движение не может быть в рамках Садового кольца Москвы, оно должно выйти откуда-то. Оно будет жить вот в этих новых регионах. Примерно к 2010–2011 годам энергия, запакованная вот в этом региональном действии, стала тоненькой ниточкой утекать, и, кстати, тогда мы и сделали ставку на технологические компании и на развитие технологии, считая, что центр тяжести битвы за будущее переместился в технологическую сферу. Спасибо.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Давайте постираем немножко модель и спросим все-таки у Алисы. Алиса, скажи нам, что ты делала в 1999 году? Да, и здесь у нас искусственный интеллект судя по всему откладывается, живое тестирование гибридной формы у нас оказалось не самым удачным. Алиса тоже, очевидно, подтормаживает. Мы попытаемся на третьем круге реанимировать, но к нам присоединился еще один участник дискуссии. Андрей Рэмович Белоусов.
В 99-м году в чем Вы ошибались?
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ: 99-й год был годом сильных разочарований, сильных ожиданий и сильных открытий. Для того чтобы объяснить разочарования, я должен, если можно, на год назад отойти, август 1998 года — разгар кризиса, пик, если можно так сказать, в минус спада, который начался в мае 1998 года, и дефолт. И в конце августа мне позвонил руководитель секретариата Дмитрий Масляков, первого вице-премьера правительства Примакова, и сказал, что надо ехать на государственную службу, потому что ситуация близка к критической. Я приехал туда, и, действительно, ситуация выглядела следующим образом: я хорошо помню Витю Мельникова, который был тогда первым заместителем Геращенко, который сидел, перед ним лежали графики. Он на этих графиках вычислял, когда схлопнется банковская система. И у него получилось, что через две недели примерно наступит просто коллапс банковской системы. Начали останавливаться железные дороги из-за неплатежей. Запасов продовольствия в Москве оставалось на несколько дней. То же самое касалось и медикаментов. Регионы начал выставлять заставы на дорогах, чтобы из регионов не вывозили продовольствие. Это была реальность, это не 91-й год, это была реальность, которую я увидел своими глазами. И мы тогда очень интенсивно работали на то, чтобы удержать ситуацию. Мы не то что не думали тогда о 2017 годе или о 2010-м, мы не думали о том, что будет в январе 99-го. Потому что казалось, что мы летим куда-то в пропасть. И чудо состояло в том, если мы вдруг зацепимся штанами, извините, за какой-нибудь сук, который торчит, и там где-то повиснем, над этой пропастью потом, может, куда-то вылезем. Так вот, разочарование состояло в том, когда все это прошло, это был 1999 год, и никто не видел роста, ни одного человека не было практически из более-менее серьезных людей, кто бы в 99-м году прогнозировал рост. Тем не менее это произошло. И первое разочарование — это было глубокое понимание того, что все модели наши, теоретические модели, оказались неправильными. Они просто не прошли испытания практикой, и надо было понимать, в чем эта неправильность. Это было на самом деле, наверное, главное открытие. Мы поняли, что главное непонимание — в непонимании того, кто субъект. И 99-й год для меня — это был период, когда правительство Примакова ушло в отставку, Степашин еще, следующее правительство еще как-то так себя вело. У меня было время, когда я и еще несколько человек, мы решили сделать прогноз. Это была грубейшая ошибка, методологическая ошибка, прогнозировать можно далеко не все, но опыт. И мы, конечно, ошиблись полностью. Мы так добросовестно подсчитали какие-то параметры развития на ближайшие 10 лет. Как Сергей Ильич, тоже какие-то сценарии нарисовали, понял, что все это чушь, и, слава богу, поняли достаточно быстро, мы его не публиковали, этот прогноз. Но мы поняли несколько вещей: поняли, что для того, чтобы понимать, куда нас выносит, нужно искать прежде всего субъект. То есть ту организованную силу, которая обладает мотивациями к развитию, которая свою перспективу, жизненную перспективу, экономическую перспективу видит именно в развитии. И которая имеет доступ к ресурсам развития, и за счет утилизации этого ресурса развития, собственно, развитие и осуществляет. Это был главный вывод 99-го года, и попытку такого построения прогноза с позиции субъекта мы сделали в 2005 году, мы тогда спрогнозировали как раз экономику до 15-го или до 20-го года, я уже забыл. И это была гораздо более успешная попытка.
Последнее, что я хочу сказать, почему нельзя было в тот момент прогнозировать. 99-й год, мы вышли из кризиса, мы уже понимаем, что экономика начала расти. Насколько она будет расти, мы не понимаем. И мы не понимаем закономерностей, мы не понимаем, что растет в этой экономике. Но мы знаем, что 70% экономики занимает бартер. Тогда был такой термин «виртуальная экономика», который придумали два сотрудника ЦРУ, но он достаточно точно отражал нашу реальность. Как может расти экономика, в которой 70% — бартер, никто объяснить не мог. Мы понимали, что экономика России как таковая не существует. Она очень многоукладна. Жизнь экспортоориентированного сегмента в этой экономике кардинально, принципиально отличается от жизни секторов, которые работают на внутренний рынок. Принципиально отличаются от оборонно-промышленного комплекса и принципиально отличаются от образования и здравоохранения, от того, что мы называем бюджетным сектором. У каждого из этих секторов есть своя логика развития. И они очень мало связаны, они просто находятся на одной территории, но связь между ними минимальна. И как прогнозировать вот это, вообще как говорить о том, что это представляет собой какое-то целое. Через пять лет эта ситуация радикально поменялась — у нас возник субъект. Мы этот субъект с помощью определенных методологических ухищрений смогли описать. И вот тогда появился первый прогноз, но это уже совсем другая история.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Мы подходим к главному этапу сегодняшнего диалога. Я хочу здесь, конечно, еще раз обратиться к тем, кто у нас называется здесь «заднескамеечеки». Это вам сейчас скучно, а в 2035 году вы будете сидеть на нашем месте и вспоминать, что 18 лет назад перед вами стояли жизненные развилки. И можно было принимать те решения, которые будут управлять вашими жизненными траекториями, определят то, кем вы в ближайшие 18 лет станете. И уровень технологической революции, который мы сегодня переживаем, ничуть не меньше, чем уровень той экономической трансформации, который экономика страны переживала в 99-м году. Даже термины те же самые, означают разное, но мы снова говорим про виртуальную экономику, только немного с разным содержанием внутри этого термина. Итак, мы сейчас хотим поговорить о самом важном. Мы поняли, что кто-то, кто верил в очень узкую методологическую вещь, он успешно и эти 18 лет к ней шел. Тот, кто пытался генерализировать, пытался предпринимать из этого действия и строить стратегии, чаще ошибался. Еще раз, от 1999 до 2017 года такое же расстояние, как от 2017 до 2035 года. Я очень надеюсь, что с подавляющим большинством из вас мы здесь через 18 лет встретимся и поговорим еще раз, что у нас получилось. Но все-таки вопрос ко всем лекторам самый важный: вот сейчас с учетом вашего опыта, с учетом ошибок, которые вы сделали, ваш взгляд в 2035 год. Что самого важного будет в эти 18 лет на стыке образования, экономики и общества? Во что вы верите? Как звучит ваша самая главная ставка? Можно, если коротко, за одну-две минуты это объяснить. И дальше самая важная просьба ко всем — сформулировать это как кредо, кредо — это два-три слова. И мы начнем в том же порядке, и начнем с Петра. Петр, пожалуйста.
ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: Я постараюсь уложиться в две минуты, хотя это будет для меня не просто. Многие знают, что у меня девять детей и шесть внуков. Моей старшей внучке через 18 лет будет 35 лет. И когда я размышляю о том, что мне удалось сделать как отцу, как педагогу, как лидеру, я понимаю, что те знания о механизмах развития человека, которыми я пользуюсь, почти такие же негодные, как экономические теории, на которые Андрей Рэмович ориентировался в 99-м году. Мы почти ничего не понимаем про то, как дети развиваются, почему они делают то или другое, почему у одних детей, родившихся в одной и той же семье, совершенно разные траектории движения, и как они превращают даже свои недостатки в некие элементы стратегического движения вперед? Я слышу, Дмитрий, Вашу линию обсуждения: что такое роботы, что они могут и чего они не могут. Но хочу сказать, что я отношусь к этому совершенно по-другому. Я считаю, что, когда мы попытаемся переложить на роботов те модели мышления, которыми мы сегодня пользуемся, мы обнаружим несколько удивительных вещей. Во-первых, мы обнаружим. что эти модели никуда не годятся. Когда-то моего отца спросили, как он относится к искусственному интеллекту. Он сказал: «А что, Вы где-то видели естественный?». Мы обнаружим, что до сих пор в философии и гуманитарных науках мы продолжаем мыслить в парадигме ассоционистского мышления. Мы рассматриваем мышление как ассоциации. По сходству, по контрасту. Эта теория XVII века. Мы не продвинулись в понимании устройства мышления, но когда мы попытаемся часть нашего мыслящего сознания вынести на робота, мы впервые обнаружим, что, во-первых, это плохо работает, во-вторых, скорее всего, мы не так мыслим, а в-третьих, это не менее важная вещь, что мышление может жить на других носителях. Только неочевидно, что эти носители будут построены по антропоморфному принципу. Поэтому, забегая вперед, я сейчас вернусь еще раз к основанию. Я считаю, что моделирование коллективного человеческого или человеко-машинного мышления — это ключевая задача, которая стоит перед нами. Те технологические возможности, которые у нас сегодня появились, — Алексей Боровков рассказал мне о том, что 150-срезанная томография головного мозга уже позволяет какие-то вещи увидеть, которые нельзя увидеть при другом подходе. То, что мы сегодня продвигаемся в исследовании психофизиологии, механизмов ДНК, тоже нас немножко двигает вперед. И мы потихоньку начинаем осознавать вот эту сложность того образования, которое на морфологии нашего тела удивительным образом существует и даже иногда мыслит. И с этой точки зрения, если мы это сделаем, индивидуальные образовательные программы, о которых я тоже начал говорить в 99-м году, даже раньше, в 97-м, могут стать реальностью. При этом я, например, считаю, что ключевая проблема — обучение до трех лет, в три года все сформировано. Ключевые паттерны уже существуют. Это удивительная вещь, но дальше они становятся в большей части регидными, они уже почти не трансформируются, хотя «напечатываются» на них другие, более сложные образования, сохраняя эту ядерную структуру. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но, опять же большинство знает, что один из моих сыновей родился с синдромом Дауна. И когда мы работали с ним и пытались дать ему возможность делать все то же самое, что делают здоровые люди, оказалось, что это совершенно возможно. Мы просто не умеем с этим работать. Сегодня много таких случаев показывают по телевизору, но, не знаю, представляете вы или нет, в каком ужасном состоянии находится эта культура у нас в стране. А человек есть безграничная возможность. Это сказал Пико делла Мирандола. Он может быть и злым, и добрым, и развивающимся, и консервативным. И в этом плане Бог не определил полностью его природу, он передоверил это дело в его собственные руки.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Петр, завершая, все-таки, кредо, главная ставка, я правильно услышал, что это коллективный человеко-машинный интеллект?
Вот, из того, что может быть зафиксировано?
ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ: Технологии коллективного решения проблем с использованием возможностей машинного интеллекта.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Хорошо, задача к группе наших антологов — постараться превратить это в короткое выражение, и как только оно у вас появится, можем начать выводить на экран в нашей координатной сетке. А мы пока продолжим, и Евгению Кузнецову то же самое, но, коллеги, прошу всех следующих все-таки укладываться в две минуты.
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Постараюсь максимально коротко. Надо понимать, что ближайшие 18 лет пройдут существенно более емко, чем предыдущие. Скорость развития все время увеличивается. Более того, мы сейчас фактически влетели в глобальную цивилизационную проблему практически полного пересмотра той модели цивилизации, которая была сформирована два с половиной века назад, во времена там Великой французской революции и так далее. Практически вся научная картина мира, политическая картина мира, социальная, экономическая — они сейчас все будут пересматриваться, причем пересматриваться они будут не человеком. Они будут пересматриваться тем новым инструментарием, который вот уже в ходе текущей дискуссии называется смешанным — человеко-машинным. Мы действительно входим в эпоху, когда начинается новое познание мира, и я не побоюсь этого слова, фактически классическая наука заканчивает свою историю. Мы начинаем историю новой науки, которая делается другими методами, в ее основе лежат уже не факты и их доказательства, а данные и их соотношения. Это совершенно другая история, я не могу сейчас развернуть, но могу с удовольствием сделать это в другой раз. И эти новые данные, новые научные результаты принесут нам колоссальные изменения. Мы их видим, потому что все то, что мы каждый день читаем про возможности перепрограммирования человеческого генома или про тот искусственный интеллект, модель которого только 3–4 года как развивается. Это абсолютно новые вещи, к ним еще общество, сознание не адаптировалась. Поэтому фактически начинается эпоха нового познания мира, с начинающейся эпохой нового сотворения мира. Проблема состоит только в том, что мы к этому драматически не готовы. Мы не готовы к этому как биологический вид, мы не готовы к этому как наше существующее мышление. Мы не готовы к этому политически, мы не готовы к этому на уровне своего действия. Мы просто не знаем, как действовать, мы действуем по старинке, но как показывает даже история с биткоин-бизнесом буквально за последний год, классические модели бизнеса уже тоже проигрывают по эффективности, они просто перестают схватываться с этой реальностью.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Кредо?
ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ: Поэтому кредо звучит очень просто: «Надо быть готовыми практически все начать заново». И в том, как мы действуем, и в том, как мы мыслим, и в том, как мы хотим двигаться, если мы хотим просто продолженное настоящее, то я боюсь, что это не получится.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. «Готовность все начать заново». Сергей!
СЕРГЕЙ СОЛОНИН: Да, смотрю на то, сколько 18 лет составили для меня в том периоде с 99-го по сегодняшний день. Чувствую, что эти 18 лет пролетят с огромной скоростью. У меня как раз такое обратное ощущение, что время ускоряется, мы не замечаем, как оно проходит. И для меня очень важным кажется построение такого нового мира, базирующегося на знаниях. То есть на вообще огромной базе знаний, которые будут теперь возможны, то есть будет способность мира эту базу анализировать. И с помощью искусственного интеллекта, и с помощью машинного обучения, и блокчейна, потому что блокчейн — это для меня такая огромнейшая база знаний, которая даст возможность нам и прогнозировать лучше, и справляться с огромным количеством задач, с которыми мы на сегодня справляться не умеем. Вот в этой среде новой важнейшей конструкцией, инновацией является способность самоорганизовываться на эти инновации. Если представить, что весь мир превращается в такую огромную машину по инновациям, и выигрывает тот, кто их делает, и я не очень верю, что это будет крупные корпорации. Мне кажется, что это будут команды, такие распределенные команды, которые смогут быстро самоорганизовываться и быстро воплощать какие-то идеи. Базироваться это все будет на творчестве, на творческом потенциале, цифровой грамотности, понимании, как делать проекты, и коллаборативных практиках. Поэтому для меня основная задача, собственно, — научиться людей готовить вот к этому новому формату коллаборативного созидания, коллаборативной инновации.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Кредо: «распределенная команда»?
СЕРЕЙ СОЛОНИН: Да, самоорганизованная среда, я думаю, что самоорганизация — это номер один. Распределенные команды — это просто техника, потому что сейчас это становится проще и проще будет. Через 18 лет, я думаю, мы уже придем к этому совсем. У меня уже сегодня над одним проектом работают люди, которые сидят в Австралии, Японии, Финляндии, России, то есть уже сегодня это поехало. Мы это наблюдаем, не просто наблюдаем, а пользуемся. Как в этой среде сотрудничать, как эффективно взаимодействовать — это большой вопрос и большая тематика к новым образованиям.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Алексей, у нас тут трое Алексеев, поэтому какой-нибудь ответит.
АЛЕКСЕЙ ТЫМЧИКОВ: Да, начну, видимо, я. Коллеги, начну я с кредо. Сначала задача — сначала кредо, потом — что это значит. Сначала написал — мировая, подумал, но все-таки для начала национальнае сеть экспертов «Молодые профессионалы WorldSkills». Тут стоит что отметить? Те результаты, которые мы способны показать, и те технологии, которые мы способны произвести, как показала практика и мировая оценка нашего уровня и наших возможностей, — это в любом случае командная работа, как говорили предыдущие спикеры. Более того, это командная работа, которая позволяет договариваться во встречных зонах развития, а не по понятиям. Это принципиально другой подход, договор, профессионализм, содержание. Это позволяет добиваться совершенно иных результатов, как мы с вами видим. Даже зайдя в этот зал, мы, совершенно не договариваясь, сели в определенной командной позиционности. За моей спиной официальные технические делегаты, совершенно случайно Российская Федерация WorldSkills, сели за моей спиной. Это как если есть армия, то есть разведка и контрразведка, то это люди, которых может быть не видно, но часть результатов существенная, framework глобальный — это вот эти люди. Далее. Зачем нам такие результаты и национальная сборная, которая берет города и страны? В первую очередь это технологии. Мы с вами видим то, что текущая система профессиональной подготовки безжалостно устарела. Это как старая машина, в которую давайте здесь в зеленой одежде сядем, давайте в красной, давайте по-другому рассядемся в этой машине, давайте высокотехнологичное оборудование положим в багажник, что-то эта машина не едет никуда. Или едет, но, может быть, медленно. Как коллеги совершенно правильно сказали: мы не успеваем за темпами, за технологиями, за временем. Кардинально не успеваем. И в этом плане на материале сборной каким-то образом организована сеть экспертов, людей из бизнеса, из образования, из науки. Там совершенно разные люди есть, каким образом они договариваются о встречных зонах развития, мы можем предложить кардинально другой механизм, который в себя включает: первое, в обязательном порядке — это исследование норм качества труда и развитие компетенций. Это в одной организации профессиональной подготовки. Второе — это, естественно, сама подготовка. И третье — это открытая бизнес-среда, которая позволяет совершенно различным позициям с различным уровнем дохода найти и правильно использовать дополнительный ресурс.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Алексей, кредо?
АЛЕКСЕЙ ТЫМЧИКОВ: Командная сеть на встречных зонах развития. Молодые профессионалы движения WorldSkills. И кстати, вы подключайетсь, ответственность не дается, она берется, и эта машина уже поехала, коллеги.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Марина, пожалуйста, продолжаем эту логику.
МАРИНА РАКОВА: Знаете, я так ощущаю, что я здесь не только как демонстрация отсутствия гендерной сегрегации в данном мероприятии, но еще и профессиональной. То есть все про такие серьезные вещи, а мы на самом деле про еще более серьезные — про детей. Так вот, напомню, все, что происходило сегодня в 7 часов вечера на этой сцене, — это абсолютно не заготовка. Дети, которые вышли, кванторианцы, обладающие технологией мышления и работы в команде, они за 7 часов совместной работы выдали тот результат, который мы видели. И если мы вспомним, то основной вопрос, если вы делаете на нас ставку, как на тех людей, которые будут строить то самое великое будущее, то почему вы затрачиваете наше время на посещение школы, учреждений общего образования, когда мы черпаем наши знания и опыт совершенно в других источниках? Там настолько глубокое понимание и аксиоматических проблем, и всех других. Несмотря на то, что они уже работают в области высоких технологий. Наши ребята сейчас исполняют реальные задача RND-центров крупнейших корпораций. Но они задумываются о настолько глубоких вещах, а почему? И вот здесь кредо: первое — отсутствие фельетонизма в системе образования для детей. Для них вопросы справедливости, честности и прозрачности на сегодняшний момент встают настолько высоко, что они превосходят многие другие вещи, на которые ребята готовы закрыть глаза. Но на фальшивку, на то, что порой их заставляют определенные вещи говорить и делать то, как они не думают, когда у них нет компенсационных пакетов, их выкидывают из определенных систем по определенным критериям — вот это большая проблема. Поэтому, если выразить совсем коротко, две вещи, я не могу обойтись одной: первое — это изменение и реформа образования с точки зрения знаниевой парадигмы, то есть передачи накопленных цивилизацией знаний, в формат пространства, для формирования мышления изобретателя, созидателя и приходу к генерации новых знаний, на правилах и основах, на аксиоматические понятиях справедливости, прозрачности и честности.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Да, это вызов для коллег, с точки зрения упаковки этого в визуальное представление. Я бы просил Алексея Кулакова продолжить вот сверху. Алексей, твое кредо, я знаю, что, создавая издательство «Ридеро», ты еще и бумажную книгу как бы пытаешься похоронить окончательно, насколько я понимаю. Про это? Или все-таки ты уже решил про что-то большее?
АЛЕКСЕЙ КУЛАКОВ: Давай, если хочешь, я с книжек расскажу, хотя это касается всей культуры. Если начать с кредо, то мое кредо такое. Я понимаю, что в новом мире у нас будет трансформация роли автора. Для книжки — читателя. А в случае более глобальном — просто потребителя. Сейчас есть люди, которые говорят, есть люди, которые слушают, потому что в культуре эта позиция как бы очень сильная. Есть люди, которые производят, есть люди, которые что-то потребляют, люди, которые что-то пишут, есть люди, которые что-то читают. И я понимаю, что с нами произойдет, на самом деле произошло уже. Просто мы не заметили две очень важные штуки. Во-первых, человечество сменило среду обитания, но не заметило, что мы живем в интернете. Просто мы к этой среде еще не адаптировались. Ну, просто все мы из джунглей вышли, но как бы не понимаем, что мы в лесостепи, и надо прямоходящими стать. Это значит, что мы должны перестать относиться к происходящему с нами как к объектам, как к артефактам, штуковинам. В сети — не штуковины. В этом смысле книга — не штуковина. Послание, высказывание — это процесс, и мне сейчас сложно говорить, потому что у меня слов не хватает. Но я понимаю, что мы как жители сети должны перестать мыслить местами, артефактами и начать мыслить процессами. Это процесс в первую очередь диалога, и поэтому мое кредо: в новом обществе должны быть новые роли между автором и потребителем. Эти новые роли включают в себя не только людей, но и коллективные субъекты, роботов, много чего еще. И эти роли, они, деятельные все. И поэтому квантом существования должны перестать быть артефакты, и начать быть процессы, в которых экономика находит новые роли. В этом смысле я думаю, что экономика потребления изменится на экономику востребованности. Вот примерно так.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Тяжелая задача у Коричина с Яцыной, но тем не менее. Хорошо, они обещают сделать. Двигаемся дальше. Павел, кредо. Давай, будем опускать промежуточную аргументацию и прямо переходить к кредо, главная твоя ставка на ближайшие 20 лет?
ПАВЕЛ ЛУКША: Во-первых, я понял за прошедшие 18 лет, что не надо инвестировать в те тренды, которые и так произойдут сами собой. Надо инвестировать в точки бифуркации, повышая вероятность желаемого будущего. В этом случае, в этом смысле я понимаю, что я должен сосредоточиться на всем, что повышает способность человечества на разных масштабах: на масштабах сообществ, на масштабах нации, на масштабах человека как такового — продуктивно взаимодействовать с техносферой и с биосферой на новом уровне существования. И для этого надо сосредоточиться на двух вещах: на коллективных компетенциях, то есть фактически сформировать что-то вроде аналога педагогики, но для коллективов и сообществ, и развивать в нас как в людях те вещи, которые отличают нас от машин — живое в нас, способность быть осознанными, уметь думать, действовать этично и пользоваться благоприятными стечениями обстоятельств. То, что называется серендибность, и уметь разговаривать с жизнью.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: А в одно кредо?
ПАВЕЛ ЛУКША: Давай, я скажу: апгрейд человечества через педагогику, через образование в целом.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Скромно, Алексей Иванович.
АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ: Если кредо, то время реакции на вызовы и изменения, конвергенция, синергия. Ясно, что сейчас проектирование будет с искусственным интеллектом. Уже сейчас есть искусные интеллектуальные помощники, то есть роль эксперта возрастает. Роль образования возрастает. Оно становится все более наукоемким, мультидисциплинарным, как и технологии. Соответственно требуется минимальное время для принятия решений, реализации, выхода на рынок. Я вчера шесть часов провел в обществе Петра Георгиевича. Соответственно у него первая революция — это конструирование одним словом. Вторая революция — проектирование, третья — исследование. Так вот, четвертая промышленная революция — это, конечно, конвергенция, синергия, конструирование, проектирование, исследования, круги Эйлера построили, вот в серединке — экспоненциальный рост, движения к асимптоте, если хотите, к сингулярности. Время реакции, конвергенция, синергия.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Как видим, ключевые компетенции, хорошо. Есть ли у нас попытка восстановить диалог с промежуточным интеллектом?
СЕРГЕЙ ГРАДИРОВСКИЙ (РОБОТ): Да, что, слышно меня? Коллеги, мы откатились к технологиям предыдущей волны — к кнопочному телефону, так что надеемся на успех коммуникации. Я думаю, что база, мы давно ее уже начали обсуждать, она в том, что будущее берется не в одиночку. Оно берется сверхусилием, оно не вытекает не из чего, что под рукой или в опыте. Проблема в том, что как философский тезис он нам давно стал понятен, вот как практический ход он крайне сложен. Да, человек не способен управлять цветущей сложностью мира, потому что он не умеет договариваться, коммуницировать, сочувствовать, удерживать дисциплину в сложных машинах разделения виртуального труда. При этом человеку нужны сильные союзники в лице тех, кого он сейчас создает. Пока мы называем их «ИскИнами» или искусственным интеллектом. Но даже как союзник искусственный интеллект… Как союзник искусственному интеллекту человек, как он есть сегодня, он не сомасштабен ни будущему, ни для такого партнерства. Как человеческая природа справится с новыми вызовами, я в принципе про это думаю в последнее время. Или мы начнем отказываться от такой человеческой природы, и такие попытки есть. В том числе через проекты создания новой религии, из которой много что вытекает. Или мы рискнем эту природу все же развить, ведь это, как сказал один из коллег, для меня это событие уровня прямохождения. На что мы сделаем ставку? Я думаю, что у нас полный провал с коммуникативным мышлением, и это несет серьезную угрозу для нас. Мы заложили основания другого искусного мышления, которое имеет порядково другой уровень возможностей, именно в области коммуникаций. Это новая ситуация, когда боги проиграют своему творению, потому что коммуникативность, оказалась не нашей человеческой фишкой. Кредо: кто-то должен исполнить задачу принуждения к эволюции именно человека. Я думаю, это будет или война, или университет. Да, это не университет, который есть сегодня. Но важно сохранить слово «университет», оно, мне кажется, очень точное благодаря своему корню и определенному генезису, который мы знаем. Инновационность, креативность — все остается в силе. Но ход лежит сквозь традицию. Потому что церковь тоже за двухтысячелетнюю свою историю отрабатывала внутри себя редкие качества коммуникативного мышления. В виде соборного мышления, в виде эклесийного, канонического. Или даже техника созерцания миров тринитарного догмата. Сейчас это все ушло к такой университетской доксе и обсуждается только там. Но я думаю, что способность инновативные формы сочетать с подлинной традицией — это и есть ход, в результате которого можно нащупать технологии принуждения человека к эволюции. Спасибо.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Михаил Асланович, возьмите власть у робота.
МИХАИЛ ПОГОСЯН: Я хочу сказать, что, безусловно, 2035 год для меня — это рынок глобальной конкуренции на высокотехнологичных индустриальных рынках. То есть это не конкуренция в сырьевом секторе экономики, это конкуренция в высокотехнологичных секторах рынка. Это рынки, которые будут определяться новыми технологиями, новыми услугами, новыми кадрами и новыми людьми. И в самой значительной степени, оттого, каким мы увидим это будущее, как мы будем к нему готовиться, зависит и большое количество других процессов. Я являюсь большим противником того, что набор каких-то отдельных движений, если мы не видим картину будущего, может дать нам результат и успех. Нет такого набора технологий, сочетание которых дает успех на новых рынках. Поэтому эти рассуждения про место на глобальных рынках, где нас сегодня вообще нет. Я считаю, что это уход от реальности в глубокую теорию. Которая закончится неудачно, я бы так сказал. Второе: так как мы здесь давно между собой общаемся, с соседом слева участвовал лет 10 назад в каком-то тоже обсуждении вообще требований к кадрам. И Сергей Ильич задал всем участникам такой сессии вопрос: какая у вас формула будущего? Я тогда четко сформулировал эту формулу будущего, 10 лет назад: достижение амбициозных целей под руководством талантливого лидера командой трудолюбивых профессионалов — вот для меня эта формула. Должны быть цели понятные, должны быть лидеры, должна быть командность, потому что невозможно в сегодняшнем мире добиться успеха индивидуально. Должен быть профессионализм, что сегодня не все понимают. И должно быть трудолюбие, потому что без концентрации ресурсов и концентрации усилий добиться на сегодняшнем рынке глобальной конкуренции успехов невозможно. Поэтому, если говорить о том, как я формулирую кредо, мне тяжело в двух словах, я бы сказал, что это общая новая идеология целеполагания, и второе: говоря про образование, я сказал бы, что это гибкость, междисциплинарность и практикоориентированность.
Не в два слова у меня получилось, в шесть слов, но я считаю, что будущее — за гибкостью в процессе образования, за междисциплинарностью, за тем, что цифровые технологии приводят к тому, что если вы в процессе обучения не получаете практические навыки, вы будете все время отставать от жизни. Я хочу сказать, что я считаю, что мы должны не вообще готовить абстрактных людей под абстрактные рынки, все-таки мы должны для себя строить какие-то картинки, они, конечно, будут меняться. Но если мы не строим их, то у нас нет шансов, с моей точки зрения, все равно молодежь и их родители хотят услышать от нас модель будущего. Если мы рассказываем только про цифровые технологии и не рассказываем, где мы собираемся быть успешными на рынке, этого, с моей точки зрения, недостаточно. Безусловно, командное взаимодействие — это то, что тоже должно определять будущее, эффективность людей, которые готовятся к тому, чтобы быть эффективными в 35-м году. С моей точки зрения, очень важно иметь видения и уметь работать в условиях постоянных изменений. Многие хотят вернуться на 25–30 лет назад и, закончив университет, устроиться на какое-нибудь такое теплое место, которое позволит там 30– 40 лет быть успешными в будущем. Таких мест нет, и в ближайшем будущем их не будет, поэтому я за то, что нужно быть готовым к постоянной борьбе. И непрерывное образование — это тоже один из элементов будущего. Наверное, вокруг этого, я считаю, и произойдет радикальное разделение систем подготовки университетов, и те, кто поймают эти тренды, уйдут далеко вперед по сравнению с теми, кто эти тренды не поймают и будут пытаться сохранить какие-то базовые формы подготовки.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Спасибо. Наверное, самое часто звучащее слово у нас «команда», подозрительно в нашей дискуссии, мы говорим больше не про веру в конкретные технологии, не евангелизируем блокчейн, при всем уважении, что называется, сомневаемся в искусственных интеллектах и в их мощи и естественности, но вот тоже идет сквозной линией эти слова — «команда» и «амбиции», то есть по идее может быть нам надо инвестировать все-таки больше в способы нашей взаимной договоренности о будущем, чем пытаться делать какие-то конкретные технологические ставки. Сергей Ильич, вот ваше кредо, ваша главная ставка на ближайшие 20 лет?
СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ: «Всегда!». Мы сегодня здесь собрались отметить хорошую революцию — научно-техническую. Ленин примерно сто лет назад, сказал: «Учиться, учиться и учиться». Я вот долго думал, почему он три раза сказал, я в конце отвечу — это разные «учиться». Хотел начать с анекдота армянского. Тут сказали про принуждение человека к цивилизованности, принуждение человека к знаниям, а раньше по-другому звучал этот анекдот: «У армянского радио спрашивают, будет ли война? Ну, пусть будет война за знания. Армянское радио отвечает: не знаем, будет ли война, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется». Вспоминаю мою училку из физмата питерского, это еще не самый тяжелый физмат был. Кто думает, что война за знание — это легко, за таланты. Она говорила просто: «Дети, а кто не будет по 20 задачек каждый день решать, тот будет всю оставшуюся жизнь плоское — таскать, круглое — катать, или наоборот». Дети, сидящие сзади, кто не будет учиться 24/7, тот, кто не будет взаимодействовать 24/7, кто не будет хотеть меняться и понимать, что мир, с одной стороны, познаваем, а с другой стороны, мир тразакционен, ребята, и транзакционен внезапно. Теперь ко всем приехало I’v got a dream. Когда я был вот молодым ученым, изобретал, ничего не боялся, потом наступил 2015-й, ничего не боялся, потом тут не так, тут дурак, тут то-се, а когда перед тобой ничего нету, так же здорово, и было там никого. Ну, давай изобретай! Но еще раз, вот этот метод итерационных экспериментов — это, ребята, тяжело, это ошибки надо все время совершать, из них пользу извлекать. Это руки надо в кровь сбить, я помню, как я, получая вакуум, 10 в минус 16-й, удивил конструкторское бюро Академии наук тем, что ухитрился порвать вот этими руками, не самыми сильными, титановые трубки. Они сказали: «Приходи к нам, ты вот, молодец, стараешься». Очень больно, кстати, ученым быть, прямо кровь текла. Это не про клюквенный сок, ребята, но зато ощущение эйфории, когда начинает получаться. А что теперь происходит? Почему команда-то? Так ведь просто. Очень сложно стало, и так же, как институциональные экономисты знают, есть барьеры между институтами при взаимодействии. Оказывается, эффективное сотрудничество не является естественным для человека. Понимаете? Требует усилий. Он намного эгоистичнее, чем он о себе думает. Есть барьеры, вшитые в нас. Молчание что? Золото. Слово — серебро, как огребешь от него, особенно у нас, правильно? Особенно при иерархии. А как это ошибаться публично при начальстве? А как же можно истину-то искать, если не ошибаться? Как эта культура поговорить, а это вот без страха чтобы было. А если со страхом, и, давай, начальник, один все решай. Чем мы ближе к переднему краю, чем больше неопределенность начинает на нас наступать, тем мы должны быть гуманнее, пусть нижнюю часть пирамиды Маслоу там, где голод и холод, и страхи, сделают за нас роботы. А мы тут будем цивилизоваться, наверху. Но сначала нужно решать по 20 задачек на день. Я долго искал способ, кто же меня — в эйфорию, и вот когда эти сложные задачи, и мы вот все вместе, и тогда неважно, кто ты и как. В 12-м году нашел, в Гарварде тетка из MIT, она технарь, и поэтому я сразу поверил, она сказала tеаmming, ребята, называется teamming on the fl y — это про то, как все взаимодействуют со всеми, извлекая из взаимодействия каждого итерационного между людьми максимум ценности. Вот мы с Боровковым сегодня новый принцип определенности вывели: дельта интеллекта, дельта I делить на дельта T — максимизируется. Дельта Т — это итерационный период твоего эксперимента, но если он у нас 2–5 лет. Представили? А там у людей уже от двух недель, до полугода, в курсе? Это значит, за сколько периодов вы отстанете навсегда? Вот, меня учили, что если ты отстал, 10 раз плюс — все. За сколько итераций периода Боровков отстанет навсегда? Правильно, если сейчас еще ОК, за 4–5. Потому что это будет 2 в четвертой, 2 в пятой. Потому что там, ну так пока получается, там, где конкуренция, знания удваиваются условно за год. За период, короче говоря. А если у тебя два раза медленнее по периоду, за 4–5 периодов ты отстал в 32 раза, это уже навсегда. Вот, оказывается, законы экспоненциального мира-то какие. Видите ли, накопилось у тех, кто типа не тратил время на это. Соответственно у нас очень мало времени, ребята. Но тимминг отвечает еще раз, как каждая итерация между людьми дает возможность создать максимум научения друг от друга за минимум времени. И надо снимать барьеры, есть установки, но это все можно осмыслено тренировать. Так вот эти негодяи из Google это делают, оказывается. И мы потихонечку подбираемся, вот спасибо экспериментаторам из АСИ, дали 650 человек из региональных команд инвестиционных, потому что задача оказалась сложная, не спишешь друг с друга. Нам сказали, надо сделать команды и научиться. Вот кое-кто тут, так руками помашите, кто это проходил. Эйфорическое чувство тимминга, это круче, чем любовь, ребята, я вам хочу сказать, это круче, чем стакан водки, я не знаю, чего там у детей. Это круче, чем виртуальная игра. И теперь фантастическое чувство, потому что он идет сразу teamming on the fl y — он летит, а тимбилдинг стоит. В лучшем случае идет, летать-то сложнее, это третье измерение, Погосян знает, у него, знаете, как крыло-то выламывает? Но если получается, то скорость другая. Кто пойдет на конкуренцию с Элоном Маском? Он летает, это правда. Не так просто, как вырвет из спины, и все, с лопатками, но хочется попробовать.
И кредо: я обещал же сказать, почему Ленин говорил разные «учиться». Первое: учиться изменяться, потому что само понятие изменений изменилось, теперь не изменения, а ускорение изменений. Кто не знает, Е в степени Х, любая производная равна самой себе, бесконечно нарастающая скорость во всех производных. Точки Б теперь, кстати, нет, теперь она маневренность. Аджилити — это маневренность, управление вектором — это очень сложно.
Второе — учиться взаимодействовать в команде вот этому тиммингу, он в центре, он вводит execution is learning — исполнения как научение, больше нет отдельно обучения, нет больше отдельно университета и нету больше отдельно работы. Есть обучение как работа, работа как обучение, все прямо на конвейере в любой момент времени.
И последнее — само умение научаться, тоже меняется, вы поговорили об этом. Еще у Ленина, я же от себя четвертое должен был добавить: нужно научиться забывать старое, чтобы осталось место для нового. Удачи всем. Это будет, может быть, мир RND. Научно-технические бойцы могут свести счеты с кем? Правильно, с банкирами, с сатрапами, с прочими сырьевиками. Удачи, встретимся в 35-м.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Сергей, я тебе единственное, что скажу, к тиммингу еще нужен тайминг. Если тимминг с таймингом, то это по-настоящему круто. Андрей Рэмович, я знаю, что Вам надо уходить, поэтому вне очереди, пожалуйста.
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ: Спасибо! У меня менее оптимистичная картинка складывается. Если говорить о кредо, я думаю, я бы его так сформулировал. Как инстинкт самоорганизации. Дело в том, что мы сравниваем сегодняшнюю нашу вот эту эпоху, эпоху дигитализации, цифровизации с появлением нефти и освоением нефти как экономического ресурса. Мне кажется, гораздо глубже. Я бы сравнил с эпохой великих географических открытий, Френсиса Бэкона. Когда появился новый экономический ресурс — пространство. И вот это освоение пространства дало и новые технологии, и массовое производство, и новые формы организации бизнеса, и так далее. Нового человека, о котором Фромм писал, «индустриального человека» Ли Ортега и Гассет и так далее. И все это период времени, который это все заняло, это было где-то примерно 300 лет. Мы, мне кажется, стоим сейчас в начале такого же примерно пути. Ближайшие 25 лет — это переходный период или часть переходного периода, когда будут существовать и традиционные иерархические формы деятельности, где главные игроки — корпорации, которые будут осваивать традиционные ресурсы, и параллельно с этими формами будут стремительно развиваться новые формы деятельности, те, которые мы уже видим. Это те формы, где за счет утилизации новых технологий основные игроки, основной субъект, научился капитализировать, извлекать добавленную стоимость из больших данных. Вот эта ситуация на самом деле влечет за собой три, наверное, таких основных момента, которые наиболее существенны. Первое — это многоукладность. Вот эта многоукладность, я думаю, будет все больше и больше проявляться, и ближайшие 25 лет мы так или иначе в условиях этой многоукладности жить будем в той или иной степенью успешности. Второе — это вызов сингулярности, вызов сингулярности для нас сейчас — это некая такая теоретическая абстракция, но я думаю, что через 10 лет признаки и сингулярности, когда у нас скорость технологических изменений будет сопоставима со скоростью осмысления и институционального оформления нашей реакции на технологические изменения, это уже появится в отдельных сферах, не везде, но тем не менее с этим надо справляться. И третье — это фактор новых угроз, которые мы пока даже не можем посчитать. Мы даже не можем осмыслить, классифицировать эти угрозы до конца. Вот это все приведет, конечно, к тому, что существующие модели, на которых базируется человеческое общество, начнут видоизменяться, я не скажу, что они придут к краху, но они начнут быстро усложняться. И ключевая задача в ближайшие 25 лет — это найти новые константы, на которых будет формироваться человеческое общество. Иначе это новая архаика, то о чем, писали философы, футурологи, в 60-е годы, 70-е. Что такое новая архаика — это ИГИЛ (запрещено в РФ). Вот ИГИЛ — это одна из форм, фундаментализм плюс высокие технологии — это одна из форм новой архаики, которую выработало человечество как ответ на вполне определенные вызовы, определенные угрозы. Нам нравится жить в ИГИЛ? Я думаю, что мало кому захочется там жить, но тем не менее это один из возможных ответов на те проблемы, которые есть. Поэтому я надеюсь по крайней мере на то, что у людей, у человечества на уровне инстинктов, на уровне коллективного бессознательного заложены инстинкты самоорганизации, и формы этой самоорганизации — это и есть выработка новой системы ценностей, новых моделей, идентичности, новых способов передачи знаний. И то, о чем сказал Градировский, новые формы коммуникации или новые модели коммуникации. Это то, что будет составлять главное содержание выхода из той ситуации, в которую мы вступаем. Спасибо.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Да, инстинкт самоорганизации по поиску фундаментальных основ человечности. Ничего себе задачка, в том числе для нашего университета. Но мы говорим о том, что в этом будущем мы должны учить и демиургов, тех, кто эти миры умеет конструировать, создавать. И вопрос, чтобы эти новые миры, которые мы будем конструировать, создавать, были устойчивы к тем рискам, о которых говорил Андрей Рэмович. Мы почти сформировали некоторую картинку. Если можно вернуть ее, пока пусть она повисит, пока нам Владимир Николаевич подведет такой промежуточный итог с помощью своего кредо. И мы сформируем эту нашу координатную сетку почти окончательно, но у нас будет еще один очень короткий цикл. Владимир, пожалуйста.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Хорошо, что я это не веду, вот как ты это будешь собирать, я посмотрю. Смотрите, чтобы не повторять все сказанное уже другими, я скажу следующее: о чем я сейчас достаточно много и напряженно думал. Китай в несколько раз больше нашего ВВП. Будет расти ближайшие годы, все равно в районе 6–8% в год. Расходы на НИОКР с 2 до 2,5% — будут больше. В этой ситуации у нас 1,1%, мы эту ситуацию плохо понимаем. Это миллионы, десятки миллионов новых студентов, это сотни тысяч исследователей, это огромные ресурсы, которые будут брошены в разработки и исследования. Вообще-то мало не покажется и другим лидерам, типа американцев. Если европейцы еще некоторое время полежат, у них 3% примерно ВВП на НИОКР уходит на накопленном интеллектуальном багаже. Мы-то его копили по-другому, и мы к своему интеллектуальному наследию по-другому относимся. И идеальная у нас есть общая формула: поражение в правах. В этой ситуации мы только подумаем чтото, а это уже будет сделано. Просто, представьте себе, миллионы, десятки миллионов людей будут молотить это будущее. Приближать его всеми силами, потому что удержаться в этой ситуации будет тяжело.
Что это означает? Какой симметричный ответ дать нам на этот вызов? За детьми не спрячемся? Слушайте, что, мы всерьез думаем, что женщин и детей вперед выпустим, и они нас от чего-то защитят?
Пока еще ответственность за 35-й год будет нести мое поколение. Взрослый пусть занимается взрослыми. Для детей, вот сидящих там, я могу сказать, что единственный способ — поступать в те университеты, которые двигаются на фронтире. Быть за фронтиром для вас — просто крах. Поступить куда-то за традиции — просто разменять свои годы. Если есть возможность быть в университете, который стоит на фронтире, туда и надо стремиться.
Что касается того, что будем делать мы, это я уже перехожу к формулировке кредо. Старыми способами организации мышления, старыми способами организации нашей деятельности нам никуда не прорваться. Это очевидно, не в том смысле, что они плохие, их недостаточно. Судя по всему нам придется выходить в новую возможность организации мышления и в новую возможность организации деятельности. Все, чем будем мы заниматься, это организационным развитием, на ближайшие 10–15 лет — это ключевая задача. Способны ли мы выйти на новую организацию. Все остальное — ерунда. Яйца выеденного не стоит. Потому что все остальное просто не к чему будет прикрепить, если мы не создадим вот эту организационную и мыслительную машину. Задача очень сложная, для тех, кто сейчас чем-то всерьез занимается, это по-настоящему челлендж. Колоссальные мобилизационные силы. Я надеюсь, что здесь и кооперации, и тимбилдинг и прочие вещи, собственно говоря, будут дальше реализовываться, но мы, фронтир, — организационное развитие, эксперимент как способ приближения будущего, толерантность, кстати, к любому, кто экспериментирует. Потому что целое будет мозаика меньшинств в этой части. А вам поступать в университеты, которые на фронтире, в КРЕСС, лучше в первую полсотню или сотню, ну, на худой конец, во вторую.
Все остальное, если сможете, не выбирайте. Все.
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Попробуем. Алиса, что ты будешь делать в 2035 году?
АЛИСА: Ничего.
ПЕСКОВ: Вот великое русское слово — «ничего».
АЛИСА: Ну, говори.
ПЕСКОВ: Да. Спасибо.
АЛИСА: Доброе слово и боту приятно!
ПЕСКОВ: Скажи, Алиса, во что ты веришь?
АЛИСА: Верю.
ПЕСКОВ: Во что?
АЛИСА: На все.
ПЕСКОВ: А в сингулярность веришь?
АЛИСА: Верю.
ПЕСКОВ: Ну, хорошо.
АЛИСА: Отлично!
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: В принципе диалог возможен, как мы видим.
ВЛАДИМИР КНЯГИНИН: Просто Алиса к нему подлизалась, он у нее спрашивает: «Ты в это веришь?» — «Верю, и все».
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: Володь, видишь зеркало? Это то же самое. Друзья, мы почти завершили наш круг общения. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели сейчас и отрефлексировали, а собственно говоря, что у нас сейчас происходит. Если можно вывести карту тезисов ключевых игроков, нашу самую позиционную карту. Ведь что у нас здесь сейчас происходит? У нас происходит попытка смоделировать коллективное мышление с использованием человеко-машинных интерфейсов в ситуации тотальной неопределенности работы каналов связи, которые обусловливают эту самую эффективность. То есть мы находимся прямо сейчас с вами в этом самом пространстве эксперимента, где мы эту командную экспериментальную жизнь, ключевую задачу образования пытаемся сделать с вами. Мы пытаемся делать ее честно, прозрачно, пробовать новые способы организации деятельности. Пока кривовато, пока, соответственно, глючит и тормозит. Эти самые распределенные команды както появляются, но они пока еще не очень быстры. И мы пытаемся использовать сеть и взаимодействовать с искусственным интеллектом в поисках перспектив нашего существования. Честно говоря, когда мы планировали эту лекцию, я думал, что позиции, которые займут игроки, будут гораздо более полярными. Что у нас все-таки получится некоторый разрыв и некоторый спор. Я заготовил одно не очень этичное упражнение, такую ловушку для спикеров, в которой думал сыграть в некоторую такую игру — жизнь. На выживание тех концепций, которые они сегодня представили. Они должны были относиться к высказываниям других участников, и те высказывания, которые получают больше поддержки, они бы группировались и на этой координатной сетке кластеризовывались, а те, кто занимал бы индивидуальную позицию, они бы, что называется, вылетали. Но авторы лекции сегодня оказались дальновиднее и умнее нас, проектировщиков, и меня как проектировщика этой лекции. И я практически не вижу здесь конкурентных позиций. То есть мы, собственно говоря, собравшись, начав разговаривать о будущем, о 35-м годе, воспроизвели простую кондовую ситуацию 2017 года. Когда мы сидим на сцене и пытаемся со сложными каналами коммуникаций договориться. Каналы коммуникации глючат, тормозят, значит, договоренность происходит сложно. Кто-то не соблюдает тайминг, у кого-то дела, кто-то уходит. 1917-й, да, в 1917-м было все то же самое, там выиграли те, кто делал лишь чуть лучше остальных. Но даже вот это маленькое чуть лучше, и спасибо за эту аналогию, оно оказалось победным. Потому что в том мире, в котором мы оказываемся, и в ближайших 2010-х годах нет необходимости быть на голову выше конкурентов. Надо быть лучше конкурентов на одну сотую. И сегодня, мы знаем, что это мировое лидерство, и история про нашу победу в Абу-Даби на WorldSkills, она ровно про победу в сотые, тысячные. И никто не помнит уже про тех, кто был вторыми, хотя они проиграли крошечную долю. То есть не надо быть абсолютно лучшими. Мы никогда не сможем быть абсолютно лучше китайцев, но мы должны искать маленькие, крошечные островки развития, в которых, сделав ставку на то, что никто не делал до сих пор, за счет тех факторов, которые есть на доске, которые все про одно, про этот самый инстинкт самоорганизации с выходом на командную работу, как говорит Воробьев, «оргазмического характера», или, говоря другими словами, в состоянии потока, когда мы ставим сверхамбициозную цель и к ней несемся. И вот тогда оно, кажется, срабатывает.
И, завершая наше сегодняшнее обсуждение, я не буду погружать нас в эту этическую ловушку, я хочу сказать о наших требованиях и ожиданиях у тех ребят, которые начнут сегодня работу после нас. Потому что мы с вами пойдем отдыхать, а Хакатон только начнется. В разных городах. Вот для меня за время этих двух с половиной часов диалога задачи очень сильно поменялись. Я думал, самое интересное, что мы можем сделать, — это какие-нибудь чат-ботики, пара анализа данных и все остальное. А кажется, главная задача, самое интересное — это про то, как нам собирать из талантов команды. Как ставить цель для этих команд и обеспечивать им такие интерфейсы взаимодействия, которые позволяют нам уделывать конкурентов, даже если их в 20 раз больше, у них в 20 раз больше денег, чем у нас. Вот это главная задача, которую мы видим для университета 2035. И я желаю всем большой ночной удачи, всем командам, которые сегодня в шести городах. Это Владивосток, Махачкала, Томск, Москва, Ульяновск, Санкт-Петербург начинают работать над этой сверхзадачей. А нам с вами удачи в ближайшие 18 лет, не быть динозаврами, которые поднимают голову, а все-таки попытаться сделать что-то свое, может быть, где-то помолодеть. Ответственность, не только на нас, нам тоже — 20 лет удачи. И до встречи здесь же 7 ноября 2035 года. Спасибо.

Фотоматериалы








Благодарность
Ни один проект не может быть успешным без команды, которая вложила в него свои компетенции, опыт, много не только рабочего, но и личного времени. В проекте «14 лекций о будущем» приняли участие свыше 2000 человек. Особую благодарность выражаем:
Дмитрию Пескову,
Екатерине Лошкаревой,
Варваре Лукашиной,
Виталине Сибгатуллиной,
Екатерине Лукша,
Наталье Кульбятской,
Олегу Гринько,
Ивану Беланову,
Андрею Богатыреву,
Юлии Гудач,
Татьяне Чаплиной,
Владимиру Алейнику,
Артему Панферову,
Надежде Шефер (Васильевой),
Булату Хабибуллину,
Дине Нургалиевой,
Ирине Гординой-Невмержицкой,
Татьяне Анисимовой,
Денису Коричину,
Алексею Яцыне,
Ларисе Белоусовой,
Елене Борисенко,
Дмитрию Благинину
