
Бесплатный фрагмент - Золото лепреконов
Лесной гном Абрбнуль

Лесные гномы вылупливаются из яиц. Весной в дуплах старых осин появляется кладка — крупные пепельно-серые яйца, зарытые в труху. Кто или Что их откладывает — не ясно, однако бытует мнение, что эти яйца несет само дерево. О лесных гномах вообще известно мало: они немногочисленны и водятся в самых глухих чащобах труднопроходимых эльфийских лесов. Лесные гномы живут один цикл. Они рождаются ранней весной и веселятся все лето напролет. А когда приходит время холодов, маленькие волосатые создания собираются вместе, свиваются в клубки, зарываются в дерн и засыпают. Говорят, на том месте, где заснул клубок лесных гномов, вырастает новое дерево.
Лесные гномы непоседливы и шаловливы. Их жизнь до отказа заполнена играми, плясками и проделками. Они не спят и почти совсем не отдыхают: бегают, прыгают, веселятся и развлекаются в свое удовольствие дни и ночи напролет. Гномы — добрые и мирные существа, их шутки не приносят никому зла. Все их любят и всячески балуют: белки кормят орехами, хомяки — семенами, а вороны… даже скряги-вороны приносят лесным гномам свои блестяшки. Можно сказать, что лесные гномы — это и есть сама душа леса. Даже лешие — неповоротливые и грозные хозяева трясин — рассказывают гномам страшные, но интересные сказки.
Жизнь лесного гнома привольна, но коротка. Гномы рождаются уже с бородой, одежда им не нужна. За лето они успевают обрасти густой шерстью и отпустить такую длинную бороду, что она волочится по земле и то и дело путается в ветвях и кустарнике. Казалось бы, длинная шерсть нужна для того, чтобы пережить долгую зиму, даже самую холодную, но гномы не зимуют. Они не делают запасов, не строят домов. Их первым и единственным убежищем служит дупло, которое они покидают после рождения и куда больше не возвращаются никогда.
С наступлением первых осенних заморозков лесные гномы чуют Зов. Зов зовет их собраться компанией и оттузить друг друга хорошенько — повеселиться особенно крепко, ухватить приятеля за ухо или за нос, оттаскать за бороду, попинать всласть… Зов этот настолько силен, что лесные гномы подчиняются ему безоговорочно. В конце осени шалуны собираются в кучки по всему лесу. Они дерутся, борются, ворочаются, катаются по земле, кувыркаются, веселятся, забывая о холодах и дождливом ветре. В каждую кучку собирается по семь гномов. Семерка гномов свивается в плотный шар, шар этот крутится, брыкается без остановки до тех пор, пока гномы окончательно не запутаются, не переплетутся своими бородами и отросшей, длиннющей шерстью. В конце концов, все семь плотно упаковываются в клубок и уже не могут распутаться, даже если захотят. Но они и не хотят. Им уютно и тепло. Остывающая природа оказывается где-то снаружи, а гномы — внутри своего мирка. Укрываясь от холодного ветра и первого снега, клубок зарывается в дерн и сладко засыпает… навсегда.
Все лесные гномы выпадают из дупла лицом вниз, но Абрбнуль, падая, приземлился на спину и уставился прямо в небо. Абрбнуль на языке леса так и переводится: «лицом вверх».
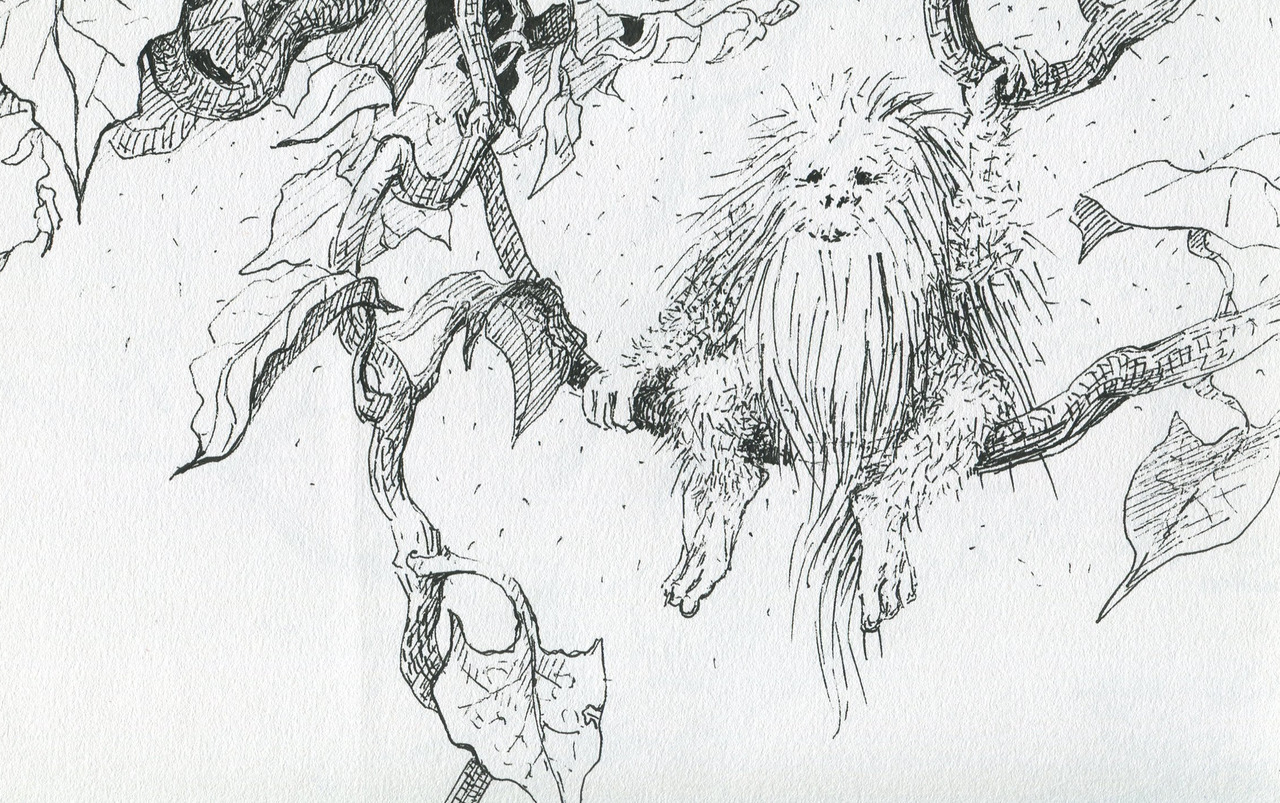
Он лежал на оттаявших, пригретых солнцем пахучих прошлогодних листьях и смотрел, как по небу проплывает Отец-рыба, а за ним луна, вылетев из Большой Головы, сменяет ночью день. Было красиво и тихо. Кое-где уже показались самые крупные и жирные светляки звезд. Абрбнуль зевнул, перевернулся на живот и зарылся в прелую листву, решив доспать.
Немного погодя потеплело. Холодные струйки живых ручьев разбудили Абрбнуля и всех остальных гномов. По всему лесу закипала жизнь. Птицы вили гнезда. Из своих коконов выползали бабочки и шуликуны. Ручейки наполнялись талой водой, стекались в ручьи побольше, те, в свою очередь, в ручьи еще побольше, которые впадали в реки, реки разливались, питая окрестные луга, текли в океан, где пираты, разминая затекшие за зиму кости, ползли по реям, поднимали флаги, расправляли паруса навстречу весеннему ветру, грабежам и золоту.
Весна нагрела поляны и трущобы эльфийского леса. Тут и там слышалось кряхтение, зевание, бормотание и возня. Абрбнуль разгреб листву и огляделся. Неподалеку скрипела старая осина, виднелось дупло, из которого он недавно выпал. Глядя на дупло, Абрбнуль задумался.
Надо сказать, что все это было несколько странновато. Странным было то, что он смотрел вверх. Лесные гномы очень редко смотрят вверх: их мир — это мир трав, листвы и дерна, корней и нор. Второй странностью было то, что Абрбнуль думал. И, заметьте, не мечтал, как это делают многие его собратья, но думал всерьез. «Какой-то я не такой… почему?» — спросил сам у себя Абрбнуль и, не найдя ответа, хрюкнул. Мысль ушла, гном захихикал и, резко подпрыгнув, схватил за хвост огромную стрекозу, собиравшуюся сесть ему на голову. Стрекоза от испуга рванула вверх, увлекая гнома за собой. Ноги Абрбнуля оторвались от земли, и он увидел, как прошлогодняя листва стремительно отдаляется, уходит вниз, а родное дупло становится все ближе и ближе. В этот момент стрекоза обессилено вильнула в сторону, и гном, оторвавшись от нее, влетел в дупло.
Такого не случалось еще ни с одним лесным гномом — Абрбнуль оказался там, откуда выпал, мало того, там, откуда он вылупился! В дупле было сыровато, но тепло. На мягкой постилке из трухлявой коры валялась сломанная скорлупа, и гному показалось, что дупло приветствует его. Всё внутри казалось надежным, уютным и теплым в тусклом вечернем свете. Отсюда не хотелось уходить. Гном долго сидел рядом с собственной скорлупой и вот, когда солнце последним золото-коричневым лучом блеснуло у входа, Абрбнулю на ум пришло одно простое, но такое приятное и, почему-то, очень важное слово — ДОМ.
Дом — это было что-то новое. Ни один лесной гном такого слова не знал. Зачем дом тому, кто живет все лето лишь для игры и прорастает в виде дерева на следующий год? Дом нужен мельнику и леприкону, киллмулису и клуракану, простому домовому, в конце концов, дом необходим. Горные гномы живут в пещерах, холмовые тролли — в недрах холмов. Лесовики выдалбливают старые деревья изнутри, а болотники вьют гнезда на болотах. «У всех у них дом есть, — думал Абрбнуль, — а где же дом у лесных гномов?» Он думал об этом, пока не настала ночь. Абрбнуль уснул в теплой трухе рядом с родной скорлупой, так и не найдя ответа на свой вопрос.
Утром он проснулся с твердой уверенностью в том, что ему нужен собственный дом. Ловко выпрыгнув из дупла, гном отправился на поиски подходящего для дома места. По дороге Абрбнуль встретил Абрпчихендрилла. Абрпчихендрилл любил чихать. Вот и сейчас, увидев Абрбнуля, он задорно чихнул, и оба гнома расхохотались.
— Куда идешь? — ради приличия спросил Абрпчихендрилл. Он ведь понимал, что идти Абрбнуль может куда угодно, что для гнома открыт весь лес и вся куча развлечений, которые поджидают его в этом лесу. Гном Абрпчихендрилл был уверен, что гном Абрбнуль может идти только в одну сторону — в сторону веселых игр. И тем сильнее было его удивление, когда Абрбнуль сказал следующее:
— Я иду строить дом.
— Ты чего? А! Это такая новая игра… я тоже хочу. Я хочу строить дом! — Абрпчихендрилл запрыгал от восторга. — Я пойду с тобой строить дом!
— Не… ты иди строить дом куда-нибудь в другое место, куда-нибудь туда… — Абрбнуль махнул рукой туда, откуда он только что пришел.
— Ха! Я ведь туда и шел! — обрадовался Абрпчихендрилл и чихнул.
— Ну, вот туда и иди, — сказал Абрбнуль и хлопнул приятеля по плечу.
Абрпчихендрилл пихнулся в ответ, чихнул особенно сильно и потопал своей дорогой. А Абрбнуль пошел своей. Весь день и следующую ночь он искал место, но ему все казалось «не совсем подходящим». Наконец — уже под утро — нашлась прошлогодняя лисья нора, теперь заброшенная, но все еще удобная и, судя по всему, пока никем не занятая. Нора имела два выхода. Один выход гном заделал куском коры, но так, что его легко можно было, если понадобится, открыть изнутри. Снаружи никто бы и не догадался, что здесь есть вход.
Строить было легко. Абрбнуль натаскал ветвей и застелил ими полы, с луга он принес душистого сена и сплел из него циновки. Занимаясь делом, гном разговорился сам с собой, обсуждая все происходящее, задавая себе разные вопросы и отвечая на них. Этот внутренний голос, в каком-то смысле, был не сам Абрбнуль, а та его половина, которая хотела построить хороший дом. Другая часть хотела к друзьям-гномам — попрыгать через колючие кусты и подразнить леших, но первая говорила, что обустраивать нору интереснее.
В конце концов, гном расширил нору, в нескольких местах подперев потолок толстыми ветками. Получилось несколько комнат и кладовая. На входе он соорудил крепкую дверь, для которой ловко приспособил навесные петли из скрученных древесных корешков. В кладовой — при помощи веток — устроил множество удобных полочек и полок, а для клюквы прорыл к поверхности еще одно ответвление так, чтобы с холодами она не портилась, но и не замерзала.

Лето шло, Абрбнуль исследовал окрестности. Неподалеку тек ручей, в котором водилась форель. Чуть дальше рос дикий малинник и гнездился баньши. С другой стороны малинника находился чудесный луг, на котором эльфы устраивали свои пляски. Абрбнуль частенько заглядывал к ним в гости и плясал до упаду ночи напролет вместе с другими лесными гномами.
Однажды, ближе к осени, ему повстречался Абрпчихендрилл.
— Ну как, построил свой дом? — спросил Абрпчихендрилл и оглушительно чихнул.
— Да, построил, — просто сказал Абрбнуль.
— А зачем?
— Сам не знаю, — пожал плечами Абрбнуль.
— Ну, пока! — хихикнул Абрпчихендрилл, чихнул и задорно толкнул Абрбнуля в бок.
Абрбнуль засмеялся и пихнул в ответ. И гномы затеяли веселую потасовку…
Прошло лето, наступила золотая осень, пора припасов и заготовок на зиму. Абрбнулю нравилось обустраивать свой дом. Он насобирал целую кучу орехов и ягод и уложил их слоями в специальные корзинки, которые собственноручно сплел из тонких ивовых прутьев. Хозяйственный гном насушил грибов и красиво подвесил их на плетеных веревочках почти к самому потолку. Он также договорился с дикими пчелами о том, что подыщет им новый удобный улей. Пообещав двум лешим немного меду, Абрбнуль заставил их выгрызть изнутри огромный древесный ствол. Пчелы вселились в новый дом, а лешие ушли довольные, сладко постанывая, слюняво жуя сладкие соты вместе с воском. Все были довольны. Но больше всех радовался предприимчивый гном — ведь он, ничего не делая, получил свою долю душистого дикого меда. Меда было столько, что должно было хватить на всю зиму.
Зима… Абрбнуль часто думал о зиме. Белки рассказали ему, что зимой неплохо, даже интересно, если, конечно, у тебя хватает запасов. Запасов у него хватало. Но иногда Абрбнуль чувствовал, как его звали другие гномы. Он искал их, находил, играл в разные игры, но этот Зов… это было что-то большее. Это было похоже на беспокойство, на тоску, на что-то, чему нет названия, может быть, на какую-то особую игру — веселую и грустную одновременно. С каждым днем Зов становился все сильнее. Но и внутренний голос Абрбнуля тоже окреп. Гном любил свой дом. И, чем лучше он его обустраивал, тем логичнее и понятнее становился его внутренний голос, и голос этот твердил о том, что нельзя поддаваться Зову, что, если он поддастся, то дом ему уже не понадобится.
Шли дни, становилось холоднее, зачастили дожди, и Абрбнуль засел в доме. Оказалось, что нора состоит из глины. Немного поэкспериментировав, Абрбнуль сделал печку-камин. Он обжег несколько глиняных посудин и кипятил в них воду, заваривая душистый травяной отвар. Он даже научился делать суп: ловил форель в ручье и варил ее с корешками и травами. К тому времени борода отросла настолько, что мешала ходьбе. Абрбнуль привык обвязывать ее вокруг пояса и даже приспособился вешать на нее корзину. Подвязывая бороду, он обнаружил, что частично прижимает ею изрядно отросшую шерсть. Шерсть отросла так, что путалась, цепляясь за кусты, и мешала ходить. Однако благодаря шерсти было тепло, несмотря на дожди и холод.
Время шло. В осенний лес пришли ветра, принеся с собой особо холодный, моросящий дождь, проникающий даже сквозь шерсть. Вместе с холодами Зов становился все сильнее. Иногда даже внутренний голос не мог его одолеть. В такое время Абрбнуль выбирался из норы и бродил по окрестностям. Однажды, в особенно промозглый осенний день, он опять встретил Абрпчихендрилла. Тот чихал, и на этот раз казалось, что не столько для забавы, сколько от простуды.
— Вот ты где. А я тебя икал… то есть, искал! — обрадовался Абрпчихендрилл. — Я звал тебя, звал, а ты не приходил. Где ты был?
— В доме.
— Я так хотел потягать тебя за эти вот смешные уши! — закричал Абрпчихендрилл, чихнул и ухватился за ухо Абрбнуля. Друзья весело покатились по поблекшей траве, и пихались и тузили друг друга, пока не выдохлись. Стало тепло. И дождь, и ветер им уже были нипочем. Оказалось, что борода Абрбнуля разметалась и сплелась с бородой друга, да и шерсть изрядно запуталась. Это было неудобно и удобно одновременно. И тут Абрбнуль с особой, пронзительной остротой почувствовал безвозвратность момента, мгновенность промелькнувших летних дней, всей его короткой гномьей жизни. И вместе с этим ощутил неотвратимое дыхание близкой зимы…
— Пойдем ко мне в дом! — воскликнул Абрбнуль.
— Не могу, меня зовут! — чихнул Абрпчихендрилл и как-то сразу, очень легко распутался.
— Что ж, я пошел, — грустно всхлипнул Абрбнуль.
— Ты это… ты приходи! — со слезами на глазах кивнул Абрпчихендрилл и убежал в лес.
— Я приду! — закричал ему вслед лесной гном, у которого был свой дом.
И вот наступили первые настоящие холода. По утрам роса на травах превращалась в иней. В норе у лесного гнома было тепло. Уютно горел камин, и небольшие полешки трещали задорно и весело. Но Абрбнулю было нелегко, он боролся сам с собой. Все чаще ему хотелось выбежать из дому и бежать куда-то сломя голову. В такие мгновения гном подскакивал со своего удобного плетеного кресла… но внутренний голос всегда твердил одно и то же: «Абрбнуль, там холодно и сыро, а здесь тепло. Ты ведь не покинешь этот уютный, удобный и такой родной дом…» и лесной гном оставался. Ему не хватало дружеских потасовок со своими собратьями, но это было не главное. Главное состояло в том, что его не отпускал Зов. Внутри Абрбнуля поселилось щемящее чувство потери, как будто он потерял что-то важное, но не мог вспомнить, что.
Бывало, гном выбирался из норы и бродил по округе, наблюдая за изменениями погоды и природы. Листва с деревьев уже опала и лежала бурым ковром. Под ней скрылись травы. Эльфы давно попрятались в свои гнезда, а ежики зарылись под кустами и уснули на зиму. Одни только белки скакали по мокрым голым веткам в поисках последних орехов и семян.
Как-то раз Абрбнуль вышел на поиски сладких корешков. Он бродил по лесу бесцельно, тут и там вороша крепким посохом прелую листву, и сам не заметил, как оказался неподалеку от своего родного дупла. Он стоял и смотрел на скрипящую осину, на дупло, и недоумевал, как простая дыра в дереве могла казаться такой уютной.
День клонился к закату, и Большая Голова уже выплюнул в прохладный осенний воздух оранжевую луну. Солнце тем временем скрылось за грядой массивных, тяжёлых серых туч. Было еще светло, но зябко, и гном захотел побыстрее вернуться к норе. Он уже двинулся в обратный путь, как вдруг услышал ясно различимый в осенней тишине писк, и визг, и возню, и чье-то кряхтение, и бормотание… Это были лесные гномы. Одурев от накатившего восторга, Абрбнуль стрелой полетел на Зов. В этот момент он забыл обо всем. Ему хотелось забыть обо всем. Голос рассудка покинул его, он не думал о доме, о припасах на зиму и об уютном кресле у огня, он был захвачен властной стихией других чувств. Ему хотелось с гиканьем прыгнуть в кучу копошащихся волосатых гномов, надавать им тумаков, оттаскать за уши хорошенько, пнуть чихающего Абрпчихендрилла…
Не помня себя, Абрбнуль вылетел на небольшую проплешину и прыгнул в кучку ворочающейся шерсти но, ударившись о чью-то спину, отпрыгнул в сторону. Клубок был уже сформирован, и гномы его не пустили. Абрбнуль взвизгнул и ухватился за шерсть какого-то гнома, дернув изо всех сил. Гном истошно запищал от боли. Прямо у Абрбнуля на глазах клубок быстро, за несколько мгновений, зарылся в дерн, навсегда исчезнув под слоем опавшей листвы.

Абрбнуль стоял опустошенный и смотрел на то место, где только что сопели его сородичи. И Зов отпустил его. Ему было холодно и пусто, грустно и спокойно, так, словно он выздоровел, хотя и потерял при этом всех своих родственников. В некотором смысле, так оно и было. Абрбнуль всхлипнул, грустно улыбнулся, вздохнул глубоко, жалобно и облегченно. Пошел снег. Он сыпал и сыпал обильными белыми лопухами, и вскоре поляна совсем побелела. Все вокруг преобразилось. На белой земле стояли белые деревья, белыми ветвями закрывая белое небо. И только одна черная сухая ветка торчала рядом с тем местом, где недавно возился комок гномов.
Это было так красиво, что Абрбнуль заплакал от восторга. Забыв про холод и одиночество, он все стоял и стоял там, на поляне, и смотрел на падающий снег, пока что-то не заболело у него внутри. То ли он промерз до костей, то ли это было что-то иное, но лесной гном обнаружил у себя внутри место, где поселилась боль. Точнее, не боль, а ноющее, саднящее ощущение, от которого хотелось избавиться. Гном понял, что испытывает его уже достаточно давно, просто до этого времени ощущение пряталось где-то в глубине. Он потянулся и почесал сзади, пониже спины. Там что-то торчало из-под шерсти. Он нащупал, ухватился и потянул… Это был хвост.
Под дубом

По природе своей, Снорри Хрупский был жадноватым и трусливым рыцарем. Как и все остальные рыцари. Но Жадность всегда побеждала Трусость — она была сильнее. Поэтому, в большинстве случаев, окружающим казалось, что он храбрый. Надо сказать, что многие считали это качество его натуры наиболее выдающимся или, лучше сказать, единственным положительным качеством. Все остальные качества приличными словами не описывались. Что тут сказать… рыцарь, как рыцарь. Не хуже других, а в чем-то может даже и лучше. В храбрости например…
Так уж все устроено, что жизнь у рыцарского сословия заботами не обременена. Нужно только есть почаще, девушкам улыбаться, а на турниры выезжать не сильно пьяным. И только этот поганый «рыцарский кодекс», который придумали не то церковники, не то церемониймейстеры, омрачал существование всем без исключения рыцарям вот уже не одну сотню циклов со времен Превила Мудрого. Так уж повелось, что рыцарь обязательно должен иметь даму сердца, причем только одну. Должен слагать для нее стихи, добиваться, но при этом не иметь возможности добиться. Ты ее и цветочками всякими ублажай, и во славу ее врагов побеждай, и все такое… а она тебе что? А она тебе в ответ из окна кривляется, рожи строит противные… фу! Пакость! Ни одна… ни одна приличная девушка со всего Граданадара рыцарю не нахамит, рыцаря не обидит. Почему? Потому, что все знают, что у него есть дама сердца, которая уже отомстила этому рыцарю за всех остальных девушек. Даже за тех, с которыми рыцарь не то, что в своей жизни еще не познакомился, но даже и не встретится-то никогда! Вот такая вот она рыцарская доля. Хочешь или не хочешь, а дама сердца тебе по уставу полагается. И плюс здесь только в том, что умные рыцари выбирают свою даму сердца самостоятельно. Не ту, которая понравится, а ту, с которой видеться удастся как можно реже. Снорри Хрупский считал себя хитрее других. Когда-то давно, он выбрал мишенью одну монахиню-недотрогу, надеясь, что уж ее-то ему не добиться никогда! С тех пор все шло почти прекрасно! Почти… И он наивно полагал, что можно будет спокойно спускать отобранное и «изъятое» в многочисленных стычках на кабаки и распутных девок всю оставшуюся жизнь до глубокой старости, если повезет до нее дожить. А там-то уж, в этой глубокой старости, займемся монахиней… А, что! Даже интересно будет, наверное…
Но Снорри не хотел заглядывать так далеко. Жил он одним днем и каждый день был прекрасен по-своему, хоть и заканчивался обычно одинаково — в таверне за игорным столом или под столом. И ничего такого непристойного в этом не было. Все пристойно. Все рыцари так делают — напиваются и ночуют прямо там, где напились. Постелью им служат их же собственные латы, которые не снимаются никогда. Ни, когда рыцарь моется, ни когда по нужде идет… И на девок славный рыцарь залазит в латах. Девкам это не нравится, но… все ж таки, рыцарь! Спать в латах — это как-бы подвижничество, вроде как по «кодексу»… но, на самом деле, лень просто.
Так вот, однажды на пригреве ранней осени, когда дыхание Жарких ветров уже схлынуло, а Морозные великаны еще не проснулись, когда вся природа трепещет в ожидании прохлады и отдает свои самые сокровенные, самые бархатные деньки, ехал как-то Снорри Хрупский домой, из далеких земель, где провел весь последний цикл, выслеживая зло, проводя время в молитвах о даме сердца, прославляя ее доброе имя на дуэлях. Другими словами, ехал Снорри в разгар бабьего лета, измученный пьянками и развратом. И решил Снорри, граф Хрупский, отдохнуть в своем в родовом гнезде, рядом с прекрасной Хрупой, от которой храбрый рыцарь и получил свое второе прозвище. А как не заехать к даме сердца, если дама эта навеки упрятана в монастырь святой Бригантины прямо у порога родного дома? Ну… не заехать, так не заехать…
Как известно, дамы сердца на дороге не валяются. Но встречаются. А иногда даже и поджидают специально. Непонятно, как у нее это получалось, но дама Снорри всегда знала, что ее рыцарь должен появиться и всегда ждала его где-то по дороге к родному углу. Вот и на этот раз, не успел Снорри въехать на территорию графства — только-только в родной лес заехал, любимый с детства, где охотился с двенадцати лет… а Кристина де Портвейн тут как тут! Вот и куда только егеря смотрят? Почему пускают, кого попало, на заповедные угодья графской семьи?!
Они раскланялись картинно и чопорно, как это и должно быть между рыцарем и его дамой до замужества, то есть долго, витиевато и без физического контакта. Кристина всем своим видом давала понять, что вообще не заинтересована в Снорри Хрупском, что он ей утомителен, стеснителен и немного даже противен — в общем, все по этикету. «Вероятно, готовит очередную порцию оскорблений и ненависти…» — Снорри расшаркивался так широко, как только позволяли кольчуга и латы. Он делал страстные реверансы, игриво махал шлемом где-то в районе гульфика и совершал галантные подскоки, суча ножкой по всем правилам этикета, но при этом думал: «Если ты, зараза, такая вся недотрога, то нафига ты щас вообще тут выкобениваешься и строишь такую скрипучую физиономию?» Он тянул губы в стороны для создания улыбки, но это было так неискренне и фальшиво, что даже сами губы не желали этого делать и упорно вытягивались в тонкую линию, от которой казалось, что рыцарю то ли больно, то ли тошнотно. Действительно, было непонятно, зачем Кристина это делает — зачем она всякий раз поджидает его, зачем издевается и… как узнает, что он приедет?
Снорри судорожно икнул и кривая улыбка окончательно сползла, уступив место выражению какому-то уж совсем неопределенному. Маркиза де Портвейн не смогла проигнорировать подобное к себе отношение. Не то чтобы не хотела… но это было уже слишком.
— Скажите, мой рыцарь…
— Все, что угодно, сударыня! О, цветок моих сладчайших грез!
— Скажите, сэр Хрупский, вы меня боитесь или я вам противна? — Кристина изменилась в лице, и стало видно ее реальное отношение к происходящему — она была искренне заинтересована в ответе!
— Мы с вами, мой рыцарь, за два последних цикла, так толком-то и не поговорили по-настоящему. Вы все шастаете по вашим «походам», а я все жду вас у окна, вышивая крестиком… Может, отбросим куртуазные изыски и поговорим по-человечески?!
— Может… а зачем? — от неожиданности ляпнул сэр Хрупский.
Он тут же захотел исправить невольное хамство, но Кристина де Портвейн сказала:
— Я устала от этого кошмара. Вы мне не нравитесь. Мало того, скажу вам откровенно, вы придурок!
— Э-э… вы тоже не в моем вкусе, если честно, — Снорри выпучил глаза от удивления и обиды. — У вас, что-то произошло, о свет моих…
— Я беременна! — вскричала маркиза и, со слезами, кинулась на грудь своему рыцарю, немного ударившись головой о стальной панцирь кирасы. Рыцарь обнял свою даму металлическими предплечьями, больно придавив ей ухо и даже не заметил этого.
— Вот те раз…
— Да, в этот раз… уже поздно что-то делать, — всхлипнула Кристина, пытаясь высвободить ухо.
«В этот раз? Что она имеет ввиду…» Ситуация была та еще! Для Снорри все это было как-то слишком: ненавистная леди висит на плече, причем, беременная не от него… не ругает, не оскорбляет… плачет! Как, скажите, в такой ситуации должно вести себя простому рыцарю? Может быть, стоит ее побить, может, придется даже на ней жениться… Фу-фу-фу! Снорри стоял, придавив ухо несчастной барышни и не знал, что делать. И тогда он понял, что хочет выпить… и, желательно, перекусить.
— Я думаю, нам надо выпить, — несмело предложил рыцарь своей «даме сердца» и она согласилась…
Они устроились неподалеку в лесу, под раскидистым дубом, закрывающим своим пологом от посторонних глаз. Здесь, под этим дубом, Снорри провел прекрасные деньки беззаботного детства, свежуя лося, косулю или какого-нибудь кролика. Место было удобное — сюда никто не ходил, так как все знали, что этот дуб принадлежит лично Снорри Хрупскому. И Снорри, по приезде в родные угодья на отдых и «лечение», частенько скрывался тут от всех на свете, размышляя о вечном, а, если сказать попроще — уходя в глухой запой. Последний раз он был здесь пару циклов назад. Все казалось диким, но очаг из камней еще держался, был удобный вертел для жарки дичи, сковородка и кое-какая незатейливая утварь. Земля вокруг была перерыта кабанами и забросана толстым слоем разноцветной опавшей листвы. На удобной подстилке из листьев разложили провизию, разожгли веселый костерок. Рыцарь достал бурдюк с вином, но Кристина покачала головой.
— А! Я ж забыл, что тебе нельзя! — неловко воскликнул Снорри.
— Не в этом дело… не в этом дело… не в это дело… — медленно бормотала маркиза, доставая из собственной сумки две запыленные бутыли темного стекла, ловко сбивая сургуч и разливая по кубкам.
Они выпили, закусили нежной ветчиной и сыром. Потом выпили еще, и еще… Кристина достала копченых рябчиков, колбасу, зелень и немного паштета. Потом они выпили еще и в ход пошли фаршированные трюфелями перепелиные яйца, заливное из форели, запеченные в маринаде овощи, какие-то сладкие орешки и Бо знает, что еще. Снорри хлебал старинное вино, жевал деликатесы, и ему все больше казалось, что женщина напротив — это не его дама сердца.
— Это вкусно! — икнул Снорри, двигая кирасой, в тщетной попытке сделать ее немного просторнее.
— Сама готовила.
— ?
— Ну… я хоть и знатная дама, но в монастыре скука смертная, вот и развлекаюсь как могу… люблю готовить.
— Слушай, а ты часом не ведьма? — не выдержал рыцарь.
— А тебе-то что!? — резко отреагировала девушка.
— Да я не в том смысле… может ты… не Кристина де Портвейн, а просто прикидываешься?
— А кормлю я тебя для того, чтобы ты растолстел, чтобы я смогла потом приготовить «рыцаря в собственном соку» и схарчить его где-нибудь тут поблизости? Ну, да! У меня же в лесу избушка есть. А сама я колдунья носатая и на губе у меня бородавка, но я ее скрываю. И ерунда, что вся эта жратва вкуснее, чем пропитый вонючий мужлан в железе…
— И чо теперь будем делать? — нервно хихикнул Снорри, инстинктивно потянувшись за мечом.
— Ну придурок — он придурок и есть, — всхлипнула маркиза.
— Ты это… не плачь, я же не со зла, — попытался оправдаться рыцарь.
— Сэр Снорри, вы меня совсем не знаете! — заревела барышня.
Граф Хрупский утешал даму как мог. Из ее всхлипываний он понял главное: монастырь святой Бригантины — это совсем не то, что он о нем думал…
— Так от кого у Вас этот подарок в животе, — поинтересовался Снорри с наигранной веселостью.
— А вам-то, что… — напряглась Кристина.
— Ну… э-э-э… честно говоря, мне все равно. Но, все же, это как-то невежливо было бы не поинтересоваться, — проскрипел рыцарь, понимая, что неловкий разговор становится еще более неловким. Все неловчее и неловчее.
— Я намекала… Хотя, похоже, что зря намекала. В общем, от менестреля.
— От Вивека! Прости господи!
— Что ты! От этого старого пердуна… я уж лучше с тобой во грех войду, что, собственно, ужасно уже само по себе, чем с этим… рукоблудом бородатым.
— Чего-то не понял я, кого это ты щас рукоблудом обозвала! — не разобрался Снорри.
— Да не тебя, дуралей, а Вивека. Он же старый. Ему ни одна кухарка ничего слаще халвы не предлагает. Ха! Уморил! Вивек… — Кристина на секунду заулыбалась, а потом снова заревела. — От Тимоши ребенок. От этого красавы и пустотрепа из Белогорьяаааа…
— Понятно, — философски заметил рыцарь.
— Я хочу, что бы ты прирезал свинью, эту гадину на дуэли! Рыцарь ты мне или кто?! — Кристина резко перестала плакать и злобно уставилась на Снорри.
— Не… не могу. Во-первых, Тимошины опусы знает весь Граданадар и, если я его убью, то… прославлюсь конечно… но и сам проживу недолго. Во-вторых, без его похабных песенок не обходится ни одна хорошая попойка, и я сам с нетерпением жду еще чего-нибудь. Если я его угрохаю, то кто продолжению писать будет? В-третьих, он герцог…
— Все понятно! И первых двух достаточно! — оборвала де Портвейн. — Хотела бы я сказать, что он меня обесчестил, но это не так. Я сама… Как услыхала ту песенку… про монахиню и ослика…
— Ха! Про осла и монахиню я тоже помню! Здорово написано!
Они сидели под деревом напившись и обнявшись, и пели похабные песни, придуманные Тимошей — герцогом Белогорья, менестрелем и ловеласом, каких еще не видел свет…
Утро выдалось сырым и холодным. Благородный рыцарь открыл один глаз и тут же его закрыл. Первый вопрос, который он попытался себе задать: «Где я?». Второй вопрос был посложнее: «Кто я?». Оба вопроса какое-то время висели в районе затылка, где стучало по барабанам стадо одичавших эльфов. Эльфы ответов не давали, но били по барабанам сурово и жестко. С одной стороны туловища ощущалось непривычно беззащитно и зябко, а с другой — непривычно тепло и приятно. Безымянный рыцарь открыл глаза и огляделся. Он лежал, зарытый в листве, под старым дубом и к нему прижималась дама сердца Кристина де Портвейн. Абсолютно голая. Именно с этой стороны туловища и было приятно. «Интересно… похоже, что я до сих пор не понимал, как это приятно — прижимать даму не к латам, а к себе…», — подумал граф де Хрупский, вспоминая свое имя и осознавая, что тоже раздет, а латы валяются тут и там частями.
Воспоминания пришли толчками. Порциями врываясь в сознание, вместе с грязной эльфийской барабанной дробью, они несли чувство стыда и ужаса — Снорри понял, что его дама сердца вчера перестала быть дамой… по крайней мере сердца — что она, к тому же, беременна, причем даже не от него и, что… очень хочется пить… а лучше выпить.
— Ээээ… хр..ххх фшсихсфффшш… — просипел рыцарь куда-то в сторону.
— Ох… — откликнулось теплое и мягкое с правой стороны тела. Оно зашевелилось, разгребло листья, уползло, приползло обратно, и Снорри почувствовал на губах живительную влагу, слегка отдающую винным духом.
Напиток был рыцарю не знаком. Рыцарь судорожно сглотнул и потянулся за добавкой, но фляга отдалилась от губ. Видимо Кристине тоже срочно требовалось выпить.
— Осторожно, милый, эта штука пьется по одному-два глотка, не больше. Больше может тебя убить, — хихикнула маркиза.
— Кристи… дай тогда воды что-ль, — проскрипел граф, даже не заметив, что назвал свою даму сердца непозволительно уменьшенным прозвищем.
— Да ты сам возьми! — засмеялась девушка.
Снорри Хрупский подумал, что оказывается Кристина де Портвейн не только развратная монахиня, но еще и стерва, раз так насмехается над бедным измученным рыцарем, и тут волна холодного огня прожгла от макушки до пят. Это было не похоже ни на что. Такого он не испытывал еще никогда. Напоминало прыжок со скалы в ледяное горное озеро — страшно и обжигает, но, в конце концов, бодрит. Эта волна произвела настоящее чудо. Боль исчезла, тошнота и головокружение прошли, эльфы сбежали, а холмовые тролли забарабанили что-то приятное, навроде походного марша, улучшилось настроение. Снорри приподнялся для проверки состояния и понял, что здоров. Он схватил предложенный заботливой рукой бурдюк с водой и одним залпом осушил половину. Вздохнул. Прислушался к себе и понял, что Кристинино средство вернуло его из драконьего царства в мир живых.
— Так мы вчера… — осторожно начал рыцарь.
— Расслабься… все было, — кивнула Кристина.
— Вообще-то, после слова «расслабься» обычно добавляют фразу противоположную! Как я теперь могу расслабиться? Ладно… если я не помню, значит ничего не было!
— Но тебе ведь понравилось! Вчера ты кричал, что это так восхитительно, что такого ты не испытывал еще никогда и так далее…
— А сегодня я трезв и…
— Значит надо все повторить… прямо сейчас! — воскликнула Кристина де Портвейн, запрыгивая на рыцаря верхом. Тот посопротивлялся немного, но как-то нехотя. Очевидно, часть воспоминаний о вчерашнем разгуле все-таки сохранилась. И эти воспоминания были приятными. Вскоре он убедился в том, насколько они были приятны…
В пылу любовных утех, забыли про завтрак и очнулись лишь к обеду. На обед из Кристининой сумки достали остатки провизии. Здесь были какие-то блинчики с икрой, с грибами и с земляничным вареньем. Были пирожки с заячьим паштетом, холодная оленина в чесноке и тонкие, ажурные ванильные булочки. Допили вино и принялись за рыцарский бурдюк. Вино рыцаря оказалось несравнимо хуже, но они выпили и его до капли. В рыцарском шлеме заварили чай. Конечно, под дубом у Снорри сохранился легкий металлический чайничек, но Кристине захотелось чаю из топфхельма… Чай вылили и заварили новый, но уже в чайничке. Они сидели, пили терпкий напиток и говорили, говорили, говорили обо всем. И только, когда начало темнеть, Снорри понял, что сидит под дубом уже второй день. В эту ночь они спали, как положено — под рыцарской накидкой, рядом с костром, зарывшись в листья, поужинав оставшейся провизией и допив все, что можно было допить. Засыпая, граф Хрупский словил себя на том, что никуда не хочет уходить из-под этого дерева…
Веселый утренний солнечный зайчик взобрался рыцарю в вихор, пригрел лоб и перебрался на глаз. Разбуженный таким образом, Снорри Хрупский открыл глаз, прищурился, вздохнул, но не пошевелился — на его плече, с легкой улыбкой, храпела леди де Портвейн. Она храпела так трогательно, что хотелось ее потрогать. Что, собственно, он и сделал. Кристина выругалась не просыпаясь, но с плеча не слезла. Рыцарь зажал ей нос и с умилением смотрел, как девушка пытается вдохнуть. В конце концов, леди судорожно всхлипнула и задышала ртом, а в следующий момент открыла глаза. Красотка не возмутилась, хотя граф так и не успел отпустить ее нос, но лишь улыбнулась, хлопнув длинными ресницами и зевнула, а Снорри подумал, что на ее месте любая другая дама уже послала бы его туда, куда ходят в одиночестве. «Похоже, что я ей нравлюсь… а еще, похоже, что она мне тоже нравится…» — подумал граф Хрупский и слегка растерялся.
— Мне кажется, что ты мне нравишься, — сказала Кристина слегка срывающимся голосом.
— А ты мне, — неловко промямлил рыцарь.
— Ты мне ничего не должен, я освобождаю тебя от клятвы верности, — нахмурилась дама сердца. — Хотя… при таких обстоятельствах это и так понятно само собой.
— Нет никаких обстоятельств, — не согласился Снорри.
— За исключением вчерашнего дня и моей беременности, — хмыкнула де Портвейн и вылезла из-под накидки.
Она поднялась во весь рост, и Снорри отметил необычайную стройность фигуры, раздула угли, прицепила чайник на огнь, а Снорри любовался грациозной красотой и удивлялся, что до сих пор не замечал, насколько прекрасна его дама сердца. Просто он смотрел на нее с другой точки зрения — не как на женщину, а скорее как на досадную помеху. А вот теперь маркиза каждым движением, каждым взглядом вырезала руны любви на сердце, и Снорри понял, что влюбился. Это было неприятным открытием. Граф Хрупский не умел и не любил влюбляться. Это всегда плохо заканчивалось. Вот и сейчас он испугался не на шутку. Чувства были сильные и неконтролируемые.
— Ну, не надо так переживать, — сказала Кристина, читая по его лицу, как по нотному листу.
— Тебе легко говорить! — невпопад съязвил рыцарь.
— В конце концов, я ведь не ведьма, я тебя не съем, — улыбнулась девушка, протягивая ему кружку с чаем.
— Уж лучше бы ты меня съела! — воскликнул Снорри.
— Дааа… ситуация еще та… — вздохнула Кристина. — Ты, мой рыцарь, для меня сейчас, как гадюка для ежика — лакомство, да и только. Ты просто идеальный выход из ситуации. Посуди сам: я говорю всем, что беременна от тебя. Ни один волшебник не сможет доказать обратного, так как у нас с тобой было… ну сам понимаешь, что. Я твоя дама сердца, так что все в порядке и никаких пересудов. Мы женимся, и ты улепетываешь куда тебе вздумается, а я переезжаю жить в свое родовое гнездо, где получаю законный приз в виде наследства дяди, из-за которого, собственно, меня и заперли в этой обители разврата и благочестия.
— Так ты здесь из-за наследства? — удивился Снорри.
— Дядя умер. В завещании было сказано, что я получу все лишь тогда, когда выйду замуж, оставшись при этом чем-то типа невинной девы. Мой дядя был еще тем гадом! Разве можно так поступать с родной племянницей? Леприкона ему в…
— А то ж! — хихикнул рыцарь.
— Ты понимаешь, как все хорошо для меня складывается?
— Для тебя — да. А мне, что с того?
Вместо ответа, Кристина одарила графа таким поцелуем, после которого рыцарь был готов на все.
— Не переживай, — продолжила девушка. — После женитьбы, ты сможешь идти на все четыре стороны. Я не стану как-то угнетать твою свободу. Честно говоря, у меня найдется, чем заняться в ближайшие пару циклов, — Кристина улыбнулась, похлопав себя по животу.
«А ведь она права. Маркизат Портвейн — это залежи коллекционных вин, которым нет цены…» — восторженно подумал Снорри и тоже похлопал ее по животу. «Я помогу девушке, получу какого-никакого, но наследника, а, вместе с ним и права на дополнительный капитал, бассейн с вином достойным королей… и… смогу делать все, что захочу, не будучи скованным кодексом!»
— А ведь как ты ловко все провернула! — воскликнул Снорри.
— Да ничего я не планировала, — расстроилась Кристина де Портвейн.
— Ну да!
— Надо сказать, что я все время относилась к тебе, как к досадной помехе. Хотя, признаю… что донимать тебя своими внезапными появлениями и изводить насмешками было весьма забавно.
— Я б на твоем месте тоже не отказал себе в подобном развлечении, — кивнул рыцарь.
Он подумал, что девушка мыслит в том же ключе, что и он сам. Они были похожи по характеру, шутили одинаково и понимали друг друга с полуслова. Кристина нравилась ему все больше и больше. «А, почему бы и нет?» — подумал рыцарь и, на этот раз, ответил себе не привычной фразой: «ну, нет, так нет», а фразой совсем другой:
— А, почему бы и… да!
— Что именно? — не поняла маркиза.
— Я согласен, — пожал плечами рыцарь и глубоко выдохнул. — Только, мне кажется, что я не хочу от тебя уходить. Да и… вполне возможно, что ребенок от герцога Белогорья может оказаться знаменитее какого-то графа де Хрупского. Тимоша-то щас при дворе короля вертится, все барды Граданадара поют его песни. Вполне возможно, что он станет королем… а если и не станет королем, то уж точно прославится на сотни циклов и будет знаменитей Превила Мудрого… останется в истории. Да и золота у него больше, чем у нас с тобой вместе взятых. У меня, кстати, его мало совсем. Ну… золота этого…
— Давай сразу договоримся — я не хочу больше слышать ни слова об этой гадине, — зарычала маркиза де Портвейн. — Я сейчас не в настроении думать… и… вообще… есть охота!
— А еды-то у нас и нету, — скривился граф, доставая кисет с табаком.
Он набил трубку, выдохнул кольцо дыма и проткнул его струйкой. Табак успокаивал.
Жизнь как-то навалила комом и сразу. Надо бы все обдумать… да только когда? Кристина ждала ответа, и он должен был принять решение. Было похоже, что если он не согласиться, то девушка, в отчаянии, может совершить что-нибудь нехорошее. Но так ли уж нужны ему все эти хлопоты? Если она сейчас пойдет и прыгнет в омут, то все его проблемы решаться сами собой…
— Послушай, я сейчас в очень странной ситуации. И это ты меня туда загнал, — вздохнула маркиза. — Под этим дубом произошло нечто странное. Похоже, что я полюбила тебя. Тебя! Вонючего рыцаря, не вылезающего из своего крабового панциря даже для того, чтобы сходить по нужде…
— Послушай, я же не в кирасе! — перебил Снорри, — И… я согласен!
— Нет уж, ты дослушай до конца! — не сдавалась Кристина де Портвейн. — Я полюбила тебя, гада. В один день! Под этим дурацким дубом…
— Вовсе он не дурацкий…
— Не перебивай! Под этой деревяшкой… я поняла, что ты совершенно такой же, как и я. Мы одинаковые, тысяча крылатых гоблинов! И мне хорошо с тобой… просто быть рядом, мне с тобой легко. И я не хочу связывать тебя своими проблемами. Вали, куда шел, отседова!
Кристина больно ткнула Снорри в район сердца, отпрянула от него и занялась поисками своей одежды. Снорри не понимал, что происходит. Только что она была уверена в том, что он должен на ней жениться, а теперь сама отвергает его. Кристина оделась, схватила пустую сумку, собираясь уйти. Снорри смотрел на нее и понимал, что еще немного, и он потеряет девушку. Навсегда. Она просто уйдет, а вместе с ней уйдут элитные виноградники и погреба… а главное — тот чудесный, бодрящий напиток, который приводит в чувство с одного глотка!
— Стой! Не уходи! Ты мне нужна!!! — нисколько не кривя душой, в отчаянии прокричал Снорри и кинулся вдогонку.
Он поймал девушку, успевшую уже изрядно отдалиться от их прекрасного убежища, и заключил в объятия. Он обнимал ее, а она плакала то ли слезами горя, то ли слезами облегчения.
— Я верю тебе, честно говоря, только по двум причинам: ни одни рыцарь не может устоять перед погребами местечка Портвейн… а еще… ты побежал за мной абсолютно голый, — сказала маркиза, заваливаясь в высокую, некошеную траву, полную запахов дикого леса…
День выдался прекрасным даже по меркам этого времени года. На небе не было ни облачка. Бесконечная синь тянула взгляд. Легкий ветерок приносил с собой тонкие паутинки, и Кристина смотрела, как некоторые из них сгорают в пламени костра. «Вот и я, как та паутинка — сгорю когда-нибудь… где-нибудь».
— Я хочу есть, — сказала маркиза де Портвейн, выдавливая последние капли влаги из винной фляги.
— И пить, — поддержал Снорри.
Они понимающе переглянулись. Настроение было так себе. Оба понимали, что есть хочется, а нечего. Но вылезать из-под, уже ставшего таким родным, дуба не хотелось. Молчание затянулось.
— Надо добыть еды! — не выдержал граф.
— Да, конечно! — резво откликнулась маркиза. — Может быть, ты пойдешь и шлепнешь нам зайчика какого…
Голос ее затих сам собой, так как оба понимали, что запивать этого зайчика все равно нечем, а «надоить» вина где-нибудь поблизости не получится. Таким образом, романтические посиделки на природе как бы заканчиваются.
— Может быть перейдем в… э-э-э… куда-нибудь? В таверну, к примеру, или в замок мой поедем? Лошадь пол седмицы на лесной траве харчует! Овса бы ей. И пива. То есть, пива мне, а овса ей… вот…
Снорри и сам не верил в то, что говорил. Было что-то неестественное в том, чтобы вот так вот просто взять и уйти с поляны, покинуть это гостеприимное дерево.
— В монастыре еще вино есть и еда… и овес, — зашла со своей стороны маркиза.
— Ну, нет! В этот притон, в это гнездо разврата я ни ногой! — возмутился Снорри.
— Интересно, с каких это пор славный рыцарь разврата забоялся! — подняла брови леди де Портвейн. — Что уж такого есть на свете порочного, чего ты не пробовал и чего боишься? Просто интересно…
— Я… я все пробовал. И… я всего боюсь. Я вообще, знаешь ли… боюсь. Но больше всего страшусь развратных монахинь! Они это… как-то… пугают, — хмыкнул рыцарь.
— Так ведь я и есть «развратная монахиня»! Ты меня тоже боишься? — улыбнулась девушка.
— Ну, скажешь тоже! Ты ж моя «дама»! — захохотал граф Хрупский, забыв добавить «сердца».
Атмосфера разрядилась. Они смотрели друг на друга и не могли оторвать взгляда. Снорри погружался в глаза подруги, как в эльфийские омуты, тонул в них. И, на самом дне этих омутов, он понял, что задыхается от любви.
— Я люблю тебя, — сказал он выныривая.
— А я тебя, — просто ответила маркиза.
— Не помешало бы сейчас твое вино, — кивнул Снорри, не отрывая взгляда от любимой.
— Я сейчас пойду и схожу в монастырь. Это не займет много времени, — согласилась Кристина, глядя ему в глаза прямо и не мигая.
И один подумал: «Вернется ли она?», а другая подумала: «Дождется?», но никто ничего не сказал. Кристина собрала сумку и ушла, а рыцарь остался под дубом, погруженный в свои мысли.
Он лежал в прелой листве и смотрел на небо, пытаясь в бездонной синеве отыскать правильное решение. Слишком много всего за такой короткий срок. Слишком сложный, слишком пугающий выбор предстояло сделать. Готов ли он к переменам? Может быть, нужно просто уйти… она поймет, не осудит. А, если осудит — ему то, что? Он будет уже далеко и не вернется еще долго-долго. Она прекрасна и, похоже, идеально подходит ему по характеру. Готовить умеет… что немаловажно, если они вдруг решат пойти в поход какой-нибудь, а слуг с собой не возьмут… Шутки понимает, как никто другой… Виноградники в наследство… Свадебный бал можно закатить…
Чем больше Снорри размышлял, тем сильнее ему хотелось убежать, оставить все как прежде. Почему? Наверное, просто потому, что он боялся перемен, потому, что от природы был труслив, как и все рыцари — все, что менялось в его жизни, всегда менялось куда-то не туда, куда он ожидал. И пугало именно это. Снорри сел, тревожно затих и прислушался. «Не слышно. Но еще рано, она еще даже в ту сторону не дошла. Пока припасов нагребет, пока платье поменяет… А если она решила все бегом сделать? Так уже тогда добежала… А, если обратно на лошади прискачет? С нее станется! Тогда она вполне может быть и на обратном пути, а я все еще ничего не решил! А вдруг она вообще решит не приходить? Что мне тогда делать? Ждать тут, идти за ней или вернуться в Берг? Пожалуй, тогда уж лучше в Берг…».
В кустах что-то зашуршало. Граф Хрупский вскочил как ошпаренный и рванул, куда глаза глядят, не отдавая отчета в том, что делает. Пробежав несколько шагов, очнулся, приступ паники отпустил, стало стыдно. «Возвращаться или бежать дальше?» Вернулся. Никого не было. «Возможно, суслик какой пробежал!» — бодренько выдал Снорри сам себе и судорожно икнул…
Он бегал туда-сюда еще несколько раз, пока солнце не устремилось к Большим горам. Стало понятно, что Кристина де Портвейн изрядно подзапаздывает. Снорри представил, как она тоже бегает туда-сюда где-то по дороге к дубу, неспособная сделать выбор. Засмеялся и понял, что в ее ситуации особо не побегаешь. «В конце концов — она же беременна! И на лошади не поскачешь. Зачем ей бегать — ситуация для нее выгодная со всех сторон! Единственное, чем придется делиться, это вином. А в остальном: она получает графский титул, узаконивает герцогского младенца, причем узаконивает и свое положение дамы сердца… да ей даже любить меня не надо… и без этого все хорошо складывается! Ей все это очень и очень нужно, а мне — не очень…»
Все больше хотелось пить, есть и даже немного спать. Снорри подстрелил шуршавшего в кустах броненосца, освежевал и зажарил его. Он все думал и думал, напрягаясь все сильнее и сильнее. Жесткий броненосец и отсутствие вина в организме, заставляли чувствовать себя маленьким и несчастным. Граф сидел под дубом один, а сумерки наползали со всех сторон, выдавливая последние остатки надежды на благоприятный исход. Дерево уже не казалось любовным гнездышком, но простым элементом дикой и, в общем-то, не очень дружественной к человеку природы. Костер весело потрескивал, создавая глубокие и тягучие тени, сужая пространство, ограничивая обзор. На небе зажужжали звезды, в траве мрачно закряхтели кузнечики. Ветер принес осеннюю прохладу, пришлось завернуться в плед. Теперь Снорри хотел бы оказаться где-нибудь не здесь, он и рад был бы уйти куда-нибудь. Но разве можно бродить в темноте?
«Не придёт! Похоже, что дама сердца меня надула!» — печально подумал рыцарь. — «Порезвилась и бросила! Может, она вообще не беременная? Может она придумала эту изощренную шутку лишь для того, чтоб вот так витиевато поиздеваться? Дамы сердца способны на небывалые гадости, до которых мужской ум просто не додумается! Они всегда обыгрывают нас — простых рыцарей. Похоже на то…»
Ситуация все больше казалась идиотской — глупый, глупый дурачок сидит под деревом один, голодный и без вина… Ждет… Ждет, сам не зная чего. Бессилие и злоба нахлынули гигантской волной. Граф Хрупский схватил меч и принялся ожесточенно рубить ни в чем не повинное дерево. В конце концов, неприспособленное для колки дров орудие убийства застряло в дубе так глубоко, что Снорри не смог его оттуда вытащить. Рыцарь без сил упал в листья, и сон подхватил его, окутав покрывалом забвения…
Утро выдалось мягким и солнечным. Снорри проснулся от запахов превосходной еды. Что-то скворчало на старой мифриловой сковороде. «Яичница с ветчиной», — безошибочно определил рыцарь и чуть не захлебнулся слюнями, вперемешку с чувствами — у костра сидела его дама сердца, увлеченно помешивая что-то в топфхельме.
— Что там у тебя в топфхельме? — спросил Снорри.
— Там скоро будет жульен с грибами и сыром, — ласково сказала Кристина.
— А будет ли это хорошо? — искренне засомневался рыцарь, вспоминая про эксперименты с чаем.
— Я его почистила, — загадочно улыбнулась девушка. — Хочу чего-нибудь из рыцарского шлема съесть! Вот и пришлось чистить.
— Ты вчера не пришла, я уж думал…
— Не могла! — перебила Кристина де Портвейн. — Честно говоря, вчера я решила, что ты уйдешь, и я… раздумывала — а стоит ли мне идти на эту поляну, если там все равно нет тебя? Я бродила по лесу туда-сюда, до самых сумерек… сомневалась. А потом оказалось, что уже темно и я не знаю, куда ехать. Повернула обратно и провела ночь в монастыре. И, надо сказать, это была еще та ночка! Монахини рвали и метали. Не хотели никуда отпускать. А я подумала: «Что ж, если он уехал, то узнать об этом утром будет не так волнительно, как ночью», и уснула. Утром дождалась, когда проснется сторож, сперла лошадь. И вот я здесь. Ты спал, а я захотела чего-нибудь из топфхельма.
— Нам надо уже ехать, готовиться к свадьбе, — улыбнулся граф, обнимая будущую графиню за талию…
Они покинули гостеприимный, но слегка пострадавший, дуб после обеда. Оба были в изрядном подпитии, но лошади шли бодро, небо было безоблачным, а настроение праздничным.
— Одного во всем этом я не могу понять, — задумчиво пробормотал Снорри. — Как ты всегда умудрялась появляться там, где не надо… э-э-э… то есть, я хотел сказать — там, где надо… как ты могла знать о моем приезде? Ведь ты каждый раз угадывала не только день, но и время моего появления на дороге, возле монастыря!
— Все просто, — пожала плечами Кристина де Портвейн, — когда-то давно, я прицепила жучка к твоему топфхельму.
— Кого?! — опешил рыцарь.
— Жучка. Магического жучка. Это такой жук… даже, скорее, паук… который все видит и передает хозяйке. Я могла наблюдать за тобой все это время и видела, как ты дерешься на дуэлях, как… в общем, все видела.
— Ах, ты ж…
— Но, ты не беспокойся, я его сняла, когда чай заваривала! — засмеялась Кристина. — Думаю, мне он больше не понадобится.
«Вот и славно!» — сам себе ухмыльнулся Снорри де Хрупский де Портвейн.
Говорящие грибы

— Эта история произошла во времена, когда великий Борн ходил еще в учениках…
— А откуда вы знаете, если это было так давно? Говорите так, как если бы сами там были! — перебил сказочника какой-то паренек.
— Он же всегда так начинает, чтоб интересней, — кивнул кто-то из слушателей.
— Что-то я тебя тут не видал раньше, малыш? — спросил Затриндель, кивнув трактирщику, чтобы тот принес ему еще одну кружечку эля.
— Я проездом, — вздохнул смышленый малец. — Папа у меня все время ездит, то туда, то сюда, а мне не то, что подружиться, поговорить бывает не с кем… моего возраста.
— Во как… поговорить, значит!? — удивился сказочник. — Ну, послушай тогда историю, в которой один великий волшебник так наговорился, что… в общем, до сих пор ни с кем не разговаривает… наверное.
Задумавшись, менестрель провалился взглядом сквозь стену и неспешным помертвевшим голосом повёл рассказ.
Светало. Еще немного — и говорящие грибы распустят свои мохнатые шляпки, а вместе с ними распустятся и их болтливые языки. На верхушки старых осин и — выше — по губчатым тучам карабкался рыжий восход, похожий на скользкую лягушку. Нерешительное солнце сдувало холод с озябших трав, обещая теплый, но пасмурный день. Теплый и сырой… хм… грибной такой денек.
Старый волшебник стоял на краю поляны и смотрел на одну уже почти раскрывшуюся грибную шляпку, точнее, на чистейшую каплю росы в ней. Во взгляде великого мага ещё гнездилась толика неуверенности, но уже почти раздавленная тяжёленным бревном упрямства. Казалось, волшебник задался целью остановить мгновение. Это, кстати, ему было вполне по силам. Но не сейчас, не в этот раз…
С давних времен грибная поляна звалась Глухим озером. Когда-то здесь было озеро. Со временем оно стало сохнуть, превратилось в болото, затем — в сырую поляну, поросшую кочками говорящих грибов. А название, как часто случается, осталось прежним. Говорящие грибы любили эти кочки и жили только здесь. Нигде больше во всем Плоском Мире говорящих грибов, слава богу, не было. Почему «слава богу»? — ведь грибы были съедобными. Ну, во-первых, съедобными они были только днем. А во-вторых, потому, что грибы забалтывали грибников до того, как те успевали сорвать хотя бы один из них. Любой, кто попадал на поляну в дневное время, оказывался под властью грибной магии и уже никогда оттуда не возвращался. Бедняга засыпал мертвым сном, а грибы селили в нём свои споры, питались его телом и прорастали сквозь — новой болтливой порослью. В ночное время грибы являлись совершенно обычными, весьма ядовитыми представителями грибного семейства, но дневной вариант был вкусен необычайно… наверное… я не знаю.
Днем грибы были съедобны, но болтливы. Они знали бесконечное число историй, одна интереснее другой. Человек ты, гоблин или даже эльф — никто не мог сопротивляться этой силе. Не могли совладать с грибами и маги. Конечно, любой средненький волшебник в мгновение ока был способен испепелить поляну… издалека. А вблизи бедняга просто не успел бы — его ум мгновенно и навсегда окутывала грибная болтовня. Некоторые маги считали, что человек, превратившийся в гриб, сохраняет частицу себя и память, однако до сих пор это утверждение еще никому не удалось подтвердить. Фастарнандилус желал это проверить. Он решил: или заболтать говорящие грибы до посинения, или, при самом неблагоприятном раскладе, самому стать разумным грибом.
Пока Фастарнандилус задумчиво смотрел на раскрывающуюся шляпку, из леса подошел его лучший ученик — великий волшебник Борн. Тогда он еще не был великим, но магом уже был, причем неплохим. Уже тогда Борн во многом превосходил даже своего учителя, Григориуса Фастарнандилуса — величайшего из величайших магов Плоского Мира.
— Ну? Что будешь делать без меня? — спросил учитель, думая о своем.
— Пойду, нажрусь в «Три осла», — Борн угрюмо уставился на ту же каплю росы, заметив при этом, что гриб уже приоткрыл один глаз.
Казалось, в этой капле заключена сейчас суть всего мира, однако никакой сути там не было. Просто друзья испытывали неловкость перед расставанием, делая вид, что ничего интереснее капли в мире нет. Затхлый дух Глухого озера действовал удручающе, разговор не клеился.
Молва об озере ходила всякая. Местные жители сюда не совались. Грибам это и нравилось, и не нравилось. С одной стороны, никто не пытался их есть, а с другой — и поболтать-то было не с кем. На этот раз все шло к тому, что говорящим грибам представится шанс поразвлечься на славу, ведь один из величайших магов решил сразиться с ними в красноречии.
— Мне просто необходимо попробовать! — попытался оправдаться старый волшебник, облизываясь. Борн посмотрел ему в глаза и увидел там безумство решимости или, уж скорее, решимость безумца. «Упрямый старый осёл!» — он досадливо отвернулся.
Не дождавшись ответа, Фастарнандилус махнул рукой, неверно истолковав молчание своего ученика.
— Ерунда, я ведь не сумасшедший… не самоубийца, я пятьдесят циклов изучал болтливую магию и все рассчитал. Ты ничего не понимаешь, это… это как…
— Ну да! — оборвал его Борн. — Ни один безумец не признал еще себя безумцем.
— Глянь! Они просыпаются! До чего ж красотулечки! — во взгляде старого и, по всеобщему признанию, мудрого мага вспыхнул детский восторг, граничащий с экстазом.
— Я им щас задам перца! — довольно проскрипел волшебник, потирая руки.
Надо признать, что грибы действительно были красивы. Так и хотелось насобирать лукошко этих аппетитных «деликатесов», хотя ни один простой смертный на это способен не был. Самого стойкого хватило бы лишь на то, чтоб сделать по поляне пару шагов. Возможно, глухой и смог бы сделать шага три, но, дело в том, что грибы умели забалтывать и глухих. Как им это удавалось? Вряд ли кто-нибудь сможет разузнать, ведь спрашивать-то придется у самих грибов!
Борн сделал последнюю попытку отговорить мага:
— В «Трех ослах» дают тушеного осла… в яблоках… а можно еще пойти, скажем, в «Херес и Хариус», там всегда хороший херес, и хариус тоже… всегда.
— Хо, хо, мне найдется здесь чего поесть, давай иди отсюда, не мешай мне. Приходи лучше ночью, когда они будут уже спать, уставшие от моих рассказов.
— Я все-таки, пожалуй, останусь ненадолго, хочу посмотреть, как ты их убалтываешь. А если что, то пальну огненным шаром по краю, может, они присмиреют, и я тебя вытащу. Я, кстати, неплохо изучил левитацию…
— Иди уже! Это будут достойные соперники. Или они или я! Приходи завтра со сковородкой, сделаем яичницу с грибами! Ха-ха!
Старый маг расстелил плащ и удобно улегся на него. Подложив под голову сумку и опершись на локоть, он вперил взгляд в почти проснувшийся гриб. Борн поспешил ретироваться, заметив, что грибы уже зевают и промаргиваются.
— Не подсматривай, это неприлично! — закричал учитель ему вслед.
Но всё же Борн собирался подсматривать. Еще до разговора с учителем он заприметил на краю поляны кривую березку и теперь прятался за ней в надежде, что сможет оказать хоть какую-нибудь помощь в случае неблагоприятного исхода. Борн просто не мог вот так уйти, ничего не сделав, не попытавшись помочь. Он любил старого волшебника, своего друга, можно сказать, отца и собирался бороться за него до конца. Даже если самому придется сгинуть на этой проклятой Бо поляне.
Первым отошел ото сна длинный серый гриб, у которого на шляпке была роса. Гриб потянулся, зевнул, открыл второй глаз и дернулся от неожиданности, увидев глядящего на него Фастарнандилуса.
Волшебник начал первый и нестандартно:
— Чего дергаешься, думаешь, я тебя съесть пришел?
Видно, гриб еще не совсем проснулся, так как ответил без выкрутасов:
— Да..а..аа.
— Не боись, я не такой. Поговорить хочу.
Рядом проморгались еще несколько грибов. Здесь надо сказать, что был один секрет, о котором никто не знал. Дело в том, что грибы можно одолеть в диспуте лишь в то недолгое время, когда они только просыпаются и еще зевают. Как и любое другое живое существо, говорящие грибы просыпаются не сразу. В эти несколько мгновений они удивительно беспомощны. С одной стороны — они уже в сознании и их можно есть, с другой — еще не настолько в сознании, чтоб набрать силу красноречия. Фастарнандилус об этом знал. В конце концов, при должной подготовке и силе какой-нибудь ловкий и внимательный волшебник вполне мог рассчитывать по-быстрому набрать грибов и успеть сделать ноги. Но великий волшебник хотел не этого. Он не ел грибы, ему не нужна была их сила, гордец жаждал выиграть словесный диспут, противопоставить свою волю воле грибной. В конечном счёте, это был вызов самому себе и своей магической силе.
— Честно! Я хочу того же, чего хотите и вы. Хочу дискуссии, вкусненькие мои, хочу дискуссии!
Казалось, это заявление окончательно вышибло грибницу из равновесия. Ненадолго. Ближайший гриб раскрыл рот для ответа, но волшебник с улыбкой, ловким движением всунул туда травинку, которую лениво жевал до этого.
— Ну, что притихли? Я начну первый. Какой цвет у синего цвета? Не знаете? А как прокатиться верхом на ветре… хотя это просто… Вот ты, длинный, скажи-ка мне, как тебя зовут? Не знаешь. А почему? А потому, что грибам имена не дают. Я считаю, что это вопиющая несправедливость и собираюсь прямо сейчас наградить вас всех именами. Тебя будут звать Длинный! — волшебник вынул у Длинного изо рта травинку, и дал ему щелбана. Гриб задергался…
Наблюдая за ходом диспута, Борн понимал, что инициатива пока что за Фастарнандилусом. Хитрый волшебник уже продержался больше, чем смог бы кто-либо другой во всем мире. Недаром Фастарнандилус был величайшим магом своего времени. Но… все только начиналось. Борн наблюдал и удивлялся. Отсюда, из-за кривой березы, было все видно, но ничего не было слышно, и Борн даже немного жалел об этом. На месте учителя, он, по всей видимости, уже давно успел бы насобирать полное лукошко и сбежать.
Фастарнандилус спокойно лежал среди грибов, неспешно болтая о чем-то своем. Ученик был потрясен и уже начинал верить в божественную природу своего наставника. Как оказалось, несколько рановато. Спор на поляне разгорался. Просыпалось все больше грибов, и общее давление на волшебника усилилось. В какой-то момент расходящийся гомон докатился и до березы, за которой сидел Борн. Он почувствовал, что ему неудержимо захотелось спать… впитывать влагу прямо из земли… Чертыхнувшись, маг зажал уши и отполз подальше.
По губам учителя Борн мог читать обрывки фраз и понял, что волшебник просто сквернословит. Ругается грязно и безостановочно, получше любого портового грузчика. Никогда, никогда за все время ученичества он не слышал от Фастарнандилуса ничего подобного и понял, что дело плохо. Маг пока еще держался, но, возможно, это были последние мгновения. Борн начал готовить огненный шар.
Неожиданно гул голосов с поляны превратился в вой, придавив Борна к земле, а затем все стихло. Некоторое время он лежал, неспособный к какой-либо деятельности. Давление исчезло. Оглушенный тишиной, парень поднялся и подошел ближе к поляне. На том месте, где был Фастарнандилус, стоял, глупо моргая, огромный гриб, а вся остальная поляна крепко спала. Глаза Борна встретились с единственным глазом гриба, и гриб громко сказал:
— Дружище, не пугайся. Это я, Фастарнандилус. Я их уболтал! Они все уснули днем! — Гриб захохотал, но поперхнулся. — Борн, я немного не в себе, прости. Еще бы! Как может быть в себе тот, кто превратился в гриб? В крайнем случае, он может быть в грибе… ха-ха… кхе-кхе… — гриб-волшебник попытался еще раз засмеяться, но так и не смог этого сделать.
— Извините, учитель, но мне кажется, вы пытаетесь меня заболтать, — опасливо констатировал Борн.
— Беги, парень, я еще могу себя сдерживать… у меня еще осталась совесть… — и Фастарнандилус заплакал. В голосе бывшего мага застыло столько печали, а в глазах столько слез, что хватило бы, наверное, на то, чтобы заново сделать из поляны озеро.
— Я… я вернусь! — прокричал Борн, улепетывая со всех ног.
Солнце взошло над лесом, и один из лучей отразился от слезы на щеке у говорящего гриба. Единственный раз грибы уснули днем…
Сказочник замолчал. Было ясно, что рассказ закончен. В таверне наступила тишина.
— Скажите, а великий волшебник Борн спас потом своего учителя? — задал вопрос смышленый мальчуган.
— Конечно! Иначе он не был бы великим, — хмыкнул Затриндель.
— А как он это сделал? — не отставал настырный парень.
— А это уже другая история. Я расскажу ее вам в другой раз… возможно…
О том, как рыбы перестали летать

— О чем вы нам расскажете, почтенный мастер Затриндель? — пискнул мальчонка, ковыряя пальцем в носу.
— Все зависит от того, чем вы, молодые люди, готовы пожертвовать ради хорошей истории, — хитро ухмыльнулся сказочник.
Сидя в таверне и глядя на мальчишек, старик пытался вспомнить свою молодость, но у него не получалось. Слишком уж давно это было. Много всего повидал менестрель. Более пятидесяти циклов он путешествовал по просторам Плоского Мира, рассказывая истории и слагая песни. А что было до этого? Об этом не помнил даже он сам. Сменялись династии, воевали маги. Гоблины и Серая Дичь спускались с гор. Теперь остались лишь истории… легенды. Вот он сидит в таверне «Свинячий бивень», и сказания минувших эпох слушают дети, которым родители дали пару медяков для старого барда. Так и должно быть. Всему свой черед.
— А истолия бутит халосая? — подался вперед самый маленький, подозрительно нахмурившись.
— Когда это ты слышал от меня плохую историю, малявка!? — удивился Затриндель.
— Не обижайтесь, мастер, он же еще маленький. У меня для вас есть немного табаку, — улыбнулся мальчик лет десяти.
— Неплохо, паренек. Однако знай, что после кружечки доброго эля слова и мысли текут легче лёгкого, — намекнул бард.
— Я знаю, — пробурчал мальчик, — расскажите что-нибудь про войну.
— Ну, уж нет, давайте про любовь, — топнула ногой хорошенькая девочка и выложила на стол три леденца.
— А я хасюпрасвинак и лебедев! — запищал малыш.
— Тихо, друзья мои, тихо! — замахал руками Затриндель. — Вы же знаете, что хорошая история, это когда не только есть чего пожевать… но еще и… запить!
— У меня только жареная курица, — спокойно сказал молодой человек за соседним столиком, — и я охотно разделю ее с вами, уважаемый. Расскажите что-нибудь романтическое.
— Что ж, — притворно вздохнул Затриндель, — раз уж в этой таверне стариков не поят хотя бы элем… давай, тащи сюда свою курицу. Есть у меня одна совсем старая, очень странная история. За курицу и немного вина я расскажу ее вам. Поверьте, она стоит и трех кувшинов, но я согласен… на один!
— Хозяин, подайте нам кувшин вина! — улыбаясь, выкрикнул молодой человек в сторону кухни.
— Сэр, вы не пожалеете, история — пальчики оближешь!
— После курицы! — хихикнула девочка.
— А история эта о том, — откашлялся сказочник, — как рыбы стали плавать в озерах и реках.
Служанка принесла вино, и молодой человек пододвинул свою курицу сказочнику. Довольный таким поворотом дела, Затриндель налил себе вина, откусил от куриной ножки и спокойно продолжил:
Давным-давно, когда еще никого из вас на свете не было, рыбы жили не в воде, а в небе.
— Фигня! — воскликнул, не удержавшись, десятилетний малец. — Как же они летали? У рыб нет крыльев, я знаю!
— Перебивать рассказчика нехорошо, даже если ты считаешь, что умнее всех вокруг. Продолжайте, пожалуйста, почтенный мастер, мы все вас внимательно слушаем, — вступился господин, пожертвовавший свою курицу.
— Давным-давно, когда вас еще на свете не было, — укоризненно сдвинул брови менестрель, — рыбы летали в воздухе, как птицы. Наверное, некоторые умники знают, что у рыб есть пузырь с воздухом. Зачем он им? Кто может сказать? Никто? Вот и не перебивайте, если не знаете! — победно выпрямился старик и откусил от курицы, запив вином.
Так вот… пузырь этот нужен был рыбам, чтобы висеть в воздухе и не падать. А для тех, кого интересуют детали, — уточнил Затриндель, глянув на недоверчивого мальчугана, — для тех поясню, что в пузыре этом у рыб жили маленькие такие козявки… совсем маленькие козявки, даже не знаю, как они называются. Эти козявочки пускали какой-то дым и заполняли им пузырь. А дым, как известно, всегда поднимается вверх. Вот рыбы засчет дыма и висели в воздухе.
— Какая интересная идея! — воскликнул молодой человек. — Я, знаете ли, ученый, и ваша идея в высшей степени интересна!
— Это не идея, а история, — возмутился сказочник, — если все меня будут перебивать, то мы никогда не доберемся до финала!
— Не обижайтесь, маэстро, уже за то, что вы мне сейчас рассказали, я готов вам поставить еще один кувшин.
— А вот это дело! При таком раскладе можете задавать вопросы в любое время, мил человек, — обрадовался бард и продолжил.
— В то время жил и здравствовал один волшебник, имя которому Борн.
После этих слов в комнате стало тише. Даже малыши знали имя самого уважаемого волшебника прошлых эпох. О нем ходили невероятные и противоречивые легенды. Кто-то говорил, что Борн был спасителем, что он в одиночку противостоял Злу, а кто-то считал, что он это Зло в мир и запустил. Некоторые говорили, что Борн был «отцом» всех магов, что он был тем, кто оседлал радугу…
— Борн слыл магом изряяядной силы… — протянул сказочник загадочно и ухмыльнулся. — Уже тогда, на заре мира, он был стариком. А, может, он всегда им был… может быть, у него вообще не было детства…
— Но, как же без детства, — возмутилась девочка. — Без детства нельзя! Кто же тогда были его мама и папа?
— Говорят, что Борн родился от драконов на той стороне, — кивнул молодой ученый, отпивая из своей кружки. — А еще говорят, что он бессмертный и до сих пор скитается по дикому лесу.
— Нет, все это враки! — встряхнулся сказочник. — Борн был человеком. Может, не самым лучшим, слишком ворчливым и гордым, но человеком. Не троллем и не гоблином, уж это точно. Таким же человеком, как вы или я! Он учился у величайшего мага всех времен. А потом превзошел и своего учителя. Хотя… насчет скитаний… все может быть. Но вернемся к нашим рыбам.
Рыбы тихо летали по небу, иногда опускаясь к самой земле, а иногда поднимаясь высоко в небо, где их ловили орлы и другие хищные птицы. Они питались комарами, мошкарой, стрекозами и всякими жуками, которых полно в воздухе. У земли комаров больше, вот рыбы, в основном, и охотились на них возле болот и водоемов.
Самым главным и самым мудрым был Отец-рыба. Да вы его видели. Иногда он пролетает на границе леса, рядом с деревнями.
— Я видел его! — закричал один мальчик. — Он такой большой! Но он не похож на других рыб.
— Отец-рыба — это прародитель всех рыб, — продолжил старец, прихлебывая вино. — Он полосатый и летит туда, куда дует ветер. Если проследить полет, вовремя залезть на дерево и погладить его по животу — если вам повезет это сделать — в доме никогда не переведется свежая рыба, а со временем в вашей семье родится много детей. Мальчиков и девочек. Но давайте же не будем отвлекаться и наконец узнаем, что приключилось с рыбами!
Надо сказать, что летать рыбам нравилось. Корма в небе было вдоволь, а хищников меньше, чем на земле. Рыбы чувствовали себя вполне спокойно. Охотники охотились на них при помощи луков, но рыбы тогда были умнее и близко к селениям не подлетали. Все было бы ничего, если бы не эти козявки у них в пузырях.
Рыбы — создания добродушные, молчаливые и покладистые, но вот их козявки уж больно сварливые, задиристые и даже злобные. И только по причине своих малых размеров да еще невозможности жить нигде, кроме пузырей, эти козявки не доставляли никому проблем, кроме самих рыб. А если бы их выпустить жить отдельно… с таким характером они точно стали бы гоблинами!
Тем не менее, кое какие казусы, время от времени, случались. Дело в том, что рыбы по своей природе молчаливы. Вы все это знаете. Обычно рыбы не разговаривают. Но вот козявки у них в пузырях очень любили поговорить. И не просто поговорить — они ругались! Ничего, кроме ругани, от них не было слышно. И настолько они поднаторели в этом деле, что могли взбесить любого. Одним словом, ругались козявки мастерски, а вместе с ними вынуждены были ругаться и рыбы. Было что-то такое, что вынуждало добрых и простодушных рыб идти на поводу у своих козявок и замысловато обругивать всех, кто попадался у них на пути. Представьте себе стаю летучих рыб, поджидающую одинокого путника на дороге, в засаде, где-нибудь за кустами. Вот идет он один, никого не трогает и… в следующий момент его окружает стая летающих и ругающихся нахалок! Никому бы не пожелал подобного!
В общем, рыбы, а точнее — их козявки, так поднаторели в искусстве ругани, что стали просто мастерами этого дела. Просто спасу от них не стало. Путешественники и обозы нанимали лучников для того, что бы отгонять распоясавшихся рыб. Надо сказать, что единственный, кто не ругался, был Отец-рыба. Он старался утихомирить свою братию, но… куда там! Рыбы и сами бы рады вести себя тихо, да только козявки им этого не позволяли.
И вот однажды, выйдя из медитации, которая длилась пятьдесят циклов, Борн наткнулся на рыб. Выглядел он в тот момент весьма безобидно: широкополая шляпа, плащ и посох. Никакого оружия. Гулял себе волшебник, прогуливался, где-то в лесах, вдалеке от крестьянских поселений и охотников. Идеальная мишень для рыбных шуток. На такое дело слетелось сразу три косяка. Следуя своей обычной тактике, рыбы затаились в кустах и, когда Борн проходили мимо, вылетели всем скопом.
Поначалу это волшебника даже позабавило. Борн вдоволь нахохотался, глядя, как рыбы махают в воздухе плавниками, ругаясь на чем свет стоит. Однако его веселье рыб просто взбесило. Козявки внутри пузырей разошлись не на шутку. Они выделяли так много газа, что рыбы с трудом удерживались от того, чтобы не взлететь к облакам. Изощряясь и кривляясь, рыбы понемногу-таки втянули мага в диалог… если можно так назвать серию взаимных пикировок, в результате которых Борн завелся не на шутку. Рыбам удалось вывести его из себя. Самого Борна!
Доведенный до бешенства маг заметил, что утратил все, чего добивался в эти долгие пятьдесят циклов. Его сосредоточенность, сила духа, приобретенная благодаря упорной концентрации, магические формулы — все пропало, растворилось без следа. И это по вине каких-то рыб! Даже не животных! Стая безмозглых пучеглазых хвостоголовок вытянула из величайшего мага всю волшебную силу, лишив его душевного равновесия. Это был хороший урок. Борн принял решение уйти в медитацию еще на пятьдесят циклов и хорошенько обдумать все случившееся. Он сел прямо там, на дороге, окружив себя магической стеной. Но, прежде чем отключиться, нужно было принять решение, как поступить с рыбами. Движением руки маг сгустил воздух и прекратил поток ругательств. Рыбы, беспомощно двигая плавниками, застыли на месте, ничего не понимая.
Вопреки всему, что про него говорят, Борн не был злым. Он понимал, что по дорогам бродят не только маги и что не все способны так легко выдержать рыбьи домогательства. Рыбы стали проблемой для всего Плоского Мира. И вот великий волшебник решил уничтожить всех рыб на свете. Ему показалось, что мир без ругающихся рыб будет лучше, чем с ними.
Но к месту надвигающейся трагедии вовремя подоспел Отец-рыба. Он взмолился перед волшебником и объяснил ему, что во всем виноваты не рыбы, а их козявки, что нельзя уничтожать тех, кто сам страдает больше всех остальных. Борн согласился. Он заколдовал только козявок внутри всех рыб. Он наложил на них заклятие, в результате которого козявки не смогли больше ругаться. Не то чтобы теперь они вовсе не могли говорить — они просто не могли раздражаться, гневаться и ругаться.
Самое интересное, что с тех пор рыбы замолчали навсегда. Рыбы могли говорить, но не хотели, они и сейчас могут это делать. Им просто нечего сказать. А козявки… козявки, кроме ругательств, других слов не знали, а учиться не захотели… С тех пор, от безделья и скуки, они как-то скисли, перемерли внутри рыб и перестали давать газ. Вот так рыбы, перестав ругаться, утратили и возможность летать. Их пузырь заполнился воздухом и больше не помогал в летном деле.
Но не надо грустить! Рыбы поселились в водоемах. Воздушный пузырь пригодился для того, чтобы не тонуть. И если вы присмотритесь, то поймете, что рыбы в совершенстве овладели искусством плавания и ныряния. И, как мне кажется, они неплохо приспособились к жизни в воде…
Мастер Затриндель надолго приложился к своей кружке.
— Ваша история, безусловно, стоит двух кувшинов! — воскликнул молодой ученый.
— Моя история… — грустно улыбнулся мастер-сказочник. — Моя история, молодой человек, бесценна.
— Но что же стало с мастером Борном? — спросил десятилетний паренек.
— Борн удалился к себе в башню, где медитировал еще пятьдесят циклов. А когда вышел из нее… когда он вышел из башни, то понял одну простую и очень важную вещь! Он понял, что в магии самое главное не сила и даже не мастерство — самое главное в искусстве магии — остаться, все-таки, человеком!
— Вы так уверенно говорите о магии, как будто и сами причастны к ней. Создается впечатление, что вы знали этого Борна, — прищурился молодой ученый, приложившись к кубку.
— На то я и мастер-сказочник! –уклончиво ответил Затриндель. — В любом случае, история-то хорошая!
— А как же Отец-рыба? — спросила девочка. — Почему он летает до сих пор, когда все остальные рыбы плавают?
— Не знаю, — просто ответил бард.
Большая Голова

На улице за голенища сапог забивалась холодная слякоть, было хмуро и сыро, но в таверне «Свинячий бивень» уютно горел камин, пахло специями и готовкой. Обеденный зал набился битком: пьяницы-завсегдатаи, усталые крестьяне, пришедшие пропустить кружку-другую, ремесленники, приехавшие на осеннюю ярмарку с товаром, и просто путники, нашедшие здесь приют и тепло. Прислуга деловито сновала туда-сюда, разнося пиво, жареную колбасу и кашу, и повар валился с ног от усталости. Он почти не спал уже второй день — в такое время нужно ловить монету и не зевать. В конце концов, отоспаться можно будет в солнечные деньки, когда большинство сегодняшних посетителей вернётся к своим обычным делам. А сегодня таверна гудела оживлёнными голосами, и звон монет ободряюще действовал на взвинченные бессонницей и работой нервы повара. В уголке, на своем любимом месте, сидел, попивая винцо, мастер Затриндель в окружении детишек и слушателей постарше. Сегодня в слушателях недостатка не было. Перед Затринделем стояла огромная тарелка с мясным рагу и три кувшина.
— Итак, уважаемые слушатели, маленькие и не очень, что бы вы хотели услышать на этот раз: легенду, сказку, правдивую историю о битвах прошлого или, может быть, спеть вам что-нибудь?
— Ох, насчет песен вы погорячились, мастер сказочник. В вашем-то возрасте уже, наверное, сложновато… с подобающим пению напряжением, — хихикнул толстый мельник.
— Почтенный сквайр, — усмехнулся менестрель, — я знаю, что вы пишете неплохие стихи и, вполне возможно, что кое-что можно было бы положить на музыку. Думаю, я в состоянии это сделать, как вы считаете?
— О… уважаемый бард, я… я ни в коем разе не хотел вас обидеть, -засуетился мельник.
— Ничего страшного, дорогой Робин, ведь я помню вас еще мальчишкой, слушавшим мои сказки. Вы, наверное, правы, я стар, и голос мой уже не тот. Но если не песню, то что вы хотите услышать?
— Я бы послушал какую-нибудь легенду, — улыбнулся мельник, допивая свою кружку и кивнув девушке, чтобы принесла еще два кувшина.
— Я бы тоже с удовольствием услышал что-нибудь о том, как зародился наш мир, — важно кивнул сидевший рядом с мельником тучный мужчина. Это был Лафли Соллик, небезызвестный толлейвудский сыровар. Вместе с мельником он приехал на ярмарку и пережидал в «Свинячьем бивне» непогоду.
— А я хасю пра лебедев и маленькую девацьку! — заревел самый маленький из слушателей.
— А вот тебе сладкий медовый леденец и помолчи немного, — сказал мельник, доставая откуда-то огромный пахучий медовый пряник.
— Это не леденес, это пляник! — нахмурился малыш.
— Могу и сам съесть, если ты такой придирчивый, — притворно нахмурился сквайр.
— Нет! Давай сюда! — мальчишка выхватил пряник из рук мельника и довольно засопел, разгрызая корочку.
— Что ж, легенда, так легенда…. А знаете ли вы, почему Солнце и Луна выпрыгивают из Большой Головы и падают каждую ночь в океан?
— Так устроен наш мир, что в этом такого? — пожал плечами сыровар.
— Ха! Что такого! — передразнил менестрель. — Неужели вы думаете, что не могло быть как-то по-другому? К примеру, почему бы Солнцу и Луне не двигаться по небосводу ровно, выплывая каждый день из-за края мира и возвращаясь обратно? Наше Солнце скачет по небу как ошпаренное, и я даже знаю существ недалеко от Драконьих гор, которые умеют его приманивать.
— Ну, это сказки! — хихикнул кто-то из слушателей.
— Пускай даже сказки, — не унимался почтенный бард, — но неужели вы не чувствуете всю прелесть того, что могло бы быть как-то иначе? Да будет вам известно, что когда-то давно, в стародавние времена, Солнце и Луна не выпрыгивали из Большой Головы. Они крутились по небу как хотели, только изредка прячась за Большие Горы. Это было не очень удобно, так как ночь и день длились всегда по-разному и никто не высыпался, как следует.
— Но это же полная чепуха! — воскликнул долговязый молодой человек, — я ученый и знаю, что такого просто не может быть!
— Но так было, — просто ответил сказочник.
Давным-давно, в стародавние времена, когда никого из вас еще на свете не было, жил-был один трактирщик. Его таверна, как и наш «Свинячий бивень», располагалась в очень удобном месте — на пересечении важных торговых путей — и всегда приносила доход.
Надо сказать, что трактирщик тот… как же его звали,… не помню, забыл. Так вот, трактирщик был еще тот фрукт. Честно говоря, до омерзения жадным был этот трактирщик. Если бы по жадности проводили соревнования, то он, безусловно, был бы чемпионом из чемпионов. Но в наибольшей степени его жадность распространялась на то, что мы запихиваем внутрь себя три — а то и пять, — тут бард покосился в сторону мельника, — в общем, несколько раз в день. Проще говоря, он любил поесть и выпить. И он экономил на всем, что касается съестного! Обеденные порции в его таверне были такие малюсенькие, а цены на них такие высокие, что многие путешественники предпочитали вообще не есть, хотя бы из принципа. Но некоторые ели. Потому что, надо признать, что готовил он вкусно, просто пальчики оближешь. И от этого было еще хуже, так как после обеда посетитель оставался не просто голоден — ему хотелось есть даже сильнее, чем до обеда. Трактирщик готовил сам и каждую порцию «проверял», слизнув или откусив что-нибудь из тарелки. К счастью, посетители не знали об этой его привычке, а не то он нарвался бы на серьезные неприятности, и мы с вами никогда бы не получили ту смену дня и ночи, каковые наблюдаем теперь, друзья мои.
Ага, я вспомнил, как его звали…, его звали Брингли Проглот. Таверна ему досталась по наследству. И вот за те несколько циклов, что он хозяйничал после смерти родителей, Брингли умудрился изрядно подорвать свои дела. Жадность мешала ему содержать таверну в надлежащем виде. Посетители старались обходить дорогое и неприятное место стороной, заглядывая туда разве что в такую погоду, как сегодня. Путников не привлекала грязь и неряшливость обстановки. Мебель и кухонная утварь разваливалась от старости, но Брингли не собирался тратиться на обновки. Слуги и подмастерья больше седмицы не задерживались, покидая Проглота с проклятиями и насмешками. В конце концов, таверна окончательно пришла в упадок, уступив место открывшейся неподалёку гостинице с вполне приличным столом.
Вы, конечно, понимаете, что подобное положение дел не могло не отразиться на самом хозяине трактира. И что бы вы думали? Вы думаете, он изменился? Как же! Брингли Проглот отреагировал еще большим приступом жадности. В его изъеденной алчностью голове роились планы мести соседям, один страшнее и гаже другого. Он ждал, когда гостиница до отказа заполнится посетителями, чтобы поджечь ее одной прекрасной ночью. Он хотел поубивать и съесть хозяев, он даже подумывал о том, чтобы уйти в дикий лес, отыскать там дремучее зло и напустить его на всех людишек. А пока бездействовал и ждал подходящего момента…
А тем временем в его собственную таверну ещё заходили случайные и редкие гости, и они требовали еды, питья и места для ночлега. Вы только подумайте, какая страшная трагедия, какое напряжение изводило бедолагу! Его одолевала жадность, ему хотелось съесть и выпить все самому, а затем уснуть сладким спокойным сном сразу на всех кроватях во всех комнатах своей гостиницы. Но своим противоречивым и больным разумом он всё же понимал, что посетители приносят доход. Они дают ему деньги, на которые он сможет купить больше еды и питья. Это противоречие доводило Проглота до исступления. Ему приходилось приятно улыбаться и говорить всякие милые глупости, которыми так дорожат путники, но при этом изнутри его раздирала жгучая ненависть, замешанная на бездонной жадности. Кто-то сказал бы, что Брингли одержим демоном зла, но это было не так. Брингли сам был странным демоном, существом в человечьем обличии. Он был самим воплощением алчности. Это была его единственная страсть, смысл его существования, если можно так выразиться…
В то время великий маг Борн пребывал в одной из своих пятидесятицикловых магических практик самоуглубления. Он сидел в горах неподалеку от таверны Брингли в течение пятидесяти циклов. Изможденный, но довольный, Борн закончил свою длительную медитацию и в очередной раз очнулся в нашем мире. В тот раз, кстати, Борн постиг устройство мироздания. Как этого, так и многих других.
— А разве есть другие эти… здания? — встрял один из мальчишек.
— Хороший вопрос, — ухмыльнулся Затриндель, — спроси об этом у самого Борна, а я… лишь рассказываю историю.
Борн постиг мироздание, его устройство и вдруг понял, что оно несовершенно, что можно многое изменить. К примеру — Солнце! Оно так бестолково крутится по небу, что мешает медитировать. А ведь могло бы двигаться более прилично, упорядоченно. Волшебник крепко задумался, отряхиваясь от налипшей за пятьдесят циклов пыли, проникшей в его защитный кокон, несмотря на самые сильные заклинания. Пыль проникает везде и всюду, и нет от нее спасения, как и от насморка! Улыбнувшись сам себе, Борн выбрался из горной пещеры и зашагал куда глаза глядят.
Спустившись с гор, он оказался возле гостиницы Брингли Проглота. «Зачем я здесь?» — подумал великий маг. «Может быть, для того, чтобы применить на практике полученные знания? Может быть, дело в том, что… хочется поесть, выпить вина и отдохнуть в уютной гостинице? Нет… тут кроется что-то более значимое! Хотя поесть и выпить тоже было бы неплохо…».
Было жарко, солнце пекло нещадно. Борн отправился на постоялый двор. Уже издалека великий волшебник со свойственной ему наблюдательностью подметил множество свидетельств запустения и упадка. Двор был не убран. Тут и там приходилось перешагивать через целые кучи мусора и помоев. Входная дверь покосилась, но из окна кухни, расположенного сбоку от входа, пахло довольно-таки приятно. Брингли Проглот — как всегда — готовил сам. В гостинице скопилось на удивление много посетителей, причем кое-кто из них был явно с деньгами, и приступы жадного бешенства одолевали трактирщика при мысли о том, сколько чудесных продуктов съедят сегодня эти мерзкие обжоры.
От запахов кухни у Борна потекли слюнки. Представляете, как можно проголодаться, если обедать всего один раз в пятьдесят циклов!? Маг подошел к окну и увидел, как потный от усердия Брингли фарширует жирных окуней, одной рукой запихивая в них коренья и травы, а другой периодически помешивая бадью с густой мясной подливой. Окуни эти были одним из главных источников процветания таверны. Они в изобилии водились в пруду неподалеку и хорошо ловились сетью. Проглоту эти окуни ничего не стоили, зато с посетителей за них трактирщик драл втридорога. Хотя, надо признать, что были эти окуни.. ммм… вкусны… и все их охотно заказывали, несмотря на цену…
— Вы так говорите, мастер Затриндель, будто сами там бывали и пробовали этих окуней! — усмехнулся молодой ученый, подвигая сказочнику кружку с вином.
— Дааа… сегодня вы не найдете ни той таверны, ни этих прекрасных окуней… — менестрель отхлебнул из кружки и задумался. Его взгляд устремился куда-то вдаль, в какие-то одному ему ведомые глубины прошлого. Казалось, что во взгляде старика на мгновение промелькнула сама Вечность, взглянула не бренный мир и скрылась в неведомое.
— Так вот! — встряхнулся сказочник. — Борн смотрел через открытое окно на трактирщика, а тот увлеченно и сосредоточенно закидывал окуней на огромную сковороду, ничего не замечая вокруг. Волшебник громко кашлянул, дабы привлечь к себе внимание, но Брингли Проглот то ли не хотел отвлекаться, то ли действительно не видел ничего, кроме кипящей подливы и фарша. Он уложил рыбу, накрыл ее крышкой и, сладострастно вздохнув, помешал подливу. Из-под кипящего соуса тут и там выглядывали соблазнительные кусочки мяса. Трактирщик густо посыпал подливу перцем, чихнул и отложил половник на небольшую, специально приспособленную для этого дела тарелку.
Борн за окном еще раз кашлянул — настойчиво и призывно. Не услышать такого искусственного кашля было невозможно. Но Проглот не услышал! Именно в этот момент он сам разразился злобным кашлем. Борн кашлянул еще раз и услышал кашель в ответ… Тогда волшебник концом своего посоха громко постучал о ставню. Никакой реакции. Брингли только чихнул и даже не повернулся. Стало понятно, что, скорее всего, он делает это нарочно, но полной уверенности не было. Ситуация сложилась странная и неловкая и зависла в воздухе вопросительным знаком. Маг растерялся, не понимая, как реагировать — рассердиться или кашлянуть еще разок…
А дело было в том, что Брингли Проглот заметил странного старичка еще издалека. Жирный трактирщик не любил нищих — тех, кто берет что-либо и не платит за это. Надо сказать, что маг в тот момент действительно походил на нищего попрошайку. Одет он был не лучшим образом: шляпа, остроносые сандалии и гетры за время, проведенное в медитации, испортились и сгнили. Маг был весь в пыли, а простой халат, расшитый звездами, выглядел старой, вонючей тряпкой. Брингли ненавидел попрошаек лютой ненавистью и часто развлекался тем, что натравливал на них своих вечно голодных псов. Среди несчастных скитальцев таверна слыла самым ужасным местом. Если у вас нет денег, вам не стоит связываться с Проглотом: вы не найдете ни жалости, ни сочувствия.
Краем глаза трактирщик следил за немытым прохвостом, нагло кашляющим под окном. В первый момент Брингли был слишком сосредоточен на готовке и просто отмахнулся от посетителя, но вот в его утробе жадным огнем разгорелась злоба, которая всегда накатывала на него внезапно и мощно, и Проглот решил позабавиться. «Надо будет обязательно спустить на него собак, но не сразу…» — подумал трактирщик, решив сыграть с попрошайкой в свою обычную игру. Для подобных случаев у него была выработана своя манера поведения, своеобразная игра, в которую толстяк играл с самыми докучливыми бродягами. Азарт заключался в том, как долго и как искусно удастся Брингли Проглоту игнорировать собеседника, ставя того во все боле и более неловкое положение. Результатом, конечно же, всегда становилась травля собаками, но перед этим бывали действительно интересные моменты. Бывало даже, что трактирщику удавалось возбудить у нищих чувство возмущения, злобы и даже гнева!
Как и большинство бедолаг, великий Борн так и не понял — заметили его или нет. Хотелось есть, чего-нибудь выпить, но, в принципе, сейчас волшебник был бы согласен и на ломоть свежего хлеба с капелькой душистой подливки, которую готов был принять прямо через окно… Он уже хотел что-нибудь сказать, но никак не мог придумать, с чего начать. Он потоптался и решил еще раз постучать. Но, как назло, именно в тот момент, когда он опять стукнул посохом по ставне, странный повар с той стороны окна застучал кастрюлей. При следующем стуке прохвост чихнул, затем кашлянул и даже запел громким и фальшивым тенором что-то невнятное именно в тот момент, когда волшебник наконец-то решился его окликнуть.
Неловкость внутри мага нарастала. Можно было просто уйти, но для этого не было достаточных оснований. Можно было бы разгневаться и превратить жирнюгу в борова, но что, если этот просто глух и пострадает невинно? Все последующие попытки волшебника достучаться до странного человека за окном странным же образом и пресекались. Можно было бы свалить все на случайность, но в конце концов волшебник заметил, что краем глаза толстяк внимательно наблюдает за его реакцией. Как только он это заметил, Брингли Проглот резко повернулся к нему и широко заулыбался — то ли довольный своей проделкой, то ли действительно заметив его. Борн не мог понять — возмущаться ему или смеяться нелепой шутке. В конце концов, он решил просто выкинуть все из головы.
— Послушайте, любезнейший, — начал Борн, — не могли бы вы мне дать чуточку хлебца с той чудесной подливкой, что так вкусно пахнет? А еще не мешало бы туда положить кусок мясца и… зелени.
От такого заявления у Бринги даже настроение поднялось. Он уже почти решил спустить собак, как вдруг его озарила новая идея. В огромной голове метались мысли — одна гаже другой, но все они были недостаточно мерзкие. Кроме одной. Обдумав эту мысль, он решил дать этому нищему то, чего тот хочет… а уж потом спустить собак. Это было необычно, пришлось бы разориться на продукты, но… похоже, развлечение того стоило.
Удивляясь самому себе, Проглот наблюдал, как его рука потянулась к душистой буханке плоского черного хлеба. Странно раздвоившись, трактирщик будто со стороны смотрел на то, как его собственная рука отламывает огромный ломоть, как другая рука поливает этот прекрасный хлеб ароматной подливой, кладет туда здоровенный кусок мяса, которого хватило бы на три, нет — на четыре порции… лук… ох… В этом было что-то настолько извращенное, что травля собаками показалась ему незначительным наказанием за дерзость попрошайки. Этого нищего нужно накормить, напоить, спеть ему колыбельную или, наоборот, веселую песенку… а потом его придется четвертовать, содрать кожу живьем, посадить на кол, вырвав предварительно внутренности, но так, что бы он был еще жив… а уж потом спустить собак, да, собак!
Впервые не попробовав еду, с улыбкой на лице, Брингли Проглот протянул хлеб в сторону окна. Он улыбался и думал: «Похоже, что уже очень скоро я самолично забью эту гадину той самой палкой, которая стоит у меня в каморке…». Так думал в тот момент странный трактирщик, наблюдая за движением своей руки, за тем, как рука наглого хапуги тянется ей навстречу. Вот их руки все ближе… ближе…, почти дотянулся… НЕТ!!! Брингли оказался неспособен отдать еду даже ради своего собственного развлечения. В последний момент, когда Борн уже почти коснулся вожделенного хлеба, Проглот отдернул руку с бутербродом, повел ноздрями и… откусил сам — вгрызся в пахучий свежий ломоть хлеба, облитый подливой…
Брингли жадно пожирал хлеб, понимая, что променял более изысканное удовольствие на примитивную жадность. Ему было досадно и обидно за самого себя… перед самим собой. На лице проявилось выражение конфуза, которое со стороны было похоже на злость.
«До чего же злобная тварь!» — подумал волшебник.
«Все равно надо бы спустить собак», — подумал Брингли.
Проглот засвистел в специальный свисток, призывающий собак, но от возмущения даже не сразу смог выдуть из него приличный свист. Наблюдая за тем, как хлеб с подливой пропадают в пасти прожорливого толстуна, волшебник увидел его душу так, как это могут делать только самые великие волшебники — всю. Борн увидел, что Брингли Проглот бесконечен в своей жадности, как бесконечен океан в своем прибое. Борн хотел есть, хотел чего-нибудь выпить и немного поспать, но все это стало неважно. Важно было не разозлиться, не упустить плоды пятидесятицикловой медитации. Но как это сделать, когда видишь, что на тебя спустили злобных псов?
«Да чтоб ты своих псов сожрал!» — вырвалось у Борна — и это было ужасно…
Рука Борна, отделившись от туловища, прыгнула через окно. Хлопнув Проглота по физиономии, она схватила оставшуюся буханку хлеба, стащила со сковороды жареного окуня, кастрюлю подливы, бутыль вина и вернулась к хозяину. Странный нищий разломал буханку пополам, одну половину выбросил, а на другую опрокинул кастрюлю с подливой так, что большая часть мяса оказалась на земле. Надо сказать, что сэндвич у него получился гигантский! Когда прибежали собаки, они кинулись не на нарушителя, а на упавшее мясо с хлебом. Все, что мог поделать трактирщик — это свистеть в свой свисток. Он и свистел. Тем временем бродяга — прямо на глазах у потрясённого Брингли Проглота — откусил громадный кусок, зачавкал и… преспокойно пошел прочь.
«Все должно было произойти совсем не так!» Брингли хотел кинуться за нарушителем, но не смог. Щемящее и роковое нечто захлестнуло Проглота с головой. Это было похоже на голод, но это было сильнее. Оно было громадным и всеобъемлющим, как небо над головой. И таким же опустошающим. Брингли Проглот уже не принадлежал самому себе…
В первую очередь бедняга съел все, что было на кухне. Он быстро сожрал окуней, несколько буханок хлеба, остатки подливы, выхлебал даже помои из ведра. Голод вроде немного угас. Сильно встревоженный, Брингли побрел в свое самое заветное, самое любимое помещение гостиницы, единственное место, где он всегда чувствовал себя спокойно и хорошо — в погреб. В погребе были припасы и вино. Он надеялся отсидеться здесь и слегка перекусить, пока не вернуться душевные силы. Но, как только Проглот увидел ряды копченой колбасы, звериный голод вернулся, усиленный во сто крат. Это было как удар, как нашествие гоблинов, как рой рассерженных злобных диких ос. Брингли накинулся на колбасу. Он жрал и жрал, поглощая все, на что падал его алчный взгляд. Он уже съел всю колбасу, слопал десяток сырных голов, но голод не стихал. Упав под огромную бочку с вином, Проглот повернул кран- и вино хлынуло в него, как водопад падает в горное бездонное озеро. Выпив всю бочку, трактирщик рыгнул и… принялся за копченые окорока…
Он ел и ел, и ел, и ел… Опустошив погреб, обжора ворвался в обеденный зал и стал жрать еду прямо из тарелок посетителей. При этом от него исходил такой ужас, что все, кто был в таверне, кинулись к выходу. Не осталось даже прислуги. Проглотив все, вылизав тарелки, Проглот на мгновение остановился, присел и прислушался к ощущениям. Голод не стихал. Самое ужасное было в том, что Брингли Проглоту НРАВИЛОСЬ! Ему нравился сам процесс поглощения таких огромных масс, и не хотелось останавливаться. Он и не останавливался. Голодная пустота внутри должна была быть заполнена безотлагательно. И неважно — чем. Повертев в руке вылизанную до зеркального блеска тарелку, Проглот подумал, что это хороший метод чистки — не надо возиться с водой. Пожав плечами, он отправил тарелку в пасть, сочно похрумкав глиняными черепками. В дело пошли тарелки, кружки, кувшины, табуретки и вся мебель. Сожрав мебель, изрядно увеличившийся в размерах Проглот на миг задумался о том, как же он теперь выйдет из таверны? В конце концов, он просто отломил дверной косяк и съел его, как лакричную палочку. Быстренько сожрав здание до фундамента, он подумал… и, выковыряв фундамент из земли, сожрал и его. Затем Брингли огляделся по сторонам в поисках того, что мог бы поглотить своей утробой. Он уже вырос до великанских размеров. Голод не стихал. Трактирщик попробовал есть землю, но она оказалась слишком пресной на вкус. А вот лесок неподалеку вроде ничего. Ухватив по дороге чью-то карету вместе с лошадьми и содержимым, Проглот добрался до леса и принялся уничтожать одно дерево за другим. Он уже не был похож даже на великана, но все еще продолжал расти. Вместе с габаритами трактирщика рос и его голод, будто подпитываемый всем съеденным.
Он все ел, и ел, и ел…. Поглощая все вокруг, Брингли стал похож на гору, но двигался при этом легко и сноровисто. Дикий, ни с чем несравнимый голод не давал ни секунды передышки. Чем больше он ел, тем больше ему хотелось есть. Он уже не понимал, кто он или что он такое, не соображал, где находится и что делает. Лишь одна страсть, одна мания заполонила всё существо Брингли Проглота. Вероятно, он хотел съесть весь мир и, возможно, при другом раскладе ему бы это и удалось…
Изнуренный голодом и жаждой, Проглот одним глотком выпил самую большую реку Плоского Мира, реку Гарь. Теперь, как вы знаете, на этом месть лежит глубокий каньон. А когда-то там была река… Выпив Гарь, Проглот еще больше захотел есть. Он шагнул к Драконьему хребту и грызанул хребет. Теперь на том месте, как вы знаете, Перевал дождей, по которому гоблины с Той Стороны делают набеги на Варну, Береговину и Осторган. В тех местах до сих пор можно увидеть гору, напоминающую сломанный зуб. Она так и называется — Сломанный Зуб. Это зуб Брингли Проглота. Проглот всерьез решил подзакусить Драконьими горами, но когда он сгрыз одну из самых высоких вершин (ту, которую после этого стали называть Отгрызенным Пиком), бывший трактирщик запрокинул голову и увидел солнце. Солнце так приковало его внимание, ему так захотелось его съесть, что Проглот в два шага оказался на другом краю мира и потянулся к солнцу. Как я уже говорил, солнце в те времена было более подвижным, чем сегодня. И хотя это другая история, надо сказать, что солнце тогда было живым. И оно испугалось. Оно отпрыгнуло от трактирщика и попыталось спрятаться в океане. Но там, где солнце собиралось укрыться от жадной пасти, уже пряталась луна, которая была хитрее солнца и давно смекнула, что к чему… Таким образом, солнце не только не смогло спрятаться, но еще и раскрыло тайник луны. Тут-то луне и пришел конец! Солнце увернулось от лапищи Проглота, но луна не смогла. Прожорливый монстр заглотил луну, рыгнул, схватил солнце за длинный луч и с довольным стоном отправил его в пасть вслед за луной. Стало темно, хоть глаз выколи. Голод отступил. Проглот отяжелел так, что даже сказать нельзя как. Своими размерами он стал сравним с самим Плоским миром. Что делать дальше такому огромному существу?
И в этот момент край мира, на котором стоял великан, не выдержал, отломился и рухнул в океан. А вместе с ним и несчастный трактирщик. Бедный Проглот не смог переварить солнце. Жуткий солнечный жар опалил его исстрадавшиеся внутренности. Океан зашипел…
Измученный Брингли стоял в океане, и вода доходила ему до подбородка. Его ноги увязли в морском песке, в руках не осталось сил, а в голове — ни одной мысли. Неспособный пошевелиться, Проглот стоял и икал. Его немного мучила изжога, хотелось пить, но соленая вода не утоляла жажды, а только еще больше вызывала икоту. Он стоял и икал, глупо моргая глазами. Он икал все сильнее и сильнее, что-то рвалось изнутри. Желая освободиться от помехи, Проглот икнул как-то уж особенно сильно — и из его утробы вырвалось солнце, медленно поплыв по небосводу — величественно и ровно, почти по прямой. Проглот икнул еще раз и — вслед за солнцем — вылетела обновленная и яркая луна. Догоняя солнце, она раскрывала за собой звезды и синь ночного неба. Вечерело….
С тех пор люди уже и не помнят про Брингли Проглота. Все зовут его просто — Большая Голова. Да… вот таким оригинальным образом Борн и применил свой план по переустройству небесных светил. Так и повелось теперь, что каждый день солнце, а вслед за ним и луна исправно выпрыгивают из Большой Головы, пролетают по небу и падают в болота по другую сторону гор…
Мастер Затриндель замолчал, подлил вина. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Он чему-то улыбался — чему-то древнему и большому, чему-то, что, как казалось, было известно ему одному…
Золото лепреконов

Клурикон (clurichaun) — «ночная» форма лепрекона, решившего выпить после завершения дневных дел.
В серой унылой комнате сегодня вечером было особенно грустно. И дело даже не в том, что грустно было всегда, а в том, что сегодня Миха продул в кости свой последний башмак. Да и выпивка кончилась. Миха уныло пнул протяжно зазвеневший пустой жбан из-под бражки, но оттуда посыпалась лишь какая-то давно засохшая вонючая мякоть. Выпивка кончилась основательно. В том смысле, что выпить было нечего, не на что было купить выпить, не было возможности одолжить на выпивку, и не было даже возможности забродить какие-нибудь помои или отходы, которых тоже не осталось. Миха задолжал всем и каждому. «Еще посадят в Долговую Яму…» — подумал башмачник, но тут же пришел к выводу, что таких беспробудных пьяниц даже в Яме содержать «на халяву» никто не будет. Просто выгонят из города, да и все. В Граданадаре не терпят неудачников.
В свои сорок циклов Михаэль Зава выглядел на все шестьдесят. Он уже пропился в хлам и собирался пропиться еще основательней. А ради чего жить?! Ради сапог да туфель? Так ведь Зава и шить-то толком не умел, все больше чинил. Ради жены или детишек малых? Тоже не сложилось — ни жены, ни детей у Михаэля Завы не было.
Михаэль — «сапожник-неудачка» — выдохнул глубоко и жалобно так, что воздух со скрипом вырвался из пересохшей глотки. Судорожно зевнул и тупо уставился на последнюю оставшуюся в комнате вещь — на старый клавесин. Он бы и его давно пропил, но клавесин был штукой не из легоньких, тащить его куда-то одному несподручно, а делиться выпивкой с помощником не хотелось. Вот так и получалось, что пропив даже стулья и стол, Михаэль остался с… клавесином.
— Вытащу его на улицу, заиграю и буду милостыню просить… на выпивку, — просипел Зава, облизывая пересохшие губы.
Вполне возможно, что эта шутка так бы и осталась всего лишь шуткой, если бы не повлекла за собой ряд неожиданных обстоятельств.
— Как же его сдвинуть-то? — продолжал вслух Зава, подходя ближе к музыкальному инструменту.
— Не надо двигать! — отозвался ни в чем не повинный клавесин.
От неожиданности Миха завалился на пол, потеряв дар речи. Он сидел с раскрытым ртом и соображал, что музыкальные инструменты, издавая звук, должны играть, а не разговаривать.
— Не надо его никуда двигать, ты и так уже все пропил. Прятаться больше негде, а в клавесине у меня дом!
Откуда-то сбоку, из-за ножки клавесина, выбрался человечек с крупной головой и чрезмерно красным носом. Он был одет в старый пыльный фрак с длинными полами, в руках нервно комкал маленький черный цилиндр и жалостливо смотрел из-под густых бровей. Всем своим видом лепрекон напрашивался на сострадание, не понимая, что вот как раз этого-то чувства уже давно не осталось в жалком пьянчужке, сидящем на голом полу в пустой комнате.
— А ведь с тобой можно на улице выступать не хуже, чем с клавесином, — смекнул Миха и попытался схватить коротышку.
— Не надо меня ловить! — заорал карлик, прячась обратно в свое единственное убежище.
Башмачник рванулся к клавесину, вмиг отодвинул его, но лепрекона уже и след простыл. Быстро обследовав пол, Зава обнаружил несколько дыр и понял, что мелкий ускользнул в одну из них. В пылу погони, он забыл про клавесин, хотя человечек недвусмысленно дал понять, что живет именно в нем. Отдышавшись, Зава решил поставить несколько ловушек вокруг нор. На мгновение задумавшись, он заметил, что желание выпить отступило — ловить лепрекона было интересно. «В хорошем цирке мне за него отвалят кучу монет», — оптимистично прикинул Зава.
С детства, башмачник слышал множество историй о малом народце. Везде говорилось о том, что у каждого лепрекона есть горшок с золотом, которое никогда не кончается, сколько его оттуда ни черпай! Это было настоящее волшебство. Зава понял, что готов караулить здесь, у клавесина, столько, сколько понадобится, тем более, что заняться-то, в общем, все равно нечем. Только вот, на что ловят лепреконов? Что нравится этой мелюзге? Конечно же — золото! С золотом у Михи были вполне понятные трудности. «Едят ли они что-нибудь?» С едой тоже было не ахти. Не было серебра, не было колбасы или сыра, не было ни одной табуретки, ложки или пары старых трусов. Был только клавесин, грязный пол, закрытое окно, стены, дверь и сам Михаэль Зава.
— Придется ловить руками! — вздохнул Зава, понимая всю бессмысленность подобной затеи.
— Не надо ловить руками, я не прячусь, — послышалось откуда-то из недр клавесина.
Тихо, стараясь не спугнуть, башмачник потянулся к музыкальному инструменту.
— Не надо тянуться…
Башмачник отдернулся.
— Не надо дергаться!
Зава вздрогнул.
— Я тебя насквозь вижу и знаю, — сказал лепрекон, выбираясь на верхнюю крышку клавесина. — Ты, Зава, в некотором роде, мой хозяин. Уже давно. А я твой клурикон.
— А, по-моему, ты лепрекон, — не нашелся, что ответить Миха.
— Много ты понимаешь в лепреконах! — хохотнул человечек, усаживаясь на край клавесина, свесив ноги и болтая ими как маленькая школьница. — Клуриконы, это «ночная» форма лепреконов. Но если у тебя хозяин пьянь, то у тебя всегда «ночная» форма. К тому же, есть еще ряд отягчающих обстоятельств…
Клурикон заерзал, скривил грустную рожицу и Зава понял, что карлик так же глубоко несчастен, как и сам башмачник. Зава определил в одиноком существе собрата по несчастью.
— Эх! Выпить бы с тобой, да потолковать по душам!
— Давай выпьем, я только ЗА!
— В этом доме пить нечего, — обреченно проскрипел башмачник, роняя слезу.
— У меня в клавесине есть запасы! Между прочим, меня зовут Вицли Шмель и я из линии преемственности Аден-Туанов.
— Так ты, типа, знатный?
Лепрекон несколько покраснел и ответил гордо:
— Я из линии первых лепр-и-конов, осевших в Граданадаре много циклов тому назад, еще во времена Превила Мудрого. До того, как нас начали называть лепр-е-конами. Моя прабабка была второй любовницей Председателя, а мать моя — Принцесса.
— За это надо выпить! — обрадовался Зава такому значительному поводу. Он даже не съязвил о том, что знатный лепрекон осел в пустой халупе бедняка.
В клавесине было много всего. По меркам лепреконов, там был целый склад, но и для одной хорошей человеческой пирушки хватало и вина и закуски. Запасливый лепрекон хранил вино в круглых бочонках из-под специй, размером с рюмку. «Так вот почему этот клавесин казался мне таким тяжелым — он был полон вина. А я и не знал!» — с восторгом подумал Зава. Вся еда сохла на нитках, свешиваясь пучками с проржавевших струн. Здесь был сыр, гора орехов, сухарики и еще что-то такое, о чем человеку лучше не задумываться. Но Миха задумался:
— Так ты, морда лепреконская, меня все это время обкрадывал! — Зава попытался схватить человечка, но тот вытащил из ножен шпагу, больше похожую на иглу.
— Только попробуй это сделать, и я клянусь, что проделаю в твоей пропитой головенке несколько лишних отверстий!
Шпага выглядела не то чтобы устрашающе, сильно напоминая старую сапожную иглу, но Миха предпочел не связываться.
— Я тебя не обкрадывал. Просто брал крошечку… время от времени. По человеческим меркам это ничто, но мне-то много и не надо, — попытался оправдаться Вицли Шмель. — К тому же, здесь почти все не твое, а нашего соседа, включая и вино.
— Вино у него доброе! — согласился Миха, сменив гнев на милость.
Ему все больше нравился этот маленький человечек. Было такое чувство, как будто напротив сидел второй Миха.
— Почему же я тебя раньше не видел? — спросил Зава, откупоривая первый бочоночек с вином. Его кадык нервно задергался в предвкушении, губы мучительно сжались и тут же расслабились, когда вино полилось в глотку.
Залпом опорожнив рюмку-бочонок, Миха не стал тянуться за второй. Он понял со всей очевидностью, что вина достаточно и удовольствие можно растянуть. — Так почему же ты, Вицли Шмель, показался мне только сейчас?
— Потому, что ты хотел продать мой дом, — скривился лепрекон.
— Э-э… ну, да… логично, — кивнул Зава. — Но, все же, мне кажется, что это не единственная причина. В крайнем случае, ты мог бы перебраться под пол. С такими-то запасами, без проблем можно перекантоваться седмицу и дождаться нового хозяина, который въедет сюда, когда меня заберут в Долговую Яму.
Длинная тирада утомила, и захотелось выпить еще. Миха посмотрел на лепрекона. Тот приглашающим жестом дал добро и Зава схватил два бочоночка. Один из них он, аккуратно раскупорив, поставил перед Шмелем, а второй любовно зажал у себя в кулаке.
— Так выпьем же за встречу! — крикнул башмачник, глотая вино.
— Под полом крысы, но есть и более серьезная причина оставаться в клавесине… ну, не в клавесине, а с тобой, — кивнул лепрекон, продолжая разговор. — Дело в том, что ты, Миха, в каком-то смысле, со мной связан и мне не хотелось бы вовсе остаться одному. Во всяком случае, сейчас, когда…
Лепрекон не договорил и, вытащив откуда-то увесистую кружку, сделанную из наперстка, зачерпнул из своего бочонка.
— Нам уже давно надо серьезно поговорить, — продолжил лепрекон, приглашающим жестом давая понять, что Миха может пить сколько хочет, не придумывая бесполезных тостов. — Проблема, Миха, в тебе. Видишь ли, я… как бы это сказать, закреплен за тобой навечно. Ну… или пока наше руководство не издаст новых постановлений на этот счет.
— Меня такое соседство не пугает, — поспешил заверить Зава.
Он вдруг понял, что лепрекон, в каком-то смысле, идеальный собутыльник — он маленький и много не выпьет, с ним поговорить можно… к тому же, он много не выпьет, и поговорить можно, да и не пьет много… — Зава словил себя на том, что уже изрядно захмелел.
— Дело вот в чем, — продолжил лепрекон, — я закреплен за тобой навечно потому, что это мое наказание такое. Когда-то давно я… впрочем, это несущественно. Главное то, что мы связаны одной ниточкой. Или, если угодно, то — бутылочкой.
— За это и выпьем, — поддержал Зава.
Они чокнулись и выпили, потом еще… и еще. Вечер плавно сменился ночью. Вино текло рекой. Не осталась без внимания и закуска.
— Друг мой, лепрекоша, — любовно шептал Михаэль Зава, пьяно клянясь в любви и дружбе.
— Я тебя тоже люб… ик… лю, — согласился Вицли Шмель.
— А давай, лепрекоша, выпьем!
— А давай, Михаэша… ик!
Утро выдалось хмурым и суровым. Миха очнулся на пустом полу. Рядом храпел Вицли Шмель. «Надо бы его в цирк сдать», — подумал больной головой Зава и схватил валявшийся радом бочонок. Бочонок оказался полным. Миха заглотил его одним глотком, привстал, протер глаза, потянулся и зевнул, понимая, что наступило еще одно бессмысленное, кошмарное утро, за которым последует еще один тупой и безрадостный день, а закончится все унылым бездарным вечером, пока не придет долгожданный сон. «Так зачем ждать?» — подумал Михаэль, — «Не лучше ли уснуть сейчас?» Зава отметил, что в клавесине осталось всего пару бочонков вина. Он выпил их оба, один за другим, затем прислонился к стене и захрапел так, что разбудил этим маленького человечка.
Вицли Шмель проснулся от храпа своего «хозяина». Так у лепреконов называется человек, прикрепленный к тебе пожизненно. Он брезгливо и хмуро посмотрел на спящего. Башмачник стонал во сне и чмокал губами, как будто пил вино. «Все мои запасы сожрал за один присест», — подумал лепрекон, но не обиделся, а лишь махнул рукой. Он огляделся по сторонам и понял, что со вчерашнего дня ничего не изменилось. Да и чему было меняться в абсолютно пустой комнате? Уныние и скука овладели лепреконом, а выпить уже было нечего. Вицли Шмель залез в клавесин, достал оттуда клочок бумаги, чернильницу и маленькое перо, переделанное из какой-то булавки. Тяжело вздохнув, он уселся прямо на пол и написал письмо следующего содержания:
«Милейшая дева ясноокая, мать моя, принцесса, товарищ, Ле Улиншпиль фон Шмель! Пишет тебе твой, давно забытый, Вицли. Понимаю, что за грехи мои тяжкие я писать бы не должен, но! Нет у меня выхода в этой безвыходной ситуации, кроме как сообщить тебе о своем плачевном положении здесь… на поверхности. У вас там… на пятом уровне, сейчас, небось, харчи в час обеденный, а у меня тут нету ничего. Хозяин мой сожрал и выпил все до донышка. Он вообще тип нудный и сильно пьющий, я из клуриконской формы не вылезаю. Печальны обстоятельства жизни. Так, что я решился вернуться в семью и… пусть меня лучше Бабуля крысам скормит. Таков выбор. Жду твоего ответа-решения, без надежды на благоприятность.
Твой бывший сын, Вицли Шмель»
Он запечатал письмо, сложив его в какую-то хитрую конфигурацию, и как-то особенно протяжно свистнул. Из дыры в полу высунулась крысиная морда.
— На пятый, — сказал Вицли Шмель и сунул письмо прямо крысе в зубы. Та понимающе кивнула и скрылась, а лепрекон задумался, обхватив голову руками.
Через какое-то время полной тишины, прерываемой лишь назойливым храпом, в дверь настойчиво постучали, и Вицли Шмель спрятался в клавесин. Стучали долго, что-то кричали. Затем последовал мощнейший удар, за ним еще один — похоже, кто-то собирался снести дверь с петель. Но дверь не поддавалась. Почему? Потому, что открывалась в другую сторону. Наконец, с той стороны это сообразили и подергали за ручку. Дверь оказалась не заперта и гостеприимно открылась без всяких проблем.
— Вы идиот, констебль!
— Виноват, господин Шмык! Кто ж знал, что у него дверь открывается не как у всех! — огрызнулся полицейский.
Полицейские быстро растормошили Заву, привели его в чувство при помощи холодной воды и нескольких затрещин. Пьяньчужка отбрыкивался и дерзил до тех пор, пока не заметил того, кто стоял несколько позади. Будучи замеченным, человек приблизился и произнес:
— Вы, Михаэль Зава, должны мне пятьдесят золотых! Не стану скрывать, что это сумма незначительная. Но, если каждая пьянь будет воровать у меня золото, согласитесь, тогда любой на моем месте пойдет по миру. Не правда ли?
— Дааа… — нехотя выдохнул Зава.
— Ну, а раз вы так легко со мной соглашаетесь в этом, то, надеюсь, вы так же легко согласитесь и предоставить… вернуть мне занятую вами давеча сумму, согласно договору, в положенный срок. Сегодня.
— У меня нету… — пискнул Зава, но тут же заметил, как нахмурились брови и приподнялись полицейские дубинки. — С собой нету! — добавил он.
— И где вы, позвольте узнать, храните сбережения? — продолжил импозантный джентльмен.
Из клавесина Вицли Шмелю было все хорошо видно. Он заметил, что полицейские заискивают перед знатным вельможей. А то, что это вельможа, было видно невооруженным глазом: элегантный, шитый золотом фрак, черепаховое пенсне и цилиндр, — этот человек был самим воплощением достатка и власти. Кроме того, от него явственно несло неволей и смертью, причем насильственной. «Я бы не стал с таким связываться. Может быть, это судья какой-то… или пытных дел мастер», — подумал лепрекон и его передернуло.
Импозантный вельможа, без замаха, пнул Заву блестящим башмаком и тот засипел, скорее от безысходности, чем от боли.
— Простите, не расслышал… так, где вы сказали? — ухмыльнулся господин, занося ногу для еще одного пинка посильнее.
— Я пока не говорил… ой! — не понял юмора Михаэль Зава, за что и получил, — Я все понял! Я отдам!
— Когда?
— Завтра!
— И где же вы возьмете деньги?
Что-то дернулось в душе у Завы. Тонкой натурой алкоголика он ясно почуял запах халявной выпивки.
— Вот, что… Я вам все отдам, даже с процентами. Деньги есть. Но мне нужен аванс… эээ… на их добычу. Деньги у моей бабушки. Видите ли… я отсюда перезжаю… к ней. Тут вот, уже даже мебели не осталось — все у нее, у бабули моей… И деньги там. Я бы давно уже их взял у нее, но случилось так, что я должен ей купить лекарство, а у самого-то меня, как вы знаете, в данный момент денег нет. А она очень… очень раздражительная особа и… эээ… может просто не впустить меня к себе в дом… без лекарства…
— Хорошо, — господин направил свое пенсне прямо в глаз Завы.
— Хорошо? — не поверил своей удаче Миха.
— Сколько вам нужно на лекарство?
— Эээ… два золотых, — ляпнул Михаэль, и тут же подумал, что погорячился — ни одно лекарство не стоило так дорого.
— Вот вам два золотых, мой завравшийся друг. Но если вы, Михаэль Зава, завтра к закату не расплатитесь… не отдадите мне мои деньги… я посажу вас в Яму. А если вы и там не расплатитесь… я…
Господин вытащил откуда-то тонкий и, похоже, весьма острый стилет. Он ловко ухватил Заву за ухо и одним коротким движением отсек его. В первое мгновение, Зава даже ничего не почувствовал. Вельможа аккуратно запихал отрезанное ухо Михаэлю в нагрудный карманчик, вытер стилет о Заву, поправил пенсне и, криво улыбаясь, покинул комнату. За ним подались восвояси и полицейские.
— Кажется, я обделался… а переодеться не во что, — пискнул Зава, и тут боль накрыла его.
Кровь хлестала из того места, где только что было ухо. Вицли Шмель выбрался из клавесина. Зава с воплями забегал по комнате в поисках чего-нибудь, чтобы унять боль. Вицли посоветовал ему разрезать последнюю рубаху и сделать перевязку…
Через некоторое время, друзья сидели на залитом кровью полу и печально смотрели на отрезанную часть тела, лежащую между ними. Вицли Шмель не к месту подумал о том, что ухо почти размером с него самого и, что если бы он рос из черепа Завы, то сейчас бы лежал отрезанный, но совсем целехонький. Видимо, происходящее затронуло его сильнее, чем он думал — мысли были какими-то совсем уж ненормальными.
— Мое ухо, — всхлипнул Зава.
— А завтра тебе отрежут второе, — приободрил Вицли Шмель.
— Но сегодня мы можем выпить, — констатировал Зава.
Утро выдалось как всегда нелегким. Вицли Шмель подумал, что это даже и не утро, а день… или даже вечер. Сегодня должны были отрезать второе ухо его другу.
Был ли Зава его другом? Возможно, что и не был, но собутыльником был точно… и, к тому же — единственным оставшимся существом во всем Плоском мире, с которым Вицли еще мог общаться. Или не единственным? А, что если лепреконы не примут его обратно? Если сегодня Михаэля Заву заберут в долговую тюрьму? Тогда Вицли Шмель останется совсем один!
Синяя тоска охватила лепрекона. Он весь сжался — то ли от этой тоски, то ли от нахлынувших последствий вчерашнего кутежа. Его стошнило маленьким комком отравленных вином эмоций и вчерашних деликатесов — два золотых были пропиты подчистую. И в этот момент в дверь громко постучали. «Вот и все!» — подумал лепрекон…
Стучали долго. За это время, Михаэль Зава успел проснуться, посинеть, позеленеть и, в конце концов, прийти во вполне приличный вид. Казалось, что предчувствие неминуемой гибели его взбодрило. Однако стук прекратился. Что-то зашевелилось, заскреблось, под дверь просунули конверт. «Это был всего лишь почтальон» — догадался Вицли Шмель.
Зава недоверчиво подполз к конверту и, чихнув, прочитал адрес отправителя.
— Ну! Не томи. Это наследство от давно пропавшего родственника или приглашение на банкет к королю… Может быть это из банка, где ты, наконец-то, выиграл в одну из тех лотерей, которые проводятся без твоего участия? Или это дальние друзья зовут тебя погостить у них, и мы можем отправиться в путь прямо сейчас, куда-нибудь в… на Пиратские Острова?
— Это тебе, — оборвал его Зава.
Зава мутным взглядом оглядел место вчерашнего пира. Погуляли не хило. Понимание того факта, что они делают это в последний раз, придавало сил и задора всю ночь, так, что вырубились они с лепреконом только к утру. Весь пол был завален мусором и объедками — на два золотых можно было купить много. Но, как ни странно, похоже, что съели они не все — то ли не смогли, то ли не захотели, еды оставалось еще вдоволь. Как и выпивки. Зава ухватил открытую и уже выдохшуюся бутылку с элем и одним залпом осушил ее до дна. Ему стало легче, и он задумался о будущем.
— Я несчастный и конченый человек, — заревел, обливаясь слезами, башмачник, — Мои бедные уши… я останусь без уше-е-е-ей!
Он глянул на лепрекона в поисках сочувствия, но тот сидел с отсутствующим выражением на лице. Очевидно, что новости в письме были не утешительные. Зава схватил письмо и прочитал следующее:
«Дражайший отпрыск мой, Вицли. В ответ на твое душевное письмо, пишу тебе свое официальное письмо, которое, как ты знаешь, отправляют по почте. Думаю, ты понимаешь, что это означает его особую важность, так сказать — окончательность? Хотя, писать особо нечего. Возвращаться совсем не резон. Лучше помри на поверхности, чем тут подвергнешься издевательствам и пыткам, с дальнейшим умерщвлением… Бабуля тебя убьет не сразу: для начала, превратит во что-либо недостойное, затем отрубит все, что можно отрубить… или отгрызет. А уж потом, возможно, что и убьет. И смерть эта будет мучительна. Так что, милый мой, бывший сын, мри спокойно и сюда не суйся».
— Что ж это за родственнички такие! — возмутился Зава.
В горле у Вицли першило и жгло. То ли от выпитого, то ли от печальных новостей. Не то чтобы он ожидал теплого приема и приглашения вернуться — лепреконы никогда не простят его проступков — но он не ожидал, что его собственная мать таким вот образом отвернется от него. В конце концов, он не ждал теплых слов или заверений в родительской любви — у лепреконов так не принято, но в письме не было ровно никаких подробностей, это была сухая констатация фактов. И вот это было действительно страшно. Это было окончательно.
Он вдруг осознал, что остался совсем один. С совершенной ясностью лепрекон понял, что теперь он навсегда оторван от своего племени, изгнан, что он больше не лепрекон! И вся тяжесть последствий его проступков, которую он до сих пор не осознавал, весь ужас его теперешнего положения вломились в маленький череп с такой силой, что голова просто не выдержала, ножки подкосились, и Вицли Шмель свалился как подкошенный.
— Я больше не лепрекон. Это факт. Но кто же я теперь? — хныкнул Вицли, лежа в ладони у Завы и принимая вино из пипетки, каким-то чудом сохранившейся у башмачника.
— Ты просто алкаш… как и я — еще один простой солдат этой вечной, неуничтожимой армии отчаянных и несокрушимых воинов, воюющих против вина… за вино… и не побеждающих никогда, — ухмыльнулся Зава, капнув каплю лепрекону прямо в рот.
— Но, что же нам делать? — лепрекон был безутешен, но «лекарство» потихоньку действовало и мысли прояснялись.
— Мы пойдем на ярмарку и будем там тебя показывать за деньги, — ляпнул Зава. — Ты умеешь петь… или танцевать?
— Не особо, — нахмурился Вицли Шмель.
— Фокусы показывать?
— Знаю пару трюков, но это скорее магия, чем фокусы.
— Ты же понимаешь, что старый башмачник своими плясками быстрее распугает, чем привлечет? Одна надежда на тебя и твою миниатюрность.
— Что ж… если другого выхода нет, то я попробую. Но ты тоже, надеюсь, понимаешь, что мы не соберем пятьдесят золотых за пару часов? — скривился Вицли.
— А я и не жду… я думаю, что какой-нибудь знатный купец или вельможа заинтересуется тобой, и мы тебя ему продадим, — Зава хихикнул, довольным своим коварным планом.
— Ты думаешь, что я стою пятидесяти золотых? — нахмурился лепрекон, не понимая — то ли злиться на Заву за предательство, то ли радоваться тому, что его так дорого оценивают.
Утро потихоньку перебралось в день. Погода была солнечная, но холодная. Осень набирала обороты, и синее небо отражалось в золотой листве деревьев. На самой большой ярмарке королевства было, как всегда, не протолкнуться. Зава сглотнул слюну, увидев лоток с разливным яблочным сидром, но денег не было. Приткнувшись рядом с каким-то жонглером-неудачником, у которого постоянно падали горящие факелы, он достал из кармана Вицли Шмеля и удобно расположил его у себя на локте. Вицли уселся в локтевую впадину, нахлобучив цилиндр на глаза, как бы пытаясь таким образом скрыться от любопытных глаз, но у него ничего не вышло — моментально образовалась толпа зевак, желающих поглядеть на маленького человечка. Кто-то пытался тыкнуть в него пальцем, кто-то покормить, а кто-то — даже и плюнуть. Первых Зава награждал суровых взглядом, вторых приветствовал, а одного нахала, попытавшегося плюнуть в лепрекона, наградил таким пинком, что тот, под хохот толпы, влетел в кучу навоза и, перемазанный, исчез навсегда в неизвестном направлении.
Довольно быстро друзья заработали несколько медяков, которых им вполне бы хватило на выпивку, но, с учетом висящего долга, это было все равно, что ничего. Такими темпами пятьдесят золотых накопились бы циклов этак за сто, при условии, что они не будут есть, а главное — пить. А выпить хотелось все сильнее. В конце концов, закруглив лавочку, Зава с лепреконом отправились в ближайший кабак, предварительно напившись таки яблочного сидра. В кабаке их и взяли под арест.
В долговой Яме было темно и сыро. Башмачник сидел на склизком полу в конической комнате, стены которой, были вырублены прямо в скале. Никаких дверей, ниш или щелей — только каменный мешок с дырой наверху, откуда жидкий луч света высветлял кусок грязной веревки и небольшое пятно на грязном полу. В пятне света стояло ведро — то ли для испражнений, то ли для еды. Воняло вокруг настолько нестерпимо, что, похоже, испражнялись здесь местные «квартиранты» где хотели. Видимо, они полагали, что надолго не задержатся, и это было правдой, так что, скорее всего, ведро было не для испражнений.
— Я думал, что «Яма» это название тюрьмы, а оказалось, что это действительно яма, — хмуро сказал Михаэль, вытаскивая Вицли Шмеля из кармана.
— Меня в твоем кармане чуть не задушили.
— Я ведь еще даже толком и не пожил! — запоздало опомнился башмачник.
— А я…
— А тебя не повесят и уши твои на месте…
Поток сожалений был прерван — решетка над люком сдвинулась и сверху сказали:
— Вылазь, гад!
Вниз спустили шаткую лестницу. Башмачник запихал лепрекона в карман и, трясясь как лист на ветру, взобрался наверх. Но вылезти полностью ему не дали — остановили пинком в голову. Голова от удара отлетела в бок, и Зава чуть не свалился обратно, но удержался. Где-то на самой глубине души он понимал, что все происходящее не так уж и не заслуженно и это давало ему некоторое подобие стойкости. Зава понимал, что человек он конченый и хотел лишь одного — чтобы все поскорее свершилось. В свете дымящего факела, мгновенно заплывшим глазом, он разглядел страшного вельможу.
— Где мои деньги? — незамысловато поинтересовался знатный господин.
Зава промолчал, но, похоже, что богач и не ждал ответа. Он вытащил свой нож и отрезал Заве второе ухо. Зава дернулся и свалился вниз.
— Повесьте его завтра поутру, — последнее, что услышал башмачник прежде, чем потерять сознание. И он еще успел подумать, что наконец-то… завтра… все это кончится.
Михаэль Зава очнулся в полной темноте и далеко не сразу смог понять, где он и кто он. Было похоже на то, как бывает после крутой попойки, но по-другому. В первую очередь из-за вони. Болела голова и ребра. Инстинктивно Зава потянулся к уху, но уха на месте не было. Второго уха тоже не было. Комок слизи в том месте, где когда-то было ухо, говорил сам за себя. Зава все вспомнил и застонал от ужаса. Хмель выветрился и реальность происходящего разорвала Заву на куски. Он протяжно завыл от безысходности, не в силах справиться с животным инстинктом самосохранения.
— А ну прекрати выть! — запищал кто-то, и Михаэль Зава вспомнил про лепрекона.
Присутствие Вицли Шмеля, как ни странно, успокоило. Зава затих. Внутри у него наступил штиль, как будто все мысли разом покинули настрадавшуюся голову, давая передышку нервам. «Наверное, так бывает у всех висельников перед смертью», — подумал Зава.
— Жутко здесь… в темноте, — проскрипел лепрекон. — А… ладно уж…
Вицли что-то промычал и в воздухе возник светящийся зеленый свет. Возможно впервые за свою ужасную историю, долговая яма озарилась призрачным сиянием, и башмачник подумал, что лучше б уж они сидели в темноте — комната наполнилась коричневато-пурпурными тенями, дрожащими в отблесках непостоянного света.
— Зачем мне свет? Все равно помру, а выпить нечего, — всхлипнул Михаэль Зава, вытирая окровавленным рукавом что-то у себя из носа.
— Ты, Зава, выглядишь и вправду не очень. Без света, конечно, умирать легче, но мы еще не на виселице, — откликнулся лепрекон. — Видимо, пришло время применить мою магию и вытащить нас отседова.
— Да что ты можешь!? Жизнь моя бессмысленная… кончена.
— То, что она бессмысленна, это, пожалуй, верно, но то, что она скоро закончится… с этим еще не все ясно, — хмыкнул лепрекон, оглядываясь.
— Ты смотришь… как будто сквозь стены смотришь, — удивился башмачник.
— Я и смотрю, — констатировал Вицли Шмель.
— И видишь ты там такой же ужас, как и здесь, — кивнул Зава.
— Не совсем… там еще хуже. Но, есть тут вариант, хотя он тебе и не понравится.
— Да, что может быть хуже нашего положения! — разозлился Миха.
— Хуже нашего положения — только выход из этого положения. Почему? Потому, что единственный выход отсюда, за исключением виселицы, на которую ты, надеюсь, не стремишься — это выход через отхожее место вон там, в углу, — указал лепрекон.
Зава огляделся, но не заметил ничего похожего на место для отправлений естественных нужд.
— Да тут везде такое место, — пожал он плечами.
— А вот и нет. Там… есть яма. И эта яма является канализационным стоком, который ведет в соседнее помещение. Если мы хотим уйти…
— То выбираться нам придется, ныряя в нечистоты… лучше я на виселицу — нет желания захлебнуться в… тем, что там плавает.
Лепрекон молчал какое-то время, о чем-то напряженно думая. Зава сидел тихо и перед его глазами проносились картины насильственной смерти — одна страшнее другой.
— Не стану тебя уговаривать, хозяин, но скажу лишь только то, что на виселице дохнут не внезапно. Сначала у тебя там чего-то ломается в шее, потом ты гадишь под себя, потом твоя жизнь перед глазами…
— Ладно! Убедил!
Михаэль Зава заметил, что лепрекон употребил слово «хозяин» по отношению к нему, и это было жутковато. По-видимому, ему было по-настоящему страшно. А раз страшно лепрекону, значит самому Заве должно быть еще страшнее — ведь умирать-то предстояло ему. Но страшнее не было. Было никак.
— Аааа… ну и ладно! Тонуть или спастись… все одно лучше, чем сидеть тут, — вздохнул башмачник, потирая шею, на которой он вдруг отчетливо почувствовал затягивающийся узел грубой веревки.
Лепрекон спрыгнул с колена Завы и жестами показал следовать за ним. Он подошел в самый угол и уставился куда-то вниз, в глубину дрожащей и пузырящейся в лучах зеленого магического света зловонной жижи.
— Вот сюда тебе и предстоит нырнуть.
Зава подошел к самому краю. У него ныли отрезанные уши, першило в горле, болели ребра, колени. Задохнуться в нечистотах почему-то стало не так уж и страшно.
— Задержи дыхание и плыви… точнее протискивайся там, в глубине, сколько сможешь. Там будет в одном месте возможность вынырнуть и глотнуть воздуха. Советую ей воспользоваться. Потом снова ныряй и плыви еще.
— А ты?
— А я поверху пойду, — хмыкнул лепрекон и исчез.
Зава нахмурился. Нырять в нечистоты было даже не омерзительно, а как-то панически брезгливо. Но тут сверху зашумели, загомонили. В камеру полился желтый свет фонаря, смешался с магическим зеленым и Зава, испугавшись, нырнул в мерзкую, вязкую воду, стараясь не думать о том, что в ней плавает. Последней была мысль о том, что ушей у него уже нет, но, если поймают, то отрезать могут еще много чего. В яму спустили ведро с едой…
Башмачник плыл долго, слишком долго, но сдаваться не собирался. Он искал обещанную лепреконом отдушину, но ее все не было и не было. Между тем, плаванием можно было это назвать только с натяжкой. Больше походило на протаскивание своего тела сквозь весьма узкую щель, и отверстие становилось все уже и уже. В конце концов, Зава застрял. Нахлынула паника, воздух кончился, и Михаэль заметался, как окунь в силках. Он дернулся и оказался над водой, ударившись головой о свод. В каменном мешке спертый, старый воздух живительной струей влетел в больные легкие. Зава задышал, как первый раз в жизни, но воздуха было совсем мало и нужно было плыть дальше. Но он застрял. Дело происходило в полной темноте. Снизу была вода, а сверху невысокий каменный купол. Стены давили в ребра, рукам не за что было зацепиться. Он развернулся, медленно выдохнул, и почувствовал себя свободнее, заглотил остатки воздуха и поплыл дальше. Через несколько секунд, стены расступились в стороны, и Зава пробкой выскочил в узком канализационном стоке, который показался ему широким, как каньон Бурь. Посредине стока протекала «река», откуда он только что вынырнул, а с двух сторон были сухие, удобные «берега». На одном из них, в паутине, посеребренной лучом пробивающегося откуда-то света, сидел Вицли Шмель, и зрелище это было прекрасно.
— Воняет от тебя, Зава, как от помойного ведра.
— Я тоже рад тебя видеть, маленький уродец, — отплевываясь и откашливаясь, простонал башмачник.
— Добро пожаловать на верхний ярус канализационных стоков столицы королевства! — возвестил лепрекон. — Отседова у нас есть два пути: вверх на поверхность или вниз к лепреконам.
В наступившей тишине было слышно, как парочка крыс шуршит своими хвостами, попискивая о чем-то своем крысином, где-то текла вода, сверху доносился приглушенный каменными сводами уличный шум, откуда-то снизу волнами накатывала духота и вонь. В канализационных стоках все было как всегда, и только два необычных посетителя совершенно не знали, что им дальше делать. Вроде бы, побег удался, но, что дальше? Возвращаться домой, чтобы их опять забрали в Яму? Бежать в другое герцогство? Так там у них и своих алкашей хватает. Тоска и безысходность. Зава сидел на сухом «берегу», не имея сил даже вытащить ноги из мутного, бурлящего нечистотами потока.
— Наверх нам нельзя — убьют, но и вниз… тоже не хотелось бы.
— Выпить бы чего, — вздохнул Зава.
— Бедные мы… бедные…
— Охохо…
Слезы ручьями текли у Завы по щекам. Заплакал и Вицли Шмель. Они сидели и плакали, и слезы капали в жижу, смешиваясь с канализационными стоками. Сколько прошло времени — неизвестно. Скудный свет, сочащийся откуда-то сверху, постепенно иссяк. Наверху наступила ночь. Огня не было. Зава завалился на бок и уснул обессиленный. Рядом уснул лепрекон.
Пробуждение было тягостным. Отрезанные уши болели так, что Зава пожалел, что до сих пор жив. Лепрекону вчерашние «прогулки» дались несколько легче, но было видно, что и он устал. Было достаточно светло, но холодно. Хотелось есть и пить. Нужно было что-то делать.
— Положение наше — безвыходное, — вздохнул Зава. — Помрем мы тут, в этой канализации, а я так и не узнаю, почему ты прилип ко мне, как банный лист. Что заставляет тебя, Вицли Шмель, терпеть это вместе со мной? Ты мог бы сидеть, в тепле и праздности в чьем-нибудь клавесине… пить вино из наперстка, курить трубочку и наслаждаться. А ты, вместо этого всего, мокнешь в вонючей грязюке. Вот я и говорю: зачем ты здесь?
Михаэль Зава повернулся к нахохлившемуся лепрекону.
— Я бы не хотел об этом говорить. По крайней мере, сейчас, — туманно пролепетал Вицли.
— А почему бы не сейчас? У нас, что… есть дела какие-то неотложные? Может быть, нас где-то ждут? Может быть, кому-то мы нужны? Нет, никому мы не нужны, никто нас не ждет и никуда не нужно нам спешить. Так ответь мне на вопрос: кто ты такой, в конце концов, и в чем заключается твоя беда? Зачем ты вместе со мной мучаешься?
— Да не могу я от тебя отстать! — заорал Вицли Шмель.
У лепреконов почти человеческие семьи, или уж скорее — линии преемственности, как у гномов. Но, если у гномов линии преемственности никак не связаны с понятием «мать» и «отец», хотя бы потому, что большинство гномов вылупливаются из яиц в недрах гор, то у лепреконов есть и мамаша, и папаша, и целая куча «родственничков», которые, в целом, и составляют «линию преемственности». Надо сказать, что лепреконов, даже в одном Граданадаре, не сосчитать. Их очень много, и все они складываются в линии преемственности, а каждая линия тяготеет к фигурам, во главе которых стоит Председатель лепреконов. Лепреконы записывают свое происхождение в специальные книги, и книг этих, со временем, накопились целые библиотеки. Книги хранят на самых нижних уровнях, в самых недрах лепреконских хранилищ, и ценятся они дороже всего — дороже лепреконского золота, дороже магических артефактов. Председатель лепреконов единственный имеет право входа в библиотеки родов, линий и фигур. Он правит племенем лепреконов в течение пяти циклов, а потом его можно переизбрать. По закону, ему бросает вызов достойный и побеждает в честной схватке. Победитель становится новым главой, новым Председателем. В принципе, все просто, вот только честных схваток не бывает.
Ныне, во главе фигур стоял Хмырь из линии Уленшпилей, взявший себе всех жен по линии Аден-Туанов. Ему, собственно, нужна была именно эта линия. Почему? Потому, что благодаря древности происхождения (это одна из семи ветвей, пришедших в Граданадар и заселивших его) линия имела все права на престол Председателя. Породнившись с Аден-Туанами, Уленшпили становились знатью, а сам Хмырь получал возможность побороться за престол, что он, в общем-то, и проделал — поборолся и победил всех, да так, что отбил охоту оспаривать это право на многие циклы — он зубами загрыз трех претендентов, не вытаскивая кинжала. А еще говорят, что использовал какую-то нечестную, неправильную магию, после которой у остальных внутри поселился ужас.
Таким образом, Хмырь стал Председателем, а мама Вицли Шмеля — его Принцессой, т.е. главной женой и первой дамой. Вицли Шмель много думал про эту «неправильную» магию и пришел к выводу, что без Бабули там не обошлось. Сам Вицли при этом автоматически получал множество привилегий, которыми в молодости пользовался на всю катушку. Председатель его не любил, видел в нем будущего соперника и, скорее всего — врага. Вицли же Председателя, не то, чтобы любил… скорее уж обожал. Близость к Его Великолепности давала кучу привилегий и свобод — Вицли Шмель был вхож в любые норы любых уровней, кроме Бабулиной пещеры и библиотеки.
— Бабуля… она, как бы и не бабуля совсем. Ну, мне-то уж точно бабушкой не приходится. Бабуля — это ее звание. Это у нее работа такая. У нас есть: Председатель, мать моя — Принцесса, есть еще Мудрец-советник, Палач есть… Дуралей-потешник… кто еще… ну, и Бабуля — она, вроде как ведьма. Боятся ее все… и есть за что. Может в жука превратить, а может так колдунуть, что от тебя только мокрое место останется, это в лучшем случае. Мне, короче, туда хода нет.
— Подожди-ка, дружище, — перебил Зава, — к чему ты это все? Я же тебя не о Бабуле спрашиваю. Я у тебя конкретно спросил: «Зафига ты за мной тянешься»!
Отсутствующие уши у Михаэля Завы болели все сильнее, его трясло от сырости, дыхание то и дело прерывалось. Похоже, что канализация убьет не хуже виселицы, только медленней.
— Я скоро помру здесь, а ты, лепреконская морда, отправишься себе восвояси, как ни в чем не бывало!
— Да не могу я уйти! Ты дослушай, все равно ведь делать нечего! Вот сиди и слушай, может, чего услышишь, — возмутился Вицли Шмель.
Таким образом, молодой Вицли Шмель, всячески потакая своей лепреконской натуре, счастливо и беззаботно проводил время на вечеринках, балах, а то и просто — оргиях, которые лепреконы устраивали то там, то сям. Везде ему были рады, везде имелась возможность выпить и закусить. И так это дело Вицли Шмелю пришлось по душе, что бывало, он не просыхал по нескольку седмиц кряду, переходя с банкета на банкет. Пристрастившись к бутылочке, Вицли амбиций не потерял, но все они свелись лишь к одному — к дегустации. Вицли стал экспертом. Он был способен отличить вино не только по вкусу, но и по запаху, запросто мог сказать — откуда вино, из какого винограда или другого какого фрукта, сколько и в каких бочках выдерживалось, он даже мог отличить бочку от бочки при одном и том же вине. И все это по запаху! Его нюх был безупречен и очень быстро Вицли Шмель сколотил приличное состояние, выиграв на спор изрядное количество золотых монет. И все было бы хорошо, если бы однажды он не забрался в погреба самого Председателя.
Однажды вечером, прогуливаясь с уровня на уровень по одному ему известным тропам, в уже изрядно подвыпившем состоянии, Вицли Шмель заблудился и, через некоторое время, обнаружил себя возле странной маленькой двери, на которой было написано: «Входа нет».
— Если тут написано то, что тут написано, то это невозможно, — проговорил сам себе Вицли, — ведь кто-то же должен сюда входить! А, если не должен, то зачем тогда дверь? Если есть дверь — значит, есть и вход.
Вицли окончательно убедился в своей правоте и решительно дернул дверь на себя. Дверь не поддалась. Тогда он толкнул ее от себя. Дверь никак не хотела открываться. Вицли надавил посильнее и, сквозь открывшуюся щелку, уловил тончайший аромат необычных вин. В тот же момент, любые сомнения, опасения и осторожность были отброшены напрочь и Вицли Шмель, сотворив заклинание отпирания, вломился в погреб. А через седмицу, разъяренный Председатель обнаружил пьяного Вицли Шмеля в своих погребах, валяющегося в куче испорченных родовых книг, залитых лучшим председательским вином. К тому моменту он успел изрядно выпотрошить запасы, вылакав столько, что Его Великолепность даже не мог понять — то ли ему сердиться, то ли восхищаться. Он предпочел рассердиться, и Вицли Шмель был отдан Палачу для глумления и пыток. Повезло, что Палач приболел, и за Вицли Шмеля взялась Бабуля. Она его не пытала, не била, но наложила заклятие и навсегда выгнала на поверхность. Вицли Шмель умудрился не только выпить море вина, но он еще и испортил несколько родовых книг, а это уже серьезное преступление. С тех пор, Вицли Шмель из рода Аден-Туанов намертво был закреплен за самым пропойным пьяницей королевства Михаэлем Завой. И теперь, если умрет Зава — умрет и Вицли Шмель.
— Назад хода мне нет! — бодро заявил Вицли. — Или мы с тобой помрем или…
— Или, что?
— Или сдохнем, — грустно хихикнул лепрекон.
— Но вместе, — согласился башмачник.
Наступила неловкая тишина. Михаэль Зава чувствовал себя виновным за то, что выпытал из лепрекона его постыдный секрет, а Вицли Шмель думал о загубленной карьере и пирогах с черникой.
— Выпить даже не хочется, — не выдержал Зава.
— А мне хочется, — не согласился Вицли Шмель.
— Вот бы нам сейчас в погреб твоего Председателя! Хоть помрем нетрезвыми!
— Помрем трезвыми… и под пытками. Палач-то уже давно выздоровел. Не… я туда не хочу, ты не знаешь, как лепреконы пытают, это тебе не люди.
Вицли Шмель повел плечами с таким откровенным ужасом, что Заве очень захотелось оказаться на поверхности, причем, как можно дальше от Граданадара. Видимо, лепрекон заметил это и принялся его успокаивать:
— Ты не боись, тебе бояться смысла нету, если здесь не убьют, то наверху уделают. Так и так помирать придется. А, раз выхода нет, то и бояться нечего. В общем, я предлагаю вот как сделать: надо нам ко мне в нору смотаться. Там у меня золото припрятано. Только один я туда не сунусь — без тебя меня магия не пропустит. Да и за первым же поворотом стража захоботит… а с тобой мы, возможно, что и прорвемся.
— Я драться не умею.
— Зачем драться? Ногами дави.
— Эээ… и это ты так о своих товарищах?
— Мне они не братья! Ненавижу их всех! Эти твари хуже людей, а хуже людей в этом мире могут быть только лепреконы!
Вицли разъярился не на шутку. Он схватил какую-то ветку и размахивал ей, как мечом. Было видно, что соплеменники его бесят, и он был бы счастлив, если бы нашлась такая болезнь, которая истребила бы весь лепреконский род, включая всех его родственничков.
— Хорошо, — просто сказал Михаэль Зава.
— Что хорошо?
— Мы пойдем и раздобудем твое золото.
Спускались долго, все ниже и ниже, уровень за уровнем. В какой-то момент стало почти невозможно дышать, воздух кончился, а зловоние осталось.
— Это коридоры Гиры-Мульхиры, — пояснил лепрекон, — В этих местах кроме него никто не живет… и даже не ходит. Сейчас опустимся ниже и задышится легче.
И действительно, спустившись еще на один уровень, друзья почувствовали приток свежего воздуха. «Это как-то неправильно, ведь мы уже глубоко под землей. Откуда здесь воздух?», — подумал Зава. Он сделал несколько глубоких вздохов и в голове прояснилось.
— Тише, не греми так, — зашипел лепрекон.
— Я не могу — я ничего не слышу, и голова болит.
— Постарайся.
Из-за поворота показался лепрекон. Он был одет во что-то похожее на рыцарские латы. В руке держал копье. Увидев Заву, лепрекон замер в оцепенении.
— Вонючка! — захохотал Вицли Шмель. — Вонючка, это ж я — Вицли-Шмицли! Здоровчек!
— Тыыы…
Вицли подскочил к оторопевшему лепрекону и крепко обнял его. Лепрекон никак не мог прийти в себя. Он хлопал глазами и мычал что-то нечленораздельное. Миха устало опустился на землю, закрыв глаза и зажав голову руками. В голове стучали молотки гномов. Кровь пульсировала в отрезанных ушах. Усталость и нервное напряжение накатили так, что Зава вдруг понял, что тонет. Он всхлипнул и потерял сознание.
Пробуждение было тягостным и болезненным. На мгновение показалось, что он все еще в Яме — вокруг были необработанные каменные стены, заросшие мхом. Пещера освещалась рассеянным светом светляков, разбросанных по своду группами тут и там. Было красиво. Света хватило, чтобы понять, что они снова в плену. Зава попытался сесть, но руки и ноги оказались закованы в кандалы и он со стоном повалился на пол. Рядом обнаружился стул нормальных человеческих размеров и Заве кое-как удалось на него взгромоздиться. В пещере так же оказался стол, а на столе — кувшин с водой и пару кружек. Зава схватил кувшин и жадно напился. На столе сидел Вицли Шмель.
— Пришел в себя? — поинтересовался лепрекон. — Ну и зря…
— Что… что произошло?
— Вонючка нас заложил. Когда ты так некстати вырубился, он заорал. А на его ор сбежалась стража. Теперь Вонючка герой дня, а мы — в пещере Бабули. И скоро она к нам заглянет. Так что лучше бы ты помер, не приходя в сознание, дорогой мой Зава.
— Зачем… ну зачем мы вообще сюда поперлись, а? Ну повесили бы меня в Яме — уже б отмучился. А может и налили бы стакан — там же последнее желание исполняют. А теперь твоя эта Бабуля нас замучит.
Было видно, что Вицли Шмель не на шутку испугался. Таким испуганным он не был даже в Яме. «Скорее всего, это от того, что опасность сейчас грозит ему напрямую», — подумал Зава. Он хотел сказать что-нибудь ободряющее, но в этот момент лепрекон, то ли от ужаса, то ли от висящей в воздухе пыли, оглушительно чихнул.
— Бабуля уже тут, — сказал Вицли Шмель.
Говорят, что ожидание смерти — страшнее самой смерти. Бабуля была страшнее ожидания смерти. Дверь отворилась, на пороге показалось нечто настолько уродливое, что Михаэль Зава сразу и не понял, как реагировать — трястись от ужаса или дрожать от омерзения. Уродство это было того сорта, когда внешние качества не играют главной роли. Она была намного выше любого лепрекона, прямо таки гигантских размеров — практически одного роста с Михаэлем. И, тем не менее, она была настоящим лепреконом — это было видно по особому строению лица с выступающими скулами и кривому носу. На нее было тяжело смотреть, но намного тяжелее было просто находиться рядом. От Бабули, волнами, исходили ужас и злость. Комок концентрированного Зла ввалился в комнату. Изнутри этого клубка ненависти и злобы раздался мелодичный и довольно таки приятный голосок:
— Кого я вижу? Мой любимый племянник Вицли и Михаэль Зава! Добро пожаловать в мои владения. Не бойтесь, я вас не обижу. Сегодня у меня хорошее настроение.
Что-то произошло, и Бабуля изменилась. Эманации Зла втянулись куда-то внутрь, морщинистая кожа разгладилась, вонь исчезла. Буквально за мгновение Бабуля превратилась в обычную маленькую старушку. Старушка двинула рукой, и Зава оказался свободен от оков, кандалы просто исчезли.
— Не дрожи Вицли Шмель, я не собираюсь съедать вас живьем. Я уже перекусила. Я просто хочу знать, почему ты здесь? И не один. Почему ты раз за разом нарушаешь все мыслимые и немыслимые законы лепреконов? Почему с тобой так много проблем и почему ты, в конце концов, не издох благополучно на поверхности? Не молчи, ответь же что-нибудь, а то я уже начинаю сердиться.
Вицли Шмель был так напуган, что не смог бы выговорить ни слова, даже если бы хотел. Но сказать ему было абсолютно нечего, и он молчал, издавая что-то среднее между мычанием и стоном. За него вступился Зава.
— Послушайте, Бабуля, Вицли Шмель тут ни при чем. Это все моя вина, я безрадостный алкаш-неудачка, я задолжал…
— Тебя я хорошо знаю, Михаэль Зава, — Бабуля говорила спокойно и даже с улыбкой, — я тебя знаю потому, что ты привязан к этому лепрекону так же, как он привязан к тебе. Ваши жизни скованны Судьбой. Я время от времени развлекаюсь, наблюдая за твоими попойками. А теперь скажи мне, Михаэль Зава, что ты знаешь об этом лепреконе?
— Я знаю, что Вы его выгнали за то, что он вел себя не очень хорошо.
— И это все?
— Все, — простодушно кивнул башмачник, растирая затекшие от оков руки.
Старушка захохотала. Она тряслась от смеха и не могла остановиться. Казалось, что сама пещера трясется от хохота вместе с ней. Она смеялась долго, так долго, что Зава уже даже устал бояться. Он успел успокоиться, растереть затекшие в кандалах руки и тайком расправить спину. Ему сильно хотелось есть, но еще больше хотелось выпить… хотя бы воды, но, лучше бы — вина. Лепрекон же, наоборот — с каждым новым переливом бабулиного хохота, делался все испуганнее и испуганнее. Наконец Бабуля отсмеялась и задумалась. Она замерла, уйдя в себя.
— Ладно… я не стану тебе ничего объяснять, Михаэль Зава. В конце концов, если сам Вицли Шмель тебе не объяснил, то и я не буду. Настроение у меня хорошее, я давно уже так не смеялась… да вообще никогда! И я не желаю вам смерти. Но и оставить вас безнаказанными тоже нельзя. Так как же быть? — Бабуля замолчала, видимо, ожидая ответа на свой вопрос. Повисла неожиданная пауза.
— Э-э-э это был вопрос или… — не удержался Зава.
— Да уж, это был он самый — вопрос! — рассвирепела Бабуля. — И я таки жду на него ответ!
— Ну… может это… отпустить? — неловко предложил башмачник.
— Кого?
— Меня… и… его…
Очередной приступ веселья не заставил себя ждать. Старуха рыдала от смеха и не могла остановиться. В конце концов, она, измученно всхлипывая, просто махнула рукой, развернулась и исчезла за дверью. Зава отметил про себя, что дверь она не заперла.
Лепрекон сидел на столе, уткнувшись взглядом в одну точку, с совершенно непроницаемым лицом. Заве вдруг стало нестерпимо любопытно — почему Бабуля так развеселилась.
— А скажи мне, Вицли Шмель, почему это Бабуля так развеселилась?
— Я не знаю.
— Но она явно не держит на тебя зла.
— Ты не знаешь ее. Все она держит. Она злая на всех уже просто потому, что она та, кто она есть — она Бабуля! Я только не пойму, почему она нас до сих пор не убила.
— И дверь не заперла.
— Нет смысла нас запирать. Отсюда не убежать — это тебе не Яма. Кто-то идет!
Дверь открылась, и вошло несколько лепреконов в полном вооружении. Одним из них был Вонючка. А вслед за ними вошла лепреконша преклонного возраста в белом платье.
— Мамаша! — воскликнул Вицли Шмель и, ловко спрыгнув со стола, кинулся к ней в объятия.
Обняться с матерью ему не дали, охрана перегородила дорогу копьями. Вицли Шмель с размаху заехал Вонючке по физиономии, Вонючка в долгу не остался, и завязалась драка. Лепреконы двигались так быстро, что Зава не успевал за ними следить. Единственной неподвижной фигурой в клубке вопящих, мельтешащих фигурок была принцесса фон Шмель. Дело обходилось без оружия и Зава решил не вмешиваться. Вицли уложил трех стражей и остался один на один с Вонючкой. Ему изрядно досталось, он еле дышал, но и Вонючка получил сполна — из носа текла кровь, одна рука болталась обездвиженная. Мать Вицли Шмеля спокойно наблюдала за дракой. Похоже, ей было даже интересно, чем все закончится. Вонючка не выдержал и потянул кинжал из ножен.
— Вот так, да? — съязвил Вицли Шмель.
— А ты первый кинулся!
— Так не надо друзей предавать, вот, что я тебе скажу, подлый ты лепрекон.
Вицли рванул вперед, Вонючка отпрыгнул, доставая кинжал. Вицли посторонился, и двинулся по кругу, выгадывая лучшую позицию для атаки. Как-то незаметно в его руке тоже нарисовался клинок одного из поверженных противников.
— Я тебя не предавал!
— Да? А кто орал и подмогу звал?
— Я подмогу не звал, я просто орал. Потому… испугался и не ожидал, а я когда испугаюся… всегда ору.
— А ну, стоп! — Оборвала поединок Принцесса лепреконов. Голос ее был наполнен властью настолько, что противники тут же остановились и повернулись, вытянувшись чуть ли не «во фронт». Точнее, вытянулся Вонючка, а Вицли просто встал ровнее, выказывая тем самым некоторое уважение.
— Зачем ты вернулся, ведь я тебя предупреждала?
— Мать, так уж вышло.
— У тебя всегда «так уж вышло»! — Разозлилась Ле Улиншпиль фон Шмель. — Зачем ты бил бедного Вонючку? Он же тебе сказал, что не виноват, а это правда. Даже, когда мы вас загребли, он ничего не хотел говорить. И это я настояла на том, чтобы он вот сейчас сопровождал меня сюда. Ты всегда сначала делаешь, а потом думаешь, а иногда ты и не думаешь, и не делаешь! Вот, в чем твоя проблема. Много горя принес ты всем лепреконам, а нашей линии, так особенно. А теперь… теперь ты во власти Бабули. Как я, собственно, и предсказывала.
Разгневанная, она развернулась и выбежала из пещеры. И, похоже, что один только Миха успел заметить слезы на ее глазах. Вицли Шмель не смотрел на мать. Сначала ему было просто стыдно, а потом она повернулась, и он так и не увидел ее лица. Вицли плюнул Вонючке под ноги и полез обратно на стол. Вонючка собрал своих солдат и, шатаясь, компания вывалилась из пещеры.
— Опять, Вицли, все у нас наперекосяк, — заметил Миха.
— Ничего, скоро придет Бабуля. Ненавижу ее…
— Бабулю?
— Свою мать!
— За что?
— За все!
— А я свою даже и не помню, — вздохнул башмачник.
Они сидели, понуро уставившись куда-то в одну точку. Хотелось есть, хотелось выпить, но, похоже, что никто не озаботился кормежкой пленников.
— Было бы неплохо чего-нибудь поесть, — не выдержал Зава.
— И выпить, — согласился Вицли Шмель.
— Ты уверен, что мы не можем отсюда выбраться, ведь нас не закрыли и кандалов, вроде как не надевают?
— Не знаю. Может и можем.
— Бабуля, кстати, намекала на то, что ты мне не все рассказал.
— Давай попробуем просто уйти отсюда! — лепрекон ловко спрыгнул со стола и бодро засеменил к выходу.
Никаких магических препятствий у двери не оказалось. Охраны тоже не было. По широкому коридору деловито сновали лепреконы. Михе приходилось идти согнувшись, но, в целом, даже для него здесь было вполне просторно. На Вицли и Заву никто не обращал внимания. Друзья все дальше удалялись от места своего заключения, но их никто не останавливал.
— Погоди, Вицли. Куда мы идем-то?
— Не знаю, мне все равно.
— Неужели у тебя тут выпить негде?
— В моей норе можно, но там, наверное, уже живет кто-то другой.
— Давай проверим?
Они свернули в боковой ход, потом свернули еще раз и оказались перед небольшой, в два роста Вицли Шмеля, дверью.
— Это моя бывшая нора, но ты туда не влезешь. Это только основные ходы тут просторные, а норы-то у нас небольшие.
— Ты это… ты проверь там…
Вицли толкнул дверь от себя каким-то особым образом и скользнул внутрь. Он вернулся довольно быстро с улыбкой во всю лепреконскую морду.
— Там все по-старому и никого нет! Щас я принесу попить.
Он снова исчез внутри, но вернулся еще быстрее, толкая перед собой бочонок вина. Миха жадно схватил бочечку, щелчком выбил донышко и, с остервенением, опрокинул в себя содержимое. Жидкость обжигала.
— Э! Ты полегче! Это же вилейкский эль! Штук пять таких «рюмочек» даже такую тренированную пьянь, как ты, Зава, запросто отправят в нокаут.
— Вилексс… эль, — блаженно прохрипел Миха, чувствуя, как огненный вихрь стекает вниз по горлу, расплавляет напряжение в животе и легких, заполняет легкостью руки и ноги. Он мягко осел на каменную кладку коридора, прислонившись к шершавой стене. — Вот и все… теперь и умереть спокойно можно…
— Умирать рано, тут еще полно всего, — захихикал лепрекон. — Ну-ка, помоги мне выбить дно из этой бочки!
Мимо пробегали спешащие куда-то лепреконы, но друзьям не было до них никакого дела. Они сидели у входа в нору, пили, пели и закусывали. Запасов оказалось более чем вдоволь и друзья пировали, понимая, что возможно, это их последняя пирушка в жизни, похоже, перепавшая им от Матушки Судьбы абсолютно на халяву. Миха ел и пил, пил и ел, пока не захотел выпить простой воды. Такое бывало очень редко и означало, что он реально устал.
— Вицли, я хочу пить… ик…
— Щас прикачу!
— Не… я хочу воды.
— Чего?!
— Ик… воды…
— Значит, пора спать, — философски констатировал лепрекон.
Миха открыл один глаз, понимая, что сейчас ему станет очень плохо, но плохо не стало. Он открыл второй глаз, приподнялся и огляделся. Сидел он все там же, где и уснул — возле норы Вицли Шмеля. Мимо проходили лепреконы, брезгливо перепрыгивая ногу Михаэля Завы. Вицли храпел на пороге своей бывшей норы, головой подпирая не закрывшуюся дверцу. Зава ткнул пальцем в лепрекона.
— Сейчас, сейчас, только домою… — всхрапнул Вицли.
— Эй, братко… воды бы… — просипел охрипшей глоткой Зава.
— Воды нету, но есть пиво, — выдохнул лепрекон, открывая один глаз.
— Можно и пиво, — кивнул башмачник.
Они напились пивом и перешли опять на вино. Хотели уже спеть, но в разгар попойки появилась Бабуля. Она была все той же «милой бабушкой», что и вчера, только сегодня к образу добавился кокетливый передник, как будто она вот-вот испечет вам пирожок. Пирожков Бабуля не принесла, но выражение ее лица злым не было.
— Пьете? — кивнула Бабуля и заулыбалась.
— Бабуля, почему вы на нас не сердитесь? — Пьяным голосом полюбопытствовал Вицли Шмель.
— Вы себя сами так убиваете, что мне тут работы нету. Так за что прикажешь на вас сердиться?
— Но… я же…
— Зава, этот маленький пройдоха так и не рассказал тебе, за что тут все на него так злятся? — Удивилась Бабуля.
— Не…
— Видишь ли, Зава… твой собутыльник отказался стать Председателем.
— Да не отказывался я!
— Ну, конечно, ты просто не явился на коронацию! А почему? А потому, что валялся бездыханно пьяным и нетранспортабельным в подвалах Председателя на груде залитых его лучшим вином священных книг, — Бабуля хихикнула, кокетливо прикрывшись передничком.
— А зачем мне туда было являться, если понятно, что Хмырь меня просто убьет на дуэли одним ударом? Лучше уж упиться вдрызг его собственным вином, чем быть насаженным как крыса на вертел!
— Вот в этом весь ты, Вицли. Ты предпочитаешь упиться… всему остальному. Твоя безответственность и алкоголизм бесконечны, и сравнимы только с одной вещью в этом мире — с алкоголизмом твоего приятеля, сидящего сейчас рядом! Вот поэтому, дорогой мой «внучек», вы сейчас и вместе! Да, если хочешь знать, никто и не накладывал на тебя заклятий. Ты жил там наверху у этого пьянчужки просто потому, что это тебе нравилось. Ты стал его клуриконом сам, по собственной воле! Это не наказание — это твоя сущность, твоя судьба. И, если хочешь знать, Хмырь вовсе не собирался тебя… на вертел.
— Неправда!
— Что именно в этом кажется тебе неправдой? Лично я тебя не заколдовывала… может, кто-нибудь другой? — Бабуля притворно огляделась. — Не… никто. От этих вечных попоек устал весь наш лепреконский род! Когда Председатель Хмырь любезно предложил тебе продолжить его дело и стать новым председателем, что ты ему ответил?
— Я ему ответил: «Иди ты в…», — кивнул Вицли. — И правильно сказал. Мне совсем не улыбается становиться правой половинкой его задницы. Лучше уж я буду пьянью подзаборной на поверхности!
— Хмырь уже не тот… ему нужен помощник и у него закончился срок председательствования. Если бы ты хоть на минуту протрезвел, то смог бы поговорить с ним и выяснить, что убивать тебя никто не собирается, что ты нужен живой и здоровый, но… трезвый.
— Ха! Да, лучше сдохнуть, чем прожить эту жизнь без вина!
— Ну вот, ты и выбрал свою судьбу. Сам только что это подтвердил.
— Да! И я бы сделал все точно так же снова!
— Хмырь тебе не враг, ты сам себе враг. Хотя… ты даже себе не враг, ты просто маленький никчемный лепрекон. Ты считаешь меня злой, хотя я не зла, это… просто по работе… Ты считаешь плохой свою мать за то, что она с Хмырем общается. Считаешь Председателя врагом, а он о тебе всегда отзывается хорошо… Цыц! Не перебивай старших! Ты всех вокруг, даже друга своего Вонючку, который заорал тогда лишь от неожиданности, врагами считаешь. У тебя все плохие, а ты пьешь и бездельничаешь. Так знаешь, что? Знаешь, что я с тобой сделаю? — Бабуля вздохнула протяжно и жалостливо.
Вицли похолодел, в ожидании расплаты. Зава зажмурился, судорожно зажав в руке бочонок с вилейкским элем.
— Я не сделаю с тобой ровным счетом ничего. Почему? Да потому, что ты ничего не сделал. Да. Ты не сделал ничего — ни дурного, ни хорошего. Ты просто беспечный, тупой лепрекон, способный качественно делать лишь одну вещь — пить вино. А за это не наказывают, за это оставляют в покое и предоставляют угробить себя самостоятельно. Вот так я и поступлю. Я еще раз выгоню тебя на поверхность. Даже не выгоню — ты сам уйдешь. Потому, что Михаэлю тут не место, он тут не выдержит. Ты сам по себе, а тебе другого-то и не надобно. Короче — убирайтесь вы отседова!
— Нам наверх нельзя! — вмешался Зава, то ли заступаясь за приятеля, то ли, что более вероятно, опасаясь за себя самого. — Там наверху есть один человек… он отрезал мне уши.
— Наверх нельзя только тебе, Зава. Клурикону ничего не грозит. А за тебя я не в ответе, ты вообще не нашего племени, — пожала плечами Бабуля.
— А я… мне без Завы вообще делать нечего! — в отчаянии вскричал Вицли. — Вот возьму, и соглашусь стать Председателем. А потом возьму и объявлю пьяный закон! Придумаю такой закон, что любой, кого поймают в трезвом виде — станет преступником. Вот тогда вы все у меня попляшете! Или возьму и… пойду войной на соседей. Или… вообще заставлю всех ходить в юбках. Да мало ли чего придумать можно! Вы еще меня не знаете! А если Председателем не сделают…
— Ну, ладно! — оборвала его Бабуля. Было видно, что она уже еле сдерживает раздражение. Однако Бабуля понимала, насколько беспомощным будет Вицли Шмель без Завы и с этим тоже нужно что-то сделать.
— Ну, хорошо. Вот, что вы сделаете. Ты ведь знаешь, Вицли, что у меня в пещере есть Заколдованная комната?
— Комната исполнения желаний? Кто ж про нее не знает, — хмыкнул Вицли Шмель.
— А ты знаешь, что там находится?
— А вот этого не знает никто, кроме тебя.
— Ну… не совсем так, но… в общем, я хочу дать вам двоим еще один, последний шанс стать счастливыми и найти себя. В этой комнате есть то, что исполняет желания. Вам нужно просто… загадать желание. Проблема в том, что желание исполняется не всегда именно то, которое вы загадали. Точнее, исполняется не то желание, которые вы хотите — исполняется то, что вам действительно необходимо, ваша Судьба. Если ты, Вицли Шмель должен стать Председателем лепреконов, если это твоя настоящая судьба, то ты им и станешь. Если ты Зава должен умереть без ушей на виселице — ты и умрешь там. В Заколдованной комнате ничего нельзя гарантировать. Потому-то туда и не ходят все подряд. Вообще никто не ходит. Но для вас, похоже, это единственный выход сейчас… или вход.
Бабуля вздохнула и повернулась, собираясь уходить.
— Идите в мою пещеру. Щелкните три раза пальцами у дальней стены и идите вовнутрь. Там вы загадаете ваши желания и исполните свою судьбу. Это мой вам последний дар. Больше мы не увидимся.
Бабуля кряхтя исчезла за поворотом коридора. Вицли Шмель и Михаэль Зава долго сидели неподвижно. В коридоре никого не было. В конце концов, Вицли поднялся, собираясь сходить за вином в нору, но Зава его остановил.
— Вицли, мне кажется, что нам надо выяснить, насколько права твоя Бабуля.
— Она мне не бабушка! Я же тебе говорил.
— Дело не в этом. Дело в том, что я устал бегать от своей судьбы. Я… хочу на виселицу.
В коридоре, где сидели друзья стало совсем тихо. Зава заметил, что с того времени, как здесь побывала Бабуля, все лепреконы куда-то подевались. Они были абсолютно одни. Тишина стояла такая, что это было похоже на могильный склеп. Заву передернуло.
— Предлагаю выпить… воды… и пойти в эту… как ее… комнату, — просипел Зава пересохшим ртом.
— Ага… — согласился лепрекон.
Вицли Шмель щелкнул пальцами и часть стены растворилась в воздухе. С той стороны была небольшая комната полная золота и драгоценных камней.
— Ох, ты ж… Вицли, а давай мы сейчас наберем тут золота и свалим! Это ж решит все наши проблемы, — не выдержал Миха.
— Не решит. Тебя все равно повесят. Отберут золото и повесят.
— Сбежим.
— Найдут и…
— Да понял я, понял!
— К тому же, вполне возможно, что это золото заколдованное. Иначе, его тут уже давно бы не было. Не одни ж мы такие умные, как ты думаешь?
— А по мне, так одни мы умные, — Зава пожал плечами, предпочитая не вникать во все эти тонкости.
— Берем желание, а золото не берем, — отмахнулся лепрекон.
Они осторожно вступили в Заколдованную комнату, инстинктивно стараясь не шуметь.
— Ну… давай… задумывай желание! — прошептал Зава.
— А почему я? — так же шепотом отозвался лепрекон.
— Потому, что это же… тут же все лепреконское, причем здесь вообще я?
— Как это «причем»?! Притом, что это по тебе виселица плачет, а не по мне. У тебя уши отрезали. И именно ты у нас вообще без гроша в кармане оказался!
— Можно подумать, у тебя сильно много твоих лепреконских грошей в карманах завалялось. Как эта штука загадывается?
— Да бери просто и загадывай. И… валим отсюда поскорее.
— Знаешь, Вицли, я думаю, что загадывать мы должны оба. Бабуля это очень четко подметила. Не загадаешь сам — комната загадает за тебя. Так что не отлынивай и давай тоже загадывай что-нибудь. Глядишь и сбудется.
— А, что я могу загадать, — вздохнул Вицли Шмель. — Чтобы все вернулось обратно и меня не выгоняли? Так, похоже, что меня и сейчас не выгоняют — я сам уйду… Чего я хочу? Золота хочу! Загадаю гору золота. Хочу, чтобы у тебя в доме, Миха, когда мы вернемся, была гора золота посреди комнаты. Вот! Вот мое окончательное желание! Все.
— А я… а я хочу уши обратно! И… хочу… стать бургомистром. Хочу, чтобы тот гад, который мне уши обрезал, наизнанку бы вывернулся и собственные уши сожрал. Хочу, чтобы Яму песком засыпало, чтобы…
— Эй, у тебя всего одно желание было! Смотри — уши-то твои на место встали.
Зава приложил руки к голове и почувствовал уши под ладонями. Голова совершенно не болела, а недомогание прошло.
— Знаешь, Зава, а я себя как-то очень хорошо чувствую… и трезво… — удивился лепрекон.
— Ухи… ухи мои… — заплакал башмачник.
— Пойдем, дружище. Похоже, что желания наши, так или иначе, но уже исполнились, остается только разгрести их последствия — тебе пора отрезать твои новые уши и на виселицу, а мне…
— Не, погоди. Глянь! — Зава указал пальцем на маленький столик, появившийся прямо в куче рубинов величиной с куриное яйцо. На столике стояла бутылка вина. Простая глиняная бутылка, какие можно приобрести за пару монет в любой винной лавке.
— Думаю, надо ее прихватить с собой, — сказал лепрекон.

Был вечер. Михаэль Зава и Вицли Шмель сидели на полу в доме Завы. Комната была совершенно пуста, за исключением злополучного клавесина. Никакой кучи золота не было. Миха сидел, смотрел на бутылку вина, прихваченную из Заколдованной комнаты, и совершенно не волновался о своей дальнейшей судьбе. Все эти приключения повлияли на него как-то неожиданно — Зава перестал бояться смерти. Ему было все равно. На душе было светло и спокойно, впереди маячила перспектива дегустации и долгожданный сон.
— Больше всего на свете я хочу спать. Вицли, может быть, это и было моим самым сокровенным желанием — выспаться? Вот прямо сейчас мы выпьем этот бутылец, и беспечно завалимся спать, и все невзгоды останутся позади.
— О, да. А завтра тебя повесят в Яме. И я… а я даже не знаю, что буду делать потом, — всхлипнул лепрекон.
— А, да ну его все! Наливай.
— Ты наливай, я же маленький.
Они пили вино. Зава отхлебывал прямо из горла, не забывая наполнять наперсток Вицли Шмеля. Вино было вполне обычным, не очень хорошим, но и не плохим. Странным было только то, что его не становилось меньше. Сколько они ни пили, бутылка не заканчивалась.
— Она все время остается наполовину полной, — хихикнул лепрекон.
— А по мне, так она наполовину пуста.
— А ты, Зава, пессимист. Но, дело не в этом, дело в том, что наша бутылка — это наше желание. Похоже, что мы оба хотели одного — вот эту заколдованную бутылку, которая теперь всегда будет оставаться наполовину полной, сколько из нее не пей.
— Наполовину пустой!
Они пили и пили, а вино все не кончалось…
Ириами

Ириами по прозвищу Красавчик смотрел на большую зеленую гусеницу и размышлял о Бытии. В последнее время он был склонен к философствованию. И, как всегда, не без сарказма. Мир казался Ириами несправедливо уродливым.
— Когда-нибудь эта мерзкая гусеница станет еще более гадкой бабочкой, — сказал он себе, — почему же в Мире все такое некрасивое? Вот женщины, к примеру, ведь уродливые существа, если разобраться! Ничего в них нет благородного. Я не беру, скажем, королеву, Бо храни ее Высочество, но простолюдинки… фи, существа, право, все какие-то не очень.
Ириами скривился и щелчком отправил гусеницу в преждевременный полет. Похоже, теперь ей уже никогда не стать бабочкой. Но его это не интересовало. Важна для Ириами была только личная выгода, а здесь выгоды не было никакой. Ириами смотрел, как контуженная зеленая гусеница дергается на земле. Скривившись, он «пожалел» ее, раздавив каблуком.
В этой жизни Ириами ценил только деньги. Деньги и власть, которую они дают. Лишь две эти вещи казались ему прекрасными, если, конечно, не считать его самого — совершенство, случайную удачу, проблеск красоты в уродстве окружающего Бытия. Ириами любил себя самозабвенно. Себя и только себя. Даже свою родную мать он никогда не любил по-настоящему. Он не доверял ей, как не доверял всему Творению, созданному, как он считал, уродливым и несправедливым Автором.
Презрительно сплюнув в сторону раздавленной гусеницы, горбун закинул свой новый рюкзак за плечи и двинулся дальше. Он шел к себе в контору и думал о том, что никто в королевской столице так и не научился шить рюкзаки. В который раз уже заказывает себе рюкзак, но одна лямка обязательно оказывается короче другой, и приходится ее подтягивать и ушивать самому. Это слегка раздражает. А ещё больше злит то, что рюкзак в последнее время приходится часто менять. С тех пор, как начал расти горб. Ириами любил свой горб, который, однако, доставлял Ириами массу беспокойства. Даже больше, чем лямки рюкзака, неровная обувь, все эти прыщики на лице, на плечах и под коленками, которые приходилось часто вылизывать, чтобы они не сохли. Когда они подсыхали и начинали чесаться, карлик чувствовал себя угнетенно и злился особенно сильно.
Острые приступы злобы преследовали горбуна всю жизнь. Он начал злиться с рождения и, ещё будучи младенцем, с остервенением кусал грудь матери своими острыми кривыми зубками. Мать никогда не жаловалась. Всю жизнь она хвалила Ириами и восхищалась им. И хотя сам горбун в глубине души ей до конца не верил, все же с детства он привык слышать от матери только самое хорошее. И — во многом благодаря ей — он считал себя совершенством.
Ириами шел и думал о матери. Подходя к конторе, решил как-то порадовать ее сегодня вечером. Только чем? Может быть, купить свиную ногу? Тогда у них мог бы получиться славный ужин. Но, нет. Это как-то банально. Тем более, что свиную ногу с капустой они ели седмицу назад. Хотелось чего-нибудь оригинального. В лавочке напротив Ириами взял ливерной колбасы. И хотя лавочник был сама вежливость, горбун все равно спиной чувствовал его мерзкие мысли. Очевидно, тупой лавочник ему завидовал. И то правда — ведь дела в лавке шли не ахти, а Ириами всегда в выигрыше и процветает. «Пусть себе завидует, мне только приятнее…», — думал карлик, открывая дверь в контору. Ириами работал один. Изредка ему помогала мать, но не часто — горбун не любил платить за работу никому, не любил делить свои деньги. Да и зачем? Если всегда можно все сделать самостоятельно.
В конторе уже ждала посетительница в очень дорогом платье, с вуалью на лице. Все в ее облике говорило о «временных» трудностях. Ириами уже знал наперед: слезы, жалобы, брошка или брелок в заклад… никогда не забирают… или, наоборот — ходят и клянчат изо дня в день. А смысл? Проценты-то растут. Выкупить вещь у Ириами было сложно. Сколько слез пролито на этот прилавок! Сколько бесполезных обещаний и клятв! Зачем? Горбун верил только золоту, а золото по своей воле не отдает никто. Серебро он не брал. Не тот размах. Самый жадный столичный ломбард мог себе позволить исключительно золотые операции. Ириами доил знатных клиентов в те мгновения их жизни, когда у тех были трудности с деньгами. После посещения Ириами эти трудности временнно исчезали, а затем лишь бесконечно росли. Сюда приходили весьма высокопоставленные посетители. Сам карлик был не из господ, но власть его распространялась далеко, а проценты были высоки. Это радовало и льстило самолюбию горбуна. Сколько задранных носов после общения с «мастером Ириами» торчали потом из долговых ям или даже валялись в корзине для отрубленных голов!
Молодая особа, ожидавшая ростовщика, была не из простых. Наметанным взглядом Ириами заметил несколько ценных предметов: гербовое кольцо на пальце (наверняка фамильное), кулон-медальон на золотой цепочке и расшитый золотом поясок. Но самым удивительным было ее платье — замысловатое, пестрое сверх всякой меры, состоящее из сплошных складок и кружев, объемное и легкое. Такое платье, как и вуаль, носили только знатнейшие из знатных. Те, кто мог позволить себе любой каприз. И, хотя весь облик гостьи кричал о несчастии, было очевидно, что деньги у нее есть. Ириами заинтересовался, но виду не подал. Как ни в чем не бывало он проследовал к своему окошку, не удостоив посетительницу вниманием. Усевшись за стойкой, нацепил пенсне и, нахмурив одну бровь, посмотрел на девушку фирменным взглядом — одновременно строгим и вопрошающим, приглашая к сотрудничеству, но и останавливая, если нечего предложить.
— Скажу вам сразу, моя леди, что я не люблю пустой болтовни. Мое время дорого. Мне не нужна ваша история, мне нужны ваши деньги, — Ириами кривил душой. История ему была очень даже нужна. Он любил послушать, как жертвы распускают сопли, выкладывая подробности своей интимной жизни вместе с золотом. Словно хорошая гончая, он уже взял след и, чуя чередную трагедию, капал слюной в предвкушении порции унижения и стыда. Ириами Красавчик собирался выжать из этой дамочки все до последней капли: горечь и боль, беспомощность и страх. Но главное, он неплохо на этом заработает. Барышня была не из бедных, и, если учесть то, с каким достоинством она себя держала — из древнего и весьма знатного рода.
— Меня это устраивает, — ответила девушка, подняв вуаль.
На Ириами взглянули холодные глаза истинной аристократки. «Такая молодая, а смотрит так, как будто испытала в жизни все», — удивился горбун. Заглянув в глаза карлику, молодая госпожа словно поняла, из какого теста он сделан и, вздернув носик, презрительно отвернулась.
«Ничего, скоро твой носик будет обнюхивать мои сапоги», — подумал горбун и вслух спросил:
— Чего вы хотите, моя леди?
— Я хочу заложить этот медальон, — сказала девушка, выжидающе склонив голову.
— Так закладывайте, — хихикнул карлик.
— Я хочу, чтобы он остался у меня, — сказала она с таким выражением на лице, что Ириами чуть не повалился под лавку от поднявшейся в нем волны смеха.
Но он сдержался. Не время глумиться. Это можно будет сделать позже. Но… она смотрела на него таким интересным взглядом! В нем читалось все: и надменность аристократки, и отчаянный призыв, и нежелание расставаться с фамильной ценностью, и верность дворянскому слову, и, самое главное, в этом взгляде была мольба о помощи.
— Я готов вам помочь, миледи, — кивнут карлик, еле сдерживая самодовольную улыбку, — но я не готов сорить деньгами. Где гарантии? Что может помешать вам забыть о моем скромном существовании, если кулон будет не у меня. Заложите тогда что-нибудь другое, вот хотя бы перстень… Это же ломбард, а не банк, и я не банковский леприкон. Почему, кстати, вы не пойдете в банк, если так уверены в том, чтоскоро раздобудете денег и будете способны выкупить свою вещь. Почему вы хотите одолжить денег у меня, дающего только под залог ценных предметов и оценивающего эти предметы, прошу заметить, не всегда адекватно их реальной стоимости?
— Вы ставите под сомнение слово чести? — дама нахмурилась.
— Если бы вы знали, барышня, сколько дворян, постарше вас возрастом, играли здесь в благородство, и сколько из них затем потеряло и титул, и честь, и саму голову? Поверьте, я, в некотором роде, стою на страже вашей… хм… чести, даже больше чем вы сами. — Красавчик уже понял, что несколько грубоват, что спешит, но его несло, и он не мог остановиться. Что-то в этой девушке вызывало его на откровенность.
— Здесь передо мною распинались, уверяя в своей честности, бароны и виконты со всех концов Граданадара. Если бы я им верил на слово и раздавал свои денежки, то давно бы уже пошел с сумой по миру.
Было видно, что разговор гостье неприятен, но крыть ей нечем. Она все понимала, но не спешила расставаться с медальоном. Помолчав некоторое время, она внимательно посмотрела в лицо горбуна и еле заметно улыбнулась, отворачиваясь. Затем сняла с белоснежной шейки кулон и положила его на стойку.
— Хорошо. Видит Бо, выхода нет! Итак, мне нужна тысяча золотых.
— Помилуйте, дамочка! Я, по-вашему, кто — ломбардщик или меценат? Да у меня такой суммы не найдется во всей конторе! Это невозможно, решительно невозможно!
Ириами кривил душой — вещь стоила гораздо больше. Горбун чувствовал магию, это была его врожденная способность. С первого взгляда он понял, что кулон обладает Силой, и один Бо знает, сколько он мог бы стоить, и, вполне вероятно, кулон нельзя было оценить вообще. Может быть, это был защитный амулет, а возможно, эта вещь способна убивать. В любом случае, тайна известна только владелице, и задача Ириами — выведать ее.
— Мне нужны эти деньги, и вы мне их дадите, — безапелляционно заявила дама.
— Но я не могу дать столько за простой кулон, — попробовал схитрить горбун.
— Вы знаете, что это за «предмет».
Гостья говорила со знанием дела. В её голосе и вражении глаз Ириами почувствовал сталь, что-то расчетливое и холодное, что-то слишком взрослое и циничное для девушки восемнадцати циклов.
— Что же этакая безделушка может делать? — с невинной улыбочкой спросил карлик.
— Не прикидывайтесь простачком, это вам не идет, — хмыкнула молодая аристократка. — Вы все понимаете очень хорошо, и я предлагаю очень выгодную сделку.
— А где гарантии, что эта вещь магическая? Вот если бы вы рассказали…
— Знаете, я до сих пор здесь сижу только потому, что ваш ломбард расположен ближе всех к… к моему дому.
«Почему она так сказала… к чему эта заминка?» — удивился внимательный горбун. Рядом с его ломбардом жили только ремесленники. Купцы держали свои лавочки чуть дальше, а ближе к главным улицам стояли таверны и королевский дворец… Будучи в курсе всех интриг в высших кругах, он не мог не отметить изысканность манер этой странной барышни, ее стойкость в стесненных обстоятельствах, сдержанность и силу духа. К тому же, он разбирался в драгоценностях и, по некоторым особенностям узорной вязи на кулоне, по гербу на перстне-печатке… Она жила во дворце… И тут Ириами вдруг сразу все понял. Он понял, КТО ЭТО и ЧТО за «безделушка» попала к нему в лапы.
Теперь нужно было сыграть правильно. Ведь перед ним, возмущенно фыркая, сидела герцогиня Сампы — Франческа Сампа, известная тем, что перестала стареть более ста циклов тому назад, оставаясь с тех пор юной красавицей, первой фрейлиной королевской династии. Франческа Сампа — прабабушка трех герцогов. Горбун взглянул на герцогиню по-новому, только сейчас отметив странную прелесть ее нереальной красоты. Казалось, Франческа выточена из цельного куска алмаза. Ничто не портило её облика, ни одной лишней чёрточки или изъяна не увидел он во всём гармоничном и изящном облике герцогини. Ириами любил драгоценные камни, и подобное сравнение показалось ему занятным. Только сейчас он понял, почему Франческа оказалась тут, решив заложить заветную вещицу. Дело было нешуточным…
— Простите, герцогиня, что не сразу понял, кто вы. Я не верил слухам, но вы… так редко бываете на публике, а я, сами понимаете, вообще не бываю «на публике»… и… и… вы действительно выглядите… очаровательно! — Выдавил из себя Ириами, выбираясь из-за стойки и склоняясь перед знаменитой аристократкой в светском реверансе.
— Вы хотели сказать… молодо? Что ж… я так понимаю, все эти ваши расшаркивания никак не повлияют на ваше решение, — хмыкнула герцогиня.
— А я так понимаю, что ни в одном ломбарде королевства с вами не станут связываться.
— Да уж.
— Да уж… Я понимаю, зачем вам деньги. Вы, осмелюсь предположить, хотите подкупить стражу. И, если я вам дам требуемую сумму, то побег вашего сына из королевской темницы… ляжет на мои плечи.
— Косвенно, весьма и весьма. А если об этом никто не узнает, что, как вы понимаете, в наших общих интересах, то и бояться вам особо нечего, — улыбнулась герцогиня, ободряюще потрепав карлика по щеке.
Ириами был в игре. Франческа еще об этом не знала, но он уже был в игре. Это была интрига интриг, и самое меньшее, что она ему сулила — это море денег, а быть может, еще и много иных развлечений, одним из которых, вполне возможно, будет власть над одной из влиятельнейших особ королевства. Его власть была в знании, и он не желал эту власть упускать. Необходимо выведать у герцогини как можно больше.
— Прошу вас, молодой человек, давайте говорить прямо, насколько это возможно. Что вы хотите получить от этой сделки? Как я понимаю, вы любите деньги.
— Я занимаюсь золотом и только золотом! Я самый жадный горбун столицы и именно этим знаменит на весь Граданадар, — хохотнул горбун. — Но больше денег я люблю информацию.
— И власть, — кивнула Франческа.
— И власть, — кивнул в ответ карлик. — Вы уже в моей власти. Хотя бы тем, что пришли сюда. Так расскажите больше!
— Да, я в вашей власти, если только не решу вот прямо сейчас убить вас, — мило улыбнулась молодая барышня, которой было больше сотни циклов. — Вы же понимаете, что я могу это сделать? И поверьте, если мы не договоримся, то вы… умрете.
По спине карлика прокатилась волна холодного ужаса. Он бывал в сложных передрягах, но эта наиболее близко подвела к той самой черте, через которую он пока еще не готов был переступить. «До чего же уродлива жизнь?!» — возмутился горбун. Он вспомнил зеленую гусеницу и понял, что в данный момент находится на ее месте.
— Дорогуша, я вас не пугаю, поймите меня правильно, я убью вас обязательно, если не получу свою тысячу. Но я не обязательно убью вас, если вы сделаете все как надо. Даю вам слово!
— На какой срок? — сухо сглотнув, просипел Ириами.
— На три седмицы… нет, пожалуй, на две, — герцогиня улыбнулась, невинно захлопав пышными девчоночьими ресницами.
— Я хочу пять тысяч через две седмицы, — выпалил Красавчик, испугавшись собственных слов.
— Хорошо, — просто ответила Франческа. — Вы их получите в срок.
— А если не получу?
— Не переживайте, вы их получите, заверяю вас. Эта вещь для меня дороже замков и титулов. Сохраните кулон у себя на две седмицы, пока все не уляжется, и я выкуплю его за пятикратную цену. Это разумно.
— А что вам мешает забрать у меня деньги, прикончить, а потом спокойно уйти отсюда? — задал карлик свой главный вопрос.
Герцогиня задумалась, подыскивая правильный ответ, но ничего путного не придумала. Ее брови удивленно взлетели.
— А ведь вы правы! Мне ничего не мешает. Ведь вы считаете, что слова чести пишутся на воде! Быть может, мне так и стоит поступить?
После этих слов герцогиня легонько свистнула — и из складок кружевной юбки медленно выползла черная змейка. Ириами окатило мгновенной волной ужаса и так же быстро отпустило. Это было странное свойство его натуры, частенько спасавшее в трудных ситуациях. Многие пытались ему угрожать, и он привык к близости смерти. Ириами захохотал визгливо и пронзительно. Он протянул руку, и змея покорно вползла на нее, подергивая маленьким ядовитым язычком.
— Я не боюсь змей. Змеи меня любят! Когда я был маленький и играл на улице, они часто приползали поиграть со мной. Так что этим меня не запугать.
— Но вы понимаете, что я могу еще раз свиснуть — и сюда заявятся слуги. Я скажу им, что вы ко мне приставали, и они, не раздумывая, изрубят вас на куски, мерзкий вы карик! — прошипела герцогиня.
— И тогда вы точно не получите денег, — захихикал Ириами, понимая, что пробил броню уверенности этой леди.
— Ну, хорошо, — Франческа устало откинулась на стуле, — что вы предлагаете?
Горбун потер руки, зачмокал и сглотнул накопившуюся слюну.
— Прежде чем рискнуть довериться вашему «честному слову», я хочу знать напоследок, перед смертью, для чего нужна эта вещь. Я даже рискну попробовать догадаться.
— Ну, и?
— Она продлевает молодость!
Это было очевидно. Это было удивительно, даже сказочно, но очевидно. Эта способность делала герцогиню тем, чем она являлась. И расстаться с такой вещью даже на две седмицы можно было лишь в крайнем случае. Например, когда решаешь вызволить из темницы своего непутевого сына — главного зачинщика заговора против королевской династии. Ириами не понимал этого. Как можно захотеть быть королем? Король ничего не решает. Да и вся королевская фамилия. Формально он, конечно, может издать любой указ, которому, по идее, должны будут подчиниться и в Шестилесье, и в Берге, и даже в далеком Дартарстане… смешно о таком даже подумать. Нет, на самом деле, только герцоги имеют реальную власть в своих государствах. Король — это законодатель мод, не более того. Так кто ж захочет на его место?
— Не угадали, это нечто большее. Этот кулон… он действует всегда по-разному.
— И как проявляется его действие?
— А вам очень хочется это узнать?
— Конечно, а как вы думаете!
— Тогда давайте пересмотрим условия нашей сделки. Я расскажу вам, но за это… за это вы не возьмете с меня проценты.
— То есть как? Вы предлагаете мне просто так дать вам на две седмицы тысячу золотых и не заработать с этого ничего? Вы в своем уме?!
— Этот кулон действует особым образом. И те две седмицы, что вы будете его носить, сделают с вами то, что стоит любых денег. Я отдам вам ваши деньги обратно, и вы ничего не потеряете… в денежном плане. Вы используете кулон, а это стоит любых денег, всех ваших денег!
— И что же это будет?
— Я расскажу, но после того, как мы заключим новый договор.
Ириами думал недолго. Дело становилось все интересней. Он уже давно решил, что пойдет на любые условия, и сейчас просто тянул время в надежде выведать что-нибудь в довесок.
— Думаю, что у меня нет выбора, и вы все равно поступите так, как захотите, миледи. Но я согласен, согласен хотя бы потому, что вы так прекрасны!
Герцогиня скривилась, как будто ела фазана и уколола небо костью. Из уст Красавчика комплименты выходили такими же кривобокими, как и он сам. Мало того, что о красоте рассуждал уродливый карлик, так еще чувствовалось, что сам он вовсе не считает себя уродом, и что ему неприятна ЕЕ внешность. Комплимент был в высшей степени неискренен.
— Что ж, давайте заключим сделку, — проскрипела герцогиня. — Я беру на две седмицы ваши деньги, а за это отдаю вам на это же время свой медальон. Вы согласны?
— Я согласен, — сказал Ириами, и они, плюнув на ладони, как это делается при заключении любой сделки, связанной с золотом, пожали друг другу руки. Горбун залез под прилавок и вытащил оттуда увесистый кошель.
— Вот ваша тысяча. Теперь скажите мне, что это за медальон и в чем его сила?
— Ого! Вы храните такую сумму вот так просто под прилавком? Вы или очень богатый человек или… заранее знали о моем приходе.
— Ни то и ни другое, — ухмыльнулся карлик, — это профессиональный фокус. Любой грабитель будет искать сейф, а сюда заглянет в последнюю очередь. Поверьте, здесь самое надежное место. Видите, вам ведь и в голову не пришло, что деньги все это время были у вас под носом!
— Я не грабитель, а честная аристократка из древнейшего и могущественнейшего рода, — скривилась Франческа, изящным движением смахивая кошель куда-то в складки своего удивительного наряда. — Секрет медальона в том, что внутри у него древняя реликвия -Слезы БО.
Такого поворота событий Ириами не ожидал. Теперь он окончательно понял, что вляпался в самую опасную из авантюр, в какую ему когда-либо могло повезти вляпаться. Слезы БО — это, вроде как, смола или минерал откуда-то из дебрей Эльфийских лесов на границе с Драконьими горами. Собирают их у Источника Времени. То ли само Время плачет этими слезами, то ли это действительно слезы БО, которые он пролил, когда создавал мир, но сила, в них заключенная, превосходит все. Это драгоценные камни необычайной красоты и неведомого оттенка. Каждый раз, когда вы отводите взгляд, камень меняет цвет. Но самое интересное: ходили слухи, будто Слезы Бо наделены силой исполненять желания и даже могут повернуть время вспять.
— Значит… этот кулон может выполнить любое мое желание, — медленно сказал карлик, вертя в ладони медальон.
— Не любое. Точнее… любое, но не то, что вы думаете. Не то желание, которое вы загадаете, а то, чего вы действительно хотите где-то в глубине души, — герцогиня пожала плечами и приподнялась, явно собираясь уходить.
— Но что мне с ним делать? — спросил горбун.
— Ничего. Вы можете носить его, я разрешаю. А можете положить куда-нибудь подальше, где он будет в безопасности. Только не под прилавок! Пожалуйста, спрячьте его понадежнее, — взмолилась герцогиня, — а лучше… носите все-таки при себе. Если будете носить, то ваши сокровенные мечты, мечты которых вы не знаете — так глубоко они запрятаны внутрь — вот эти-то мечты и сбудутся, в конце концов. На самом деле, вам вполне хватит для этого двух седмиц. За это время обстоятельства жизни изменятся. И даже быстрее.
— Но зачем мне то, о чем я не догадываюсь? Зачем мне желания, которых я даже не осознаю?
— Потому что счастлив человек бывает только тогда, когда исполняется не то, что он считает важным, а то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно для него, — улыбнулась юная старуха, вставая со стула и направляясь к выходу.
Она уже открывала входную дверь, но задержалась на пороге и зачем-то спросила:
— Послушайте, а в вашем роду случайно не было леприконов?
Следующим утром Ириами-Красавчик как всегда проснулся в бодром настроении. Каждый день он делал одно и то же: лёжа постели, планировал, чем займется сегодня. Ему нравился распорядок. Нравилось делать это каждый день — припоминать и планировать простые дела, которые он должен сделать. Протер глаза, потянулся, зевнул, лизнул несколько прыщиков на локте и… вспомнил о медальоне.
Прошлой ночью горбун долго не мог уснуть, разглядывая Слезы БО. Слез было три. И это было самое красивое, что он видел в жизни. Совсем не хотелось отдавать их герцогине. Определенно, он хотел оставить их себе. «Может быть, она не сможет отдать мне тысячу?» — подумал Ириами, но тут же понял, что его мечтам не суждено сбыться — герцогиня придет за Слезами. В худшем случае, она его просто убьет и снимет свое сокровище с трупа. Но он хотел владеть этими камнями, несмотря ни на что! Они волшебным образом придали жизни Ириами новый смысл. И если до сих пор весь мир, созданный Бо, казался бестолковой и глупой ошибкой, то теперь, глядя на Его слезы, горбун понимал, что, возможно, Безумный Автор сам плакал из-за несовершенства своего мира, желая сделать его лучше. И, возможно, что именно тогда Бо пришел к идее создания прекрасного Ириами…
Горбун вздохнул, потянулся и уже собирался выбраться из мягкой перины, но тут случилось досадное происшествие. Порыв ветра распахнул окно и в него, вслед за свежим ветерком, влетела птица. Она заметалась по маленькой, захламленной комнате и все никак не могла отыскать дорогу обратно. Глупо тыкаясь по углам, птица сметала своими крыльями статуэтки и шкатулочки с полок, зацепила чеканку так, что она угрожающе зашаталась на своем гвозде и, в конце концов, забилась в самый дальний и темный угол открытого шкафа рядом с расчетными фолиантами. Одним движением взбешенный горбун подскочил к шкафу, схватил птицу и свернул ей голову. Ириами держал в руках остывающий трупик глупой пичуги, и на него накатило мощное ощущение красоты происходящего. Этот зверек был всего лишь глупой птицей, но он умел летать! Трупик был потрясающе красив, и Ириами неожиданно для себя заплакал.
День прошел в приятных заботах. Горбун-ростовщик принимал деньги, отдавал деньги и считал деньги. А вечером, когда солнце скрылось за городской стеной, он отправился к себе в комнату, чтобы посмотреть на медальон, спрятанный под подушкой. Луч закатного солнца упал на Слезы Бо — и те загорелись в ответ. Ириами захлопнул медальон и испытал безотчетную потребность выйти из дому. Он надел кулон на шею, накинул парадный сюртук и вышел, захватив любимую трость с набалдашником в виде головы горгульи. У дверей как всегда крутился мерзкий соседский пес. Даже не взглянув, привычным движением карлик попытался пнуть пса и как всегда промазал. Но тут пригодилась любимая трость… Он, конечно же, не попал по визгливому животному, но было приятно смотреть, как тот убегает с обиженным лаем, прячась под изгородь. Сюртук жал в плечах и был явно маловат в районе горба, но сегодня это Ириами не волновало — горб чесался терпимо. Вечерело, однако жара не спала. Захотелось выпить меда. Красавчик двинулся в таверну «Три осла». Он пересек королевскую рыночную площадь, свернул в проулок Горшечников, купил небольшой пирожок с ливером, съел его без аппетита и, пройдя по Маковой улице, вышел на мост Троллей.
Мост был перекрыт перевернутой повозкой. В грязи был разбросан чей-то домашний скарб. Женские платья, шляпки, перемазанные и уничтоженные, сундуки, горшки, кастрюли и сковородки — все перемешалось с конским навозом, мусором, пылью и остальной пакостью, которую можно обнаружить на мостовой большого города. Повозка лежала на одном боку развратно, колесами вверх. «Это похоже на птицу со свернутой головой… красиво», — подумал горбун. И еще он подумал, что с тех пор, как увидел Слезы Бо, стал замечать красоту вокруг себя. Оказывается, мир не был уж совсем таким безобразным. Вот эта перевернутая повозка, зеваки вокруг… — все было наполнено тайным смыслом и вело свою игру, вело Ириами куда-то в сказку, в историю, которая исполнит его самые тайные желания…
По борту перевернутой повозки ровными буквами без закорючек было написано: «Собственность Мамаши Гретхен». Вокруг деловито суетились две крупные бабы, черные, как жители Берга или Дартарстана, откуда они, скорей всего, и приехали. Конюх и пара слуг, остановив движение, пытались расчистить место, необходимое для того, чтобы перевернуть повозку в приличное положение.
— Кто такая эта Гретхен? — спросил кто-то из зрителей.
— Да вон она сама сидит! — сказал другой, указывая пальцем на небольшую, плетенную из ивового прута, одноколку. Тощий белый бык-извозчик растерянно топтался рядом. Место возницы пустовало. Кузов коляски был оснащен непромокаемой крышей и задрапирован боковыми портьерами вместо дверей.
— Везут, как барышню! — продолжил первый.
— Или знатная, или страшная! — сказал кто-то еще, и вся толпа зевак залилась грубым хохотом.
Плотно подогнанные занавеси дрогнули, но не раскрылись. Ириами протиснулся ближе. Ему вдруг страстно захотелось заглянуть внутрь, увидеть то, что там скрывается от любопытных глаз. Желание стало настолько сильным, что он протянул руку, ухватил драпировку и дернул. Ткань поддалась, и — возле самого своего носа — карлик увидел огромную волосатую ступню. Ступня была чудовищных размеров, наверное, длиной с самого Ириами. Такие ступни должны принадлежать великанам, но великан никак не смог бы поместиться в эту маленькую каретку. Двигаясь взглядом по ступне — от большого пальца к пятке — Ириами сделал несколько открытий: ступня женская, о ступне заботятся тщательно, волоски растут тут и там пучками, они очень нежные, мягкие на вид и скорее привлекают, нежели отталкивают, а пятка до того бесподобна, что карлик просто не смог бы описать, что именно приводит его в восторг. Таким образом, дойдя взглядом до подъема стопы, горбун понял, что влюблен, влюблен в ступню. Окончательно и бесповоротно, первый раз в жизни и навсегда. Оставалось выяснить, что же находится выше. Он поднял взгляд — и уставился в самые прекрасныена свете глаза. Один глаз, правда, был меньше другого и заплыл восхитительным опухшим синяком, а другой глаз заполняло мрачное бешенство, но между глазами находилась бровь. Одна на все лицо. Бровь была так густа, что сердце Ириами больно дернулось в груди, а горб заныл. На него смотрела леди-совершенство, прекрасная и богатая (вполне понятно, что это так, если учесть персональный экипаж). К тому же, если на повозке написано «собственность», это значит, что таких повозок больше, чем одна… У Гретхен свое дело!
— Что вылупился?! Деньги плати за посмотреть! — рявкнула «красотка» и попыталась прикрыться тканью, но горбун удержал.
Он вцепился в ткань с одной стороны, а загадочная барышня — с другой. Они тянули покров на себя до тех пор, пока он не разъехался по швам и не свалился совсем, обнажив девушку во всей красе. Зрители ахнули и возбуждённо зашептались. В глазах зевак карлица с большой ступней была уродлива до необычайности. За «посмотреть» действительно можно было брать неплохие деньги, что, собственно, она и делала: держала цирк уродов, в котором выступала сама в качестве — по словам самой Гретхен — «одного из наиболее удачных экземпляров». Мамаша Гретхен имела самую большую ступню в королевстве, притом что вторая ступня у нее была самая обычная. Эта нормальная ступня была одета в матерчатый башмачок с бриллиантами. Далее шли: шелковые шаровары малинового цвета (что скрывалось под ними — неизвестно), стеганая безрукавка, расшитая золотом, под которой угадывались массивные жировые складки, и неясно было, грудь это или просто жир, широкая, пожалуй, слишком широкая для человеческого существа физиономия, которую можно было бы назвать и мордой, всклокоченные соломенные пучки волос, модная столичная шляпка. Чудовище называло себя Мамашей Гретхен, но было ли оно человеком — в этом усомнились все, кто наблюдал ЭТО на Тролльем мосту в тот миг. Все, кроме Красавчика Ириами. Карлик был настолько потрясен увиденным, что снова заплакал, но нисколько этим «красавицу» не впечатлил. Гретхен не прониклась ни обликом агрессора, ни его взглядом. Она не влюбилась и не впала в оцепенение, она вытащила откуда-то небольшую, но удобную дубинку и умелым движением саданула горбуна по голове. Ириами смотрел во все глаза и, улыбаясь, прошептал: «Благодарю!», после чего Мамаша, не произнеся ни слова, деловито саданула еще разок. Карлик упал на мостовую лицом вниз и потерял сознание.
Ириами пришел в себя уже в сумерках. Его стошнило. «Надо к доктору, похоже, я здорово ушибся», — подумал горбун, и его вывернуло ещё раз. Потом он вспомнил, что явилось причиной такого плачевного состояния. Он в ужасе схватился за грудь, но медальон оказался на месте. Ириами нетвердо встал на ноги и двинулся домой. В этот час шатающейся пьяни было полно, и на него никто не обращал внимания. Немного погодя горбун остановил двуколку, и кучер не побрезговал грязным и пьяным пассажиром. Был еще неприятный момент, когда пришлось расплачиваться — а карлик не нашел своего кошеля, очевидно, кто-то стащил его за то время, что Ириами валялся в канаве. Но все обошлось благополучно. Увидев, что денег нет, извозчик соблаговолил проводить больного до двери и даже помог тому войти внутрь, за что был вознагражден золотым. Первый и последний раз в жизни Ириами заплатил кому-то так несуразно много и совсем не торгуясь.
Утром Ириами первым делом схватился за свежую газету. Газеты — новинка, недавно появившаяся в столице королевства, набирали популярность и множились день ото дня. Появились газеты новостей, специальные газеты для дам, «Советы садоводам», «Охотничий вестник», «Двор короля», «Шутки тролля» и многое другое. Поначалу это были просто листки ровно обрезанной бумаги, выходившие раз в седмицу, но теперь некоторые издания походили уже больше на тонкие книжки. Газеты вошли в моду. Многих удивлял сам факт того, что все буквы на листе абсолютно одинаковы, и никто не мог понять, как можно писать с такой точностью. Новоиспеченная гильдия газетчиков ревностно берегла секрет, хотя вполне понятно, что надписи получаются при помощи оттисков с готового набора букв. Непонятно было только то, как удавалось производить такое количество экземпляров за короткое время. (Но мы-то знаем, что над этим скурпулезно работал целый цех мелких леприконов. Они работали за еду и пиво. Главное было в том, что им эта работа нравилась. Не все леприконы злые, но все предпочитают жить в людских городах. Вот кому-то и пришла идея использовать их обстоятельность и маниакальную педантичность в печатном деле. Своими маленькими ловкими пальцами леприконы дни и ночи напролет оттискивали букву за буквой, пока не набирался лист).
Красавчик читал «Новости Граданадара». Для матери он выписывал «Полезные советы домового», но сам читал только новости. Морщась от головной боли, горбун развернул колонку светских новостей. Главная новость сегодняшнего дня, выделенная крупным шрифтом, красовалась на первой странице:
«Цирк Мамаши Гретхен снова в городе!»
Ириами впился глазами в текст:
«Королевские уродцы потрясают своей уродливостью!
Всего за десять медяков в течение всей следующей седмицы жители и приезжие, бедняки и богатеи, знатные и простолюдины — все вы сможете испытать ужас и отвращение, гадливость и тошноту, величие мерзости и радость непричастности в цирке повелительницы самых уродливых человекоподобных тварей нашего славного королевства!
Спешите видеть!
Сравните себя с ними, и вы поймете, насколько ваша жизнь прекрасна!
Каждый вечер, на закате, Мамаша Гретхен ждет на Садовой площади с распростертыми объятиями вас и ваши деньги!».
Тон объявления был, мягко говоря, вызывающим — зазывалы перестарались, но горбуна это не волновало, он понял главное — Гретхен раскроет свои объятья, по меньшей мере, на седмицу, а может, и на гораздо больший срок, если он все правильно сделает. И карлик, несмотря на болезненное состояние, решил отправиться на представление сегодня же. Он взял говорящую трубу и попросил связного смаргла связать его с кассой цирка. Смаргл зевнул и затараторил что-то свое, жаргонное. Говорил долго, хихикал и шепелявил, пока Ириами не зашипел на него, брызгая слюной.
Смарглы, существа эльфийского происхождения, распоясались вконец. Обладая монополией на переговорное дело, они могли позволить себе выпендриваться как угодно. Только маленькие смарглы соглашались проводить в переговорных трубках всю жизнь, мало того, только они умели читать мысли друг друга и мгновенно подражать голосам звонивших. Большую часть времени, нажравшись вином, связной смаргл спал, а когда требовались его услуги, он просыпался и, недовольно ворча, устанавливал телепатическую связь по заданному адресу. На самом деле, связь эту он устанавливал мгновенно, но всегда делал вид, что ему нужно время, предпочитая всласть поговорить с сородичем на «той стороне» говорящей трубы — так для краткости назывались замысловатые домики смарглов, оканчивающиеся конусом-трубкой. Смарглы жили внутри, там же спали и оттуда устанавливали связь. За услуги связного смаргла его нужно было поить: в специальное отверстие заливался напёрсток хереса или медовухи — и смаргл устанавливал связь. В последнее время смарглы обнаглели вконец. Спрос на них возрос, а нравы самих смарглов ухудшились. Теперь они требовали уже не один наперсток вина в день, а целых два. «Того гляди, совсем на шею сядет. Придется ему тут, в этом „аппарате“, ванну из вина приделывать!» — подумал Ириами, злобно нахмурив брови. Пока что окрики действовали, смаргл пугался, но уже не так сильно, как раньше.
Заказав билет на вечер, горбун хотел отложить трубку, но смаргл остановил его вальяжным мурлыканьем:
— Три наперстка и сыр.
— Не понял?
— Теперь будет три наперстка и сыр, — повторил смаргл и демонстративно захрапел.
— Что б ты залился своим хересом и утонул! — воскликнул карлик, кидая трубу.
— А неплохо было б… — прилетело в ответ.
До представления было еще далеко, впереди ждал нелегкий день, полный дел. Но впервые в жизни Ириами ждал вечера с таким нетерпением. К обеду он уже ненавидел все и всех, но клиенты словно взбесились. Никто ничего не закладывал, все отдавали долг. В этом был какой-то тайный смысл. Горбун вспомнил о герцогине и испугался. Совершенно абсурдно испугался того, что она тоже сейчас войдет в дверь и вернет ему золото. И тогда он будет плакать уже не над Слезами Бо, а по ним… Задрожав всем телом, карлик забрал золото у очередного неудачника, нервно спровадил его и закрыл дверь перед носом следующего посетителя, повесив табличку с надписью «Обед». Но обедать он не стал — ещё подташнивало. Поднявшись к себе наверх, горбун смотрел на Слезы Бо, пока головная боль не прошла. Настроение чуть-чуть улучшилось, но нестерпимо зачесался горб. Чесалось настолько сильно, что Ириами уперся спиной в дверной косяк и елозил туда-сюда до скрипа в костях. Вполне возможно, он расчесал горб до крови, но стало легче. Нацепив парадный сюртук и подвязав шикарную бабочку, горбун спустился к матери и попросил ее поработать за него.
Мать жила в коморке на первом этаже. Это была серая невзрачная женщина без возраста. Она жила одна, всегда одевалась в черное и почти ни с кем не общалась. Соседи неплохо относились к ней, здоровались, но не более того. Ни подруг, ни друзей у нее не было. Отца Ириами совсем не помнил: тот умер, когда карлику было не больше одного цикла. Мать никогда не говорила ни о его смерти, ни и о нем вообще, а Ириами было все равно, он не расспрашивал. Со смерти мужа мать Ириами не снимала траур. Иногда горбун думал, что она носила траурную одежду не только по отцу, но и по себе, по своей жизни, да, наверное, и по самому Ириами. Почему ему так казалось, он не понимал, но отделаться от этих мыслей был не в силах. В детстве Ириами слышал от матери только ласковые слова, она никогда не ругала его за все те гадости, которые он совершал. И, хотя горбун с младенчества отличался нравом мерзким и жестоким, мать всегда вступалась за него, вытаскивала из бесконечных потасовок и окружала заботой. Она любила его или, по крайней мере, делала вид, что любит, но горбун ей не доверял, как не доверял на свете ни одной живой душе. И, хотя мать не давала ни малейшего повода, горбун всегда сомневался в искренности её слов и с подозрением относился к ласковому голосу, доброму взгляду и похвалам в свой адрес. Она хвалила его много и часто, по любому поводу и без повода. И чем старше и уродливее он становился, тем больше она хвалила его. Ириами вырос в контрастной атмосфере уличных насмешек и материнской любви. Со временем соседи к его уродству привыкли и смеяться перестали, а с тех пор, как он завел ломбард и сделал состояние, даже слегка лебезили перед ним. Но мать, конечно же, не переставала ни любить, ни хвалить его, и карлик, так и не поверив в ее любовь, старался видеться с ней как можно реже, умудряясь избегать общения под одной крышей. Так и повелось, что обедали вместе раз в седмицу, а по праздникам горбун выводил мать погулять или на представление заезжих бардов. Иногда он доверял ей вести дела, но только в крайних случаях, очень редко. Сегодня был один из таких редких случаев. Ириами решил не работать после обеда, несмотря на обилие посетителей. У дверей конторы собралось несколько человек, готовых ждать окончания перерыва прямо здесь. «Почему-то я уверен, что все они хотят забрать свои вещи…», — подумал горбун, выходя с черного хода.
Поправив сюртук, Ириами пришел к выводу, что его горб опять немного вырос и что надо заказать новый парадный костюм. Решив сделать это незамедлительно, он двинулся по бульвару Часовщиков к Садовой площади. Заглянув по пути к своему новому портному, он решил провести оставшееся до представления время за кружкой эля в таверне неподалеку, где надеялся послушать те сплетни, которых не пропускала печатная цензура. Интересовала Ириами, естественно, Мамаша Гретхен. Свернув с бульвара, карлик проковылял по переулку Медников и открыл дверь в таверну «Свой окорок». Здесь было людно — обедали каменщики, строившие неподалеку новую церковь Всех Благ. Каменщики сидели плотно, заняв несколько длинных столов, и говорили обо всем подряд. Увидев пустой столик возле окна, Ириами устремился к нему, но его опередили. Столик заняли какие-то путешественники, приехавшие, судя по виду, из Аргении поглазеть на столицу Королевства. Ириами остановился на полпути и завертел головой в поисках новой цели.
— Почтенный мастер Ириами, идите сюда, здесь есть для вас свободное место и кружечка эля! — послышалось из самого темного угла.
Ириами пригляделся и узнал своего коллегу ломбардщика из района Сновидений. Он вспомнил, что дела у того шли всегда неплохо, что непонятно — район Сновидений был районом портовых грузчиков и уличных девок, в таких местах люди закладывают свои вещи в обмен на медяки, в лучшем случае — на серебро, и почти никогда не отдают долги. Звали ломбардщика Косой Ганс, и прозвище это подходило, скорее, какому-нибудь пирату, а не «честному» скупердяю, дающему деньги под залог. Ходили слухи, что этот малый обделывает делишки и потемнее, но Ириами было все равно, они никогда не сорились с Косым Гансом просто потому, что дел общих не вели, а знакомство было шапочным. Тем не менее, Ганс горбуна уважал и даже боялся, понимая, что в кривых лапках карлика есть сила. Посомневавшись всего мгновение, Ириами уселся на скамью рядом с Гансом и заказал эль.
— Мастер Ириами, я всегда был восхищен вашим талантом, вашей проницательностью и… ну… всеми остальными вашими качествами, — начал Косой Ганс.
— Дорогой коллега, очевидно, вам что-то от меня нужно, раз вы так рассыпаетесь комплиментами. Давайте лучше сразу перейдем к делу, вы ведь знаете, что и к вам я тоже отношусь с превеликим уважением.
— Увы, мастер, сегодня я говорю вам не комплименты, а скорее уж соболезнования. Но, поверьте, я совершенно искренен.
— Не совсем понимаю, о чем вы…
— Так вы не знаете? Как же так?! Главный ломбардщик столицы не знает столь убийственную новость, причем касающуюся лично его? Я удивлен. Хотя… у вас много врагов в тех кругах… неудивительно, что вам никто не сказал. Теперь время уже не то… все узнается по газетам. Вот раньше… раньше приличные люди узнавали все самое интересное исключительно от информаторов!
— Вы говорите, как старикашка какой-то прямо: «раньше то, раньше это»! Но скажите, милейший, что ж за такая «новость», о которой я не слыхал?
Косой Ганс ухмыльнулся, но улыбка у него получилась печальной, скорее даже трагической:
— Мастер Ириами, так уж вышло, что именно от меня вам придется принять эту ужасную, трагическую весть. Я бы хотел, чтобы мы с вами пили эль при иных обстоятельствах…
— Да не тяните уже! — не выдержал горбун.
— Простите. Дело в том, что готовится королевский указ о запрещении частной деятельности ломбардов. С завтрашнего дня «в долг» деньги сможет ссужать только королевская казна. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему они не додумались до этого раньше? Ведь это же очевидно и прибыльно со всех сторон! Понятно, что не обошлось без нового министра финансов. Король-то сам…
Косой Ганс все говорил и говорил, но Ириами не слышал. Все вокруг задрожало, мир треснул и развалился. Горбун с полной ясностью осознал, что прежней жизни пришел конец. Завтра он останется без работы. Но сам Ириами словно отделился от мира, он наблюдал издалека — ни тоски, ни даже грусти не было. Одним махом осушив кружку, карлик испытал неимоверное чувство облегчения. Нестерпимо зачесался горб. Во рту пересохло, и он заказал еще эля.
— Что же вы будете делать теперь? — не отставал Ганс.
— Пойду к вам в порт грузчиком.
— Э..э.. — Ганс не сразу уловил, что его коллега шутит.
— Или девкой распутной, говорят, они неплохо зарабатывают, — горбун подлил масла в огонь, и Косой Ганс разразился таким хохотом, что вся таверна затряслась.
Ириами понял, что весь день клиенты забирали свое барахло потому, что знали об указе. «И никто ничего не сказал. Гады!» Хотя понять их можно — ему никто не симпатизирует, а если завтра ломбарды прекратят свое существование, то никто не сможет выкупить свои заклады. Но к сделке с герцогиней это все не имеет отношения. Даже если прямо сейчас он бросит все и уедет в Берг, она найдет его и в Берге… и в Дартарстане. И убьет. Нет…, со Слезами Бо придется расстаться в обещанный срок. Все, что он может сделать в данной ситуации — это насладиться их воздействием в полной мере. И то, что ломбарды закрывают, тоже как-то связано с деятельностью Слез, с тем, чтобы сделать Ириами счастливым за две седмицы!
Выйдя из таверны, карлик вздохнул. Он остановился на пороге и заглянул вглубь себя. Внутри было пусто и звонко, как в порожней бочке. Ни сожаления, ни растерянности — только радость, иррациональная радость освобождения от дел. Чем он будет заниматься теперь? Куда пойдет? Себя горбун связывал с чужим несчастьем, из людских невзгод черпал корыстный интерес, и теперь, когда королевская казна наложила лапы на родное дело, Ириами остался без смысла жизни. Не без денег, конечно же… Денег много. Несколько банок, доверху набитых золотыми монетами, зарыты в лесу и замурованы в стены, часть денег вложена в недвижимость. Ириами был богат, но его удивляла сама неопределенность теперешнего положения. В голове роилось множество задумок и планов — один лучше другого. В каком-то смысле, несчастие вполне могло обернуться счастьем.
Стало совсем легко и даже немного весело, как бывает в первое мгновение, когда понимаешь, что твой дом обокрали, и ты остался ни с чем. Потом, конечно, накатывает грусть, но первая мысль все ж об освобождении. «Ничего, мы им еще покажем! Мы еще возьмем свое золото у этих сволочей!» — подумал Ириами Красавчик, оглядываясь по сторонам. Он взглянул на мир по-другому, и мир уже не показался ему бессмысленным: пьяный нищий и перевернутая бочка, забитая нечистотами мостовая, раздавленный щенок и старое колесо. Все вокруг существовало не просто так, имело смысл лично для него, и в этом смысле скрывалась красота. «Нужно открыть эту красоту», — подумал безработный горбун и двинулся на Садовую площадь к Мамаше Гретхен.
Площадь заполоняли зрители, ожидающие входа в цирк. Сегодня премьера, и всем хотелось увидеть уродцев первыми. Посреди площади выстроили временный павильон, крытый цветной тканью. Павильон получился огромный, и места на площади оставалось мало. Кругом продавали сладости — для еды, а также гнилые фрукты и тухлые яйца по медяку — чтобы кидать их в цирковых уродцев. Горбун зачем-то купил кулек гнилых помидоров. Кидать их он ни в кого не собирался, но помидоры выглядели привлекательно — и он купил. Распихав толпу, Ириами пробился к кассе, выкупил свой билет, а затем, размазав помидоры по спинам, пробился к входу одним из первых и ввалился внутрь павильона. Внутри пахло так, как пахнет во всех цирках — свежим сеном и конским навозом. Круглая арена была обставлена несколькими рядами грубых лавок, но для особо важных посетителей установили кресла в первом ряду, слева и справа от выхода. Ириами нашел свое кресло с самого краю и уселся в него со вздохом облегчения.
Постепенно зал заполнился до отказа и загудел, как потревоженное гнездо шершней. Оставалось ждать совсем немного. Занавес приоткрылся, оттуда выбралось несколько престранных существ, вооруженных музыкальными инструментами. Это были не люди, не леприконы, не эльфы и уж тем более не гномы. Эти существа не были похожи даже друг на друга. Единственное, что роднило их между собой — чрезмерно длинные, костлявые руки и еще более длинные пальцы, которых насчитывалось явно больше, чем пять. Как будто специально созданные для музыкальных дел, эти руки привычно и уверенно сжимали флейты, скрипки и барабаны всевозможных конфигураций. Заправлял всеми бочкообразный хмырь с широким вафельным воротником и длинной дирижерской палкой. Двигался он лениво и медленно, создавалось впечатление, что все окружающее его интересует меньше, чем козюля в носу, которую он периодически пытался достать своим проворливым пальцем. Усадив музыкантов на специальные места, хмырь томно занял дирижерскую позицию. Он встал лицом к музыкантам, презрительно отвернувшись от публики, и поднял смычок вертикально вверх. По этому знаку музыканты взбодрились и настроились. У всех на мордах появилось характерное предстартовое выражение. Вот дирижерская палочка дрогнула и… рванула дрыгаться туда-сюда! А вслед за палкой, полетела музыка — бешеная, сумасшедшая, как и сами музыканты, как и сам этот цирк уродов.
С первых трелей Ириами Красавчик был захвачен мелодией и ритмом, как младенец леденцом. Музыка казалась ему совершенной, удивительной. Его уже не удивляло то обстоятельство, что раньше он музыку не выносил. «Все связано, все в этом мире связано!» — думал карлик, купаясь в дисгармоничной слаженности звуков и нот. Впрочем, музыка понравилась не только ему одному. Зал был впечатлен. Все притихли, держа наготове кульки с гнилыми фруктами.
Занавес распахнулся- и на арену выскочил вертлявый франт в цилиндре, с бабочкой и во фраке. В руках он держал щегольскую трость и был совершенно нормален — ни одного уродства. Публика негодующе ахнула, но фрукты тратить не стала. Этого малого знали. Его звали Мертандель, и он был менестрелем-распорядителем всевозможных торжеств. Его звали туда, где надо было что-то провести, и он проводил ВСЕ: похороны и свадьбы, концерты и турниры, дни рождения и карнавалы, говорил речь на праздник Урожая и вертел задом на королевских балетах. Очевидно, Мамаша Гретхен наняла его для контраста.
— Почтенная публика! Меня, как вы знаете, зовут Мертандель, и сегодня мне выпала честь открыть это мероприятие. Я — нормальный во всех отношениях — приглашаю на арену ненормальнейших из ненормальных, уродливейших из уродливых, ужасающих из… э… из ужасающих!
На этом месте многие заржали, и Мертандель понял, что взял верный тон. Лишь один Ириами гневно нахмурился: «Как смеет этот наглый выскочка шутить над тем, чего не понимает! И где, собственно, Мамаша Гретхен?» Королева уродов была неподалеку. На представлениях она всегда сидела сразу за кулисами и тайком наблюдала за публикой. Она импровизировала, составляя программу на ходу в зависимости от реакции толпы. Если напряжение в зале ослабевало и публике становилось не интересно, Мамаша меняла последовательность. Уродцы были всегда наготове и имели по нескольку номеров в запасе. Но самыми ценными во всем цирке были, естественно, клоуны… клоуны-уроды. Описать этих существ сложно. Мамаша заботливо подбирала несчастных ублюдков по городам и весям от Шестилесья до Дартарстана. Говорили, что для нее их создавали специально, в лабораториях черных магов и тренировали чуть ли не в замке Хель. Так что, клоуны Гретхен заодно работали и ее телохранителями. И вот на арену вышло одно их этих существ. Высунувшись из-за занавеса и приложив палец ко рту, оно дало понять, что не желает, чтобы публика его заметила. Прыжками, на цыпочках, существо пронеслось к Мертанделю и вылило на него ведро с белой краской, а затем нахлобучило сверху какую-то неимоверно смешную шляпу, отчего ведущий сразу стал «своим» в мире уродцев. Похоже, что в контракте этот пункт не был прописан, так как возмущение Мертанделя не было наигранным, и это окончательно развеселило публику. Вымазанного в белой гадости, униженного и неистово брыкающегося, барда-распорядителя утащили с арены — и представление началось.
Тут же выбежали еще несколько уродцев в клоунских колпаках и гриме. Зачем грим тем, у кого рты итак до ушей? Один клоун был похож на бревно. Где-то посредине бревна находился рот, разрезающий клоуна почти пополам. Чтобы что-то сказать, ему приходилось руками откидывать верхнюю половину этого бревна и, когда клоун смеялся, каждый раз казалось, что еще немного — и он развалится на две половины. Второй был больше похож на шар, но устройство рта у него было схожим — шар почти полностью разрезался на две полусферы огромным ртом. Глаза сидели кучно и как-то сбоку. На верхней полусфере, которую, обладая большой фантазией, можно было домыслить как голову, торчало несколько кочек с пучками волос. Снизу, из шара, вылезали ножки, а сбоку — ручки. Нижняя часть была одета в некое подобие комбинезона. В верхней части к одной из волосяных кочек крепилась нелепая шляпка, обозначая макушку. Клоун периодически выплевывал из своего нутра всякие забавные предметы: яблоки, кастрюльки, детские носки, веревку и даже небольшой чемоданчик. Третий клоун все это ловко подхватывал и пускал в жонгляж. Этот третий персонаж был особенно удивителен. У него было три пары рук и только одна нога, одетая в штаны, скроенные из одной штанины. Жонглировал он так, будто был волшебником. Вокруг летали предметы, разные по весу и свойствам, и жонглер умудрялся придавать им такие траектории, которые без магии просто невозможны. Представление завораживало. Закончил он тем, что выстроил пирамиду из вещей у себя на голове, а затем смешно споткнулся своей единственной ногой и нелепо уронил все хозяйство на головы товарищам.
Все клоуны синхронно выпустили несколько струй конфетти и, ухватив многоруко-одноногого собрата за воротник, убрались за кулисы.
Представление закрутилось бешенным колесом. Публика постоянно была в напряжении: уроды-канатоходцы, безрукий укротитель львов, рыбокарлик, прыгающий из-под купола в маленький тазик с водой, двухголовый безногий силач, которого на руках носила маленькая девочка… Циркачи вкалывали по полной, и было понятно, что «Мамаша Гретхен» даст фору любому цирку.
Ириами выступлений почти не замечал. Он ждал Гретхен, а ее все не было и не было. И вот, когда горбун уже совсем отчаялся, на манеж выбежал длинный как жердь, похожий на богомола клоун и закричал: «А сейчас… Мамаша Гретхен!»
«Она подгадала свой выход — последние гнилые фрукты израсходованы на канатоходца-ящерицу…» — восхищенно отметил Ириами. Он заворожено наблюдал: вот его возлюбленная, кряхтя, выбирается из паланкина, который клоуны-уроды под шум петард и фейерверков торжественно вынесли на арену. Необычайно толстое и грузное создание с гигантской ступней выбралось, наконец, наружу и сделало немыслимый реверанс. Публика загоготала, как сумасшедшая. Реверанс вышел что надо. Мамаша Гретхен подняла руку, останавливая шум. В нее попало несколько последних помидор. Не обращая на это внимания, «красавица» послала воздушный поцелуй публике — и вдруг весь свет погас. В полной темноте заиграла флейта, затем к ней присоединилась скрипка, потом еще несколько инструментов. Музыка была так прекрасна, что у Ириами слезы потекли ручьями. Зрители тоже не остались равнодушны — горбун услышал несколько всхлипываний, а кто-то рядом сказал: «Говорят, что эту музыку она сочинила сама…» Но вот откуда-то сверху на арену упал одинокий луч света, осветив гигантскую ступню Мамаши Гретхен. Луч пополз по ноге вверх и захватил в фокус всю Мамашу. Гретхен взмахнула руками и закрутилась в причудливом танце, а луч света сопровождал ее туда, куда вела мелодия и жест. Зал притих. Мамаша Гретхен выделывала такое, на что не была способна ни одна столичная балерина. Она порхала как бабочка в такт музыке и, во многом благодаря своей удивительной ступне, выполняла кульбиты и кувырки, каскады и сальто. Казалось, что перед вами не жирное чудовище, а ночной мотылек, захваченный в плен жестоким светом уличного фонаря. Но вот танец подошел к концу, музыка стихла, зажегся свет, и Мамаша Гретхен, сделав финальный реверанс, снова превратилась в уродливое подобие леприкона. Потрясенный зал взорвался аплодисментами.
Ириами чувствовал себя плохо. Все внутри мутило, болело и чесалось, как будто он забрался в дикий улей и был насмерть закусан пчелами, но еще не умер. Увиденное и услышанное окончательно пленило его разум. Не понимая, что делает, карлик пробрался сквозь ряды и вылез на арену. Проковыляв к Мамаше Гретхен, горбун на мгновение замер перед ней, потом упал на одно колено, схватился за то место, где обычно находится сердце и, сквозь катящиеся градом слезы, глаза в глаза, прошептал: «Я Вас люблю». Зал замер.
— Чего? — удивилась Гретхен.
— Я Вас люблю, — повторил горбун, но с колена не встал, а только ниже опустил голову в ожидании казни или помилования.
— И че? — резонно вопросила Мамаша Гретхен.
— Будьте моей женой! — горячо воскликнул карлик, приложив обе руки к груди.
Казалось, Гретхен на мгновение задумалась. По крайней мере, она молчала достаточно долго для того, чтобы показалось, что она думает. Возможно, просто играла на публику, а возможно, действительно просчитывала варианты.
— Не… я тебя точно не люблю, — выдала она свой вердикт. И добавила. — Ты ж урод. Посмотри на себя: мелкий, кривобокий, горбатый, весь в каких-то шишечках и прыщиках, нос… ох… это не нос, а пятачок! Ты ж уродлив, как… как… да у меня в цирке все уроды красивей! Ты не похож на человека! Я — прекрасное создание, самое чудесное в этом мире, а ты уродливый карл. Бедный Бо, когда он тебя заделал, то его потом стошнило! Я достойна прынца, а ты кто такой? Ты… не… прынц! И мне не пара!
— Но я честный гражданин, — зачем-то ляпнул Ириами, вызвав хохот зала.
— Иди ко мне, будешь в клетке выступать. Жонглировать тебя научу! — продолжала глумиться бессердечная особа.
Мир перевернулся в глазах бедного карлика. Медленно, ничего не осознавая вокруг, он развернулся и покинул арену так, как если бы у него на горбу лежали мешки с песком. Ириами вышел из цирка и побрел куда-то, не осознавая, куда. Колени подкашивались, а горб жгло огнем, как будто это был не горб, а гнойный прыщ, который вот-вот лопнет. Хуже всего было даже не то, что его унизили перед толпой — подобное он испытывал в детстве часто — но то, что Она сказала о его уродстве. Она не увидела его КРАСОТЫ! Она была такая же, как все! Такого он никак не ожидал. Он был уверен, что Слезы Бо привели его в этот цирк неспроста и что Мамаша Гретхен дарована ему судьбой. Здесь было какое-то немыслимое… несовпадение. ОНА ДОЛЖНА БЫЛА СТАТЬ ЕГО ЖЕНОЙ!!!
Но этого не произошло. Не произошло вообще ничего, кроме позора. И в маленькой уродливой голове карлика что-то лопнуло сочно и с треском. Он впервые в жизни задумался над тем, что является не великим совершенством бытия, а, возможно, просто уродцем. «Я с детства убедил себя в том, что мир ужасен. И сделал это лишь с одной целью — скрыть свое собственное уродство, выдержать ужас, связанный с этим пониманием!» Думать так было болезненно тяжело, но не думать уже не получалось. Ириами огляделся вокруг. Все стало другим: дети, копающиеся в сточной канаве, пьяный старик, безуспешно просящий милостыню на опохмел, котенок, отрыгивающий червей, и недостижимое небо — далекое и совершенное, как Слезы Бо. «Мир уродлив, но, кажется, и я урод», — констатировал горбун и побрел домой Он вдруг понял, что хочет задать несколько вопросов единственному существу, которое всегда относилось к нему хорошо…
В конторе все было спокойно. За время его отсутствия мать умудрилась принять всех посетителей и теперь сидела одна за стойкой, читая газету. «Наверняка профукала всю прибыль на сирот», — беззлобно подумал горбун, понимая, что иначе и быть не могло — мать была женщиной доброй, всегда готовой отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. «А, все равно!» — скривился Ириами, подходя к бедной женщине.
— Мама, скажи, я урод?
— Ты снова, как в детстве, задаешь этот вопрос…
— Но я уже не ребенок, и ты можешь сказать, как есть, как ты считаешь на самом деле.
— Нет, сынок, ты самое прекрасное существо в мире, — спокойно ответила мать.
Это ее спокойствие… именно ему горбун и не доверял. Ириами научился тонко чувствовать фальшь. Он болезненно воспринимал любую ложь и сам врал мастерски, профессионально. Он знал, что люди принимают ложь только тогда, когда готовы ее принять, когда хотят этого. Возможно, что всю свою жизнь он хотел от нее слышать только хорошие слова? Со временем, повторяя одно и то же, она убедила себя в том, что ее сын — верх совершенства. Но… нет. Это не так. Иначе откуда у него это свербящее недоверие, этот холодок по отношению к ней? И карлик решил задать вопрос-табу, который он никогда не задавал:
— Скажи-ка, мама, как умер мой отец?
— Зачем ты спрашиваешь об этом, — мать раздраженно нахмурила брови, как делала это в детстве, когда маленький Ириами интересовался отцом.
— Затем, что я больше не хочу слышать всю эту ложь! — Ириами перешел на крик.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
