
Бесплатный фрагмент - Знаем ли мы, как на самом деле устроен мир?
Введение
Сегодня все чаще можно услышать, что по отношению к знанию ближайшего будущего трудно что-либо сказать, что даже настоящее в плане строения — неопределенное и сложное. Постепенно завоевывает точка зрения, что, возможно, и не надо знать, как устроен мир. Например, известный историк античной философии Пьер Адо пишет: «Эйнштейн приходил в восторг от законов природы, предполагающих трансцендентальный разум, и от порядка мира, соответствующего порядку мысли. Можно было бы сказать по этому поводу: непонятно то, что мир был бы понятен… вопрос провидения и порядок мира имеют мало значения. Эпикур в это не верил, и, кстати, необходимость стоиков в конце концов не очень сильно удалена от некоторых современных концепций».
Действительно, приходится признать, что в настоящее время мы как-то живем, не зная не только, что такое порядок мира, но и что собой представляет прошлое, настоящее и будущее. Кажется, если мы охарактеризуем прошлое и будущее, то будем знать, что делать в настоящем, как правильно жить. Однако решение этой задачи наталкивается на множественность и неопределенность прошлого и будущего, поскольку их версиям и интерпретациям несть числа, а выяснить, какие же из них истинные, невозможно. С легкой руки Фукуямы пишут о конце истории, впору говорить и о «конце будущего». Но это всего лишь метафора, а вот что здесь можно помыслить рационально?
Я сам не раз писал о сложности и неопределенности современности и будущего, но тут как-то поймал себя на мысли, что мне вполне понятно, как устроен мир (ясен «порядок мира»). Подумал, может быть, дело в возрасте, вспомнил, что писал в своей последней книге Карл Юнг: «Тогда же, между 1918 и 1920 годами я начал понимать, что цель психического развития — самодостаточность. Не существует линейной эволюции, есть некая замкнутая самость. Однозначное развитие возможно лишь вначале, затем со всей очевидностью проступает центр». Не является ли мое ясное понимание того, как устроен мир — всего лишь проступившим возрастным «центром»?
Вероятно, нет, ответил я себе, ясность наступила у меня в результате проведенных многолетних исследований (истории, культуры, происхождения человека, науки и техники, философии, учений о космосе и ряда других областей знания). Причем каждое такое исследование начиналось с «проблематизации» (постановки проблем), т.е. с того, что мне было непонятным. В этом плане общая установка на проблематизацию позволяет предположить, что исходно, в соответствие с природой моей личности, все в этом мире для меня должно выглядеть непонятным. Однако после проведенных исследований мир удавалось «расколдовать», он становился понятным. Означает ли это, что я узнал, как он устроен на самом деле? Вряд ли, ведь мое знание мира отличается по ряду существенных моментов от знания многих других исследователей и философов. Кроме того, вероятно, прав Кант, утверждая, что мы не знаем, что собой на самом деле представляют «вещи в себе», кроме того, что их можно помыслить и начать изучать. Как на самом деле устроен мир — типичная «вещь в себе».
Тем не менее, факт, что в настоящее время строение мира для меня стало прозрачным и понятным. Кстати, в современную понятность входит и критерий неопределенности. Например, я не знаю, как на самом деле устроена Вселенная, но анализируя космологические учения, понял, что в настоящее время неопределенность в плане понимания ее строения и развития закономерна. Действительно, по отношении к Вселенной мы можем пробавляться только физико-математическими теориями, которые не в состоянии эмпирически проверить (т.е. доказать, что нам удалось построить модель Вселенной).
Хотелось бы понять, как получилось, что мне в основном все стало понятным, а также насколько мое знание может претендовать на истинное, т.е. считаться «модельным». Вроде бы на поставленный вопрос я могу получить ответ. Дело в том, что одно из направлений моих исследований — анализ творчества философов, ученых и художников (писателей). Проведя эти исследования, я понял, что творчество во многом обусловлено особенностями личности соответствующих мастеров, проблемами, которые они разрешали, сложившимися убеждениями и ценностями, присущими им способами мышления и деятельности (одни достались от учителей, другие выработаны самостоятельно), наконец, общением (реакцией и откликами на критику, обсуждением написанных произведений, вообще отношением читателей и пользователей).
Конечно, нужен еще талант, на что первым указал Платон, говоря об озарении (должен «просиять разум»), завершающем философское познание. «Для каждого из существующих предметов, — пишет Платон в седьмом письме, — есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень — это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе — определение, третье — изображение, четвертое — знание… Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах… Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки — имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека». Некоторых озарение посещает, и тогда мы считаем их талантливыми или даже гениями, других нет, несмотря на огромный затраченный труд.
Cтоит согласиться, что полученное в философии или науке знание, первоначально (иногда и дальше) значимо только для личности творца. Состоится ли оно как новое знание для других (понравится ли новое произведение зрителям в сфере искусства) еще большой вопрос. И только пройдя конкуренцию на понимание и эффективность, такое приватное знание и произведение получают шанс стать новыми и принятыми в лоно социального органона. В этом плане ясность в понимании мира для автора еще не означает, что он открыл для других, как устроен этот мир. Положение усугубляет одна особенность современной коммуникации в философии, науке и искусстве, она множественная и плюралистическая. Разные аудитории, разные критерии и концепции истины и прекрасного, возможность придерживаться своих убеждений, несмотря на их критику и отрицание другими.
Таким образом, ясность и понятность мира, которых я достиг в результате многолетних исследований, не означает таковых для моих читателей. Для них мои исследования станут настоящими знаниями о мире только в том случае, если эти знания будут признаны истинными и эффективными. А с этим в настоящее время очень непросто. Вот, скажем, те же космологические теории Вселенной. Кажется, они получены на основе строгих астрофизических наблюдений за звездами, галактиками, космическим пространством. Однако совершенно нет уверенности, что эти теории правильно описывают космическую реальность.
Философ Вадим Казютинский, посвятивший изучению космологических учений много лет жизни, показывает, что натурально как объект природы Вселенная нам не явлена («никакими эмпирическими средствами этот объект не выделен, в теории он задается экстраполяцией»), поэтому ни о каком решающем физическом эксперименте здесь нельзя говорить.
В этих теория вводится «антропный принцип», сближающий Вселенную с объектами гуманитарной науки («то, что мы ожидаем наблюдать должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей»). Считается, что Вселенная — физический объект, о чем ясно пишет Казютинский. «Согласно определению А.Л.Зельманова, — пишет Вадим Казютинский, — космология — это „физическое учение о Вселенной как целом, включающее в себя теорию всего охваченного астрономическими наблюдениями мира, как части Вселенной“».
Также считает и сам Казютинский, который говорит, что «при всем своеобразии объекта космологии он все же представляет собой физический объект». А что на самом деле? Больше аргументов, что это гуманитарное явление, относящееся как писали в начале XX столетия, к наукам о духе. Сближает космологические знания с гуманитарными и наличие разных космологических теорий, по-разному объясняющих одни и те же космические явления и наблюдения (что для гуманитарной науки вещь самая обычная). Кроме того, современные космологические эволюционные теории не имеет удовлетворительного числа подтвержденных на их основе предсказаний. Во многих случаях мы не знаем и строения космических явлений.
«Что происходит в ядрах галактик, — пишет Казютинский, — мы, по существу не знаем до сих пор… не увенчались пока успехом многочисленные и весьма изощренные попытки разрешить «парадокс массы». В соответствии с современными представлениями скопления галактик должны быть стационарными. Но для этого необходимо допустить, что 95—98% массы вещества Вселенной находятся в невидимом состоянии («скрытая масса»). Все попытки понять физическую природу скрытых масс пока «повисают в воздухе».
«Особенно нетерпима, — показывает Казютинский, — „проблема сингулярности“, в соответствие с которой, двигаясь назад к началу разбегания галактик, мы приходит в нулевую точку, где многие физические параметры (масса вещества, радиусы частиц и прочее) приобретают бесконечные или нулевые значения, теряя тем самым физический смысл».
Истолкование красного смещения как разбегания галактик — являющегося один из главных аргументов современной космологии, тоже не является единственным. А. Белопольский, например, объяснял его «старением фотонов», многие противники фридмановской теории именно красное смещение, хорошо объясняемое этой теории, рассматривали как раз как свидетельство ее ложности. Смущало исследователей и разные измерения красного смещения (постоянная Хаббла у разных авторов различается в десять раз) и открытие в космосе явлений, необъяснимых в этой теории (например, относительно недавно была обнаружена гамма-вспышка по своей мощности соизмеримая с мощностью Большого взрыва).
Подводя итог, Казютинский пишет, что «предложенная интерпретация Вселенной как целого находится в согласии с идеей множественности онтологических миров… Оправдалась основная идея автора — понятие Вселенной как целого действительно релятивно, а не относится к какому-то раз навсегда заданному физическую абсолюту». Напрашивается естественный вопрос: так Вселенная — это физический объект или «множество онтологических миров», и как все это надо понимать?
Таким образом, опираясь на космологические теории, нельзя понять, как устроена Вселенная, а принятая сегодня теория расширяющейся Вселенной — просто наиболее понятный и вмененный среднему читателю средствами массовой информации образ. Что в таком случае говорить о моих исследованиях, им противостоят, даже если это не декларируется, большое число философских учений о мире и человеке, объясняющих все иначе.
Но повторяю, в результате проведенных исследований, я понял, как в принципе устроен мир и человек. Более того, я уверен, полученное знание не просто «личностное» (т.е. в соответствие с концепцией Майкла Полани неявное, неартикулируемое в языке, воплощенное в телесных навыках, схемах восприятия, практическом мастерстве), а знание объективное, общезначимое, в значительной степени модельное. Модельное в том смысле, что, опираясь на него, я могу действовать практически, причем результат такой деятельности будет совпадать с тем, что я замыслил и ожидаю. По сути, именно это обсуждает в «Метафизике» Аристотель, утверждая, что для эффективного лечения необходимо правильно помыслить природу болезни. Когда, например, исследуя технику или науку, приписываю им определенные характеристики и особенности, я рассчитываю, что на основе полученных знаний можно действовать практически и эффективно (рассчитывать, не обязательно математически, и предсказывать). Например, показав, что второй старт науки и техники был связан с включением их в качестве средств в проект Ф. Бэкона «овладения природой», я смог обсуждать, современный кризис этих практик и предложить сценарий их обновления.
Но как убедить других, что полученное мною знание о мире объективное, общезначимое, модельное? У них свои исследования, свои критерии истинности и эффективности знания, своя поддержка в виде сообщества последователей, опубликованных статей и книг. На мой взгляд, выход один — отрефлексировать собственные исследования (т.е. осуществить «исследование исследований») и рассказать о них другим, тем, кто иначе рассматривает мир. А дальше начнется сравнение и обсуждение, в результате которых или будет принята картина мира автора, или — только что-то из нее, пусть даже немногое и с поправками (переосмыслением), или наоборот — эта картина будет раскритикована и отвергнута. Во всех случаях польза от этого будет.
Читатель может задать вопрос о том, каким образом автор понимает, что такое мир, ведь чтобы судить, стал ли он для него понятным, нужно понимать, что под миром подразумевается. Вернемся к высказыванию Адо об Эйнштейне. Очевидно, великий физик понимал мир как природу, подчиняющуюся законам естествознания. Поэтому для него в рамках точных наук все в мире должно быть понятным. И неважно, что он исследовал в основном Вселенную, думая, что все остальное, например социум, должен подчинялся тем же законам. «Научные исследования, — писал Эйнштейн, — могут уменьшить суеверие, поощряя людей думать и смотреть на вещи с точки зрения причины и следствия. Несомненно, это убеждение о рациональности и упорядоченности мира, которое сродни религиозному чувству, лежит в основе всех научных работ более высокого порядка». Это одно мировоззрение и позиция: мир един и подчиняется законам естествознания.
Но тот же Эйнштейн сомневался в возможности познания Вселенной. «Человеческий разум, независимо от того, как хорошо он обучен, не может понять Вселенную. Мы подобны маленькому ребёнку, зашедшему в огромную библиотеку, стены которой забиты книгами на разных языках до потолка. Ребёнок понимает, что кто-то должен был написать эти книги. Но он не знает, кто и как их написал. Он не понимает языков, на которых написаны книги. Ребёнок замечает определённый порядок этих книг, порядок, который он не понимает, но смутно представляет… Мы видим, что Вселенная устроена удивительно, подчиняется определённым законам, но мы понимаем эти законы лишь смутно. Наш ограниченный разум не способен постичь загадочную силу, которая качает созвездия». Это вторая позиция и мировоззрение.
Есть и третья, а именно, хотя, возможно, мир един, мы его можем познать только как множество относительно самостоятельных целостностей (реальностей). При этом каждая такая целостность, которой отвечает сложное познаваемое явление (Вселенная, человек, социум, наука, техника и др.), обусловлена нашими познавательными стратегиями (методологиями). В этом отношении эти целостности представляют собой объяснительные конструкции (концепции, знания), а не сами явления. Я сторонник этой третьей точки зрения, хотя начинал с первой. Мой учитель, Г. П. Щедровицкий в начале 60-х годов поставил передо мною задачу проанализировать происхождение античной геометрии («Начал» Евклида), идя от древнего производства (земледелия) как старта. При этом предполагалось, что будут выявлены этапы развития первой строгой науки (математики), которые должны быть обусловлены семиотическими и деятельностными закономерностями.
Следуя этим идеям, я смог проанализировать предпосылки античной геометрии. Но не смог понять становление самих «Начал» Евклида, пока не поменял методологию. Я понял, что семиотический и деятельностный подходы недостаточны, что надо предположить также смену целостности (не числовые и графические модели, позволяющие восстанавливать границы полей и рассчитывать преобразование площадей, а доказательства, опирающиеся на преобразование геометрических фигур и правила логики). Изменив методологию исследования, охарактеризовав новые процессы и объекты, я смог решить поставленную задачу. В дальнейших исследованиях я следовал новой методологии, предполагавшей в ситуациях, подобных указанной, смену целостностей и изменение стратегии и методологии исследования.
Автономность целостностей (исследуемых феноменов) не означает отсутствия связей между ними. Это могут быть предпосылки новых целостностей или их составляющие. Учитывая эти связи, можно выстроить следующий ряд целостностей, которые мы будем дальше рассматривать.
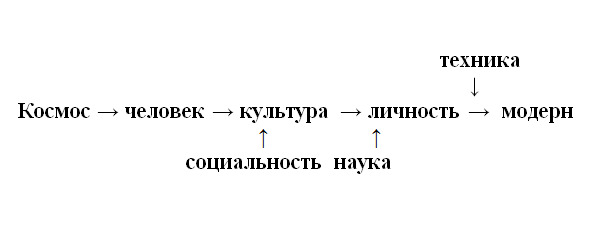
На самом деле я выделил и проанализировал значительно больше целостностей, чем обозначено на этой схеме (например, эзотерику, проектирование, образование и др.), но для демонстрации того, как я добивался понимания мира, этого будет вполне достаточно. Дальше план такой. В первой главе я изложу реконструкции четырех известных мыслителей (Платона, Канта, Эмануэля Сведенборга, Хайдеггера), чтобы показать, каким образом они вышли на понимание мира, а также как я их сам изучал. В следующих главах будет представлена реконструкция моих собственных исследований.
Глава первая. Примеры реконструкций, объясняющих мир и его строение
1. Платон
Оттолкнутся в реконструкции Платона, можно от его диалога «Пир». Говоря о реконструкции, я в данном случае реализую подход, разработанный и опробованный в других своих работах. Он предполагает, во-первых, «проблематизацию» изучаемого произведения, т.е. постановку и обсуждение проблем, встающих сегодня при чтении и осмыслении изучаемого философского произведения. Понятно, что эти проблемы должны быть связаны с задачами, которые хочет решить исследователь. Во-вторых, реконструкция включает в себя анализ времени и его вызовов, в контексте которых создавалось это произведение, на решение которых оно было направлено. В-третьих, предполагает обсуждение личности автора произведения (в данном случае Платона); но не вообще, а в плане того, какие характеристики данной личности проливают свет на интересующие нас сегодня проблемы. В-четвертых, необходим анализ основных ответов автора (Платона), на стоявшие перед ним вызовы времени, или, если сказать по-другому, реконструкция (в более узком смысле) основных способов его мышления. При этом эти способы лучше понимать не как уже сложившиеся, а скорее, как становящиеся, складывающиеся в творчестве автора произведения. Как правило, новое появляется именно в данных способах мышления.
До тех пор, пока мы не прочли комментарий А. Ф. Лосева к «Пиру», можно было думать, что речь в этом диалоге идет просто о любви. Но после прочтения встает проблема: как быть с разными значениями любви, какое предпочесть, или все сразу, но каким образом тогда понимать текст? Следующая проблема связана с уяснением того, чему, собственного говоря, посвящен «Пир». Кажется, что речь идет именно о любви, ведь все герои диалога рассказывают и рассуждают о любви. Кроме того, в истории философии это произведение многими исследователями так и воспринималось: именно диалог о любви. Если же иметь в виду современную науку, то «Пир» часто характеризуют, как самую первую попытку построить теорию любви (науку о любви). Но в комментариях к «Пиру» Лосев пишет совсем другое: «Что касается „Пира“, то Платон использует здесь по крайней мере одну очень важную возможность, а именно толкует идею вещи как предел ее становления… Вот это толкование идеи вещи как ее бесконечного предела и составляет философско-логическое содержание „Пира“… будучи поэтом и мифологом, будучи ритором и драматургом, Платон облек это вечное стремление вещи к пределу в то, что из всех бытовых областей больше всего отличается бесконечным стремлением, и стремлением максимально напряженным, а именно отнес его к области любовных отношений: любовь ведь тоже есть вечное стремление и тоже всегда имеет определенную цель, хотя и достигает ее весьма редко и ненадолго».
Получается, что любовь только материал для обсуждения совершенно другой темы — понятия предела. Правда, зачем тогда так много разговоров не на тему? И как быть с тем, что в истории философии «Пир» многими философами воспринимался именно как одно из первых решений проблемы любви? Кроме того, говоря о пределе, Лосев отождествляет современное математическое понимание предела с понятием предела, которым пользуется Платон. Но анализ показывает (смотри, например, исследования П.П.Гайденко), что Платон употребляет понятие предела и беспредельного, причем именно в такой связке, совершенно в другом смысле, чем об этом говорят в современной математике.
Однако Пьер Адо считает, что «Пир» — это разговор и не о любви и не о пределе, а о том, что такое философ. «Как и в „Апологии“, — пишет Адо, — теоретическая часть сведена здесь к минимуму: лишь на некоторых страницах, впрочем, чрезвычайно важных, речь идет о созерцании Прекрасного; в основном же диалог посвящен описанию образа жизни Сократа, который предстает как образец философа. Определение философа, сформулированное в ходе диалога, приобретает при этом наглядный смысл… По ходу диалога, и особенно в речах Диотимы и Алкивиада, в облике Эрота и Сократа появляются все новые и новые общие черты. И если под конец они и вовсе сближаются, то причина этого проста: и Эрот, и Сократ воплощают в себе, первый — в мифологической форме, второй — исторически, образ философа. Таков глубинный смысл диалога».
И действительно в «Пире» много подсказок, направляющих читателя к такому истолкованию. Это и прямо образ Эрота как философа («Ведь мудрость, — говорит Диотима, — это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот — это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, то есть любителем мудрости»), и приписывание любви таких характеристик, как рассудительность, благо, бессмертие, мудрость, и принижение обычного понимания любви, как страсти, влечения к женщинам, а также любви чувственной, наконец, возвышение образа Сократа (а кто, если не последний, олицетворял для Платона идею философа?).
Итак, мы обнаружили, по меньшей мере, три разных «глубинных смысла» платоновского «Пира» (а на самом деле их выявлено значительно больше). Кто же прав? А если в определенной мере все, то каким образом нам выйти к правильному пониманию «Пира»?
Перейдем к следующей проблеме: странному пониманию Платоном любви. Судя по литературе, в Древней Греции различались три разные формы (вида) любви: любовь между супругами («филиа»), любовь чувственная («эрос», ее по Платону символизирует Афродита вульгарная, земная) и любовь возвышенная (позднее христианская «Агапе»). Только любовь-филиа осуществлялась в рамках брака между мужем и женой. Чувственная любовь — это обычно любовь на стороне, к чужой жене, к наложнице, к проститутке (известна относящаяся к более поздней римской эпохе реплика наследника императора Андриана (II век) Элия Вера, адресованная законной жене: «Ясно, что я удовлетворяю свои страсти с другими: ведь понятие „жена“ обозначает почет, а не удовольствие»).
Изобретение Платона — любовь возвышенная, символизируемая Афродитой небесной, причем эта любовь противопоставляется любви обычной, которую Платон третирует и оценивает негативно. Те, кто по словам Платона следовали возвышенной любви, вдохновлялись не чувствами, а идеями красоты, блага, бессмертия. Кроме того, это чаще всего не любовь мужчины к женщине, а мужчины к мужчине, точнее, к прекрасному юноше. Наконец, Платон склоняется к мысли, что возвышенная любовь не требует брака и семьи, что брак ей, так сказать, противопоказан.
Завершить проблематизацию я хочу вопросом: каким способом участники диалога получают знания о любви. Они, конечно, рассуждают о любви. Но рассуждения только подготовка к получению новых знаний, последние получаются каким-то другим путем. А именно, сначала герои «Пира» рассказывают какие-то сказочки-мифы, например, об андрогинах.
«Прежде, — говорит Аристофан, — люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогины… Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов… И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними… Наконец, Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:…Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас… Итак, каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней женщины (андрогина женского пола. — В.P.), к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и лесбиянки принадлежат именно этой породе. Зато мужчин, представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и юношей, ибо они от природы самые мужественные».
А вот еще один нарратив о любви как «вынашивание духовных плодов», выглядящий как свежеиспеченный миф. «Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно — ведь есть и такие, которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, — беременны тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разумение и прочие добродетели… Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей бывает бессмертен, то именно он».
Потом, явно с опорой на эти странные построения, герои «Пира» дают определения любви, т.е. выводы из этих сказок делаются вполне серьезные. Например, закончив историю об андрогинах, Аристофан, как будто он что-то доказал, говорит: «Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь из-за нашей несправедливости, мы поселены богом порознь… помирившись и подружившись с этим богом (Эротом. — В.Р.), мы встретим и найдем тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается». Но разве сказка, очень похожая на миф, может выступать источником истинных знаний?
Интересно, что сам Платон старается ответить на поставленный нами вопрос (конечно, не буквально на наш вопрос, а, вероятно, он отвечал на похожие вопросы своих оппонентов). По сути, ответов два, но они связаны между собой. Во-первых, говорит Платон, сущность любви философ припоминает из своей прошлой жизни, когда его бессмертная душа созерцала идею любви на небе, отсюда своего рода озарение (вселившись в очередном рождении в любителя красоты и мудрости или ценителя любви, такая душа склонна припоминать прошлое). Во-вторых, припоминание любви предполагает построение рассуждения, в котором человек: именует любовь, изображает ее (вероятно, история об андрогине — это и есть такое изображение; но в общем случае Платон имеет в виду и геометрические построения), дает любви определения; и на основе всего этого он получает истинное знание. Вот оба объяснения, причем первое выводит нас на понимание Платоном мира.
«Души, называемые бессмертными, — читаем мы в „Федре“, диалоге, идущем прямо вслед за „Пиром“, — останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пределами неба… созерцают знание — не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание… Душа, видевшая больше всего, попадает в плод (эмбрион? — В.Р.) будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви».
В том же диалоге Платон пишет о двух видах способностей. «Первый — это способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения. Так поступили мы только что, говоря об Эроте: сперва определили, что это такое, а затем, худо ли, хорошо ли, стали рассуждать; поэтому-то наше рассуждение вышло ясным и не противоречило само себе».
Стало ли нам ясно, каким образом Платон получает новые знания о любви? Практически нет, поскольку созерцать вслед за Платоном идею любви современный человек вряд ли может. Второй ответ кое-что проясняет, например, как Платон мыслит, но не указывает источник самих новых знаний. Как Платон выходит на конкретные характеристики новой любви?
Платоновский вариант пифагорейского мировоззрения
Чтобы понять, на какие вызовы времени в «Пире» отвечал Платон, стоит охарактеризовать, с одной стороны, его влечения и склонности, с другой — самые главные влияния, которые на него оказали другие мыслители. Известно, что Платон был одним из учеников Сократа, судьба которого так поразила Платона, что он изменил весь свой образ жизни. Но Платон, судя по свидетельствам и изысканиям историков философии, впитал в себя и переосмыслил основные достижения сложившейся к его времени античной мысли: представления софистов, Гераклита, Парменида, пифагорейцев, мегарской школы, даже Демокрита. Перефразируя Лосева, Платон мог бы сказать о себе: «Мои воззрения? Платоновские! У меня свое. Я всех люблю, от всех беру и всех критикую».
Лосев в «Комментариях к диалогам Платона» пишет следующее: «Таким образом, к моменту встречи с Сократом в 407 г. до н. э. Платон, весьма талантливый молодой человек, жадно впитал в себя все последние достижения тогдашней цивилизации. Он — премированный гимнаст, борец и наездник. Он — музыкант и живописец. Он — поэт, т.е. эпик, лирик и драматург. Он общается с модными тогда философами-софистами, старательно изучает Гераклита, Парменида, пифагорейцев, Демокрита и многому у них учится… Надо полагать, что общественно-политические симпатии и антипатии Платона по-настоящему проявились только после встречи с Сократом. Вероятно, встретив Сократа, Платон пережил глубочайшую духовную революцию. С тех пор уже не слышно ни о его занятиях спортом, ни о художественных опытах, ни о связях с софистами. Ни о каком профессионализме в указанных областях теперь не могло быть и речи. Сократ в этой юной и талантливой душе все перевернул вверх дном. Для Платона началась новая эра: Сократ оказался для него незаходящим солнцем. Без изображения Сократа не обходилось теперь ни одно произведение Платона. Впоследствии возникла даже легенда, будто Сократ накануне встречи с Платоном видел во сне у себя на груди лебедя, который потом высоко взлетел с звонким пением, и будто на другой день после встречи с Платоном Сократ воскликнул: „Вот мой лебедь!“».
Однако для решения поставленных проблем я бы остановился на трех основных моментах. Первый: не просто симпатия к пифагорейцам, а принятие Платоном пифагорейского мировоззрения. Второй: влияние идей Парменида, который полемизирует с софистами и предлагает программу преодоления монблана противоречий, вполне сознательно нагроможденных софистами. Третий: действительно, реализация подхода Сократа, развитие его представлений и способов мышления. Остановимся на этих моментах подробнее, начав с первого.
Платон застает уже развитое пифагорейское учение, но оно складывалось значительно раньше — в период, когда, начиная с конца II тысячелетия до н. э., человек начинает сомневаться в поддержке богов.
Ты ведь стоишь на земле, замыслы бога далече…
Научишь ли бога ходить за тобой, как собаку?…
То он хочет от тебя обрядов, то «Не спрашивай бога!»,
То чего-то иного.
По-новому была осмысленна и безрадостная перспектива загробной жизни. Оказаться же на том свете одному и на вечные времена, без всякой поддержки со стороны богов — что может быть страшнее? Одно из следствий подобного развития событий — пессимистическое умонастроение, характерное для ранней античности. В стихотворении (VII — VI вв. до н. э.) к своему другу Меланиппу великий лирик Лесбоса Алкей пишет (перевод Вячеслава Иванова):
Что, Меланипп, обещает нам тризна плачевная?
Вправду ли мнишь, переплыв Ахеронта великий вир,
Некогда в теле воскреснуть и солнца небесного
Чистый приветствовать свет? Высоко ты заносишься!..
Не надейся же,
К мертвым сошед, преисподней покинуть обители.
Но кого здесь имеет в виду герой, отвергая надежду на воскрешение из мертвых? Вероятно, пифагорейцев, учивших, что есть три типа существ: смертные люди, бессмертные боги и существа, подобные Пифагору. Пифагорейцы и позднее Платон считали, что человек подобно герою, ведя особый образ жизни, близкий к героическому, может «блаженно закончить свою жизнь», т.е. преодолеть саму смерть, стать бессмертным. И именно в этом цель жизни мудрых (философов). На пути к бессмертию необходимо было, однако, совершить своеобразные подвиги: не только вести аскетический образ жизни, но и познавать мир на основе чисел и чертежей.
Был еще один важный момент, а именно вера пифагорейцев в своеобразную рациональную магию, позволяющую человеку, вставшему на эзотерический путь, кардинально изменить свою судьбу. Вспомним античный миф об Орфее и Эвридике. На первый взгляд, он полностью лежит в русле религиозно-мифологических представлений, ведь Эвридике так и не удалось вернуться на землю из темного царства Аида и тем самым исключением подтвердить закон, по которому смертному не суждено воскреснуть для новой жизни. Однако, основное содержание мифа не в этой очевидности для античного человека, а в другом. Во-первых, оказывается, что сила искусства Орфея столь велика, что даже в состоянии изменить законы бытия, которые в данном случае представляет бог Аид. Во-вторых, и поступок Орфея, решившего уговорить бога нарушить законы загробного мира, и поступок самого Аида, согласившегося это сделать, не укладываются в религиозно-мифологическую картину действительности, как она понималась в культуре древних царств. Так может поступать только личность, причем эзотерическая, уверенная, что она может общаться с богами и даже заставить их плясать под собственную дудку.
Важной личной проблемой для Платона является определение способа жизни, который позволяет встречать смерть спокойно, без страха. «Такой человек, — писал Платон о себе в третьем лице в „Послезаконии“, — даже восполнив смертью удел своей жизни, на смертном одре не будет, как теперь иметь множества ощущений, но достигнет единого удела, из множественности станет единством, будет счастлив, чрезвычайно мудр и вместе блажен». Ну и конечно, Платон хочет склонить своих слушателей, чтобы они приняли его концепцию души: будучи от природы принадлежащей миру богов, она, попав в темницу тела, забыла о своем божественном происхождении.
По сути, само понимание загробного бытия у Платона работает на его концепцию личности, не забудем, что главное, что должна сделать душа в царстве Аида, — осуществить правильный выбор своей судьбы. Но правильный выбор по Платону — это не одномоментный акт, а размышление, обдумывание своей прошедшей жизни, в конечном счете, как показывает анализ «Федона», «Пира», «Государства» и ряда других диалогов, правильный выбор предполагает сложную психотехническую работу («вынашивание духовных плодов», освобождение от уз тела и неразумных желаний, жизнь истиной, идеями и прочее).
Путь спасения — это путь правильного размышления
Однако каким образом человек может припомнить божественный мир и идеи? Пифагорейцы на этот вопрос отвечали так: познавая подлинный, т.е. созданный богами, мир с помощью чисел и чертежей. Платон принимает эту стратегию, соединяя ее реализацию с решением еще одной важной проблемой того времени — поиском способов непротиворечивого получения знаний в рассуждениях и познания сложный явлений.
Вспомним примененный Платоном метод познания любви, включающий отнесение разных представлений о любви к одной идее любви. Гайденко связывает этот метод с разработанным Платоном диалектическим методом, позволявшим строить то, что мы в современном научном языке называем «системой научных понятий». Однако Платон в своих исследованиях, естественно, говорит не о системе понятий (понятие системы возникло только в Новое время), а о «едином и многом». Чтобы понять, что Платон имеет в виду, необходимо пояснить его взгляды.
Платон, как известно, исходит из убеждения в существовании подлинного мира идей и другого, по сути неподлинного, мира вещей. Отношения между этими мирами непростое: хотя свойства идей и вещей противоположны (первые непротиворечивы, упорядочены, сакральны, вторые изменчивы и профанны), тем не менее, существование вещей оправдывается идеями, выступающими для вещей, как бы мы сегодня сказали, в виде идеалов или проектов.
Вышел Платон на такую «картину мира», разрешая ситуацию противостояния двух лагерей, сложившихся в греческой культуре — софистов и элеатов. И те и другие, рассуждая, пришли к совершенно разным выводам. Софисты были уверены, что познание и знание субъективны, что ничего определенно утверждать невозможно и относительно любой вещи можно получить любое знание, например, что движение существует и не существует, что мир возник и существовал вечно и т. п. Возражая против такого понимания, элеаты утверждали, что людям только кажется, что в мире что-то меняется, на самом же деле, говорили они, ничто не изменяется, а существует лишь тождественное самому себе целое. В поэме «О природе» Парменид пишет:
Люди о двух головах. Беспомощно ум их блуждает.
Бродят они наугад, глухие и вместе слепые…
Без сущего мысль не найти — она изрекается в сущем,
Иного не будет и нет: ему же положено роком —
Быть неподвижным и целым. Все прочее — только названья:
Смертные их сочинили, истиной их почитая….
«Платон, — пишет П. Гайденко, — полностью согласен с элеатами в том, что без наличия чего-то самотождественного (иначе говоря, без принципа тождества) невозможно никакое познание». И далее она цитирует Платона: «Не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он (человек. — П.Г.) не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения». То есть можно предположить, что одно из значений платоновских идей в том, что этим словом обозначены содержания, которые в рассуждениях сохраняют свою структуру. Для этого, говорит Платон в «Федре», и нужны определения, позволяющие следить за тем, чтобы рассуждающий имел в виду одно и то же, а не разное.
Аристотель в «Метафизике» пишет по поводу происхождения идей следующее: «Платон, усвоивши взгляд Сократа, по указанной причине признал, что такие определения имеют своим предметом нечто другое, а не чувственные вещи; ибо нельзя дать общего определения для какой-нибудь из чувственных вещей, поскольку эти вещи изменяются (однако для софистов именно изменение — исходный факт и реальность, а тождественность какого-то предмета и содержания является нонсенсом. — В.Р.). Идя указанным путем, он подобные реальности назвал идеями, а что касается чувственных вещей, то об них речь всегда идет отдельно от идей и в соответствии с ними; ибо все множество вещей существуют в силу приобщения к идеям… Но только Сократ общим сторонам вещи не приписывал обособленного существования и определениям — также; между тем сторонники теории идей эти стороны обособили и подобного рода реальности назвали идеями».
Действительно, уже Сократ показал, что ошибки в рассуждениях возникают потому, что рассуждающий по ходу мысли меняет или исходное представление или же переходит от одного предмета мысли к другому, нарушая, так сказать, предметные связи. Вот пример элементарного софистического рассуждения: «у человека есть козел, у которого есть рога, следовательно, у человека есть рога». Здесь в первой посылке связка «есть» — это одно отношение (имущественной принадлежности, то есть козел принадлежит человеку), а во второй — другое отношение (рога козла — это не его имущество, а часть его тела). Чтобы при подобных подменах и отождествлениях не возникали парадоксы, Сократ стал требовать, во-первых, определения исходных представлений (в данном случае нужно определить, что такое человек, козел и рога), во-вторых, сохранения (неизменности) в рассуждении заданных в определении характеристик предмета.
Если сравнить предмет, заданный в определении, с эмпирическим предметом (например, козу как собственность и козу как таковую), то легко заметить, что первый предмет — это идеальное построение. У эмпирической козы почти бесконечное число свойств (коза — это животное, существо с четырьмя ногами, дающее молоко, приплод, шерсть и т. д. и т. п.), а у козы как собственности свойств несколько. Кроме того, в природе, вообще-то говоря, такой козы не существует, хотя она начинает существовать в рассуждении и мысли человека. Иначе говоря, создавая определение, человек именно приписывает козе определенные контролируемые в рассуждении свойства, то есть конструирует «идеальный объект» (это понятие в Новое время было введено в философии науки).
Трудно переоценить заслугу Пифагора, Сократа и Платона, запустивших указанный процесс идеализации. Эти философы предложили подчинить рассуждения и познание правилам, которые бы сделали невозможными противоречия и другие затруднения в мысли (рассуждения по кругу, перенос знаний из одних областей в другие и др.), а также позволили бы с помощью рассуждений получать знания о различных явлениях (родах бытия). Необходимое условие этих революционных предложений — построение идеальных объектов и замена ими эмпирических явлений. Параллельно решались еще две задачи: правила мышления должны были способствовать получению в рассуждениях и познании только таких знаний, которые можно было бы согласовать с обычными знаниями (то есть вводился критерий опосредованной социальной проверки), кроме того, правила должны были быть понятными и приемлемыми для остальных членов античного общества.
Итак, Платон был пифагорейцем и одновременно принимал взгляды Парменида. Для него обычный мир вещей выглядел предельно противоречивым. Платон стал искать сущее, на которое можно было опереть правильную мысль. Он берет у Парменида идею о самотождественности сущего, но не согласен с тем, что сущее одно, ведь знания получаются о разных вещах и разных их сторонах. Следуя подсказке Сократа, требовавшего для преодоления противоречий строить определения, Платон приходит к мысли, что предметы, заданные определениями — это как раз то, что ему нужно. С одной стороны, они самотождественны (если рассуждающий в своей мысли строго придерживается определений), с другой — для разных задач можно давать разные определения одного и того же или разных вещей. Именно такие предметы, заданные определениями, Платон и называет идеями (но это только один из смыслов этого фундаментального понятия).
Мир, заданный определениями, выглядел антиподом обычному миру: был упорядочен, непротиворечив, самотождественен. Судя по результату, в конце концов, Платон сообразил (решил), что мир идей и есть подлинный мир. И Платона можно понять: он был уверен, что боги не могли создать противоречивый и меняющийся мир. Теперь Платону нужно было ответить на еще два вопроса: что такое обычный мир и как понимать спасение?
Как Платон осознает свою миссию? Он должен улучшить мир, в том числе найти способ получения непротиворечивых знаний. Если мир идей непротиворечив и благ (упорядочен и сакрален), а обычный мир противоречив и не благ (в нем царят несправедливость и непорядок, что Платон неоднократно подчеркивает), то задача состоит в переделке обычного мира по образу и подобию мира идей. Именно так эту задачу Платон и формулирует позднее в «Государстве». В этом смысле, говоря, что вещи существуют по приобщению к идеям, Платон думает, что обычный мир и вещи можно перестроить, внеся в них порядок и благо.
Для осмысления в новом ключе спасения Платону потребовалось больше сил. Выше мы уже кратко упоминали платоновскую концепцию припоминания. Стоит отметить, что, создавая ее, Платон скрещивает по меньшей мере три разных линии. Первая: идущая от орфиков картина переселения душ, только теперь начальный и конечный пункты движения душ в цикле воплощения размещаются: первый — на небе в мире идей, а второй — на земле в мире вещей. Вторая линия: двойная трактовка души: с одной сторона, душа ведет себя вполне традиционно, совершая естественный путь в цикле переселения, переходя из одного тела в другое, но, с другой — она действует как полноценная личность, осуществляя выбор, размышляя, рефлексируя свою прошедшую жизнь. Третья линия: представление о том, что нужное движение души, обеспечивающее припоминание мира идей, совершается за счет деятельности человека и правильной жизни, под которой понимается жизнь философа, при этом центральное звено в деятельности философа, по Платону, — это правильное, непротиворечивое размышление.
В свою очередь, реконструкция показывает, что, говоря о размышлении, Платон имеет в виду, как рассуждение, так и познание. Хотя, с современной точки зрения, это два разных вида деятельности, судя по всему, Платон их не различает, подобно тому, как и сегодня многие логики склеивают эти явления. Платону казалось, что познание (размышление) и рассуждения — это примерно одно и то же. Только у Аристотеля они начинают расходиться, но только начинают. По-настоящему эти виды деятельности обособились в новом времени, где рассуждения изучает формальная логика, а познание — философия (сегодня эпистемология). Но для нашей реконструкции стоит различить рассуждения и познание уже на уровне работ Платона и его предшественников.
Установка на познание складывается потому, что античная личность хочет понять, что существует на самом деле (что есть «сущее», «бытное» вещей, как говорил Парменид), ведь сущее она рассматривает как условие своего спасения. Последнее понимание просматривается в следующих рассуждениях Платона: «Когда душа ведет исследование сама по себе, она направляется туда, где все чисто, вечно, бессмертно, и неизменно, и так как она близка и сродни всему этому, то всегда оказывается вместе с ним, как только остается наедине с собой и не встречает препятствий. Здесь наступает конец ее блужданиям, и в непрерывном соприкосновении с постоянным и неизменным она и сама обнаруживает те же свойства. Это ее состояние мы называем размышлением». Однако что Платон понимает под размышлением? Не только правильный способ получения знания о подлинной реальности, но и непротиворечивые рассуждения, причем он не обсуждает их различие (может быть, Платон и чувствовал это различие, но понятийно артикулировать его еще не мог).
Иначе говоря, задачу спасения (понимаемую не религиозно, а в плане «мирского эзотеризма») главные участники нового дискурса (Сократ, Парменид, Платон, Аристотель) связали с познанием, понимаемым, однако, как получение знаний о сущем путем рассуждений. Чем же отличается познание от рассуждения? И там и там результат — получение нового знания. Но в рассуждении оно получается на основе других знаний за счет их преобразования.
Познание, конечно, тоже строится на основе каких-то знаний, но не это главное. Для познания более важно не преобразование знаний или конструирование, а определение того, какие знания брать или получать в рассуждении, чтобы они адекватно описывали (представляли) изучаемое явление (например, ту же любовь). Здесь сразу задается оппозиция «знание — изучаемое явление» и важно понять метод (по-гречески, «путь»), позволяющий получить правильные знания. Поскольку элеаты правильность знания связали с непротиворечивостью, им казалось, что познание и рассуждение это одно и то же. Возможно отчасти Платон все же должен был чувствовать указанное различие, ведь идеям помимо непротиворечивости он приписывал и другие характеристики (порядок, схватывание «бытности» и сущности явления, оппозицию вещам). «Пир» Платона, можно сказать, был одним из первых удачных примеров познания сложного явления.
В заключение этого сюжета стоит вернуться к характеристике платоновских идей. Выше у нас получилось, что идеи у Платона — это своеобразная логическая норма правильного рассуждения, поскольку они тесно связаны с определениями. Но идеи в диалогах Платона чаще характеризуются как сущее, другими словами, подлинный мир, по Платону, состоит из идей. Будем эту вторую характеристику идей называть онтологической. Можно указать и третью характеристику, назовем ее условно телеологической или навигационной: идеи — это путь к спасению: уясняя идеи, философ припоминает мир, который душа созерцала до рождения, и тем самым обретает бессмертие. Наконец, еще один смысл: для Платона идеи — это само актуальное бытие, правильная жизнь. В результате четыре основные характеристики: логическая (идеи самотождественны, упорядочены, непротиворечивы), онтологическая (это «кирпичики бытия»), навигационная (идеи указывают путь к спасению) и витальная (идеи не просто схема, характеристики бытия, а оно само).
Любовь как родовое начало и любовь для личности
Любовь, как мы ее понимаем архетипически, становится именно в Древней Греции. Рим здесь лишь продолжает греческую традицию. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что в Древней Элладе расцвели три разных «цветка» — любовь в семье и браке, любовь-страсть и платоническая любовь.
Любовь в браке основывалась на вере в богов любви. Читая греческую любовную лирику, а также мифы, все время наталкиваешься на одну и ту же картину: чтобы возникла любовь, нужно внешнее действие — или богини любви Афродиты или ее сына, бога любви Эрота. Этот момент подчеркивается самим способом возникновения любви — Эрот должен поразить человека стрелой из своего лука. Любовь — это не действие и усилие самого человека, а то, что ему посылается, то, что захватывает его как огонь охапку сухих дров.
Любовь-страсть — это античный эквивалент внебрачных половых отношений предыдущей архаической культуры, но здесь сценарий любви-охоты превращается в сценарий любви-состязания. Любовь-страсть выделяется в самостоятельный вид, поскольку она не укладывалась в ролевую структуру отношений в семье и браке, по сути, разрушала брак. Исследования показывают, что в Греции и Риме процветали адюльтер, институт гетер, проституция. Чужая жена, гетера, проститутка или просто свободные от брака члены общества (например, юноши, вдовы) смело могли вступать в любовно-страстные отношения. Судя по всему, и в Греции, и в Риме любовь в браке в сексуальном отношении воспринималась как обыденная, интимные отношения — скорее как гигиенические, чем страстные, приносящие наслаждение и человеческое удовлетворение. Характерны слова императора Андриана (II век), адресованные своей жене: «Ясно, что я удовлетворяю свои страсти с другими: ведь понятие „жена“ обозначает почет, а не удовольствие». Правда, за удовольствия и наслаждения нужно было платить: или жертвой в храме (например, в Риме была богиня Наслаждения и ее храм), или опасностью, постоянно подстерегавшей возлюбленных.
Теперь, что вело к платонической любви, точнее на какой вызов времени помимо двух рассмотренных выше (как жить, чтобы достигнуть спасения, а также каким образом получить непротиворечивые знания?) отвечал Платон, создавая «Пир»? Дело в том, что становящаяся античная личность типа Сократа или Платона не могла любить по родовому сценарию. Античный человек, хотя и верит в богов, часто вынужден действовать сам, принимать самостоятельные решения в необычных ситуациях, должен соображать, чтобы не проторговаться, чтобы получить больше, а отдать меньше. Успешно делать все это, не осознавая в определенной мере себя, свои действия, не фиксируя отрицательный и положительный опыт, просто невозможно.
Мишель Фуко обращает внимание еще на одно обстоятельство, уже прямо выводящее нас к новому типу греческой индивидуальности. Он показывает, что условием политической деятельности, процветавшей в Древней Греции, как и отчасти самого познания (философии), было формирование новой индивидуальности античного человека, что отразилось в концепции epimeleia/cura sui («заботы о себе»). Забота о себе, по мнению Фуко, включает в себя, в частности, и заботу о своей душе и заботу о теле, причем связь между заботой о себе и любовными взаимоотношениями Фуко называет эротикой. Наконец, Фуко делает два очень важных для нашей темы вывода, а именно: платоновская традиция характеризуется тем, что «забота о себе» в греческой культуре и дальше «обретает свою форму и свое завершение в самопознании» и это самопознание ведет к признанию «божественного начала» в человеке. «Познать самого себя, познать божественное начало, узнать его в себе, — пишет Фуко, — это, я полагаю, является основополагающим в платоновской и неоплатоновской форме „заботы о себе“».
Взглянем с точки зрения этих представлений на родовую любовь, одинаково — любовь-страсть или любовь в браке. Родовая любовь является внешней, привходящей в том смысле, что не человек приходит к любви, а любовь к нему, она его охватывает, проникает в него, зажигает. В этом смысле человек не субъект любви, а ее объект. Идеал же Платона — забота человека о себе, сознательная работа, нацеленная на свое изменение, преобразование, преображение. То есть полная противоположность родовой любви. Далее, например, любовь-страсть — это именно страсть, состояние, противоположное разуму, познанию, самопознанию (недаром Афина Паллада вышла прямо из головы Зевса и неподвластна Афродите и Эроту), в этом состоянии человек все забывает — и себя и богов. Опять же она — полная противоположность идеям Платона о том, что забота о себе, включая, естественно, любовные отношения, обретает свою форму и завершение в самопознании, что самопознание так же, как и любовь, должно привести к открытию, обнаружению в человеке божественного начала. А раз так, любовь-страсть — это не путь к Благу, не забота о себе. Приходится, к сожалению, если следовать концепции заботы о себе, расстаться и с любовью к женщине. Почему? Да ведь именно с этой любовью для античного человека ассоциируется, с одной стороны, страсть (адюльтер, любовь к гетере или проститутке), с другой — обыденность, деторождение, семейные проблемы и претензии (любовь к супруге).
Короче говоря, становящаяся античная личность, действующая разумно, пытающаяся сознательно строить свою жизнь, не могла следовать обычному родовому сценарию любви. Но и не любить она тоже не могла.
Построение схем — ключ к реконструкции «Пира»
Итак, о чем же «Пир»? О новой любви, спасении или правильном размышлении (мышлении)? Приведенные выше взгляды комментаторов «Пира» исходили из предположения, что можно выявить один единственный смысл данного произведения. Вспомним, например, как писал Адо: «Таков глубинный смысл диалога». Однако известно, что любой текст допускает несколько интерпретаций и прочтений, в зависимости от интереса, который преследует исследователь, а также его средств. Так мы уже обнаружили, по меньшей мере, пять глубинных смыслов «Пира»: этот диалог о новой любви, о пределе, о жизни философа, о спасении, о способе правильного, непротиворечивого размышления. Можно ли сказать, что из этих пяти смыслов какой-то один является основным, остальные производные или второстепенные? Вряд ли. Действительно, существуют аргументы в пользу каждого из указанных здесь смыслов. Больше всего в «Пире» речь идет о любви, и мы поняли, что такая проблема должна была волновать Платона, поскольку он был личностью, точнее шел по этому пути. И о пределе могла идти речь, ведь на самом деле жизнь философа и любовь, как их понимает и конституирует в «Пире» Платон, представляла собой стремление к благу и бессмертию, которые можно истолковать как символическое понимание «предела правильной жизни». Можно согласиться и с тем, что в «Пире» есть много указаний и подсказок, чтобы склонить слушателя (читателя) к пониманию диалога не только как рассказа о возвышенной, духовной любви, но и как картины и наставления, касающегося правильной жизни, жизни философа и спасения (последние три экзистенциальные содержания, как сегодня пишут в рекламе, все в одном флаконе). Относительно же важности темы правильного размышления (речи) о любви Платон сам говорит в «Федре».
Вывод один: реконструкция «Пира» должна быть ориентирована на осмысление всех пяти указанных смыслов. Теперь вопрос, каким образом Платон отвечал на вызовы своего времени? Если бы об этом спросили самого Платона, то он, как уже отмечалось, вероятно, утверждал бы, что эти характеристики он получил, припоминая идею любви, которую затем оформлял в речи и с помощью определений. Я также упомянул, что в данном случае по понятным причинам мы последовать за Платоном не можем. Припомнить, какую любовь наша душа созерцала в предыдущем рождении на небе, можно лишь в том случае, если бы мы полностью разделяли учение Платона, да к тому же обладали необходимыми для подобного припоминания мистическими способностями и талантом.
Однако ситуация не безнадежная, мы уже говорили, что определения у Платона опираются на нарративы, например, рассказываются истории об андрогинах и вынашивании духовных плодов. Сравнивая определения любви с этими нарративами, можно заметить, что именно последние выступают основанием для основных характеристик определений. Платон называет построенные им нарративы «схемами» (изображениями), говоря в «Тимее», что это своеобразные копии (модели) идей. Таким образом, можно предположить, что необходимым условием построения определений у Платона выступают схемы, именно с их помощью он и создает определения. Следующий вопрос, что такое схемы и как они создаются? А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» пишет следующее.
«Первой такой структурной разновидностью можно считать платоновскую schéma, которая является по преимуществу количественно-смысловой конструкцией. Имеются в виду отдельные части, которые комбинируются в нечто целое и, в зависимости от количественной характеристики этой комбинации, порождают из себя то или иное новое качество. Яснее всего и проще всего такая количественно-смысловая конструкция наблюдается на геометрических фигурах… В устах Платона термин «схема» получает универсальное значение, потому что он применяется не только к мусическому искусству (Legg. III 700b) или к мифам (Tim. 22с), но даже и к законам (Legg. IV 718b) и к политическому устройству (R.P. VI 501а, Legg. V 737d). Встречается также выражение «силенообразная схема» в отношении наружности Сократа (Conv. 216d).
Схема («правдоподобный миф»), утверждает Платон в «Тимее», — это не идея (не объект, сказали бы мы), а то, что сходно с идеей. Другими словами, схема по Платону подводит нас к идее, в ней идея задается, но как бы не до конца. Чтобы идея стала идеей, сказал бы Платон, нужно еще совершить прыжок: от «правдоподобных рассуждений» нужно перейти к собственно мышлению и познанию. Конкретно, для Платона показателем познания выступает определение. Если определение найдено, то идея задана, и можно быть уверенным, что наша мысль и рассуждения непротиворечивы.
В своих работах я показываю, что схемы нужно отличать от знаков. Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова — «обозначение» и «значение», например, некоторое число как знак обозначает то-то (скажем, совокупность предметов), замещает такой-то предмет (эту совокупность) в плане количества. «Приступая теперь к исследованию о знаках, — пишет один из первых семиотиков св. Августин, — я говорю наоборот: пусть никто в них не обращает внимание на то, что есть, а только на то, что они суть знаки, т.е. что они означают. Ибо знак есть вещь, которая воздействует на чувства, помимо вида (species), заставляя приходить на ум нечто иное… И у нас только одна причина для обозначения, т.е. для придания знака — вынуть и перенести в душу другого то, что производит в душе то, что создает знак».
У схемы другие ключевые слова — «описание», «средство» (средство организации деятельности и понимания), «образ предмета». Например, мы говорим, что схема метро описывает пересадки и маршруты движения, помогает понять, как человеку эффективно действовать в метрополитене; именно схема метрополитена задает для нас образ метро как целого.
Схема представляет собой двухслойное предметное образование, где один слой (например, графический образ метро) замещает другой (метрополитен как структура движения пассажиров — входы и выходы, линии движения, пересадки). Схемы выполняют несколько функций: помогают понять происходящее, организуют и переорганизуют деятельность человека, собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности, создают условия для новой деятельности.
Появляются (изобретаются) схемы в ситуациях, где стоят проблемы; именно с помощью схем эти проблемы удается разрешить, при этом складывается новый объект (реальность). Необходимым условием формирования схем является означение, то есть замещение в языке одних представлений другими. В этом смысле схема вроде бы является одним из видов знаков, однако, главное в схемах — это не возможность действовать вместо обозначаемого объекта, а разрешать проблемы, задавать новое видение и организовывать деятельность. Если мы делаем акцент на новом видении, то знаковая функция схемы выступает только как условие схематизации. Тогда схемы не могут быть поставлены в один ряд со знаками. В этом случае схемы — самостоятельная реальность, скорее эпистемологическое образование, о чем пишет Кант. Если же акцент делается на значении, то схема — это действительно сложный знак со всеми вытекающими из этого последствиями.
От схем нужно отличать квазисхемы. «На языке тупи, — пишет классик культурологии Э. Тейлор, — солнечное затмение выражается словами: „ягуар съел солнце“. Полный смысл этой фразы до сих пор обнаруживается некоторыми племенами тем, что они стреляют горящими стрелами, чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи. На северном материке некоторые дикари верили также в огромную пожирающую солнце собаку, а другие пускали стрелы в небо для защиты своих светил от воображаемых врагов, нападавших на них. Но рядом с этими преобладающими понятиями существуют еще и другие. Караибы, например, представляли себе затмившуюся луну голодной, больной или умирающей… Гуроны считали луну больной и совершали свое обычное шаривари со стрельбой и воем собак для ее исцеления».
Поскольку человек еще не осознает природу схем и не строит их сознательно, лучше подобные семиотические образования назвать именно «квазисхемами». Квазисхемы в архаической культуре (и в значительной степени и в последующих) задают сразу три грани явления: языковое выражение (нужно было изобрести сам нарратив, например, «ягуар съел солнце» или «луна умирает»), понимание того, что происходит (диск солнца уменьшается, потому что его съедает ягуар), наконец, уяснение того, что надо делать (отгонять ягуара; а там и глядишь, скоро затмение прекращается — ягуар отпускает солнце; то есть архаический человек убеждался в эффективности своего понимания). Этот синкретизм трех основных образований — языка, коммуникации и деятельности, очевидно, выступает условием разрешения проблем, с которой периодически сталкивались архаические племена (например, когда начиналось затмение, они испытывали страх и ужас и не знали, что делать).
Первые схемы появляются только в античной культуре. В «Пире» Платон вполне сознательно строит схемы и на их основе дает различные определения любви. Чего не скажешь об остальных философах. Во времена Платона мифы еще воспринимались многими как знание о реальности, т.е., с нашей точки зрения, как квазисхемы. Но некоторые философы уже начали пересматривать эту традицию, считая мифы всего лишь правдоподобными построениями человека. Говоря в «Тимее» о том, что знания, полученные на схемах, это «правдоподобные мифы», Платон демонстрирует свою приверженность ко второму, пока еще немногочисленному сообществу.
Особенности реальности, которую Платон создает на основе схем
На первый взгляд, может показаться, что каждая схема в «Пире» создается для решения одной задачи, а именно, дает ответ на вполне определенный вызов времени. Так схема двух Афродит (простонародной, вульгарной и возвышенной, небесной) призвана была блокировать традиционные, родовые представления о любви как действия богов и страсти. Вероятно, Платон понимал, что новые представления, адресованные другим, не могут быть поняты и усвоены, если не будут выведены из игры (блокированы) существующие взгляды.
Назначение схемы андрогина — переключить любовь с родового понимания на новое, ориентированное на личность, которая должна сама выбирать возлюбленного (возлюбленную) и стремиться к целостности, т.е., с одной стороны, стремиться к предельной реализации своих принципов, с другой — к божественной жизни (точнее, к той жизни, когда душа созерцала на небе богов и идеи).
Другую задачу решает схема вынашивания духовных плодов. Именно на ее основе Платон конституирует реальность спасения: цель спасения — приведение души к припоминанию божественного мира идей, способ спасения — с одной стороны, третирование обычной жизни и любви-страсти, с другой — стремление к прекрасному, благу и бессмертию.
Наконец, схема Эрота как порядка и блага, организовавших космос, должна объяснить силу и эффективность мудрости, которой обладают философы и не только они — врачи, жрецы, музыканты и т.д..
Но только на первый взгляд, схемы монофункциональны. При более внимательном чтении мы замечаем, что каждая схема отвечает не на один вызов времени, а на два-три. Действительно, как, например, Платон трактует любовь. Любовь — это не только поиск своей половины и стремление к целостности, но и дружба между возлюбленным и любящим, причем такая, где любящий ведет (воспитывает) возлюбленного и, отчасти, самого себя; это и разумное начало (стремление к мудрости, рассудительности, долгу, справедливости); это и преодоление страстных, обыденных влечений («нескромности»), столь характерное для философской жизни.
Обратим внимание, при таком истолковании любовь понимается не только как реальность, позволяющая любить личности (выбирать возлюбленного отвечающего личностным принципам и устремлениям), но и как реальность, обеспечивающая спасение за счет философской жизни и размышлений. Подобные интегрирующие размышления Платон называет диалектикой. «Я, Федр, — говорит Сократ, — и сам поклонник такого различения и обобщения — это помогает мне рассуждать и мыслить. И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я гоняюсь — „следом за ним по пятам, как за богом“. Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас диалектиками».
Подчеркивая в «Пармениде» связь единого и многого, говоря в седьмом письме о «взаимной проверке — имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов», Платон обращает наше внимание на ту особенность своей работы, которую в наше время можно понять, обращаясь к системному подходу. Но сам Платон здесь говорит о диалектике, имея в виду то, что он строит схемы, разрешая не одну, а все свои основные проблемы («возводя к единой идее то, что повсюду разрозненно»), добиваясь, как он пишет, непротиворечивости знания, а фактически приписывая содержанию реальности, заданной в отдельных схемах такие характеристики, которые, во-первых, могут быть согласованы между собой, и, во-вторых, задают единую непротиворечивую реальность.
Если принять предложенную здесь реконструкцию, то получается, что представление о мире, на которое выходит Платон, довольно сложное. Это и деление на две реальности — «подлинный мир» (неба, идей, богов, блага) и «неподлинный» (земной). И концепция «спасения» путем «припоминания» философом подлинного мира. И реальность «платонической любви». Наконец, «диалектика» как способ спасения и правильного рассуждения-познания.
Вместо заключения — несколько слов, касающихся нашего замысла: рассказать и продемонстрировать, каким образом мы понимаем ясность (порядок) мира. Данная реконструкция позволяет высказать предположение (убеждение), что понимание мира, на которое выходит философ и, вероятно, любой мыслящий человек, складывается в результате реализации его личности, перипетий жизненного пути (с кем он встретился, кто на него повлиял, в какие передряги попадал; например, известно, что Платон пытался повлиять на диктаторов и чуть не попал в рабство), какие проблемы решал и каким образом, в чем особенности его творчества. Глядя на Платона догадываешься, что и собственное понимание мира, обусловлено сходными факторами.
Можно ли предложенную реконструкцию считать объективной, представляющей модельное знание (т.е. гуманитарной моделью жизни Платона, моделью не всеобщей, а контекстуальной, обусловленной методологией авторского исследования). Эта методология первоначально сформировалась под влиянием образцов мышления, которые я получил от своего учителя, философа Г. П. Щедровицкого, и в дальнейшем, после выхода из Московского методологического кружка (аббревиатура ММК), развивалась мною самостоятельно. Убеждение в правильности реконструкции личности и творчества Платона окрепло для меня также в результате исследований формирования античной культуры, философии, науки и техники, где результаты данной реконструкции помогали формулировать правильные гипотезы. Главные способы моей работы в рамках указанной методологии следующие: «генезис» (культурно-историческая реконструкция), «семиотический анализ» (прежде всего схем), «соотносительный» и «диспозитивный» анализы (см. книгу «Природа и генезис техники»).
2. Кант
Если для Платона сущность мира во многом задает правильно понимаемая любовь, то для Канта — Разум. Что мне непонятно в «Критике чистого разума»? Прежде всего, что Кант понимает, говоря о разуме? Далее, преодолевая подходы Лейбница и Локка, он пишет о двух источниках познания — чувственном восприятии и априорных представлениях. «Всякий опыт, читаем мы, — в «Критике чистого разума», — содержит в себе кроме чувственного созерцания, посредством которого нечто дается, еще и понятие о предмете, который дан в созерцании или является в нем; поэтому в основе всякого опытного знания лежат понятия о предметах вообще как априорные условия… <…>
Одним словом, Лейбниц интеллектуализировал явления, подобно тому, как Локк согласно своей системе ноогонии (если так можно выразиться) сенсифицировал все рассудочные понятия, считая их лишь эмпирическими или отвлеченными рефлективными понятиями. Вместо того чтобы видеть в рассудке и чувственности два совершенно разных источника представлений, которые, однако, только в сочетании друг с другом могут давать объективно значимые суждения о вещах, каждый из этих великих философов ратовал лишь за один из источников познания, относящийся, по их мнению, непосредственно к вещам в себе, а другой источник считал или запутывающим, или приводящим в порядок представления первого».
Если это два совершенно разных источника представлений, то, спрашивается, каким образом они могут сочетаться и давать истинное знание? Кроме того, это открытие самого Канта или оно им было заимствовано от других мыслителей?
Следующее недоумение относится к своего рода диалектической трактовке Кантом «вещи в себе», рассудка и разума: их смыслы неоднозначны, задаются определениями, которые содержательно выглядят как несовпадающие или даже противоположные. Вещь в себе — источник знания, и в то же время мы о ней ничего не можем сказать (она не «является» и следовательно, вроде бы «непознаваема»). Рассудок и разум выглядят как способности индивида, отображаются на науку и философию, задаются, в том числе, через нормы мышления (правила, категории, идеи), понимаются также и как составляющие самого разума (разум направляет рассудок).
«Мы можем, — пишет Кант, — познавать предмет не как вещь в себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, то есть как явление». При этом, поясняет: «у нас всегда остается возможность если и не познавать, то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи в себе. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является».
«Если рассудок есть способность создавать единство явлений посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам… подобно тому как мы назвали чистые рассудочные понятия категориями, мы обозначим новым термином также и понятия разума, а именно назовем их трансцендентальными идеями…».
Разум «никогда не направлен прямо на опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, чтобы с помощью понятий а priori придать многообразным его знаниям единство, которое можно назвать единством разума и которое совершенно иного рода, чем то единство, которое может быть осуществлено рассудком… применение разума только регулятивное, и цель его — вносить насколько возможно единство в частные знания…».
Еще один вопрос касается типа рациональности, которого Кант придерживается. С одной стороны, он вроде бы мыслит рационально (научно), но с другой — прибегает к сакральным представлениям, например, правда, осторожно (употребляя выражение «как если бы», «прообраз»), отождествляет разум с Творцом. «Как если бы совокупность всех явлений (сам чувственно воспринимаемый мир) имела вне своего объема одно высшее и вседовлеющее основание, а именно как бы самостоятельный, первоначальный и творческий разум, в отношении к которому мы направляем все эмпирическое применение нашего разума в его наибольшей широте так, как если бы сами предметы возникли из этого прообраза всякого разума»).
Наконец, хотелось бы понять общий замысел построения «Критики чистого разума». Почему именно критика и метафизика, а не новая концепция философии, в каком смысле разум чистый? Начнем именно с последней проблемы — с уяснения общего замысла.
Кант довольно ясно обрисовал замысел построения своего произведения. «Я полагал бы, — пишет он, — что пример математики и естествознания, которые благодаря быстро совершившейся в них революции стали тем, что они есть в настоящее время, достаточно замечателен, чтобы поразмыслить над сущностью той перемены в способе мышления, которая оказалась для них столь благоприятной, и чтобы по крайней мере попытаться подражать им… не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предположения, что предметы должны сообразоваться с нашим познанием, — а это лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны… Что же касается предметов, которые мыслятся только разумом, и притом необходимо, но которые (по крайней мере, так, как их мыслит разум) вовсе не могут быть даны в опыте, то попытки мыслить их (ведь должны же они быть мыслимы) дадут нам затем превосходный критерий того, что мы считаем измененным методом мышления, а именно что мы а priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими».
Итак, нужно последовать «примеру математики и естествознания», но что, спрашивается, Кант в этих примерах увидел? Ну, во-первых, смог выйти на гипотезу о приоритете априорных форм (понятий) над чувственными (над простым опытом и наблюдениями). «Но свет, — пишет Кант, — открылся тому, кто первый доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам а priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим сообразно его понятию» [6, с. 84—85].
Действительно, например, анализ работы Галилея «Беседы», которую Кант знал и продумывал, показывает, что Галилей, исследуя свободное падение тел, сформулировал ряд положений, полученных не из наблюдений и точных измерений, а исходя из других соображений. Гипотезу о том, что траектория летящего снаряда представляет собой параболу, Галилей просто предположил (из опыта такое знание в то время получить было невозможно). Утверждение, что скорость падающего тела растет равномерно, следовало не из наблюдений (да и как такое можно увидеть), а в силу того, что для изображения свободного падения тел Галилей заимствует от средневекового логика Николая Орема модель прямоугольного треугольника (в этой модели отрезки внутри прямоугольного треугольника, параллельные его высоте, изображали скорости движения, а основание треугольника — время движения или же пройденный путь; поскольку треугольник прямоугольный, приходилось предположить, что скорость падающего тела растет равномерно). Положение о том, что для равномерного движения не нужна сила, что она тратится только на изменение скорости (увеличение или уменьшение ее) следовало из того же оремовского треугольника. Действительно, вес падающего тела не менялся, а скорость падения росла, в результате приходилось отвергнуть утверждение Аристотеля, что без контакта и силы движение невозможно, и считать, что в данном случае сила расходуется только на увеличение скорости, а также, что если бы движение было равномерное, оно бы продолжалось бесконечно без всякой силы (как стали потом говорить «по инерции»). Из оремовского треугольника следовало положение и о том, что все тела должны падать с одинаковой скоростью, поскольку в данной модели были всего два параметра — время и скорость, а параметр веса отсутствовал. Хотя положение, что «… причина различной скорости падения тел различного веса не заключается в самом их весе, а обусловливается внешними причинами — главным образом сопротивлением среды», Галилей получил, обобщая опытные наблюдения, гипотеза — «если бы устранить сопротивление среды, то все тела падали бы с одинаковой скоростью» — представляла собой чистое предположение (cм. подробнее).
Как мы видим, Галилей убедил Канта в том, что знания о вещах (природе) получаются не из наблюдений, точнее наблюдения имеют место, но не они главное в процессе познания. Знания получаются на основе математических соображений и логических аргументов (предположений); и то и другое Кант отнес к априорным представлениям.
Из работы Галилея можно было вынести еще одно представление, а именно, что начинается познание с чувственного ее восприятия, которое еще не открывает сущность изучаемого явления, однако, заканчивается познание получением истинного знания, показывающего, что исходное понимание явления, и полученное в результате познания, не совпадают. На это указывала логика исследования Галилея и эксперимент. Только эксперимент (особенно Торричелли, ученика Галилея) позволил окончательно утвердиться в положении, что все тела независимо от веса падают с одинаковой скоростью. Если начальные наблюдения скорее подтверждали закон, установленный Аристотелем (что скорость падающего тела пропорционально его весу), то галилеевский эксперимент показывал другое. Осмысляя различие знаний о познаваемых вещах вначале, где скорее имело место наблюдение, и в конце исследования, когда в рамках эксперимента обычная природа приводилась в соответствие с ее математическим описанием, Кант, вероятно, и выходит на различение просто вещей (явлений), и «вещей в себе».
Интересно, что для Галилея, вероятно, не было проблемы уяснения природы и обусловленности своего познания, он был уверен, что таким источником выступает математика. «Но если человеческое понимание рассматривать интенсивно и коль скоро под интенсивностью разумеют совершенное понимание некоторых суждений, то я говорю, что человеческий интеллект действительно понимает некоторые из этих суждений совершенно и что в них он обретает ту же степень достоверности, какую имеет сама Природа. К этим суждениям принадлежат только математические науки, а именно геометрия и арифметика, в которых божественный интеллект действительно знает бесконечное число суждений, поскольку он знает все. И что касается того немногого, что действительно понимает человеческий интеллект, то я считаю, что это знание равно божественному в его объективной достоверности, поскольку здесь человеку удается понять необходимость, выше которой не может быть никакой более высокой достоверности». Я показываю, что такое понимание математики и познания было навеяно Николаем Кузанским.
Не стоит понимать дело так, что Кант переносит в философию методы естествознания, редуцируя философское мышление к мышлению математическому и естественнонаучному. Нет, он понимает их различие, говоря, что «философское познание есть познание разумом посредством понятий, а математическое знание есть познание посредством конструирования понятий», что следование в философии математическому методу «не может дать никакой выгоды», что математика и философия «совершенно отличны друг от друга и поэтому не могут копировать методы друг у друга». Опыт математиков, Галилея и других ученых нового времени Кант осмысляет в рамках философии, для решения собственно философских проблем.
Это проблема не только реформирования метафизики («Неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собой, — пишет Кант, — давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику»), но и необходимость разрешить антиномии разума, касающиеся Бога, души и бесконечности Вселенной. И проблема уяснения источников познания, здесь Кант критикует концепции Лейбница, Юма и Локка. Анализ «Критики чистого разума» показывает, что для Канта проблемой выступает и понимание общего строения органона знания: соотношение философии и науки, специфика математического и естественнонаучного мышления, роль логических правил, понятий и категорий и др. Сложной проблемой является и определение природы разума по отношению к рассудку, но особенно по отношению к Богу. «Я не могу, — пишет Кант в предисловии ко второму изданию» — следовательно, даже допустить существование Бога, свободы и бессмертия для целей необходимого практического применения разума, если не отниму у спекулятивного разума также его притязаний на трансцендентные знания, так как, добиваясь этих знаний, разум должен пользоваться такими основоположениями, которые, будучи в действительности приложимы только к предметам возможного опыта, все же применяются к тому, что не может быть предметом опыта, и в таком случае в самом деле превращают это в явления, таким образом объявляя невозможным всякое практическое расширение чистого разума. Поэтому мне пришлось ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере, а догматизм метафизики, т. е. предрассудок, будто в ней можно преуспеть без критики чистого разума, есть истинный источник всякого противоречащего моральности неверия, которое всегда в высшей степени догматично».
Каким же образом Кант разрешает эти проблемы? Чтобы это понять, стоит обраться к концепциям Аристотеля и Николая Кузанского, судя по всему, оказавших большое влияние на методологию и представления Канта. О влиянии Кузанского интересно пишет Л. В. Ципина, говоря, что «проекты, предложенные Кузанцем и Кантом, можно расценить как эпохальные, меняющие оптику восприятия самих познавательных процедур». На Аристотеля Кант прямо ссылается, говоря, что он, отвечая на вызовы своего времени, продолжает дело Стагирита.
Аристотель был первым философом, который в «Метафизике» вводит понятие разума в качестве деиндивидуального образования: это и «перводвигатель» и живое божественное существо. «Так вот, от такого начала зависит мир небес и <вся> природа. И жизнь <у него> — такая, как наша — самая лучшая, <которая у нас> на малый срок… При этом разум, в силу причастности своей к предмету мысли, мыслит самого себя… и умозрение есть то, что приятнее всего и всего лучше. Если поэтому так хорошо, как нам, богу — всегда, то это изумительно: если же — лучше, то еще изумительней». В работе «О душе», напротив, речь идет о том, что мы сегодня называем индивидом, и Стагирит обсуждает отношение души к телу, а также способности индивида (ощущение, воображение, мышление). Кажется, вот перед нами схема двух источников, которые через бездну исторического времени обсуждает Кант. «Одним словом, — делает вывод Пиама Гайденко, — в основе философии Канта лежит противоположность эмпирического индивида и его сверхчувственного „я“, тела (чувственность, страдательность, пассивность) и духа (рассудок, деятельность, активность), гетерономии — определения чем-то другим и автономии — самоопределения».
Но подобный вывод относительно Аристотеля был бы поспешным. Дело в том, что он, положив разум как деиндивидуальное начало и душу как индивидуальное, не обсуждает, как они связаны друг с другом (можно только догадываться, что индивид в лице философа следует разуму, если мыслит правильно, в том числе если мыслит движения, происходящие «по природе»).
Кузанец в отличие от Аристотеля не только вводит указанные два источника познания, но и обсуждает, как они связаны. Первое, деиндивидуальное начало в его системе — Бог, второе — чувства, ум и душа человека. Связаны они отношениями управления и детерминации (Бог направляет ум, но при условии, что чувства доставляют душе эмпирический материал, причем, работа ума представляет собой «концепирование»). «Итак, — говорит Кузанец устами своего героя „Простеца“, — наименования даются благодаря движению рассудка. Именно, рассудок движется вокруг вещей, подпадающих под ощущение, и производит их различение, согласование и разделение, так что в рассудке нет ничего, чего раньше не было в ощущении… Подобно тому, как зрительная способность души не может получить осуществления, то есть действительно видеть, если не будет возбуждена объектом, — а она не может быть им возбуждена, если ей не противостоят чувственные образы, размноженные в органе чувства, и, таким образом, она нуждается в оке, — так и способность ума — а это способность к восприятию и пониманию вещей, — не может получить осуществления, если не будет возбуждена чувственным, и не может прийти в возбуждение без посредствующих чувственных представлений». Другой герой «Философ» задает вопрос: «откуда ум имеет эту силу суждения?»
«Он имеет ее, — отвечает Простец, — на основании того, что он есть образ первообраза всех вещей; а первообраз всех вещей есть Бог… А ум и есть живое описание вечной и бесконечной мудрости. Но в наших умах его жизнь поначалу подобна сну, пока он благодаря удивлению, которое вызывают в нем чувственные вещи, не придет в возбуждение и не выйдет из неподвижности, и тогда движение его разумной жизни откроет ему, что искомое уже описано в нем самом. Но это описание ты должен понимать как отражение первообраза всего».
«Я, — говорит Простец, — назвал ум способностью концепировать. Поэтому, если он возбужден, он движется, создавая концепции, пока не достигнет понимания».
Кант опирается на обе рассмотренных здесь картины реальности, но естественно, осмысляет их по-новому, в рамках новой реальности и объекта познания — «разума». Я долго ломал голову, пытаясь понять, как он понимает разум. Выглядит очень непонятно и противоречиво, хотя Кант пишет об этом таким образом, как будто само собой понятно, что такое разум, как если бы разум находился перед нашими глазами. Действительно, разум напоминает собой особую природу. Кант говорит, что реформу метафизики надо осуществлять, «опираясь на вечные и неизменные законы самого разума», а вечные и неизменные законы в тот период философы приписывали именно природе. Разум, по Канту, это система правил логики, категорий и трансцендентальных идей, и непонятно, как эта характеристика соотносится с предыдущей. Разум ведет себя как субъект, «выходит за пределы опыта», «впадает в противоречия», «осуществляет синтез». Разум есть целостность, он стремится осуществить «систематичность познания, то есть связь знаний согласно одному принципу». Философы говорят от имени разума самого разума. Посредством разума в регулятивной модальности говорит Господь. И это еще не все.
Туман рассеялся, когда я сообразил, что Кант понимал разум культурологически, идя вслед за просветителями. У самого Канта этого нет, но неокантианцы такое понимание прописали хорошо. «Культура для просветителей, — пишет Вадим Межуев, — синоним нравственного, эстетического, интеллектуального, в широком смысле — разумного совершенствования человека в ходе его исторического развития… Данная идея вносила в историческое познание представление о порядке, связанности и последовательности исторического процесса, усматривая их прежде всего в духовной сфере… она заключала в себе понимание особенностей существования и развития человека в границах прежде всего европейской истории».
Для Канта смысл европейской культуры задается идеями Разума, Свободы и Морали, он надеялся, что победа этих начал, работа над их культивированием и приведет человечество к культурному состоянию. «В соответствии со своим высшим назначением, — пишет Альберт Швейцер, — философия является руководителем, который направляет наш разум в общем и целом… Но в час погибели страж, который должен был предупредить нас, заснул, и мы не смогли бороться за нашу культуру» (цит. по). Процитировав Швейцера, Кассирер дальше спрашивает: «Существует ли в действительности нечто, подобное объективной теоретической истине, имеется ли в природе то, что прежние поколения считали идеалами нравственности и человечности? Существуют ли объективно некоторые общие этические требования, связывающие всех людей поверх представления об индивидуальности, государстве, национальности? В эпоху, когда возникают такие вопросы, философия не может стоять в стороне, безгласная и бесполезная… ни раздражение, ни даже скептицизм не могут уменьшить внутреннюю энергию и идеалообразующую силу философии. И благодаря тому, что она сохраняет в себе эту силу в неприкосновенности и чистоте, можно надеяться, что с его помощью она снова будет оказывать соответствующее воздействие на жизнь людей и на события внешнего мира».
Что-то похожее на сказанное и стояло перед глазами Канта, и этот объект он и хотел помыслить по-новому, реализуя установку на метафизику как науку («если метафизика вступит благодаря этой критике на верный путь науки»). Я написал «объект», это требует пояснения. Разум как объект — это в моем осознании, а для Канта — скорее реальность, которую он мыслил как то, что существует на самом деле, что должно стать предметом осмысления и реформирования, но реальность еще неясная в плане своего строения. Однако эта реальность, назовем ее «непосредственной», являлась несколькими своими представлениями (видами), которые могли помочь в прояснении ее строения. Во-первых, это известное деление на философию и науку с убеждением Канта, что философия направляет научное познание. Во-вторых, указанные выше два источника познания и различие объектов (вещей) в начале и в конце исследования, выявленные из анализа работ Галилея и других ученых. В-третьих, очевидное для Канта единство двух миров (природы и Творца, разума и духа) с ощущением того, что он как философ работает на разум, что не избавляет Канта от задачи «ограничить знание, чтобы освободить место вере».
Опираясь на эти проявления и очевидности, Кант разрабатывает методологию, позволяющую понять, как конкретно устроен разум. Формально дело выглядит так, что он связывает разными отношениями все стоящие перед его глазами предметы. Но если не формально, то за данными отношениями стоят разные способы мышления. Для прояснения строения разума, Кант изобретает разные стратегии мысли (многие из них были осмысленные потом как методы). Вероятно, чистый разум — это разум, строение которого стало понятным в результате философского осмысления. Рассмотрим некоторые из этих стратегий.
Сначала, как Кант понимает критику разума. Кузанец, считая невозможным прямо исследовать Бога и его творения, разработал метод подобий, главным инструментом которого является математика. «Все наши мудрые и божественные учители, — пишет он, — сходились в том, что видимое поистине есть образ невидимого и что Творца, таким образом, можно увидеть по творению как бы в зеркале и подобии… Поскольку разыскание ведется все-таки исходя из подобий, нужно, чтобы в том образе, отталкиваясь от которого мы переносимся к неизвестному, не было по крайней мере ничего двусмысленного; ведь путь к неизвестному может идти только через заранее и несомненно известное. Но все чувственное пребывает в какой-то постоянной шаткости ввиду изобилия в нем материальной возможности. Самыми надежными и самыми для нас несомненными оказываются поэтому сущности более абстрактные, в которых мы отвлекаемся от чувственных вещей, — сущности, которые и не совсем лишены материальных опор, без чего их было бы нельзя вообразить, и не совсем подвержены текучей возможности. Таковы математические предметы».
Для Канта как протестанта Бог существует в его душе, точнее его присутствие и влияние можно понять только косвенно через поступки и действия человека. Если человек ведет себя разумно и морально, вероятно, Бог с ним. «Принцип автономии разума, — пишет Уколов, — берет свое начало в мистическом опыте присутствия Бога внутри человека. Как мистика, так и рационализм основываются на субъективном внутреннем опыте. Можно сказать, что рационалистическая автономия развилась из мистической автономии, из мистического представления о внутреннем свете». Увидеть и убедиться в том, что Бог с тобой, невозможно, поэтому, отождествляя разум с Творцом («высшим и вседовлеющим основанием»), Кант говорит: «как если бы», и рассматривает возможное присутствие Бога в душе человека не более чем сознательный выбор самого человека. Осуществляя подобный выбор, человек становится совершеннолетним, личностью. «Это, — пишет позднее Кант, — не что иное, как личность, то есть свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем как способность существа, которое подчинено особым, а именно данным его же собственным разумом, чистым практическим законам… Моральный закон священен (ненарушим). Человек, правда, не так уж свят, но человечество в его лице должно быть для него священно».
Кант переосмысляет и способ познания трансцендентальных представлений: не подобия и математика, а продумывание условий мыслимости, рефлексия оснований познания, ведь если через нас действует разум, то добраться до него можно только посредством рефлексии. Это и есть критика разума. «Если неведение случайно, — замечает Кант, — то оно побуждает нас в первом случае к догматическому исследованию вещей (предметов), а во втором случае — к критическому исследованию границ нашего возможного познания. Если же наше неведение безусловно необходимо и потому освобождает нас от всякого дальнейшего исследования, то это можно установить не эмпирически, путем наблюдения, а только критически, путем отыскания первоисточников нашего познания… необходим еще третий шаг, возможный лишь для вполне зрелой способности суждения, в основе которой лежат твердые и испытанные с точки зрения их всеобщности максимы; этот шаг состоит в том, что не фактам разума, а самому разуму дается оценка с точки зрения всей его способности и пригодности к чистым априорным знаниям. Это не цензура, а критика разума, посредством которой не только угадываются, но доказываются на основе принципов не только пределы, а определенные границы разума, не одно лишь неведение в той или другой области, а неведение во всех возможных вопросах определенного рода».
Теперь другие стратегии. На первый взгляд, проблему связи двух разных источников познания Кант решает очень просто — вводя посредник, обладающий частично свойствами обоих. «Ясно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, с другой — с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным». Однако дальше оказывается, что этот посредник — трансцендентальная схема определяется Кантом не предметно, а через синтезирующую деятельность воображения. «Схема треугольника, — пишет Кант, — не может существовать нигде, кроме как в мысли, и означает правило синтеза воображения в отношении чистых фигур в пространстве… Схема же чистого рассудочного понятия есть нечто такое, что нельзя привести к какому-либо образу; она представляет собой лишь чистый, выражающий категорию синтез сообразно правилу единства на основе понятий вообще, и есть трансцендентальный продукт воображения».
Получается, что Кант вводит реальность, обладающую одновременно онтологическими и деятельностными характеристиками (если категории и явления относятся к онтологии, то синтез и воображение — к деятельности). Не следует ли здесь Кант вслед за Аристотелем, который точно также двояко характеризует категории. С одной стороны, категории — это своеобразные «кирпичики» бытия, с другой — правильные действия человека. Например, определяя категории «вид» и «род», Аристотель пишет, что «вид есть подлежащее для рода, ведь роды сказываются о видах, виды же не сказываются о родах. Значит, еще и по этой причине вид в большей мере сущность, чем род». Предположим, мы берем совершенный силлогизм — «все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен». Здесь, по Аристотелю, люди — род, а Сократ — вид. Действительно, от рода к виду приписывать («сказывать») можно (люди смертны и Сократ тоже, люди — разумны и Сократ разумен, люди имеют две ноги и Сократ и т.д.), а наоборот нельзя (Сократ имеет сварливую жену Ксантиппу, но люди нет и пр.). Если рассматривать вид и род как характеристики реальности, — это онтология, если же — как правило рассуждений, то это относится к деятельности человека. Кант просто доводит мысль Аристотеля до логического конца.
Возможно, Аристотель подсказал Канту и способ связи рассудка и разума с их средствами и продуктами, т.е. правилами, категориями и идеями. В работе «О душе» Аристотель определяет мышление следующим образом: «Мышление о неделимом относится к той области, где не может быть лжи. А то, где встречается и ложь и истина, представляет собой соединение понятий <…> Ошибка заключается именно в сочетании… А соединяет эти отдельные [представления] в единство ум». Но спрашивается, в каком случае «не может быть лжи»? Стагирит отвечает: в том случае, если рассуждающие будут пользоваться правилами и категориями, которые сформулированы в его работах. Получается, что мышление предполагает следование этим правилам и категориям. По сути, аналогичный ход делает Кант: рассудок и разум предполагают следование правилам, категориям и идеям.
Аристотель прямо не пишет, что мышление — это способность человека, поскольку понятие души не предполагало такую характеристику, но фактически получалось, что именно мышление как способность имеет дело с правилами и категориями. Кант не был связан понятием «душа», поэтому истолковывает мысли Аристотеля в духе способности, оперирующей нормами мышления. Он пишет, что «наш разум (рассматриваемый субъективно как познавательная способность человека) содержит в себе основные правила и принципы своего применения, имеющие вид вполне объективных основоположений; это обстоятельство и приводит к тому, что субъективная необходимость соединения наших понятий в пользу рассудка принимается нами за объективную необходимость определения вещей в себе».
Важной стратегией, широко применяемой в «Критике чистого разума», выступает прием проецирования способов мышления передовых философов на разум (приписывание разуму способностей, перенесенных с мыслящих индивидов). Такой ход не должен вызывать удивление, учитывая, что, по Канту, Бог в душе человека, разум в регулятивном плане и есть Бог, а философ — разум разума. Например, Кант переносит на разум способность построения системы научных знаний, заимствованную им у Э.Б. де Кондильяка. Последний в работе «Трактат о системах» утверждает, что науки о природе создаются на основе принципов, число которых должно быть сведено к минимуму (в идеале к одному). «Здесь к принципам (principes) отнесены: общие предложения, признаваемые несомненно истинными; предположения (гипотезы); наконец, предложения, констатирующие факты. Во всех трех случаях принципы — это исходные, основные предложения (суждения, мысли), на которых покоятся и на основе которых в конечном счете объясняются все прочие предложения той или иной системы. Но Кондильяк нередко обозначает словом principes не суждения, а объективно существующие причины, или первопричины. Кроме того, principe у него часто употребляется в смысле „начало“ (как синоним франц. commencement). Наконец, иногда это слово означает у Кондильяка „закон“… Интеллектуальное интуитивное знание („ясная идея“), которое сам Кондильяк называет априорным, признается здесь бесконечно более достоверным, чем опытное, апостериорное знание». Система Кондильяка — это и есть организация знаний науки о природе, удовлетворяющая логике и требованиям познания (исходные начала, законы, а также минимизации принципов).
Проецируя эти представления на разум, Кант приписывает последнему «систематичность» и стремление свести основные принципы разума к минимуму. Естественно, что при этом переосмысляются и основные понятия: система как организация знаний о природе, отнесенная к разуму, насыщается его активностью и смыслообразованием, обратное же воздействие системы на разум ведет к его структурированию и новому пониманию целостности. Системные представления и понятия Канта еще далеки от современных понятий в системном подходе, но первый шаг уже сделан.
«Рассматривая все наши рассудочные знания во всем их объеме, — пишет Кант, — мы находим, что то, чем разум совершенно особо располагает и что он стремится осуществить, — это систематичность познания, то есть связь знаний согласно одному принципу. Это единство разума всегда предполагает идею, а именно идею о форме знания как целого, которое предшествует определенному знанию частей и содержит в себе условия для априорного места всякой части и отношения ее к другим частям».
Кроме того, на основе трактовки разума как «систематического единства», Кант выстраивает методологию и понятия («целого», «функции», «анализа и синтеза», «связи», «обусловленности»); другими словами, Канта можно считать зачинателем новой дискурсивности. Особенность этой дискурсивности как методологии состоит в приоритете синтеза над анализом (замышления и проектирования над разработкой) и стремлении, анализируя отдельные стороны явления, учитывать целое.
«Наши представления должны быть уже даны раньше всякого анализа их, и ни одно понятие не может по содержанию возникнуть аналитически. Синтез многообразного (будь оно дано эмпирически или а priori) порождает прежде всего знание, которое первоначально может быть еще грубым и неясным и потому нуждается в анализе; тем не менее именно синтез есть то, что, собственно, составляет из элементов знание и объединяет их в определенное содержание». «Отсюда видно, что при построении умозаключений разум стремится свести огромное многообразие При этом предыдущие формы техники знаний рассудка к наименьшему числу принципов (общих условий) и таким образом достигнуть высшего их единства… разум имеет отношение только к применению рассудка, и притом не поскольку рассудок содержит в себе основание возможного опыта…, а для того, чтобы предписать ему направление для достижения такого единства, о котором рассудок не имеет никакого понятия и которое состоит в соединении всех действий рассудка в отношении каждого предмета в абсолютное целое».
Еще одна стратегия, оказавшая большое влияние на всех последователей Канта, — это «выяснение условий мыслимости». Суть ее в том, что, получив представление (знание) о каком-нибудь предмете, ставится вопрос о выяснении условий, неявное соблюдение которых и позволило это знание получить (т.е. задача сформулировать эти условия как явные). В свою очередь, ставится вопрос о выяснении уже понятых условий и т. д. По сути, это прием познания, позволяющий включить данный предмет в более широкое целое и тем самым идти к выяснению того целого, которое и нужно исследовать. Ведь до тех пор, пока не будет нащупано подобное целое, познание явления будет ориентировочным, представляя собой предварительный поиск. Вот два примера: первый — выяснение условий созерцания и действия рассудка (ими, по Канту, оказывается «самосознание» или представление о «синтетическом единстве апперцепции»).
«В самом деле, — пишет Кант, — многообразные представления, данные в некотором созерцании, не были бы все вместе моими представлениями, если бы они не принадлежали все вместе одному самосознанию… иными словами, только в силу того, что я могу постичь многообразное [содержание] представлений в одном сознании, я называю все их моими представлениями; в противном случае я имел бы столь же пестрое разнообразное Я (Selbst), сколько у меня есть сознаваемых мной представлений… «синтетическое единство апперцепции есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, даже всю логику и вслед за ней трансцендентальную философию; более того, эта способность и есть сам рассудок».
Второй пример — выявление методом «выяснения условий мыслимости» ряда феноменов («от психологии, к космологии и от нее к познанию бога», если начинаем с анализа, и, наоборот, от Бога, мира, души, если — с синтеза); именно этот ряд, считает Кант, составляет целостность разума. При этом, он показывает, что переход от условий к условиям регулируется в том числе правилами логики. «В своем логическом применении, — разъясняет Кант, — разум ищет общее условие своего суждения (вывода), и само умозаключение есть не что иное, как суждение, построенное путем подведения его условий под общее правило (большая посылка). Так как это правило в свою очередь становится предметом такой же деятельности разума и поэтому должно искать условия для условия (посредством просиллогизма), восходя настолько, насколько это возможно, то отсюда ясно, что собственное основоположение разума вообще (в его логическом применении) состоит в подыскивании безусловного для обусловленного рассудочного знания, чтобы завершить единство этого знания. Но это логическое правило может сделаться принципом чистого разума только при допущении, что если дано обусловленное, то вместе с тем дан (то есть содержится в предмете и его связях) и весь ряд подчиненных друг другу условий… нельзя не заметить, что между самими трасцендентальными идеями существует определенная связь и единство и что чистый разум посредством их приводит все свои знания в систему. Продвижение от знания о самом себе (о душе) к познанию мира и через него к познанию первосущности столь естественно, что кажется подобным логическому продвижению разума от посылок к заключению».
Думаю, рассмотренного здесь материала достаточно для уяснения источников исторических влияний и особенностей дискурса «Критики чистого разума». У нас не было цели рассмотреть все источники и стратегии, мы решали более скромную задачу — продемонстрировать подход и опыт реконструкции данного философского произведения. Подход методологический и культурно-исторический. Опыт основан на реконструкции творчества Эммануила Канта, реконструкции, объясняющей основные особенности становления и строения «Критики чистого разума». Как реконструкция наше исследование тоже открыто для критики.
Я не утверждаю, что Кант сводил мир к разуму, но он хотел, что бы философия и разумная жизнь европейского человека были конституированы в соответствие с природой разума, а сам разум в соответствие с замыслом чистого разума.
3. Эммануэль Сведенборг
Два слова о научной и духовной карьере Сведенборга. Окончив Упсальский университет, Сведенборг, с одной стороны, занимается математикой, естественными науками и философией, достигая на этом поприще значительных успехов, с другой — поступает на службу к шведскому государству как инженер и, выражаясь современным языком, как экономический советник. Его научные и инженерные труды были оценены шведским правительством, и королева Ульрика Элеонора возвела его в 1719 г. в дворянское достоинство. Позднее (в 1846 г.) ряд журналов Англии, Франции и Америки сравнивали изданные Сведенборгом труды с «Математическими началами натуральной философии» И. Ньютона и обращали внимание на то, что «он первый ввел в свое отечество познание дифференциального исчисления».
Начиная с 1709 года, когда была защищена его академическая диссертация, вплоть до 1745 года Сведенборг трудится, не покладая рук, беря одну научную высоту за другой. В пятьдесят пять лет Сведенборг уже опубликовал примерно двадцать пять томов исследований по минералогии, анатомии и геометрии. И вдруг, он слагает с себя обязанности государственной службы. На самом деле не вдруг, а в связи с одним событием.
«Этим событием, — пишет Хорхе Луис Борхес, рассказывая о Сведенборге и мире, на который тот вышел, — было откровение… В Лондоне какой-то незнакомец шел за ним по улице и, войдя в его дом, назвал себя Иисусом Христом. Он сказал, что Церковь приходит в упадок, подобно еврейской церкви перед приходом Христа, и что Сведенборг должен обновить ее, создав третью церковь, церковь Иерусалима. Сведенборгу будет позволено посетить мир иной, мир духов с бесчисленным количеством небес и адов».
Сведенборг решил целиком посвятить себя духовной миссии — рассказать всем в предчувствии конца света о том, как правильно понимать Священное писание, каким образом устроены небеса и ад, и каков путь человека после смерти. Сведенборг уверен, что он призван Богом помочь верующим спастись в эти последние времена.
«Тайны, открываемые на следующих страницах, — пишет Сведенборг, — относятся к небесам и аду и к жизни человека после его смерти. Ныне человек церкви едва ли что знает о небесах и об аде и о жизни своей после смерти, хотя обо всем этом писано в Слове. Даже многие принадлежащие к церкви все это отрицают, говоря себе: кто оттоль приходил и рассказывал?».
«Мы, — продолжает Борхес, — всегда довольно туманно представляем себе мир иной, но Сведенборг говорит нам, что на самом деле все наоборот; ощущения там становятся более яркими. Например, там больше красок. Сведенборг пишет, что ни ангелы, ни демоны не были созданы Богом такими, какие они есть. Ангелы — это люди, возвысившиеся настолько, что стали ангелами, демоны — люди, павшие столь низко, что стали демонами. Таким образом, и рай и ад населены людьми, ставшими теперь ангелами и демонами. Бог никого не приговаривает к аду. Бог хочет, чтобы спаслись все люди»…
Итак, перед нами три мира. Умерев, человек попадает в мир духов, а затем, через какое-то время, одни заслуживают рая, другие заслуживают ада. На самом деле ад управляется Богом, ибо Бог поддерживает равновесие. Сатана — просто название одной из областей ада. Демоны постоянно меняют свой вид, ведь ад — мир заговоров, где все ненавидят друг друга и объединяются только для того, чтобы на кого-нибудь напасть…
Разумеется, Сведенборг верил в спасение делами. Делами не только духа, но и ума. Это спасение разумом. В раю Сведенборга ангелы главным образом ведут теологические диспуты, беседуют друг с другом. Но рай также полон любви. Там заключаются браки. Все, что ни есть чувственного в этом мире, есть и в раю. Сведенборг ни от чего не отказывается, ничего не обедняет.
В настоящее время существует сведенборгианская церковь. По-моему, где-то в Соединенных Штатах они построили хрустальный собор. Эта церковь имеет несколько тысяч последователей в Соединенных Штатах, в Англии, особенно в Манчестере, в Швеции и Германии. Отец Уильяма и Генри Джеймсов был сведенборгианцем. Я встречался со сведенборгианцами в Соединенных Штатах, там они образовали общину и продолжают публикацию книг Сведенборга, переводят их на английский язык…»
Даже из сказанного понятно, что представления о мире Сведенборга во многих важных для христианства пунктах расходятся с канонической трактовкой. Так Сведенборг подобно каббалистам не признает троичности существования Бога, зато приписывает ему человеческую телесность, отрицает наличие Сатаны, не признает второе пришествие Христа и Страшный суд, утверждает возможность спасения язычников и существование брака на небесах, иначе, чем церковь объясняет явление Христа.
«Я часто, — пишет Сведенборг, — говорил об этом с ангелами, и они постоянно отвечали мне, что на небесах они не могут делить Божественное (начало) на три, ибо знают и постигают, что Божественное (начало) одно и что оно едино в Господе».
«Из всего этого следует, что если Божественное (начало) образует небеса, то и самый образ его есть человеческий… Так как ангелы постигают не Божественное невидимое (начало), называя его Божеством без образа, но Божественное (начало), видимое в человеческом образе, то они обыкновенно и говорят, что один Господь человек, что они люди только при нем и что каждый становится человеком по мере принятия им Господа… В аду же наоборот: жители его кажутся при небесном свете не людьми, а чудовищами, потому что они живут не во благе и истине, а во зле и лжи».
«Обыкновенно думают, что люди, рожденные вне церкви и называемые язычниками, не могут быть спасены, потому что у них нет Слова и что, следовательно, они не знают Господа, без которого нет спасения. Но тем не менее они могут спастись… Известно, что язычники, ровно как и христиане, живут нравственно и даже многие из них лучше христиан».
«В области собственно теологии, — замечает Вл. Соловьев, — особенно замечательна у Сведенборга его замена Троицы одним Христом… Сведенборг не понимал умозрительных основ церковного догмата и видел в нем простое трехбожие, которое его возмущало». «Бог вечно существует как Великий человек, именно как Господь наш Иисус Христос, в котором обитает полнота божества телесно. Учение Сведенборга есть абсолютное христианство, так как он предполагает, что собственно и самостоятельно существует только Христос, и больше ничего». По Сведенборгу цель воплощения Христа в том, «чтобы божественное получило ощутительную действительность в нашем земном мире, а также в мире земных духов, и чтобы небесная атмосфера Христа могла изгнать отсюда умножившихся злых духов, которые в это время навождали на мир»; дело Христа было, по Сведенборгу, не формальным актом искупления и оправдания человека, а реальным столкновением небес и ада в земном человечестве и восстановлением нарушенного равновесия между силами добра и зла».
Как ко всему этому относиться? Представим на миг, что кто-то из нас встретился с ангелами и затем публично рассказывает об этом. Чем это может закончиться, особенно, если мы настаиваем, что это не сон, не галлюцинация, не ваша фантазия, что мы долго общались с ангелами как с обычными людьми? И уж совсем плохо, если мы настойчиво советуем окружающим, верить ангелам и тому, что они говорят. Тогда, точно, нам не миновать психиатрической больницы. Налицо все симптомы: видения, голоса, вера в несуществующую реальность. Ведь, на самом деле, скажет психиатр, нет никаких там ангелов, а если и есть, то их невозможно увидеть. Возможно, прав был Эммануил Кант, когда именно по поводу учения Сведенборга писал:
«Поэтому я нисколько не осужу читателя, если он, вместо того, чтобы считать духовидцев наполовину принадлежащими иному миру, тотчас же запишет их в кандидаты на лечение в больнице и таким образом избавит себя от всякого дальнейшего исследования… в творчестве Сведенборга я нахожу ту самую причудливую игру воображения, какую многие другие любители находили в игре природы, когда в очертаниях пятнистого мрамора им рисовалась святая семья или в сталактитовых образованиях — монахи, купели и церковные органы… Я устал приводить дикие бредни самого дурного из всех фантастов или продолжать их вплоть до описания им состояния после смерти… было бы напрасно пытаться скрыть бесплодность всего этого труда — она бросается в глаза каждому».
Однако ведь верующие постоянно говорят об ангелах. И Кант, как известно, был верующим! Конечно, для современного рационально научно мыслящего человека ангелы, духи, небеса и ад, описанные Сведенборгом — чистая фантазия, утверждать, что все это существует на самом деле — значит поступать против истины. А ведь Сведенборг в своих духовных писаниях все время твердит: то, что я рассказываю — истина, многое мне сообщили ангелы, а им нельзя не верить, многое я видел собственными глазами.
В своих книгах Сведенборг изображает дело так, что он был призван к своей новой миссии совершенно неожиданно для себя, и дальше все, что он писал, были не его собственные субъективные размышления, а знания и наития самого Господа. И даже Вл. Соловьев, похоже, поверил ему. Он пишет, что в свой религиозный период Сведенборг воздерживался от самостоятельного мышления, записывая лишь явления своего духовидения и те мысли, которые он считал прямо внушенными или надиктованными ему свыше.
Но вряд ли это так. Сомнительно, что участие Сведенборга состояло в простой записи услышанного свыше, хотя психологически он именно так и думал. Напротив, я уверен, что книги Сведенборга — продукт его творчества и жизненного пути, а высшие силы здесь сыграли куда меньшую роль, если, вообще, участвовали в этой работе. При этом я исхожу из предположения, что Сведенборг прошел путь от рационализма (науки и философии) к лично трактуемой вере и эзотеризму. Но сам он, вероятно, понимал свою работу иначе: как постижение замысла Господа в плане устройства духовного мира (Небес, ада и области духов) и пути человека после кончины. Судя по работам, написанным после встречи с Христом, такое постижение понималось Сведенборгом как познание духовного мира. Оно включало в себя и познание природы, но как подчиненное духовному познанию (принцип «соответствия»), и своеобразный эксперимент, состоящий в беседе с ангелами и демонами, в наблюдении за Господом и путешествии по тому миру.
«Скажем наперед, — пишет Сведенборг, — что такое соответствие: весь природный мир соответствует духовному не только в общности, но даже и в каждой частности; поэтому все, что есть в природном существует вследствие духовного мира, называется соответствием… Ангелы изумляются, когда узнают, что есть люди, которые все приписывают природе и ничего не относят к Божественному началу… Между тем им стоило бы только вознестись умом, чтоб увидать, что эти чудеса происходят от Божественного (начала), а не от природы; что природа создана только для того, чтоб облекать духовное и соответственно изображать его в последней степени порядка».
Конечно, самым непонятным среди источников познания духовного мира являются встречи и беседы Сведенборга с ангелами. «Теперь, — пишет он, — обратимся к опыту. Что ангелы имеют человеческий образ, то есть что они такие же люди, это я видел до тысячи раз: я разговаривал с ними как человек с человеком, иногда с одним, иногда со многими вместе, и никогда я не видел, чтобы внешний образ их чем-нибудь разнился от человеческого; иногда я дивился этому; но чтобы это не было приписано обману чувств или воображению, мне дано было видеть их наяву, при полном сознании чувств и в состоянии ясного постижения».
Более того, чтобы читатели не сомневались, что Сведенборг мог видеть духовный мир, дается пояснение, что духовный мир созерцается не обычными глазами. «Однако должно знать, — пишет Сведенборг, — что человек не может видеть ангелов глазами плоти, но глазами духа, который внутри человека, потому что дух его принадлежит духовному миру, а все телесное — природному; подобное видит только подобное, потому что оно состоит из подобного ему начала… человек может прозреть в духовный мир, когда он отрешиться от зрения телесного и ему открывается зрение духовное; если угодно Господу это совершается в одно мгновение».
Попробую теперь объяснить этот источник познания духовного мира. В своих работах я анализирую особую группу психических феноменов, которые представляют собой «сноподобные состояния», начиная от прямого пробоя сновидений в период бодрствования (галлюцинации), кончая разными случаями совмещения сновидений и бодрствования. К последним можно отнести и так называемый «сон наяву», и эзотерические «сны». Во сне наяву наши сновидения, которые мы не успели реализовать в периоде сна, подстраиваются под образы и тематизмы бодрствующего сознания. Действительно, как часто, не выспавшись, мы никак не можем сосредоточиться на событиях текущей жизнедеятельности; наши мысли уплывают куда-то в сторону, перебиваются какими-то воспоминаниями, фантазиями, образами. Я стараюсь показать, что эти неконтролируемые и приходящие как бы со стороны сюжеты — наши сновидения, контрабандным путем реализующиеся под видом бодрственных содержаний, переплетающиеся с бодрственными восприятиями.
Эзотерические «сны» складываются не сами собой и не сразу. Им предшествуют несколько процессов: формирование эзотерической личности, подавление реальностей, не отвечающих эзотерическому мироощущению, усиление давления блокированных желаний, осуществление которых должно обеспечить достижение эзотерической личностью подлинной реальности, отработка механизмов сноподобных состояний. Когда все эти предпосылки удается сформировать, складываются условия для эзотерических «снов»: по сути, это реализация в периоде бодрствования сновидений, обеспечивающих реализацию событий, относящихся к подлинной реальности. В этом отношении то, что эзотерик здесь видит и переживает, создано работой его психики, предварительно сформированной эзотерической жизнью и личностью.
Нельзя ли предположить, что и духовный мир Сведенборга представляет собой эзотерические сны на темы Священного писания? Чтобы понять, как они сложились и их место в учении Сведенборга, стоит обратить внимание на то, что, начиная с юности, на многих его вполне светских научных, инженерных и философских рукописях внизу многих страниц идет следующее наставление себе:
«1. Часто читать Слово Божье и размышлять о нем.
2. Покорять себя во всем воле Божьего промысла.
3. Соблюдать во всех поступках истинное приличие и хранить всегда безукоризненную совесть.
4. Исполнять честно и правдиво обязанности своего звания и долг службы, и стараться сделать себя во всех отношениях полезным членом общества».
То есть Сведенборг подобно Павлу Флоренскому был, так сказать, слуга двух господ. Я имею ввиду отправление Сведенборгом одновременно двух мировоззрений — научного и религиозного. Он не мог отказаться ни от первого, ни от второго, точнее оба мироощущения в одинаковой мере определяли его жизнь и поступки. Да и как могло быть иначе: основное занятие Сведенборга в течение почти полувека — наука, основной образ жизни и воззрение — христианство.
Здесь, однако, читатель может возразить, сказав: «Ну, и что с того, мало ли ученых верят в Бога и ходят в церковь. Их вера и научное мировоззрения могут быть никак не связаны; один из таких ученых выразился так: „моя вера и наука находятся в разных комнатах“. Действительно, есть люди, и таких, вероятно, большинство, которые живут в „двух комнатах“. Находясь в одной комнате, они забывают о другой, и наоборот».
Судя по всему, Сведенборг не был такой личностью, ведь не трудно предположить, что понимание мира и способ жизни зависит от характера личности. Для него мир науки и Господь были не две разные комнаты, а одна, единый мир и жизнь. Философ и психолог сказали бы, что его сознание было целостным. Таким же было сознание и у св. Августина, Декарта, Канта, Р. Штейнера, П. Флоренского. Я не случайно в этом списке упомянул Рене Декарта. Он не только во многом определил отношение новоевропейского ученого к Творцу всего, но и задал ряд особенностей научного новоевропейского мировоззрения. Похоже, что и Сведенборг не избежал влияние Картезия. Подобно Декарту Сведенборг не только считал, что человек по своему совершенству приближается к Господу, поэтому-то ангелы — это совершенные люди, но что можно познать и природу, и Господа, и небеса. При этом, познавая, мыслитель воспроизводит Господа и как бы творит мир, опираясь только на себя.
Именно как картезианец и ученый Сведенборг не мог не признать наличие в Священном писании множества противоречий. Как Господь может существовать в трех лицах, это явное противоречие; почему Он допустил зло и Люцифера, если Господь есть любовь и благо; что значит воскресение человека и смерть, если происходит исчезновение в ничто, то вряд ли Господь после смерти каждый раз заново творит каждого человека; как понять, что «человек создан по образу и подобию Бога»; что собой представляют рай и ад, ангелы и демоны; почему язычники не спасутся, когда многие из них живут праведнее христиан и вообще ничего не знают о Господе и т. д. и т. п. Простой верующий такими вопросами не задается, но ведь Сведенборг был не только христианином, но и ученым, а также картезианцем.
В результате принципиальных сомнений и размышлений, но не отказа от веры Сведенборг начинает переосмысление религиозной реальности. Уверен, уже в первый период своей научной жизни. Другое дело, что он мог до поры до времени закрывать глаза на собственную работу мышления; не то, чтобы не замечать ее, такое трудно не увидеть, а как бы отодвигая ее на задний план, чем мы на самом деле часто занимаемся.
В каком же направление шло это переосмысление? Мы хорошо знаем это по его второму духовному периоду. Сведенборг начал пересматривать противоречивые и не связанные между собой религиозные сюжеты, заменяя их собственными конструкциями в духе рационального картезианского мышления; при этом он создает квазинаучные понятия и выходит на представление о действительности, напоминающее не только сакральный мир, но и духовную природу.
Сведенборг был уверен, что всего лишь уясняет истинное положение дел, ведет своеобразное познание духовной действительности, понимаемой пока еще как каноническая. Понятно, что эта работа была достаточно длительной и непростой, растянувшейся на много лет, предполагавшей «челночное движение», то есть возвращение и пересмотр исходных основоположений и конструкций. Но нужно учесть (это я, в частности, по себе знаю), что у человека, живущего мышлением, работа мысли совершается постоянно и частично автоматически, иногда, даже параллельно с другими занятиями.
Как следствие, наряду с двумя основными реальностями — научным и религиозным миром — в сознание Сведенборга постепенно входит третья реальность. Это реальность, которую он сам создает в результате переосмысления второго мира: с одной стороны похожая на этот мир, с другой — кардинально отличная от него.
Сведенборг, конечно, не мог не заметить, что новая реальность во многих пунктах противоречит каноническому христианскому учению. Но существовала еще одна серьезная проблема.
Сведенборг понимал свою работу как познание духовной действительности в духе новейшего для его времени естествознания. А оно требовало фактов и эксперимента. Последних, однако, не было. Ситуация для Сведенборга была достаточно драматичной. Новая духовная реальность практически уже встала на место канонической, она воспринималась как истинное положение дел, но входила в противоречие как с религиозными догматами церкви, так и собственными научными методологическими установками самого Сведенборга, по которым эта реальность нуждалась в подтверждении опытом.
Именно в этой ситуации на помощь приходит психика, начавшая продуцировать спонтанные сноподобные сюжеты, с одной стороны, восполняющие недостающие элементы научного мышления и действительности, с другой — «рисующие» такую картину, в которой Сведенборг получал санкцию свыше на новый способ познания и мышления. Ну, конечно, речь идет о встрече Сведенборга с посланником Господа и дальнейших духовных путешествиях и общениях с ангелами.
Как я показываю в своих исследованиях, выход в сознание сноподобных реалий предполагает осмысление и работу мышления, создание интерпретаций, формулирование новых подходов, и даже переосмысление своего положения в мире (см. исследования творчества К. Юнга, П. Флоренского и др.). Все это мы и находим в жизни Сведенборга. Во-первых, он намечает новые принципы научного познания: трактует природу как подчиненную духовному миру, формулирует отношение соответствия и связанную с ним процедуру выявления соответствий, рассматривает высказывания ангелов и собственный духовный опыт в качестве фактов и научного опыта. Во-вторых, утверждает, что церковь неадекватно излагает Священное писание, а ему, Сведенборгу, Господь открыл тайны и подлинный смыл Слова. В-третьих, Сведенборг объявляет себя посланником Господа, мессией, призванным раскрыть христианам истинный смысл Слова и знание действительности, поскольку наступают последние времена. «Такое непосредственное откровение совершается ныне потому, что оно то самое, которое разумеется под пришествием Господа». Эти три новации можно считать сведенборгианским поворотом, открывшим дорогу многим идущим позднее от науки или философии эзотерикам. А практическим результатом творчества самого Сведенборга было построение рассмотренной здесь сведенборгианской картины мира.
4. Хайдеггер
Анализ творчества позволяет предположить, что мыслители выходят на ясное понимание мира в два этапа. На первом открывают для себя «предельную онтологию», т.е. реальность, лежащую в основании всего того, что можно увидеть и помыслить (например, «разум» в «Критике чистого разума» И. Канта, «сущее как таковое» в «Метафизике» Аристотеля или «деятельность» в работах моего учителя Г. П. Щедровицкого), но пока понимают эту реальность достаточно схематично, можно сказать, абстрактно. На втором конкретизируют эту реальность; здесь основные построения и различения, задающие увиденную реальность, адресованы уже Другим, удовлетворяют принятым в философии способам мышления и понимания. Это предварительное пояснение, теперь по порядку. Но чтобы быть конкретным (Бог, как известно, в деталях), будем обсуждать представление о бытии Хайдеггера (в данном случае, это тоже предельная онтология).
Известно, что Хайдеггер много писал о бытии и, тем не менее, все-таки трудно сказать, что же это такое. Можно согласиться с Олегом Цендровским, который пишет, что «у Хайдеггера бытие вовсе не является какой-то предельной абстракцией, о которой нельзя сказать ничего конкретного» и в тоже время «исследователи избегают самой попытки определить, что же подразумевал Хайдеггер под бытием, и ограничиваются перечислением второстепенных деталей и приведением разрозненных и малоуместных цитат… повсеместно наблюдается пробел в понимании его основного понятия и, как следствие, всех аспектов его философии».
А вот мнение Н. В. Мотрошиловой. «Верно и хорошо известно, что Хайдеггер ищет возможности преобразовать традиционную метафизику, выдвинув на первый план и существенно реформировав онтологию, учение о бытии. Но какое бытие и какая онтология имеются в виду? При всем обилии ответов на эти вопросы в литературе о Хайдеггере я не могу, к сожалению, считать их достаточно прояснёнными».
Интересно еще, что об этой проблеме пишет Владимир Бибихин: с одной стороны, хайдеггеровскому бытию исследователи приписывают в анализе различные характеристики, с другой — по твердому убеждению Бибихина, это сделать невозможно. «Выражения экзистенциальный анализ, анализ вот-бытия, присутствия или, как я иногда перевожу в данной статье, здесь-и-теперь-бытия, die existenziale Analytik des Daseins, Analytik des Daseins, — пишет Бибихин, — у всех на языке. Они понимаются однозначно: анализу подвергается, по-видимому, то, что сложно. Dasein по общему убеждению имеет структуру. Присутствие есть прежде всего In-der-Welt-sein, бытие-в-мире; оно всегда Mitsein, бытие с другими (если Левинас этого не заметил, то не все читатели прошли мимо §§25–27 «Бытия и времени»); дальше, Dasein есть забота, die Sorge, и в этом качестве буквально выплескивает из себя сложнейшие структуры, бросая себя на подручное и наличное, на что решает растратить себя; анализ осложняется… Спросим однако, есть ли действительно у Dasein структура?
Не выходя из «Бытия и времени», в тексте этой же книги мы находим Dasein без структуры, так что всё, принимаемое за его аналитику, относится только к его падению (Verfall), в котором оно перестало быть собой. Само по себе присутствие несоставно, как во всей классической мысли безусловно проста душа… Аналитика исходного присутствия невозможна как из-за его простоты, так и потому, что на уровне экзистенции присутствие невидимо…».
Чтобы продвинуться в разрешении проблемы хайдеггеровского бытия, обратим внимание, каким образом Хайдеггер использует это представление в статье «Вопрос о технике». Сначала, имея в виду бытие, он характеризует технику в общем виде, неконкретно (техника — это «раскрытие потаенного», «событие произведения происходит лишь постольку, поскольку потаенное переходит в непотаенное»). Затем Хайдеггер конкретизирует технику относительно двух исторических периодов — античности и модерна (античной философии и ремесла, а также производства и естествознания нового времени).
Оставим на время статью о технике и попробуем понять, каким образом Хайдеггер вышел на концепцию бытия и что имел в виду, говоря в тот период о нем. Исследования разных авторов позволяют отчасти прояснить этот вопрос. В период, предшествовавший созданию концепции бытия, Хайдеггер пытался разрешить несколько экзистенциальных для него проблем. Я вижу, по меньшей мере, три.
Первая, разрешение противоречий между двумя направлениями философского мышления, оказавшими на молодого Хайдеггера огромное влияние: это, с одной стороны, идеи В. Дильтея, в результате которых Хайдеггер установился в историческом понимании действительности, а также истолковал ее в рамках философии жизни, с другой стороны, концепция Э. Гуссерля, склоняющая Хайдеггера мыслить феноменологически.
«Понятия „жизнь“ и „историческая действительность“, — пишет И. А. Михайлов, автор книги „Ранний Хайдеггер“, — часто используются Дильтеем как равнозначные, поскольку историческая реальность сама понимается как „живая“, наделенная живительной исторической силой: „Жизнь… по своему материалу составляет одно с историей. История — всего лишь жизнь, рассматриваемая с точки зрения целостного человечества“… В свою очередь Хайдеггер, осознав, что субъективная историчность никогда не сможет быть примирена с идеей объективной („значимой“ или „строгой“) науки, сделал свой выбор в пользу историчности, занявшись еще более радикальной деструкцией субъект-объектной парадигмы философского мышления».
«В марте 1911 года, — продолжает Михайлов, — Хайдеггер пишет статью „К философской ориентации академиков“. В ней молодой ученый пытается сформулировать свое научно-этическое кредо… Девиз звучит теперь так: „Развитие себя“. Подразумевается „актуальное обладание богатством истин“… Хайдеггер взывает во спасение „к строго логическому мышлению, которое герметично отгораживается от всякого аффективного воздействия души“. Здесь призывы Хайдеггера вполне родственны научной программе, провозглашенной Эдмундом Гуссерлем в „Философии как строгой науке“. Решающей для Хайдеггера становится „истинно беспредпосылочная научная работа“».
Но исторический, витальный и герменевтический подход Дильтея не так легко было соотнести с гуссерлевской, по сути антиисторической, научной трактовкой сознания, предметности и жизненного мира. Как показывают С. С. Неретина и А. П. Огурцов «генетическая феноменология» сложилась немного позднее. «В 30-е гг. ХХ в., — пишут они, — феноменологический анализ всё более и более историзируется <…> В „анализе пассивных синтезов“ Гуссерль недвусмысленно отождествляет сознание и темпоральность: „Сознание есть непрерывное становление как непрестанное конституирование объективностей в непрестанном процессе последовательных ступеней. Оно есть никогда не прерывающаяся история. И история есть постепенное, проникнутое властью имманентной телеологии, конституирование всё более высоких смысловых образований. И всякому смыслу принадлежит истина и норма истины. История в обычном смысле в её связи с культурой — это только высшая ступень, и также и её бытие в себе предначертано“».
Вторая проблема была обусловлена размышлением над сутью и началом философии. Хайдеггер видел, что философы по-разному характеризуют действительность, что он понимал, как задание разных сущностей, но было непонятно, какая реальность, лежит за этими сущностями (вероятно, он все же мыслил монистически). «Итак, — разъясняет Михайлов, — толкование различных значений сущего пробудили у молодого Хайдеггера интерес к следующему: Что же объединяет все эти значения?»
Третьей проблемой и темой была традиционная для тех философов, начиная со св. Августина, которые разделяли одновременно веру и рацио, а именно, нельзя ли в рамках научного мировоззрения найти место для веры. «Хайдеггеру, — отмечает В. Летуновский в статье «Был ли Хайдеггер верующим?», — оказывается близким тот тип религиозности, который религия воспитывает в человеке чувство благоговения перед необъяснимостью мира и непостижимостью божественного существа. Среди современных ему теологов, как наиболее близкого, Хайдеггер выделял Карла Барта, дававшего Богу апофатическое определение: «Бог, чистая граница и чистое начало всего того, что мы есть, что мы имеем и что делаем; противостоящий в бесконечном качественном различии человеку и всему человеческому; никогда не идентичный тому, что мы называем Богом, переживаем и предчувствуем как Бога, к чему возносим наши молитвы; это безусловное ′Стой!′, обращенное ко всякому человеческому беспокойству, и безусловное ′Вперед!′, обращенное ко всякому человеческому покою…».
Под давлением этих проблем и тем Хайдеггер и выходит на реальность бытия (открывает эту реальность). Возможно, помогла ему в этом поэма Парменида «О природе»:
Люди о двух головах, в чьем сердце беспомощность правит
Праздно бредущим умом. Глухие они и слепые.
Мечутся, ошеломясь, неспособное племя к сужденью,
Те, кому быть и не быть, — одно и то же и вместе,
Не одно и то же: всему у них путь есть попятный.
Ибо ничем нельзя убедить, что Не-бытное может
Быть. Воздержи свою мысль от этой дороги исканий:
Пусть тебя на нее не толкнет бывалая свычностъ,
Чтобы лелеять невидящий глаз, полнозвонное ухо,
Праздный язык. Будь лишь разум судьей многоспорному слову,
Произреченному мной!
Мысль и цель этой мысли — одно: ведь ты не приищешь
Мысли без Бытности той, которая в ней изречется.
Ибо нет ничего и не будет на свете иного,
Кроме Бытного, кроме того, что Мойра в оковах
Держит недвижным и цельным. А все остальное — лишь имя,
Все, что смертные в вере своей как истину ставят.
Так как оно — последний предел, то оно завершено.
Сразу со всех сторон, как тело круглого шара
Вкруг середины всегда равновесного, ибо не нужно
Быть ему ни с какой стороны ни больше, ни меньше.
Ибо Небытного нет, чтоб сдержать его в этом стремленье,
Так же, как Бытного нет, чтобы сделалось больше иль меньше.
Бытное там или здесь: оно везде нерушимо,
Всюду равно себе, едино в суждением пределе.
В ней, как мы видим, постулируется, что «Небытного» нет, а «Бытное» («бытие») есть. Размышляя параллельно над тем, в каком смысле бытие существует еще до познания явления (или до технического действия, например, ремесленного или инженерного), Хайдеггер мог предположить, что бытие в этой ситуации скрыто, еще «неявленно», тогда как акт познания и технического действия «являет» бытие. Вот каким образом он мог при этом рассуждать.
Когда технический объект (например, чаша для жертвоприношения) уже создан, его бытие явилось. Условием технического действия выступало знание сущности этого объекта. То есть знание сущности — тоже условие явления бытия. Но в какой форме бытие чаши существовало, когда был только замысел создания этого объекта? Вероятно, в форме, скрытой для мастера, хотя и воображаемой. Как назвать подобное существование бытия? Может быть, «несуществованием», «потаенным»? Тогда сам процесс создания технического объекта можно назвать «раскрытием потаенного» или «выведением из непотаенного», а его результат — «просветом бытия», поскольку мастер не только создал произведение, но и приобщился к бытию, однако, так сказать не прямо, а косвенно, посредством созданной им вещи, поэтому только «просвет».
«С самых ранних веков вплоть до эпохи Платона, — разъясняет Хайдеггер, — слово τέχνη стоит рядом со словом ἐπιστήμη. Оба слова именуют знание в самом широком смысле. Они означают умение ориентироваться, разбираться в чём-то. Знание приносит ясность. В качестве проясняющего оно есть раскрытие потаенности. В специальном трактате („Никомахова этика“ VI, гл. 3 и 4) Аристотель проводит различие между ἐπιστήμη и τέχνη, причем именно в свете того, что и как они выводят из потаенности. Τέχνη — вид „истинствования“, ἀληθεύειν. Τέχνη раскрывает то, что не само себя про-изводит, еще не существует в наличии, а потому может выйти и выглядеть и так и иначе. Человек, строящий дом или корабль или выковывающий жертвенную чашу, выводит про-из-водимое из потаенности соответственно четырем видам „повода“. Это раскрытие потаенного заранее собирает образ и материал корабля и дома воедино в свете пред-видимой законченности готовой вещи и намечает исходя отсюда способ ее изготовления. Решающая суть τέχνη заключается тем самым вовсе не в операциях и манипуляциях, не в применении средств, а в вышеназванном раскрытии. В качестве такого раскрытия, но не в качестве изготовления, τέχνη и оказывается про-из-ведением».
По мнению Бибихина, Хайдеггер, пытаясь понять бытие в этих двух состояниях (как вида реальности и конкретно), выходит на понятие «становление» («осуществление»), противопоставляя бытие сущности. «Назовем главную, а по сути единственную мысль Хайдеггера: мы никогда не можем фиксировать бытие как некий предмет, и тем не менее мы воспринимаем предметы только в свете их бытия. Мы никогда не можем объяснить, почему бытие есть, а не нет его».
«Сущее, уверяет метафизика, существует, т.е. оно неким образом готово. Наоборот, Бытие всегда только осуществляется. Оно сбывается в событии, которое всегда мгновенно, и вспыхивая создает местá, Stätte, где проходит и снова ускользает Бог. Если ищут просвета тайны не чтобы разоблачить, а чтобы открыть ее таинственность, то возможна ли опора на сущее? Нет; в дело идет только само осуществление, создание мест, которые никогда не оказываются вне тайны. Раннее понимание бытия: прибыль сущего, фюсис. Другое начало готовит осуществление самого по себе бытия в событии….».
Посмотрим теперь, каким образом эти положения реализуются Хайдеггером в исследовании техники. Это исследование как феноменологическое, действительно, беспредпосылочное и задает новое начало (концепцию). Хайдеггер характеризует технику в рамках собственного подхода и представлений, а другие концепции техники он критикует. Например, он говорит, что широко распространенное инструментальное понимание техники скорее затемняет понимание техники, чем проясняет, особенно если человек хочет «утвердить власть духа над техникой», грозящей вырваться из-под этой власти. «Пока, — пишет Хайдеггер, — мы не вдумаемся в эти вопросы, причинность, а с нею инструментальность, а с этой последней примелькавшееся инструментальное определение техники, останутся темными и необоснованными».
«Начало», исследуя технику, Хайдеггер задает, с одной стороны, как «сущность техники», что можно отнести к аристотелевской традиции, с другой — именно как «событие произведения», как «переход потаенного в непотаенное». Это первый уровень задания начала, второй — конкретизация начала в двух исторических периодах — античной философии и в современности (модерне). Вслед за Стагиритом понятие «сущность» позволяет Хайдеггеру теоретически охарактеризовать ремесленную деятельность в античности как действие четырех аристотелевских причин. Современную технику Хайдеггер истолковывает как «постав», то есть как такое раскрытие потаенного, которое представляет собой особое производство, а именно такое, в котором одна техника делает необходимым другую, а эта следующую и так далее.
«Мы спрашиваем о технике, а дошли теперь до ἀλήθεια, открытости потаенного. Какое отношение имеет существо техники к раскрытию потаенного? Ответ: прямое. Ибо на раскрытии потаенности стоит всякое про-из-ведение. Последнее, со своей стороны, собирает в себе четыре вида повода — всю причинность — и правит ими… Что такое современная техника? Она тоже раскрытие потаенного… Царящее в современной технике раскрытие потаенного есть производство… Вместе с тем такое производство всегда с самого начала несет в себе установку на воспроизводство, на увеличение производительности в смысле извлечения максимальной выгоды при минимальных затратах… Какого рода открытость присуща тому, что вышло на свет в процессе производящего предоставления? Его во всех случаях заставляют установленным образом быть в распоряжении, а именно с установкой на дальнейшее поставляющее производство… Назовем его состоянием-в-наличии… Назовем теперь тот захватывающий вызов, который сосредоточивает человека на поставлении всего, что выходит из потаенности, в качестве состоящего-в-наличии, — по-ставом».
По Аристотелю, начало — это не только исходный пункт рассуждений и доказательств, но и положение, выражающее сущность явления. Для Хайдеггера сущность явления в процессе конституирования начала (в этот процесс входит и настройка познающего, выслушивающего коллизии и вызовы жизни) задается проблемами, которые подвизающийся в познании формулирует, выслушивая жизнь. По отношению к технике Хайдеггер формулирует следующие проблемы: понять, различие античной и современной техники, объяснить, почему современная техника основывается на естествознании и представляет собой механизм порождения новой техники на основе уже созданной техники, осмыслить представления, по которым современная техника захватила человека, лишая его самостоятельности и воли.
«Всё нацелено на то, чтобы надлежащим образом управлять техникой как средством. Хотят, что называется, «утвердить власть духа над техникой». Хотят овладеть техникой. Это желание овладеть становится всё более настойчивым, по мере того как техника всё больше грозит вырваться из-под власти человека <…>
Люди говорят, что современная техника — нечто совершенно другое в сравнении со всей прежней, поскольку она опирается на точные науки Нового времени… Решающим остается вопрос: в чём существо современной техники, если она дошла до того, что в ней применяется точное естествознание?»
Какие же свойства надо было приписать началу, чтобы разрешить указанные проблемы? Ответ мы знаем, это конструкция — «событие произведения происходит лишь постольку, поскольку потаенное переходит в непотаенное», которая конкретизируется на двух уровнях: античной философии и ремесла, а также производства и естествознания нового времени. При этом Хайдеггеру приходится обсуждать отношение вещи к знанию о них: как в контексте познания, так и деятельности их изготовления. Здесь ему приходится обраться к Платону и Аристотелю, а также Канту.
У Платона в «Государстве» есть фрагмент, в котором, по сути, обсуждается природа техники. Ставится вопрос, что собой представляет скамья. Платон говорит, что это идея скамьи как основная реальность, как то, что существует. Затем есть скамья, сделанная ремесленником, — это прообраз (копия) идеи скамьи. Есть картина скамьи, нарисованная художником, — это, в свою очередь, уже копия копии. Уже здесь Платон решает задачу, как понять отношение, связывающее познание (выявление, припоминания идеи) с практическим, техническим действием (ремесленным изготовлением скамьи). Фактически Платон говорит, что познание выступает необходимым условием технического действия, но пока утверждает это неявно.
Аристотель в «Метафизике» на примере лечения эту тему обсуждает уже осознанно, показывая, что условием изготовления вещей является предварительное их познание (мышление о них). «При этом здоровое тело получается в результате следующего ряда мысли у врача: так как здоровье заключается в том-то, то надо, если тело должно быть здорово, чтобы было дано то-то, например, равномерность, а если нужно это, тогда требуется теплота (согревание); и так он размышляет все время, пока не приведет к последнему звену, к тому, что он сам может сделать. Начинающееся с этого момента движение, которое направлено на то, чтобы телу быть здоровым, называется затем уже создаванием <…> Там, где процесс идет от начала и формы (то есть причин. — В.Р.), это мышление, а там, где он начинается от последнего звена, к которому приходит мысль, это — создавание».
Второе аристотелевское новшество — замена платоновской идеи на процесс («движение»), происходящий «по природе». Додумывая Стагирита, можно сказать, что техническое действие он должен понимать как такое, которое основывается на природе той вещи, которая создается. В свою очередь, чтобы описать природу вещей, утверждает Аристотель, нужно выявить ее сущность (причины).
Если Стагирит считал, что основным способом познания вещей является индукция (наблюдение и опыт), то Кант с этим не согласен, говоря, что скорее человек приписывает вещам нужные свойства. «Но свет, — пишет он, — открылся тому, кто первый доказал теорему о равнобедренном треугольнике (безразлично, был ли это Фалес или кто-то другой); он понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре или в одном лишь ее понятии, как бы прочитывая в ней ее свойства, а в том, чтобы создать фигуру посредством того, что он сам а priori, сообразно понятиям мысленно вложил в нее и показал (путем построения). Он понял, что иметь о чем-то верное априорное знание он может лишь в том случае, если приписывает вещи только то, что необходимо следует из вложенного в нее им самим сообразно его понятию».
Однако в этом случае возникал вопрос, каким образом вещь обусловливает приписывание ей нужных свойств. Если бы вещь в силу творения Богом обладала «голосом» (так считали в средние века), то она могла бы по принципу обратной связи корректировать действия познающего, но ведь Кант, мысля рационально, не приписывал познаваемым вещам такой способности. Кант выбирает другой путь: утверждает, что есть «явления» и «вещи в себе», а между ними как посредник «трансцендентальная схема». «Мы можем, — пишет он, — познавать предмет не как вещь в себе, а лишь постольку, поскольку он объект чувственного созерцания, то есть как явление». При этом, поясняет Кант, «у нас всегда остается возможность если и не познавать, то по крайней мере мыслить эти предметы также как вещи в себе. Ведь в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без того, что является». «Ясно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, с другой — с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным».
Хайдеггер вопрос о связи познания вещей и их изготовления решает однозначно: и объекты изучения, и технические объекты, и соответственно познание и технические действия (техническое искусство) принадлежат одной реальности — «бытия». Вышел он на это убеждение (см. выше), констатируя, что в истории философии и науки было много трактовок сущности, и, спрашивая, что за ними стоит в плане «предельной онтологии»? «Однако никогда не спрашивалось: „что есть само бытие, в чем состоит и коренится явленность (Offenbarkeit) бытия человеку и его отношение к нему?“»
Хайдеггер принимает бытие как «непосредственную реальность» (как единственное, что существует, существование же всего остального можно понять через бытие). «Человек, строящий дом или корабль или выковывающий жертвенную чашу, выводит про-из-водимое из потаенности соответственно четырем видам „повода“. Это раскрытие потаенного заранее собирает образ и материал корабля и дома воедино в свете пред-видимой законченности готовой вещи и намечает исходя отсюда способ ее изготовления. Решающая суть τέχνη заключается тем самым вовсе не в операциях и манипуляциях, не в применении средств, а в вышеназванном раскрытии. В качестве такого раскрытия, но не в качестве изготовления, τέχνη и оказывается про-из-ведением».
Определено ли начало техники? С одной стороны, да, с другой — нет, поскольку все равно остается неясным, неконкретным это самое несуществование технического объекта. Вот здесь, на мой взгляд, и срабатывает дильтеевское наследство (влияние): бытие всегда исторично, конкретно и антропологично (выводится к существованию человеком истории, выявляющим сущность явления). Что это означает применительно к данной задаче? Необходимость исторического и антропологического анализа техники. Чем Хайдеггер и занимается, но уже в рамках созданной конструкции начала. Впрочем, эта рамка мало влияет на такой анализ, хайдеггеровское начало техники и ее конкретизации, на мой взгляд, выполнены по-разному.
Если по поводу античного анализа техники у меня как философа техники нет возражений, то, что касается модерна, есть серьезное замечание. На мой взгляд, Хайдеггер так и не объяснил, каким образом на основе естествознания создается техника нового времени. Есть отдельные соображения о роли природы, расчетов, влияния производства, управления и обеспечения («управление и обеспечение делаются главными чертами про-из-водящего раскрытия»), но в целом конструкция, объясняющая современную технику отсутствует.
В статье Хайдеггера хорошо объяснена только одна сторона техники, названная «поставом», которую я отношу к «технической среде». Тем не менее, не стоит умалять значение хайдегговского понятия техники как «постава». Оно позволило в рамках техногенной цивилизации объяснить власть техники, а также невозможность человека волевым усилием перехватить эту власть. Хайдеггер утверждает, что, раскрывая непотаенность в форме естественнонаучного познания природы и современного производства, человек оказывается захваченным (подчиненным) этим процессом, образующим его судьбу, блокирующим его сознание и разум. Это и есть сущность постава как власти техники над человеком, как риск в отношении его бытия. Но как свободное существо человек может продумать происходящее, уяснить уже свою сущность как человека и, возможно, найти выход из грозящей ему опасности. Этот выход подсказывает история: одна из сущностных сторон античной техники — поэзия, искусство, не удастся ли спастись, возобновив на новом уровне поэзис техники?
«Захваченный поставляющим производством, человек стоит внутри сущностной сферы постава. Он никак не может занять то или иное отношение к нему, поразмыслив. Поэтому вопрос, в какое нам встать отношение к существу техники, в такой своей форме всегда уже запоздал. Зато никогда не поздно спросить, знаем ли мы собственно о самих себе, что наше действие и наше бездействие во всём то явно, то скрыто втянуто в по-став. Никогда не поздно спросить, главное, задеты ли мы, и как, собственно, задеты сущностной основой самого постава…
Когда-то не только техника носила название «техне». Когда-то словом «техне» называлось и то раскрытие потаенного, которое выводит истину к сиянию явленности. Когда-то про-из-ведение истины в красоту тоже называлось «техне». Словом «техне» назывался и «пойесис» изящных искусств…
Будут ли изящные искусства снова призваны к поэтическому раскрытию потаенного? Потребует ли от них это раскрытие большей изначальности, так, что они в своей доле участия будут взращивать спасительное, вновь будить и поддерживать внимание и доверие к осуществляющему? Дано ли искусству осуществить эту высшую возможность своего существа среди крайней опасности, никто не в силах знать…
Поскольку существо техники не есть нечто техническое, сущностное осмысление техники и решающее размежевание с ней должны произойти в области, которая, с одной стороны, родственна существу техники, а с другой, всё-таки фундаментально отлична от него. Одной из таких областей является искусство».
Предлагаемый Хайдеггером путь спасения и решение, на мой взгляд, слабые. Разве возможно решение монблана современных проблем научно-технического развития на путях скрещивания современной техники с искусством? Хайдеггер прав, показывая, что постав (естественнонаучное познание природы, современное производство и техническое мировоззрение) блокирует рациональные решения и преобразования, которые бы способствовали более разумному и безопасному развитию человечества. Современные исследования показывают, что блокирует не только постав. Это лишь один из факторов. Целое образует техногенная цивилизация и новоевропейская культура (модерн), в рамках которых мировоззрение и социальные институты задают такое видение и понимание, которые препятствуют давно напрашивающимся изменениям.
Да, техника как феномен задается проблемами, историей и основонастроением, но не только теми, на которые опирался Хайдеггер. Например, кроме проблем, указанных Хайдеггером, не менее важными являются и другие: понять, почему, начиная примерно с XVIII столетия, техника развивается взрывным образом; чем различаются техника и технология; объяснить природу негативных последствий научно-технического развития и пути их минимизации; охарактеризовать влияние на развитие техники культуры и социальности, и др.
История техники не ограничивается античной техникой и техникой модерна. Автор показывает, что техника в своем историческом развитии прошла несколько этапов, каждый из которых характеризуется уникальными особенностями. Это этап техники как создание орудий и следующий — опытной техники Древнего мира, понимаемой как магия; этап рационального понимания техники как инженерии, а также проектирования; этап технологического понимания техники; современное гибридное истолкование техники. При этом предыдущие формы техники как предпосылки готовили последующие и частично в видоизмененном виде входили в них.
И «основонастроение», как хайдеггеровское начало, на наш взгляд, является более широким. Разные виды и формы техники, разные виды технического искусства (орудия, механизмы, машины, технические сооружения, техническая среда, Интернет; магия, изобретения, инженерное творчество, проектирование, технологические решения и проекты). Техника как самостоятельная реальность и техника как социальный институт и техносфера. Техника как «социальное тело» человека, общества и государства и техника как угроза и риск для жизни человечества. Оптимизация техники модерна, минимизация негативных последствий техники, создание техники «фьючекультуры». Понимание, что, не пройдя серию техногенных и социальных катастроф, современный человек, обусловленный поставом, не приступит к серьезным изменениям свой жизни.
Одно обобщение к первой главе
Анализ предложенного материала позволяет выделить три основных фактора, объясняющие, как мыслитель выходит на знание предельной онтологии и мира. Первый: особенности личности данного мыслителя. Например, если бы Эммануэль Сведенборг не был глубоко верующим и одновременно ученым нового времени с естественнонаучной ориентацией, не принимал на равных реальность природы и духовного мира, то вряд ли бы он построил картину мира, в которой составляющими выступали природа и духовный мир, связанные отношением соответствия.
Второй фактор: проблемы, которые поставило время и культура, вставшие проблемами самого мыслителя. Их решение во многом определяет и характер реальности, на которую выходят мыслители. Например, Платон должен был разрешить целый ряд проблем: как любить самостоятельному человеку, что такое философ, как ему жить, каким образом рассуждать, чтобы не получать противоречия и припомнить идеи, которые душа созерцала до рождения, и др.
Третий фактор, не менее значимый: реальность, на которую выходит мыслитель, обусловлена его представлениями о познании действительности¸ которые он реализует в мышлении, познавая и размышляя. В этом отношении, например, представление о Разуме, на которое вышел Кант, было обусловлено не только стоящими перед ним проблемами и его личностью, но и совокупностью познавательных установок, а также рассуждениями, реализованными в «Критике чистого разума».
Глава вторая. Авторское исследование космоса и происхождения человека
1. Космос
Перейдя в 1988 году из Института культурологии в Институт философии, я познакомился и сдружился с Вадимом Казютинским, который занимался философским осмыслением Вселенной. Прочтя его докторскую диссертацию, где Вадим утверждал, что Вселенная — физический объект, но одновременно показывал, что естественнонаучный подход в исследовании ее строения и становления дает очевидные сбои, я написал статью, в которой спрашивал, не является ли изучение Вселенной своего рода гуманитарным исследованием? На что Вадим Казютинский, сказал, что его не поймут (очевидно, российские космологи), и он не согласен. Хорошо, сказал я ему, напиши об этом в том же журнале «Эпистемология & философия науки», что Вадим и сделал.
В статье «Нет, космология — наука физическая, а не гуманитарная! Ответ В. М. Розину» Вадим Казютинский пишет, что интерпретация его взглядов Розиным «абсолютно неадекватна и носит, по сути, пародийный характер». Но где-то через год Вадим подошел ко мне и смущенно сказал, что возможно я прав, поскольку один известный западный космолог высказал примерно те же самые соображения о Вселенной, что и ты. Однако, на мой взгляд, исследования Казютинского говорят сами за себя, они убедительнее мнения известного западного космолога. Надо сказать, что эта полемика никак не повлияла на нашу дружбу.
Но рассказанная здесь история — это только один мотив, были и другие. Один из главных — переживания, связанные с трудностями живого восприятия космоса в сравнение с его научными описаниями, так и с осмыслением Вселенной, исходя из этих описаний. Судите сами, вот ночное, почти домашнее небо с бесконечным количеством звезд (невольно, вспоминается Маяковский: «Послушайте! / Ведь, если звезды зажигают — / значит — это кому-нибудь нужно? / Значит — кто-то хочет, чтобы они были?»), а вот реальные наблюдения, говорящие примерно о миллиарде галактик в Метавселенной (т.е. наблюдаемой человеком) и полном ее молчании («Вечное молчание этих бесконечных пространств, — горюет еще Паскаль, — ужасает меня»). Миллиард галактик только в видимой части Вселенной, а может быть их миллиард миллиардов в невидимой? Что за чудовищная картина, зачем она? И с какой стати, кроме желания реализовать математические уравнения и физические законы астрофизики и космологи выстроили следующую картину: вся Вселенная сначала была сжата до сверхплотной и сверхгорячей микроскопического размера материи, которая потом взорвалась и разлетается во все стороны, все более усложняясь (в настоящее время в форме галактик)? Вселенная как взрывающаяся граната! Понимаю, все это эмоции и переживания обыденного сознания. А научное говорит о другом: концепция Вселенной как «Большого взрыва» логически строго выверена. Привыкайте.
Но строго ли? Во введении мы отмечали, что Вадим Казютинский считает особенно нетерпимой «проблему сингулярности», в соответствие с которой, двигаясь назад к началу разбегания галактик, мы приходит в нулевую точку, где многие физические параметры (масса вещества, радиусы частиц и прочее) приобретают бесконечные или нулевые значения, теряя тем самым физический смысл. Возникает и такой принципиальный вопрос, что было «до» сингулярности. Ряд исследователей «осторожно высказывались в том смысле, что на этот вопрос в настоящее время нет разумного физического ответа». Именно попытка разрешить проблему сингулярности и ряд других (например, проблему термодинамического парадокса или тепловой смерти) стимулировала, с одной стороны, построение новых космологических теорий, с другой — выступила одним из условий, заставивших астрофизиков экстраполировать на Вселенную квантовую теорию. В результате в 50—60 годы были созданы ряд нефридмановских теорий, а соединение ОТО (общей теории относительности) с квантовой теорией позволило выйти на фундаментальный вариант Вселенной — «инфляционную теорию». Инфляционная теория, по мнению Казютинского, разрешает много противоречий современной космологии, приводя к совершенно революционным и очень странным представлениям о Вселенной, например, о том, что вакуум — это особая форма материи, обладающая чудовищной энергией, что «квантовые флуктуации, связанные с возникновением минивселенных, приводят к различиям физических законов и условий размерности пространства-времени», что «вовсе не обязательно считать, что было какое-то единое начало мира».
Гуманитарная природа космологии подтверждается еще одним обстоятельством: в ней не действуют основные принципы естественнонаучной проверки теории, поэтому предпочтение той или иной теории осуществляется как и в гуманитарных науках на основе ценностных соображений. Многие факты в космологии, пишет Казютинский, «находятся на пределе точности астрономических наблюдений, а значение некоторых фундаментальных величин (например, постоянной Хаббла) неоднократно пересматривались, меняясь даже в десять раз, что приводило к абсурдным выводам… В этих условиях чрезвычайно высока роль внеэмпирических критериев оценки космологических теорий… В качестве других внеэмпирических критериев истинности космологического знания сейчас настойчиво предлагается также антропный принцип».
Не объясняют ли эти проблемы, размножение космологических объяснений (теорий) Вселенной, а также периодическое возвращение к мифологическому ее постижению? Как, например, последнее продемонстрировал, правда, в самом конце жизни, А. Ф. Лосев. «Это, — рассказывал он, объясняя Владимиру Бибихину, почему он верующий, — меня поражало. И так я прожил свою жизнь и не смог и не могу понять… Бог творец, всемогущий — а здесь что творится? Разве не может он одним движением мизинца устранить все это безобразие? Может. Почему не хочет? Тайна… А верующий тот, кто эту тайну прозрел. Другие — дескать, э, никакого Бога нету. Это рационализм, и дурачество… А вера начинается тогда, когда Бог — распят. Бог — распят! Когда начинаешь это пытаться понимать, видишь: это тайна. И древние и новые, конечно, эту тайну знали. Аристотель наивно: в одном месте «Метафизики» говорит так, в другом иначе. И там, и здесь все правильно. Но если ты скажешь: как же это так, там у вас абсолютный ум, перводвигатель, который всем управляет, а тут черт знает что творится?.. А был бы верующий, сказал бы: это — тайна. Поэтому я не хотел делать абсолюта из «Метафизики»…
Вот поэтому, излагая нудную, скучную метафизику, претендующую на абсолютность (крепкое, божественное устройство мира) — я считаю, что тут же заложена и вся относительность. Небо, конечно, движется на века… — Но если в одну секунду окажется, что этого свода нету, какой-то один момент, и весь этот небесный свод выпал, взорвался, поломался, исчез — я не удивлюсь. Потому что я верующий… Ну что ж, пусть Платон и Аристотель верят, что это устройство нерушимо — пусть верят. Но если вдруг случится катастрофа, то они не знают, куда деваться — но я скажу: свершилась тайна Божия; так должно быть».
Это одна группа проблем (имеем ли мы дело с физической реальностью или нефизической?), кстати, порождающие и такие два вопроса: во-первых, разлетаются ли галактики на самом деле, может быть, нам это только кажется, и во-вторых, как понимать астрофизические наблюдения, разве они не позволяют нам получить объективные знания о космосе? Известно, что открытие Э. Хабблом красного смещения и, главное, его истолкование как эффекта «разбегания галактик» способствовало постепенному принятию фридмановской концепции. Но выше отмечалось, что эта концепция не единственная (есть объяснение Белопольского, «старение фотонов», есть исследователи, считающие, что именно красное смещение является свидетельством ложности фридмановской концепции).
Для меня существенна еще одна группа проблем. Почему Вселенная так сложно устроена, так и тянет спросить, хотя вроде бы это неразумно, кто ее так устроил и зачем? Апофеозом подобного сложного естественнонаучного математического представления Вселенной выглядит лекция профессора Стэнфордского университета США Андрея Линде, прочитанная в ФЕАН-е (кстати, он его выпускник) в 2007 году. Здесь все: и несколько образов Вселенной, и неподтвержденные экспериментами математические построения, и «плач Ярославны» о возможной гибели человечества.
«Мы сейчас, — рассказывал он, — находимся в экспоненциально расширяющейся Вселенной. И все ее части, далекие от нас, все галактики от нас улетают. Так же, как этот друг, который улетает в черную дыру, так же все эти части улетают к некоторой другой поверхности, которая называется горизонтом для мира де Ситтера, для этого ускоряющегося мира сейчас. И все эти галактики будут прилипать к горизонту, который от нас находится на расстоянии примерно эти самые 13,7 — ну, немножечко больше, чем это, — миллиардов световых лет. И все эти галактики прилипнут к горизонту и истают для нас, станут плоскими, сигнал от них перестанет приходить, и останется одна наша Галактика. Энергетические ресурсы в нашей Галактике потихонечку иссякнут, и такова печальная наша судьба… <…>
Единственное, что удавалось сделать, — это построить метастабильное вакуумное состояние, в котором временно Вселенная будет экспоненциально расширяться… в конце концов, распадется. Простейшие оценки в простейших теориях показали, что время распада может быть так велико как 10 в степени 10 в степени 120. Лет или секунд — это уже не важно. Много времени. Так что не сразу мы распадемся.
Но, когда распадемся — как мы распадемся? — возникнет пузырек новой фазы. В этом пузырьке есть два варианта. Первый вариант — что внутри него будет десятимерное пространство Минковского. Мы не можем жить в десятимерном пространстве… Второй вариант состоит в том, что распад может произойти в так называемый мир анти-де Ситтера — это мир, в котором плотность энергии вакуума отрицательна…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
