
Бесплатный фрагмент - Жизнеописания прославленных куртизанок
Анри Де Кок
Жизнеописания прославленных куртизанок разных веков и народов мира
Этот грандиозный художественно-публицистический труд посвящен историям женщин, которые совмещали прелести древнейшей профессии с проблемами государственной политики и финансов. Многие из них умудрялись разорять не только богатых вельмож, но и целые государства. Пойдя по стопам отца (Поля де Кока, которым зачитывались тургеневские девушки) Анри де Кок выдал в свет, кроме десятка фривольных романов, которые морализаторы сочли полупорнографическими (среди них знаменитая «Ла Минетта»), еще и столь же фривольную публицистику, как серию очерков «История знаменитых куртизанок» и «История знаменитых рогоносцев». Очерки написаны с присущим фамильной профессии блеском, это не скучное документальное чтиво, а в значительной степени подлинно художественная литература. В центре каждого очерка биография конкретной исторической личности, ее достоинства и недостатки, ее жизнь в самый примечательных событиях и судьба. Этот грандиозный труд вместил в себя 4 толстых тома в одной электронной книге. Свыше 1000 страниц с многочисленными иллюстрациями
Перевод с французского
Книга первая
ГЕТЕРЫ И БЛУДНИЦЫ ДРЕВНОСТИ
Книга вторая
КРАСАВИЦЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА
Книга третья
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦЫ ВЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Книга четвертая
ДАМЫ ПОЛУСВЕТА XIX ВЕКА
* * *
Под редакцией и с комментариями Л. И. Моргуна
Книга первая
ГЕТЕРЫ И БЛУДНИЦЫ ДРЕВНОСТИ
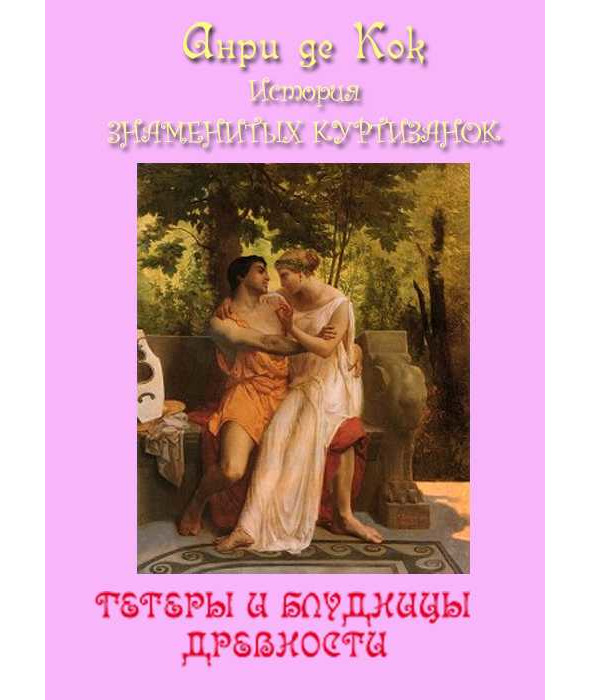
От издательства
Отец и сын Поль и Анри де Коки одарили мир удивительно занятной, фривольной, развязной (но вместе с тем и талантливой!) литературой. Этаким «лёгким чтивом», совершенно лишённым морализаторства, анализа язв общества и гримас повседневной жизни. Героини Поля де Кока — актисы, графини, гризетки и влюблённые в них ловеласы, франты, бонвиваны — крутили романы, кидались друг другу в объятия, дарили надушенные поцелуи, легко сходились и расходились.
Этим героям были чужды романтические страдания, им было глубоко наплевать на судьбы мира, на революции и борьбу с тиранами. Литература эта дарила людям радость и отвлекала от невзгод реальности.
Истинные писатели, творцы большой литературы, исследователи глубин человеческой души, искренне, до исступления ненавидели Поля де Кока, в их глазах он воплощал всё самое ненавистное, что только могло быть в литературе — коммерческое творчество. Можно полагать, что книгоиздатели и книготорговцы де Коков обожали. Эта фамилия для них олицетворяла обильные продажи, толпы у книжных прилавков, беспрестанные переиздания.
Пойдя по стопам отца Анри де Кок выдал в свет кроме десятка фривольных романов, которые морализаторы сочли полупорнографическими, еще и столь же фривольную публицистику как серию очерков «История знаменитых куртизанок» и «История знаменитых рогоносцев».

Если вторая еще ждёт своего русского издателя, то первая вышла в России чуть ли не на следующий год после издания во Франции. Но в каком виде!
Поистине, если бы де Кок мог ее прочесть, он в суеверном ужасе открестился бы от этой книги! Русский переводчик вначале дал суровое осуждение проституции как профессии, заклеймил порочное общество, бросавшее женщину на панель… Помилуйте! Ничего такого в настоящей книге де Кока нет! Она представляет собой просто собрание художественных очерков, коротких повестушек, выстроенных не по историческим эпохам, и не по степени падения или развратности героинь или их коронованных покровителей, а… по алфавиту!
Тем не менее в оригинале книга де Кока представляет собой объемистый том формата А4 на 800 с лишним страниц, в котором чрезвычайно сложно ориентироваться, даже не смотря на интерактивное оглавление. Часть историй в русском переводе отсутствует (особенно если их дело происходит в России).
Поэтому решено было снабдить историю дам полусвета иллюстрациями (а все они оставили следы в творчестве великих художников своего времени) и расположить согласно эпохам в которые они жили и… любили. В итоге вышла серия из 4-х книг, каждая из которых представляет собой серию любовных новелл, в которых действуют наиболее примечательные деятели той эпохи.
Все эти истории очаровательны, поскольку де Кок искренне увлекался этими дамочками, он любил любовь во всех ее проявлениях, и потому бессмысленно искать в его рассказах даже тень осуждения. В то же время эти повести очень хорошо написаны, читатели получат от них немалое удовольствие, а морализаторы… Что ж, мораль можно извлечь из чего угодно, даже из «лёгкого чтива»…
НАЧАЛО ПРОСТИТУЦИИ

Все изыскания ясно доказывают, что первоначальная форма, в какой всегда проявляется проституция, есть, так сказать, проституция гостеприимства.
Следы ее можно найти еще в первичные эпохи, когда. известный полудикий народ занимался только охотой, удовлетворявшей его воинственным инстинктам и материальным потребностям.
Этим народом были халдеи, обитавшие в гористой стране, по соседству с Месопотамией, и в то время как они созидали, так сказать, патриархальную проституцию, — другие народы, жившие по соседству с пустынной Apaвией, в богатых и плодоносных странах, формировали из себя расу пастухов, кротких и смиренных.
Эти последние жили созерцательней жизнью, полной дикой поэзии, в которой заключался зародыш религии.
От того их проституция должна была принять религиозный характер.
Позже, когда Нимврод, основал Вавилон и подчинил себе и охотников и пастухов, в нравах этих столь несходных между собою народов произошла весьма понятная разладица, и проституция патриархальная, смешавшись с проституцией религиозной, совершенно утратила свое первоначальное значение и обе они составили нечто новое целое.
В этой их общности видели одну только форму, под которой обоготворяли Венеру или Милиту.
Пророк Варух, рассказывает в письме Иеремии к евреям, которых могущественный Навуходоносор покорил и привел рабами в Вавилон, — факты, достаточно обстоятельные, чтоб дать понятие об этом столь же странном, сколько чудовищном культе.
«Связанные женщины сидят по краям дороги и сожигают ароматы. Когда одна из них, взятая прохожим, разделит с ним ложе, она потом упрекает свою соседку в том, что та не была, подобно ей, найдена достойной принадлежать этому мужчине и видеть развязанным свой пояс».
Два века спустя, Геродот в свою очередь с более мелочными подробностями писал о том, что видел своими глазами.
«У вавилонян, говорит он, есть постыдный закон, по коему каждая женщина, родившаяся в стране, раз в жизни обязана быть в храме Венеры и отдаться иностранцу.
Многие из них, не желая смешиваться с толпой вследствие гордости, внушаемой им их богатством, приказывают везти себя к храму в закрытых колесницах. Там они сидят, окруженные великим числом сопровождающих их слуг; но большинство других окружают храм Венеры, сидя на земле, с веревочными повязками на головах. Одни приходят; другие удаляются. Повсюду видны отдельные аллеи, в которых прогуливаются иностранцы и избирают наиболее нравящихся им женщин.
Как только женщина заняла здесь место, она не может возвратиться домой прежде, чем какой-нибудь иностранец не бросил ей на колена денег и не возымел с нею сношения вне священного места. Нужно, чтоб иностранец, бросая деньги, сказал ей: «Я призываю Милиту!»
Ассирияне дают Венере название Милиты. Как бы ни была ничтожна сумма, отказа быть не может, он воспрещен законом, ибо деньги эти становятся священными.
Она следует за первым, бросившим ей деньги, и ей не дозволяется никому отказывать. Наконец, когда она уплатила свой долг богине, отдавшись иностранцу, она возвращается домой; после этого, какую бы сумму ей не предлагали, обольстить ее невозможно.
Изящные и красивые женщины не долго остаются в храме; но дурные живут иногда три и четыре года, ибо не могут удовлетворить закон.
Что же в таком случай значил тот пояс, о котором говорит Варух, как не эмблему стыдливости, — эти слабые узы, которые разрушаются насильственной любовью?
Ибо было нужно, говорят рассказы, чтоб получить ласки посвященных женщин, уводить их за веревку под деревья, где оканчивалось таинство.
Традиции требовали, для того, чтоб жертва была приятнее богини, чтобы приносившая эту жертву вносила больше пылкости в свои желания и спешила разрушить препятствия.
Барух говорит также о жертве сжигаемой посвященными, дабы сделать Венеру благоприятной.
Одни, — ибо в подобных обстоятельствах мнения всегда различны, — предполагают что то был рисовый пирог, другие — любовный напиток; а третьи говорят, что то был просто ладан.
Страбон рассказывает, что все женщины, без исключения, повиновались священному оракулу, из гостеприимства предлагая свое тело иностранцам.
Храм Милиты, единственный где с самого рождения поселилась религиозная проституция, и где она развивалась, не замедлил, понятно, оказаться недостаточным по мере того как увеличивалось государство.
Чтоб уничтожить это естественное препятствие, не. нашли ничего проще, как создать священный двор проституции, — обширное пространство, прилегающее к храму, в котором жертвы были столь безнаказанны, что ни мужья, ни отцы не имели над ними никакой власти, как только они переступали через порог.
Но эта, на половину патриархальная, на половину — религиозная проституция не была исключительной привилегией иностранцев.
Жрецы этого нечистого храма не презирали земные наслаждения и без смущения похищали большую часть тех ласк, которые поклонницы Венеры предлагали первому встречному.
Должно ли после этого удивляться, что пример, доставляемый законоположениями, до самой сердцевины развратил город всяческого великолепия.
Вавилон, этот громадный Вавилон, занимавший пространство в пятнадцать лье, и заключавшей в себе несколько миллионов жителей, вскоре стал притоном всяческих безобразий, пучиной, в которой самый отвраительный разврат постоянно продолжался, не смотря на ужасные катастрофы.
Разрушенный персами в 831 году до P. X., опустошенный, ограбленный, он изливал из своих развалин яд разврата, как сгнившие трупы заразу.
И когда Александр, вход которого в Вавилон блеском своим превосходил все, что видела вселенная, — когда Александр, говорим мы, появился в этом некогда великолепном городе, он, которого, кажется, ничто не должно бы было удивить, он ужаснулся этого страшного распутства.
Чтоб дать о нем совершенно точную идею, достаточно воспроизвести ту картину, которую рисует Квинт-Курций, историк Александра.
«Не было никого развратнее этого народа, никого более сведущего в искусстве наслаждения и сладострастия.
Отцы и матери страдали от того, что их дочери проституировали с жильцами за деньги, мужья были не более спокойны относительно своих жен.
Вавилоняне особенно предавались пьянству и всем сопровождающим оное безобразиям.
Женщины сначала являлись скромно на празднества, но потом скидывали свои платья, затем остальную одежду, мало-помалу обнажая стыдливость, пока не являлись совершенно голыми.
И то были не публичные женщины; то были женщины избранного общества и их дочери.»
Как те деревья, которые распространяют свои громадные корни по всем направлениям, — культ Милиты вскоре должен был проникнуть в остальную Африку и даже в Азию, т. е. в Египет и Персию.
Изменилась только форма, но сущность осталась та же. То была та же священная проституция, но имя богини было другое, также как и образ ее обожания.
Таким образом Венера стала Анаитис Армении.
Её храм, выстроенный в подражание Вавилонскому, был также окружен обширными землями, где теснилась толпа желавших воздать ей почести.
Иностранцы пользовались печальным преимуществом быть принимаемыми в этом оазисе легкого наслаждения и утопать в нем до пресыщения, отплачивая за это ничтожным подарком.
Мужчины и женщины, ибо храм этот принадлежал обоим полам, которые предавались на неопределенное время культу Анаитис, принадлежали, как бы можно было думать, не к низшему классу, но напротив к самым уважаемым фамилиям страны.
Ибо такова была деморализация этой эпохи, что девушкам нечего было сожалеть о последствиях этого распутства.
Напротив занятие это шло на в пользу, в том смысле, что мужья судили об их достоинствах но числу их любовников и прежде чем взять за себя замуж справлялись в храме о том, как они себя в нем вели.
Подобно тому как мужчины сделали из Венеры олицетворение женской природы, женщины создали культ Адониса, ставший впоследствии культом Пpиапa.
Финикияне были едва ли не первыми создателями гермафродизма, в изображении их Астарты…
Эта Венера, которой воздвигали храмы в Тире и Сидоне и других важных городах, была изображена двуполой, олицетворяя таким образом Венеру и Адониса.
Кроме того, этот грубый символ был еще выразительнее на ночных празднествах, отправляемых в честь богини.
Мужчины, одетые в женское платье и женщины, превратившиеся в мужчин, благодаря этому костюму, предавались самому необузданному распутству, какое когда либо зарождалось в воспаленном мозгу.
Нечистый жрец управлял церемонией, которая исполнялась под звуки музыки, состоявшей преимущественно из погремушек и барабанов.
В эту ночь смешения зарождались несчастные создания, который должны были знать только своих матерей, ибо последние были бы в большом затруднении объяснить какой отец дал им жизнь.
Между тем, брак должен был существовать вне священной проституции, ибо финикияне, дабы исполнить закон гостеприимства, отдавали своих невинных дочерей иностранцам, просившим у них убежища.
Эти беспорядки остановились только при Константине Beликом, который издал против них закон, т. е. в IV веке по P. X.
Родопис
Три тысячи лет назад. уже существовала любовь! Она существовала — и, тогда, по-видимому, жилось хорошо, ибo за невозможностью обесценить свою красоту, по крайней мере, было можно обессмертить свою память, воздвигнув монумент, стоивший целого города.
В настоящее время кидают камнем в куртизанку, когда она разорит какую-нибудь дюжину любовников. А в Египте три тысячи лет назад, куртизанка, чтобы воздвигнуть себе великолепное ложе, разоряла целую страну. Все вырождается!..

Всем известна жизнь Эзопа, первого баснописца, жившего за пять с половиной веков до Рождества Христова.
Эзоп родился в Фригийском городе Амфиуме, и, был, невольником то ли греческого философа Ксанфа, то ли богатого, Самосского купца, Иадмона. Последний сделал для Эзопа то, чего первый, не смотря на свой ум сделать не мог — он освободил его. Мы тотчас скажем при каких странных условиях. Философы Греции приобретали известность, великими изречениями, напыщенными громкими словами; Эзоп взял более скромный тон, а был не менее их известен. Он заставил говорить животных и неодушевленные предметы, чтоб научить людей быть добродетельными и исправить их от недостатков и пороков. Слава о его мудрости распространилась по всей Греции и в соседних странах. Крез, царь Лидийский, призывал его ко двору. Цари Вавилона и Мемфиса принимали его с большим почетом. Возвратившись в Грецию, он не понравился дельфийцам за свои упреки, касавшиеся их личности и особенно за басню — «Брошенные палки», направленную против них. Раздраженные обидным сравнением, они низвергли его с Гиампейской скалы.
Каким бы философом ни был Эзоп, заявивший, что, «приближаясь к царям, им должно говорить только приятные речи», — он не знал, как это доказала его смерть, — что не менее опасно оскорблять народ.
Вот почти слово в слово то, что говорит об Эзопе Лафонтен, а его рассказ, заимствованный из сочинения греческого монаха, по имени Плануда, которому мы обязаны собранием басен знаменитого фригийца, — точен…
Только в одном случае он неправ, когда со слов Плануда, он представляет Эзопа существом отвратительно безобразным от природы, которая, одарив его прекрасным умом, произвела его на свет уродливым и безобразным, едва похожим на человека, совершенно лишив его дара слова.
Тогда как, напротив, один ученый XVII века, Мезирианц, близко знакомый с древностью, доказал, что Эзоп, не будучи идеалом красоты, подобно Антиною, — был не хуже всякого другого, и что, умея мыслить, он выражался получше многих.
Это доказывается тем, что он имел честь или счастье быть любовником той знаменитой куртизанки, имя которой носит этот рассказ, и которая за собственный свой счет воздвигла одну из пирамид Мемфиса, — так дорого ценились её прелести и ласки, — и одну ночь разделяла ложе с царем Египта Амазисом… То была единственная неверность, за которую Амазиса могла упрекнуть его супруга. Но когда Родопис знала и любила Эзопа, она, подобно ему, была меньше, чем ничто… Она была невольница!
Родившаяся во Фракии, она пятнадцати лет была похищена лесбосским пиратом, привезена на остров Самос и продана Иадмону, хозяину Эзопа, — того самого Эзопа, который за свой ум и веселый нрав уже начинал приобретать расположение своего господина.
Родопис была восхитительно прекрасна, и по этому была куплена Иадмоном…
Этот купец очень любил хорошеньких женщин. Но была еще и другая причина этой купли.
Хотя Иадмон и не думал быть философом, он был не глуп. Он хотел на опыте увидеть, может ли человек, вроде Эзопа, поучающего себе подобных, при случае вести себя лучше их?..

Эзоп
Эзоп был вместе с Иадмоном на рынке невольников, на котором была выставлена Родопис. Крик восторга, вырвавшийся у фригийца при виде молодой фракиянки привлек на нее внимание Иадмона, и у него зародилась первая мысль, сравнительно маккиавелиевского плана, исполнение которого мы увидим.
— На самом деле, сказал он, — эта девушка восхитительна. У тебя Эзоп, хороший вкус. Я ее куплю. Сколько стоит?
— Две тысячи золотых монет.
— О! две тысячи — много! Полторы тысячи!
— Ни гроша меньше.
— Ну, я беру ее. Она мне нравится.
И Иадмон прибавил сквозь зубы: «и Эзопу тоже!»
В то время как ее торговали, краснея от гнева и стыда за свою наготу, — так как и невольницы и невольники выставлялись на. продажу совершенно голыми, — Родопис, со сдвинутыми бровями, ярким взглядом, оставалась безмолвной и неподвижной как статуя.
— Ты ее приведешь ко мне, — закончил Иадмон, отдавая пирату кошелек, содержавший в себе часть суммы, за которую была куплена девушка.
— Теперь она ваша, господин, — сказал Эзоп, — так что совершенно бесполезно, чтоб эта бедная девушка была жертвой всех алчных взглядов.
И не дожидаясь ответа Иадмона, он набросил на фракиянку кусок материи, взятой им у пирата.
Справедливо! совершенно справедливо!.. — проговорил Иадмон. — Так как она теперь моя, то бесполезно… Что значит иметь прислугой человека с чувством… Этот Эзоп обо всем думает!..
Раньше чем через час Родопис была уже в жилище Иадмона, который велел ее одеть в великолепные одежды.
На самом деле, прекрасная фракиянка очень нравилась Иадмону; приближающаяся ночь не могла пройти без того, чтобы он не воспользовался своими правами над нею. Эзоп вздыхал.
Но его. тайная печаль перешла в радость, когда Иадмон, обернувшись к нему, сказал:
— Эзоп, я хочу дать тебе поручение.
— Какое господин?
— Эта фракиянка, без сомнения, прекрасна, но что значит красота без добродетели! Прежде, чем она будет мне принадлежать, для меня было бы приятно, если бы ты развил, если возможно, способности Родопис… Если только возможно… потому что если нечего развивать…
— Да- да, господин! Или физиономия Родопы очень обманчива, или в ней есть много…
— Ты полагаешь? Тем лучше! И так ступай, мой милый, поговори с ней… заставь ее говорить… научи, развей ее… Научи ее полюбить своего господина прежде, чем ему принадлежать. Слышишь, Родопис, если ты сумеешь воспользоваться уроками моего верного Эзопа, ты будешь для меня не простая невольница… Я, быть может, сделаю тебя свободной, как намерен сделать то же, для назначаемого тебе профессора. Короче… заслужите оба мою благосклонность и… больше я не скажу ничего… вы не будете раскаиваться!
Иадмон после этих слов удалился, оставив вместе Эзопа, которому было еще только тридцать лет, и молодую девушку.
Смотря на него она хохотала.
— Чему вы смеетесь? спросил он, восхищенный в тоже время тем, что поручение его расстроило.
— Тому, — отвечала она, — что если вы намерены заставить меня любить этого старика, которого золото сделало моим господином, то вы меня удивите.
«О! о! — подумал Эзоп, — а она с душком!»
— Однако… — сказал он вслух.
— Никакого «однако» нет, — возразила Родопа. — Я буду ему повиноваться… если буду вынуждена… но никогда не полюблю его. Подумал ли он о том, что встревожило вас там… в палатке пирата?.. Если б я и полюбила кого-нибудь, так человека, который имел бы сострадание к моему стыду… В таком случай, это был бы не он!
Эзоп чувствовал как сильно билось его сердце.
«Она признательна», — подумал он.
Родопис продолжала:
— И разве Иадмон молод или красив?.. Разве он доказал мне одно из самых благородных чувств?.. Разве рабы любят своего господина?..
«У неё есть ум, — подумал Эзоп. — Ум, сердце, красота, и я откажусь от обладания таким сокровищем!.. Ни за что!»
Ловушка была поставлена искусно, и Эзоп влетел в нее по уши, не смотря на свою мудрость.
После полупризнания, сделанного ему Родопой, естественно уже увлеченный ею, — где было ему взять силы, даже угадывая хитрость Иадмона, чтоб уничтожить эту западню своим поведением?
Однако, нисколько дней он боролся; нисколько дней он старался победить свою страсть…
Но они бывали постоянно одни…
Она была так прекрасна!..
И когда он говорил ей, для исполнения своей обязанности, об Иадмоне, столь добром и великодушном…
— Ты мне надоедаешь, — отвечала она с гримаской.
Какая ошибка, надойдать хорошенькой девушке, когда, по-видимому, стоить только захотеть, чтоб развлечь ее…
Наконец, однажды вечером, Эзоп открыл свою любовь Родoпе.
— Так что же? — сказала она.
После этого ответа могло случиться только то, что случилось. Увы! наши влюбленные не предвидели той печальной развязки, которая разрушила их счастье!..
Ничего не подозревающие, они c самого первого дня, в который была предоставлена им видимая свобода находились под надзором шпионов, наблюдавших за каждым их движением.
Когда после самых сладостных минут, проведенных ими, под безмолвной сенью дерев темного сада, они возвращались, обнявшись, в свое жилище, — на пороге встретил их Иадмон, который как будто их поджидал.
Беспокоиться пока было нечего; Иадмон часто ожидал таким образом их возвращения с прогулки употребленной ими без сомнения, для того, чтоб потолковать о своих постоянных обязанностях. Они поспешили разъединить слишком нежно сжатые руки.
Но Иадмон проговорил насмешливым голосом:
— Ну-с, господин Эзоп, мудрый Эзоп, добродетельный Эзоп, так то ты проводишь в жизнь свои правила? За добро ты платишь злом. Я тебя считал своим сыном. Более гуманный, чем Ксанф, у которого я тебя купил, я не только обещал не продавать тебя, но даже дал слово сделать тебя свободным. В благодарность за мою доброту ты обольщаешь невольницу, вверенную твоим попечениям… Ты крадешь принадлежащие мне ласки… Что ты ответишь?.. Какого наказания заслуживаешь ты за свою измену?..
Пораженный Эзоп склонил голову.
Родопа стояла гордая, спокойная, улыбающаяся.,.
Можно было сказать, что счастье, которое она вкусила, давало ей смелость противостоять гневу господина.
Этот последний, по прежнему насмешливо, продолжал:
— Ну, я доведу испытание до конца, чтоб доказать тебе как ничтожна твоя мудрость… Ты любишь Родопу? Я отдаю ее тебе. Ты на ней женишься.
Родопа радостно вскрикнула; Эзоп испустил восклицание, вовсе не имевшее того же смысла. Как ни был он увлечен прекрасной фракиянкой, перспектива быть навеки связанным с нею не очень льстила его воображению.
— Только, — продолжал Иадмон, — ты останешься моим рабом. Это меньшее наказание за твое преступление.
Женатый и раб! Наказание было слишком строго… Эзоп упал.
— Умилосердитесь, господин!.. — прошептал он.
— А! а! — зубоскалил Иадмон. — Ты просишь милости?.. Ты предпочитаешь свободу своей возлюбленной. Для тебя прелестная Родопа, это не очень то честно! Но что ты хочешь, хотя он меня глубоко оскорбил, я не хочу его обезнадеживать… Покончим же Эзоп, ты не будешь мужем твоей красавицы… Ты будешь свободен… Ты свободен с настоящей минуты… Но Родопа заплатит за вас обоих… Завтра один из моих приказчиков отправляется в Египет; он возьмет с собой Родопу, и там продаст ее. Выбирай, Эзоп: ты раб с нею… или свободный без неё?
Родопа, бледная, смотрела на еще более бледного Эзопа. На что он решится?
Страшная борьба происходила в душе фригийца.
Иадмон сказал ему правду, что докажет, что его мудрость дым: или из любви он должен приговорить себя к вечному рабству, он, которой мечтал на свободе странствовать по свету, — или по рассудку, он пожертвует женщиной, которой cию минуту клялся в нежности и привязанности…
— Выбирай! — повторил Иадмон. — Свободный без нее или раб с нею?
— Свободный!.. — пробормотал Эзоп.
— О! — вскрикнула фракиянка уничтожая своего любовника презрительным взглядом.
И ничего не прибавив, повернулась к нему спиной и удалилась.
Иадмон был восхищен. Он отмстил по-своему, заставив, так сказать, мудреца выказать себя эгоистом и трусом, как самый обыкновенный смертный. Он сдержал свои обещания.
В тот же вечер в кармане у Эзопа была отпускная.
На другой день Родопа плыла на корабле в Египет.
Когда она оставляла дом Самосскего купца, он сказал ей насмешливо:
— Ну, моя милая, ты быть может ошибалась, отвергнув старика ради молодого человека.
— Я была права, гордо ответила фракиянка, — потому что узнала, что ни старый, ни молодой, оба ничего не стоят. Отныне я никого не должна любить ни молодого, ни старика.
В это время в Саисе царствовал сын Псамметиха II Амазис, — царствование которого, если б о нем не говорили арабские историки, можно бы считать за басню.
Унаследовав после своего отца трон, этот государь превзошел его великолепием и великодушием. Кроме 14.000 прислужников, состоявших при дворце со времени Псамметиха, Амазис держал еще две тысячи офицеров и восемь тысяч лакеев, которыми он увеличил свою прислугу, получив престол.
Он каждый день надевал новое платье; он ни разу не садился на одну и ту же лошадь, и жил только год во вновь построенном дворце…
Одежда, которую надевал он хотя бы на час, дорогой скакун, на котором он съездил в храм Юпитера или Дианы, дворец, в котором он прожил час, — все это становилось собственностью его офицеров, фаворитов, знатных вельмож и придворных, которым он это дарил.
Однако, эти одежды и дворцы были не малоценные вещи. Десять тысяч человек были непрестанно заняты выработкой материй для одеяний царя и женщин его сераля. По этому можно судить о громадном числе тех, которые употреблялись на постройку великолепных и многочисленных зданий, назначавшихся для его жительства. То были обширные и роскошные дворцы, где самый драгоценный мрамор, самая изысканная живопись, самая дорогая мебель и даже драгоценные камни были употребляемы в дело, чтоб жилище соответствовало пышности хозяина.
Дарить всё это богатство царю ничего не стоило, и чего бы ни стоила вещь, он более не смотрел на нее как на свою, как только он уже имел ее.
Амазис, в сущности обладал только двумя вещами, которых он не уступил бы за все троны, за все сокровища мира.
То был Нубийский лев, чудный лев с голубыми глазами, который оберегал его день и ночь и который в то время, когда царь отдыхал, никому не позволял к нему приближаться. Этот верный и бдительный страж, прибавляют арабские историки, был подарком одного знаменитого мага, который предупредил Амазиса, что ему угрожает убийство и что единственное средство его избегнуть, — никогда не расставаться со львом с голубыми глазами.
Второе, что Амазис ценил более, чем обладание своим обширным государством, была его супруга Гермонтия; и Гермонтия заслуживала всей нежности царя. Независимо от физической красоты и ума, способных победить и пленить сердце, — она питала к Амазису такую глубокую привязанность, что в первые годы супружества, боязнь не быть любимой или видеть разделяемой любовь, которой она была, по её мнению, одна только достойна, заставила ее потерять рассудок. По счастью рассудок возвратился и она нашла в царе полную взаимность, которой заслуживало такое ясное доказательство любви. Хотя Амазис имел многочисленный и отборный сераль, но ни одна из заключенных в нем красавиц не имела права похвастать, что когда либо получила от него поцелуй.
Две тысячи женщин, ни больше, ни меньше, были осуждены ради одной и жить и умереть девственницами.
Это должно было принести Амазису несчастье. Было невозможно, чтоб рано или поздно, раздраженные презрительным пренебрежением эти две тысячи сердец не сделали его жертвой слишком постоянной верности.
Зимой Амазис жил в Саисе, летом — в Мемфисе, великолепном городе лежащем при входе в ту обширную песчанную равнину, которую впоследствии назвали равниной мумий, вследствие многочисленных гробниц, найденных там, и на севере которой возвышаются пирамиды. В этом то городе находился храм бога Аписа иди Озириса, представляемого черным быком имеющим белое пятно. В Мемфисе же находился пресловутый лабиринт или дворец царей, о котором говорит Геродот, и который был построен одним из фараонов в память о победе над одиннадцатью враждебными царями…
Но возвратимся с Амазису, а затем к Родопе.
Между прочим, как царь, Амазис был лицом очень странным, тем, что англичане называют эксцентричным, — со своим безграничным великодушием, со своей верностью одной женщине, обладая двумя тысячами.
А этот лев с голубыми глазами, как товарищ ночи…
Но каков бы он ни был, подданные его боготворили.
Раз в неделю, во время своего пребывания в Мемфисе, он в сопровождении небольшой стражи, отправлялся на одно из прелестнейших мест города и там, — как позже Людовик Святой под дубом, — Амазис творил суд и расправу под сикоморой. То было славное время, когда сами цари управляли правосудием!
Однажды, по окончании судилища, когда он намеревался возвратиться во дворец, вдруг, невольно, Амазис испустил крик удивления, которому толпа отвечала, как эхо, при виде предмета, упавшего перед ним с неба.

Типичные египетские сандалии tatbeb
Эта вещь была tatbeb, по-нашему — туфля, а в небе еще парил орел, который выпустил ее из своих когтей, почти прямо над головой царя.
Где этот орел взял tatbeb и почему он выпустил ее, как будто нарочно, на дороге Амазиса? Вот что было необыкновенно.
Не менее удивительны были крохотные размеры означенной вещи. По положительным уверениям серьёзных историков эта туфля, белая с золотым рисунком, — имела десять сантиметров длины и четыре ширины.
Кому принадлежала восхитительная ножка, надевавшая эту туфлю?
— Я узнаю! я хочу знать! — говорил сам с собой Амазис, поднявший ее собственными руками и пожирая своими благородными очами, переворачивая ее в своих руках, как будто ожидая найти где-нибудь тайну её происхождения.
О, бренность человеческой мудрости! При одном только виде туфли, Амазис, добродетельный Амазис, влюбился в незнакомую девушку или женщину.
Эта женщина или девушка была ему необходима!
* * *
В тот же день он повелел, чтоб во всем Мемфисе и его окрестностях было объявлено, чтоб та, у которой орел унес tatbeb, немедленно явилась в его дворец.
Эта tatbeb, причина пылкого и внезапного восхищения Амазиса, — принадлежала Родопе. Привезенная в Египет и проданная одному богатому жителю Навкатриса, милях в двенадцати от Мемфиса, однажды утром она купалась в Ниле в обществе молодых девушек, таких же невольниц, как и она; в это время орлу, пришли охота похитить одну из tatbeb прекрасной фракиянки и отнести ее царю. Царь, который после этого происшествия не спал целую ночь, что вовсе не доставляло удовольствия его супруге, очень хорошо заметившей, что супруг её не совсем в своей тарелке…
Она с беспокойством расспрашивала его о причине.
— Дорогая Гермонтия, — отвечал он ей довольно сухо, — у меня две тысячи женщин, до которых, чтоб не обидеть вас, я никогда не коснулся даже пальцем; прошу вас, оставьте меня в покое, когда случайно, мне придет в голову каприз. В настоящую минуту меня занимает не вопрос любви, а вопрос искусства. Будьте откровенны и скажите, много ли найдется ног, которым будет в пору эта туфля?
Сказав это, Амазис снял с своей груди крохотную туфлю.
Царица пожала плечами.
— Во всем Египте не найдется ни женщины, ни девушки, которой была бы она впору, — вскричала она.
— Хорошо! — возразил царь; — если не в Египте, то в Италии, Греции, в Персии, в Индии — пусть ищут везде эту ногу: я хочу ее видеть! Если я должен употребить всё мое время, если я буду вынужден разослать всех моих служителей по всему свету отыскивать её… Её найдут и вместе с туфлей доставят мне её хозяйку…
Царица вздохнула, но ничего не возражала; она поняла, что будет не только неловкостью, но быть может даже неблагоразумием с её стороны, противиться капризу своего супруга.
Между тем, четыре или пять тысяч послов отправились во все стороны не только в Мемфисе, но на двадцать лье в окружности.
Сидя на колесницах, запряженных двумя быстроногими бегунами, эти герольды, с вожжами в одной руке, с рожком в другой, останавливались, на каждом месте, в каждом городе, в каждой деревне и там, сыграв блистательную Фанфару, чтоб собрать толпу и привлечь внимание, они три раза, звучным голосом, провозглашали царскую прокламацию.
В Навкатрисе, один из этих герольдов остановился как раз против того дома, в котором жила Родопа. Перед домом ее хозяина Манефты.
Манефта был мужчина лет сорока, довольно красивый, очень, как мы сказали, богатый, — имевший слабость к красивым женщинам, как Иадмон. Средства ему позволяли; он покупал всех женщин, привозимых пиратами из чужих стран на городской базар; он был умен и добр, он обращался с ними не как с невольницами, а как с равными, великолепно одевал их и с утра до вечера давал им полную свободу.
Родопа, одно из последних его приобретений, была предпочитаема им другим. К несчастью в ту эпоху, когда он купил ее, — недели за две до того времени, о котором мы говорим, — довольно важное нерасположение принудило его не иметь женщин и Манефта только незначительными ласками доказывал прекрасной фракиянке тот нежный интерес, который она ему внушала.
Накануне того дня, в который орел похитил одну туфлю Родопы, наш навкатриец, почувствовав себя лучше, потребовал новую невольницу к себе. Если он еще не мог доказать ей насколько она ему нравится, он по крайней мере мог ей сказать свою оценку.
Родопа была около своего господина, когда звук трубы раздался на улице, предшествуя этим словом медленно произносимым герольдом:
«Именем Амазиса, любимица богов той женщине или девушке, богатой или бедной, свободной или рабе, у которой орел похитил одну из talbeb приказ немедленно явиться в Мемфис во дворец царя. И несчастие, беда и проклятие тому, кто бы он ни был, кто по своему желанию воспротивится исполнению приказанмя Амазиса, любимца богов.»
Манефта знал об этом происшествии; достаточно любопытный, он с поспешностью заставил себе рассказать историю пропажи туфли Родопы; еще герольд не кончил, — готовясь начать снова, — как, обратясь к фракийке, черты которой выражали удивление, смешанное с радостью; он оказал ей:
— Ты слышала?
— Да.
— Что ты хочешь делать?
— Повиноваться царю. Немедленно отправиться в Мемфис.
И она направилась к лестнице; Манефта удержал ее. Он был бледен.
— Итак, — возразил он, — ты оставляешь меня без со- жаления? Однако, я был к тебе добр. Я хотел быть еще добрее… Если ты уйдешь, то быть может не возвратишься…
Она ответила презрительном жестом.
— Ну, я и не возвращусь!..
— Но я уже любил тебя.
— А я никогда не полюбила бы тебя… Прощай!
И она скрылась.
Со стороны Манефты было безумием хоть минуту думать, что он мог бы воспротивиться желанию своей невольницы. Приключение Родопы, случившееся с ней в то время, когда она купалась в Ниле, — проникло в квартал богатого навкатрийца. Когда прекрасная фракиянка появилась на пороге дома своего господина, ей не было нужды говорить, тысячи голосов закричали вместо неё герольду: «Вот она! Вот та, у которой орел похитил tatbeb!»

Родопис. С картины Дж. Фредерика Уоттса, 1868 г.
Восхищенный посланный Амазиса, надеявшийся получить хорошее вознаграждение за выполнение поручения подал руку молодой девушке, которая пробиралась сквозь толпу, почтительно раздвигавшуюся перед нею и помог ей взойти на колесницу.
Лошади помчались как стрела.
Менее чем через два часа Родопа была в Мемфисе во дворца царя.
Амазис не спал и вторую ночь, следовавшую за тем днем, в который орел уронил перед ним таинственную туфлю.
В это время он едва ли съел полкуска поджаренного пирога с медом и выпил рюмку белого мареотического вина с фиалковым букетом.
Бессильно лежа на своем ложе, в одной из самых отдаленных комнат своего дворца, с глазами устремленными на tatbeb, лежащeю пред ним на столе из порфира, он шептал:
«О дорогая, обворожительная ножка, увижу ли я тебя? Моя рука, уста мои неужели не коснутся тебя, как они могут касаться этого куска кожи, служившего тебе покрышкой? О дорогая, обворожительная ножка! быть может, ты принадлежишь не простой смертной! Увы! твоя божественная форма удостоверяет в этом. Ты принадлежишь богине: быть может Минерве или скорее Венере, Венере Арсиноэ, которая некогда царила в этой страна. Орел похитил эту туфлю не на земле, а на небе. Но в таком случай, богиня! если мне невозможно узнать и любить тебя, к чему дозволила ты этому орлу бросить страсть в мою душу?… Нет! Это невозможно. Ты не желала, чтоб я был на веки несчастлив!.. Напротив, этот подарок, сделанный от твоего имени, есть залог твоей будущей ко мне благосклонности… Арсиноэ! Арсиноэ! явись! я люблю тебя!.. Я люблю тебя и ожидаю!»
Это походило на сумасшествие! Если б нога, которой принадлежала туфля, запоздала еще нисколько дней, — Амазис совершенно потерял бы голову. Но вдруг на дворе дворца раздался звук трубы, игравшей победу… Он обещал ему хорошую вещь…
Счастливый, служитель, нашедший Родопу, предстал пред царём.
— Ну? — спросил послёдний задыхающимся голосом.
Вместо всякого ответа посол положил на порфировый стол дружку tatbeb, упавшей с неба.
Амазис радостно вскрикнул.
— Через месяц, — сказал он, — я оставлю этот дворец; через месяц он будет твой.
Жохер распростерся перед ним: Амазис сравнивал туфли. То была настоящая пара. Он проговорил:
— Как ее зовут?
— Родопа.
— Где ты нашел ее?
— В Навкатрисе.
— Она хороша собой?…
— Как звезда,
— Хорошо.
Царь ударил особенным образом в тэмбр; на этот зов явился Имбульд, управитель его удовольствиями. Ибо таков был этикет, что ни в каком случае царя нельзя было беспокоить: ни одна женщина, кто бы она ни была, исключая царицу, не могла явиться перед ним иначе, как будучи введена Имбульдом.
— Через час, Имбульд, — сказал царь, — ты приведешь Родопу.
Почему через час, когда ничто не мешало царю увидать ее тотчас же?
Но следовало позаботиться о туалете фракиянки Не думаете ли вы, что Амазис, царь Египта, потомок фараонов и сын Псамметиха, мог бы принять женщину которая предназначалась для его объятий, в той самой одежде, которой она обязана щедротам первого встречного?…
Между тем прибытие женщины с туфлей, произвело во дворца некоторое впечатление.
Две тысячи женщин Амазиса взволновались. Возможно ли, чтоб роса любви, в капле которой им постоянно было отказываемо, должна обильным потоком излиться на презренную чужестранку?… В серале уже было известно, что Родопа фракиянка.
Не менее этих женщин скорбела царица. Она явилась к царю.
— И так, — сказала она, тоном печального упрека, — это решено: вы хотите дать мне соперницу?…
— На один раз!.. — возразил царь, не смея смотреть на Гермонтию, ибо в глубине сердца он чувствовал, что делает ошибку, ошибку относительно своей законной жены и относительно своих двух тысяч наложниц… Наконец ошибку относительно самого себя, до сих пор по принципу следуя супружеской верности.
— На один раз говорите вы?.. — с горечью возразила царица.
Амазис сделал нетерпеливое движение.
— Ну, я верю… я верю вам, — возразила Гермонтия. — Но чтоб совершенно успокоить мою встревоженную нежность, дайте мне клятву…
— Какую?
— Поклянитесь Изидой, что эта женщина проведет только ночь, одну только ночь на вашем ложе…
Царь размышлял. Но он решил, что эта клятва будет уздой самой страсти, в случай, если обладание желаемым предметом даст этой страсти опасное развитие.
Как бы ни была мила Родопа фракиянка, долго любить ее было бы ниже достоинства великого государя.
— Клянусь, сказал он.
— Достаточно!
И Гермонтия удалилась более спокойная, хотя не менее печальная.
«Дурная ночь скоро проходит, — думала она. — И после дождя бывает вёдро».
Отданная Имбульдом на руки женщин, состоявших на службе при гинекее или серале, Родопа, лишенная своих одежд, сначала была вымазана ароматическими маслами, и её волосы облиты драгоценными ароматами. Затем на нее надели платье. То было не платье, а скорее сотканное облако, сжатое в талии пурпурным пояском, оставлявшее открытыми во всей их величественной наготе ее грудь, плечи и руки.
На голову ей надели род шлема из золота, форма которого напоминала собою птицу с распущенными крыльями, ее руки были покрыты браслетами из ляпис-лазури; в уши ей вдели гигантские золотые кольца, украшенные изумрудами.
Потом ей подали туфли; но все были слишком длинны и широки. Ея крохотная ножка плясала в них не достойных ее туфлях.
— Я пойду босая, — сказала она.
Невольницы раскричались. Но Имбульд велел им молчать. Привыкший жить среди женщин, Имбульд понимал их с полуслова. Родопа из кокетства хотела явиться пред царем с босыми ногами, сохраняя таким образом для него удовольствие надеть на неё туфли. Сверх того здоровье прекрасной фракиянки не могло пострадать от её милого каприза. Гинекей был невдалеке от царских покоев, и галереи, которые вели к ним, были покрыты циновками.
Амазис ожидал Родопу в своей спальне.
Тогда уже как начинала спускаться на землю ночь. Родопа была введена в спальню царя, и, по его приказанию, рабы зажгли лампады, висевшие на золотых цепях между колоннами и задернули окна тяжелыми пурпуровыми занавесами.
Как только Имбульд, предшествуя Родопе, сказал Амазису: «О царь, любимец богов, Родопа здесь!» — Амазис встал.
Он внимательно и до мелочей рассматривал ее.
С опущенными глазами, в скромном и вместе с тем гордом положении: с скромностью подданной перед своим государем, с гордостью женщины, стоящей перед своим любовником, — Родопа не шевелилась.
Наконец по знаку повелителя Имбульд и рабы удалились.
Амазис подошел к Родопе и посадил ее на кресло из слоновой кости. Потом он взял принесенные сюда туфли, и прекло- нив колена, дрожа от сладости замедленного прикосновения к маленьким ножкам фракиянки, он надел одну за другой.
Она улыбнулась.
Он заметил эту улыбку.
— Да, — сказал он, — Амазис, царь царей, служит тебе как раб. Что ты дашь ему, Родопа, взамен его забот?
— Такое наслаждение, какого он не вкушал никогда, и подобного которому он никогда не испытает! — гордо возразила Родопа.
Последствия доказали, что она больше чем сдержала свое обещание.
Шесть часов прошло с того времени, как Амазис и Родопа остались вместе, ночь близилась уже к своему концу… Вскоре солнце должно осветить Мемфис…
Солнце!
А царь поклялся, что прекрасная фракиянка проведет с ним одну ночь, одну только ночь!
Одну только ночь! Но почему эта ночь не может быть продолжительнее прочих ночей? Настанет день… Пускай настанет! Для Амазиса и Родопы продолжится ночь…
Следовало только пожелать… А они желали.
Амазис позвал невольника.
— Эти лампады тухнут… Оживи их!
Раб повиновался. Он снова наполнил ароматным маслом бронзовые чаши, и заменил обуглившиеся светильни новыми.
— Хорошо! Принеси сюда ужин!
Амазис мог бы сказать «завтрак». Правда, ночью не завтракают, а ужинают.
Подали ужин. Роскошный ужин щедро орошенный винами Финикии и Греции.
— Оставьте нас! — приказал царь.
Стол уставленный блюдами, чашами, амфорами, цветами, исчез…
— Я люблю тебя Родопа, — сказал Амазис.
— Царь, я люблю тебя, — ответила она.
И так продолжалось три ночи и два дня, — два дня смешались с тремя ночами, или лучше сказать, два дня с этими тремя ночами составили одну в шестьдесят часов.
Истинно ночь царственной любви.
Супруга и две тысячи наложниц Амазиса были на сто верст от истины. Но опять-таки точный закон этикета египетского двора воспрещал проникать в спальню царя ранее того, как он изъявит желание встать.
И так, потому что он не встал, потому что под предлогом, что для него не существует дня, — он продолжал покоится на ложе. Каждые шесть часов он посвящал нисколько минут на то, чтоб приказать зажечь лампады и подать ужин.
— Но нет причины, чтоб этому был конец! — проговорила царица.
— Эта чужестранка — волшебница!.. — кричали две тысячи наложниц.
— Да, — подтверждала Гермонтия, — это волшебница! Совершенно неестественно иметь такую маленькую ногу, как у неё… Это демон, овладений душой и телом моего супруга! Дорогой Амазис, мы тебя больше не увидим!.. Или, когда увидим, если это продолжится, — что останется от тебя — призрак! Несчастье! несчастье!
— Несчастье! несчастье! — повторяли две тысячи женщин.
Если б это имело конец! Все имеет конец, даже ночи царственной любви.
Прошло шестьдесят часов; утром Амазис позвал своих комнатных слуг, вел им открыть окна спальни и оделся…
В это время, в соседней комнате, Родопа, вспомоществуемая эфиопскими невольницами, также одевалась.
Когда туалет ее был окончен, ее привели к царю, который сказал ей с оттенком нежности и быть может сожаления, умеренного величием.
— Родопа, мы с тобой больше не увидимся. Но прежде чем расстаться я должен отплатить тебе за то счастье, которым ты меня дарила. Я даю тебе три милости. Говори, чего ты желаешь?
— Прежде всего, о царь, свободы, — ответила фракиянка. — Я невольница Манефты из Навкатриса.
— Ты более не невольница! Дальше?
— Потом, если боги будут столь милосердны, что дозволят мне прожить довольно долго, чтоб выполнить мой проект, — я прошу права воздвигнуть на песчаной равнине, близ пирамид Гермеса и Псамметиха I-го, третий, подобный им монумент на мой счет, который будет носить мое имя.
Амазис иронически наклонил голову.
— Ты, кажется, забыла, — сказал он, — что для того, чтоб построить подобную гробницу, мало быть царем, то есть существом которому боги вручили все могущество и все богатство… а ты…
— Я женщина без богатства и власти. Ты заблуждаешься царь! Мое могущество, против которого ничто не устоит, здесь… и здесь…
Родона постепенно касалась пальцем своих уст, еще влажных от поцелуев, своих очей, еще полных страстности. Она продолжала:
— Что касается моего богатства… признай что смертная, имевшая счастье провести 60-часовую ночь с Амазисом, царем царей, — с того времени может одним взглядом осчастливить не только мужчин этой страны, но даже мужчин всех стран, которые почтительно принесут золото к ее ногам.
Амазис поклонился. Все охотно соглашаются с рассуждением, которое льстит суетности.
— Действительно, отвечал он, — если рассматривать вещь с этой точки зрения, я признаю, что от тебя зависит вскоре иметь громадное богатство. И так, я позволяю тебе выстроить пирамиду возле пирамиды Гермеса и Псамметиха I-го. Какой же ты желаешь третьей милости?
В кедровом ящике, около Родопы, возвышался голубой лотос. Коснувшись его пальцем, Родопа скромно проговорила:
— Позволение сорвать и сохранить этот цветок в воспоминание твоей благосклонности…
Физиономия Амазиса осветилась самой ласковой улыбкой. Удовольствоваться цветком за шестьдесят часов сладострастия — это было и восхитительно, и грациозно, и ловко…
— Так как он тебе правится, — возьми его, сказал царь. — Но завтра он перестанет существовать. Вот другой, который не завянет, — другой, — помни, — если когда-либо твоя жизнь будет в опасности, тебе будет достаточно прислать его ко мне, чтоб моя рука распростерла над тобой покров спасения.
Проговорив эти слова Амазис отделил, сломив ветку, от золотой вазы удивительно сделанный цветок и подал его Родопе.
— И это еще не все, — прибавил он. — Царь не довольствуется тремя милостями, из которых одна заключается в подарке двух цветков, — он простирает далее свое великодушие к женщине, которую он любит. Я тоже хочу помочь тебе в постройка пирамиды. Следуй за Имбульдом; он проведет тебя к Мозуаху, моему казначею, который даст тебе во сто раз больше золота, чем может поместиться в твоих туфлях. Прощай!
И в последний раз подарив улыбкой предмет своей прихоти, царь удалился.
Туфли Родопы были очень малы, но когда они были сто раз погружены в царскую сокровищницу и вынимаемы наполненными, то в ней образовалась очень заметная пустота.
Нужно было двух человек, которые снесли бы эту массу металла в колесницу, которая отвезла Родопу в Навкатрис, где в тот же день она купила великолепный дворец.
И угадайте, кто был первым любовником Родопы, который в виде золотых слитков положил второй камень для ее пирамиды? Второй потому, что первый был дан Амазисом.
То был Манефта, весьма еще довольный получить за эту цену благосклонность той, которая три дня назад была его невольницей.
Едва прошло пять лет, и Родопа уже обладала почти всей суммой необходимой для постройки пирамиды.
Она рассчитала верно; её любовное приключение с Амазисом произвело шум. Сначала весь Египет доставлял ей любовников; затем настала очередь других стран…
Каждый день из Греции, Италии, Персии, Китая появлялся в Навкатрисе какой-нибудь любопытный путешественник, желавший насладиться восхищением при виде прелестей этой женщины, из любви к которой могущественный царь, изменив порядок природы, заставил ночь продолжаться шестьдесят часов.
Еще год или два, и куртизанка, успокоившись на лаврах, могла бы дать приказание начать постройку своей гробницы.
Обожаемая при жизни; уверенная, что после смерти она упокоится, как царица, под массой гранита и мрамора… Какое настоящее и какая будущность для дочери бедного фракийского рыбака! Ибо таково было происхождение Родопы. Отец её был рыбаком в Адере.
И все таки не смотря на все благосостояние, Родопа часто бывала задумчивой. Часто, утром, проснувшись и созерцая из окна своего дворца далекие небеса, или гуляя вечером одна по тенистым аллеям своего сада, она часто о чем-то вздыхала.
Чего же не доставало ей?
Мести.
Кому она хотела мстить? Кто оскорбил ее?
Если вы забыли, то она помнила.
То был Эзоп; она хотела отмстить ему.
«Увидеть его… наказать… и умереть!..» — думала она.
Но увидит ли она его? Зная о его наклонности к путешествиям, она надеялась, что он приедет в Египет. Начинался шестой год… Она теряла надежду
То была с ее стороны ошибка. Однажды, богатый вавилонянин Агзер, только что прибывший в Навкатрис, первой заботой которого было представиться прекрасной куртизанке, сказал ей:
— Я путешествовал с одним господином, который говорил мне о тебе.
— Как его зовут?
— Эзоп.
Фракиянка прыгнула к вавилонянину.
— Ты путешествовал с Эзопом?
— Да, и даже был очень рад, потому что это человек ученый. Он был в большом уважении в Вавилоне.
— А что он говорил обо мне?
— О! Ничего, чего бы не знал весь свет. Это преимущество знаменитостей интересовать малейшими подробностями их жизни.
— Ну?
— Он говорил, что ты была невольницей вместе с ним в Самосе, у одного купца, по имени Иадмон.
— Потом?
— Всё. Разве он мог мне сказать больше этого?
— А где он теперь? — спросила Родопа после некоторого молчания, не ответив на вопрос Агзера.
— В Мемфисе, при дворе царя.
— Хорошо. Я тебе очень благодарна.
Итак, Эзоп говорил о ней. Он, стало быть еще думает о ней. Но после того, что некогда произошло между ними, он не осмелится явиться в тот город, где она живет.
Нужно, чтоб он явился.
Необходимо даже, чтоб он явился к ней, в ее дворец.
Нисколько месяцев тому назад, она купила арабского невольника, по имени Безелеэль, которого она сделала своим кравчим.
Этот невольник был необыкновенно красив; куртизанка заметила это, и не раз замечала она, что когда он думал, что она не наблюдает за ним, он стоя сзади нее и скромно наливая вино в золотую чашу, которую она подавала ему через плечо, обнимал ее взглядом, который должен бы был ее сжечь, если б, по ремеслу, она не была несгораемой.
Родопа призвала Безелеэля в павильон, возвышавшийся по средне сада, где она имела привычку отдыхать во время жаркого дня.
Она полулежала на диване. Одежду ее составляла туника из белого газа, украшенная черными перлами, которая как облако обвивала её прелести, не скрывая их.
В одной руке она держала ветку нимфеи, в другой лист папируса, на котором было начертано нисколько строк по-гречески.
Безелеэль вошел, и против воли испустил крик восторга.
— Что с тобой? — сказала Родопа.
— Я жду приказаний госпожи, — пробормотал колено- преклонный невольник.
Но она, рассматривая его с странной улыбкой, и дотрагиваясь до его лба концом своей ветки, спросила:
— Так ты находишь меня прекрасной?
Он задрожал.
— Отвечай, я тебе приказываю. Ты находишь меня прекрасной, и любишь?
Подняв тихо голову, он коснулся губами цветка, который не был отдернут.
То был ответ…
— И так, — продолжала Родопа, — будь проворен, благо- разумен и ловок, и я сделаю для тебя в действительности то, о чем тебе могло только сниться. Ты видишь эту записку?
— Да, госпожа.
— Она адресована к одному фригийцу, Эзопу, который находится в настоящее время при дворе в Мемфисе. Я хочу, чтоб ты сегодня же отправился в Мемфис. Я хочу, чтоб ты сегодня же говорил с Эзопом. Я хочу, чтоб сегодня же ты привел его сюда. Ты слышал?
— Да, госпожа.
— Ну?
— Живой или мертвый, сегодня фригиец Эзоп будет здесь.
— Хорошо… Возьми колесницу и двух лучших моих коней. Я жду! Ступай. Вот это тебе… Но не дари ему все свои поцелуи; оставь для меня…
Опьяневший от любви и надежды, Безелеэль поднял цветок, который бросила ему Родопа и исчез из павильона.
Через нисколько минут он мчался по дороге в Мемфис.
Уже восемь дней Эзоп был при дворе Амазиса, обращавшегося с ним со всем уважением, какое принято оказывать мудрецу, который поучает и забавляет. Ибо Эзоп, — и это было одно из немалых его достоинств, — имел дар преподавать нравственность под пленительной формой; его басни, которые рассказывал он, были на столько драматичны, что их не уставали слушать.
Он шел с царской аудиенции, когда один из дворцовых служителей уведомил его, что один человек, только что приехавший из Навкатриса, желает передать ему какое то поручение.
Из Навкатриса! поручение от Родопы! Что могла она ему сказать?
Следуя благоразумию, Эзоп должен бы отклонить принятие посла, но мы знаем, что в действиях своей жизни большинство тех, которые упражняются в философии, управляются не рассудком.
— Где этот посланник? — спросил он.
Отыскали Безелеэля.
Он передал фригийцу письмо. Письмо это заключало в себе следующее:
«Я тебя ненавидела; но я счастлива, а счастье делает благосклоннее; я тебе простила. Когда ты так близко, неужели ты откажешься пожать руку той, которая любила тебя одну минуту.»
Родопа.
Эзоп колебался снова. Тайный голос говорил ему, что прощение Родопы — ложь, что это письмо — ловушка.
Но Безелеэль, который не переставал смотреть на пего, пока он читал письмо, видя его нерешительность, сказал:
— Родопа плакала от радости, когда ей сказали, что ты в Мемфисе, Эзоп.
— Правда? — возразил последний. — Она плакала от радости?
— Да. Но если ты отвергнешь её просьбу, эта радость превратится в ярость, и я буду первой жертвой. Из жалости ко мне, если не из дружбы к ней, едем!
Можно извинить его слабость; Эзоп более не упорствовал.
— Я следую за тобой, — сказал он.
Родопа приняла своего первого любовника в самой великолепной зале своего дворца. Как только он переступил порог этой залы, куртизанка встала с кресла из слоновой кости, на котором она отдыхала и направилась к нему, сияющая, обольстительная от радости.
— Привет гению! — сказала она, — привет Эзопу!
Потом она взяла его за руку и посадила на такие же кресла, рядом с собой.
Тотчас двенадцать арфисток, стоявших вдоль стены, заиграли праздничную песнь, тогда как двадцать танцовщиц исполняли вокруг своей госпожи и ее гостя танец, выражавший радость.
Время от времени инструменты замолкали; танцовщицы становились неподвижными.
Тогда, как будто по волшебству, во всех концах дворца, на дворе, в саду раздавался крик, испускаемый тысячью голосов: «Слава и долгие дни, Эзопу!
Принц, склоняющийся под тяжестью своего золота, не лучше принимался куртизанкой.
Эзоп покраснел до самых ушей.
— Довольно, довольно, — говорил он Родопе.
— Почему? — отвечала она. — Тебе воздают только почести, которых ты достоин. Это гораздо менее того, чего домогаются цари, когда удостоивают отдохнуть в бедном доме куртизанки.
В бедном доме. Эзоп находил Родопу скромной. Роскошь её дворца спорила с роскошью дворца Амазиса.
Концерт и танцы, перемешивавшиеся с восклицаниями, продолжались около часа. Фригиец начинал находить, что довольно.
Наконец Родопа сказала:
— Не хочешь ли, Эзоп, разделить мой скромный обед?
— Охотно. Тем более охотно, что я завтракал очень рано…
Родопа ударила три раза в ладоши; арфистки и танцовщицы удалились, сменившись толпой нубийских и эфиопских невольников, внесших громадный стол, уже сервированный, который они поставили среди залы.
Мясо всякого рода, рыба всех сортов, горы пирогов, горы фруктов, — тут было чем накормить целую армию.
«Если это называют скромным обедом, — подумал Эзоп, — каковы же большие пиршества? Она немного хвастает, но я поступил бы неловко, если б стал критиковать это чрезвычайное изобилие, которое так кстати.
И фригиец весело сел за стол, за которым вел себя как следует мудрецу, т. е. ел и пил отлично, он особенно воздал должное пальмовому вину… Великолепное вино! Он похвалил его Родопе.
— В погребах у меня сто бочек этого вина, — отвечала она. — Оне все в твоём распоряжении. Всё, что здесь, принадлежит тебе, Эзоп.
— Всё? — повторил он с особенным ударением.
— Всё, — отвечала она, не опуская глаз перед пламенным взглядом своего гостя.
Дело в том, что пары пальмового вина отуманили голову Эзопа, расположенного вполне воспользоваться гостеприимством своей прежней любовницы. Всякие сомнения совершенно исчезло в нем. Очевидно, что Родопа не питала никакой неприязни к прошлому; доказательством служило её поведение. к чему он будет вспоминать о том, что она забыла?
К тому же она так прекрасна! прекраснее, чем прежде!
Как будто проникая в мысль фригийца, Родопа приблизилась к нему и сказала:
— Не хочешь ли прогуляться со мной по саду?
— С тобой — всегда и везде! — с живостью воскликнул он.
Она взяла его под руку, как в Самосе у Иадмона; они сошли по мраморной лестнице, прошли широкую галерею и очутились в саду. Была ночь; одна из тех ночей Египта, светлых и чистых как воды священного Нила. В саду воздух был наполнен ароматами цветов. Несколько минут они молча прогуливались, без сомнения Родопа ждала, чтоб Эзоп начал разговор, а Эзоп чувствовал какую то неловкость, какое то смятение…
Влияние воздуха освежило его мозг. Он боялся западни. Готовый сказать этой женщине, некогда так оскорблённой им, — «Я люблю тебя!» он страшился, что вдруг она, прекратив ломать комедию, воскликнет: «А я тебя презираю!»
Но нет, при повороте в одну аллею, когда Родопа склонила к нему свою головку, чтоб защитить лицо от прикосновения одной ветки, — Эзоп напечатлел на этом лице поцелуй.
Она не рассердилась. Напротив. Она оставалась наклоненной, отдаваясь поцелую. Лед был разрушен.
«Люблю тебя, — прошептал он. … _
«Люблю» — прошептала куртизанка.
И второй, третий, десятый поцелуи были даны и взяты.
Но удерживая свою нежность. —
— Войдем, — сказала она.
— Войдем, — повторил он.
Не целую же ночь было оставаться в саду.
Они возвратились во дворец, взошли по мраморной лестнице, вступили в небольшую залу, в глубине которой была дверь, куда исчезла Родопа, — приглашая прелестным жестом своего любовника потерпеть.
Терпение… у него оно есть. Она с ног до головы вооружила его терпением. Она в спальне, куда вскоре позовут его. Это совершенно ясно.
Действительно, вскоре дверь этой комнаты растворилась.
— Войди Эзоп! — послышался голос Родопы.
— Я здесь.
И он вошел… но для того, чтоб остановиться, как вкопанный; как пораженный громом.
Что же он увидел?
Он увидал Родопу на ложе в объятиях другого мужчины. В объятиях Безелеэля.
Родопа кричала ему, смеясь безумно.
— Со всей своей мудростью, Эзоп, ты — дурак. Я играла с тобой. Я тебя больше не люблю!.. Смотри, тот, кого я прижимаю к груди, — невольник, но я предпочитаю его тебе!.. Ха, ха! Ты меня оставил тогда; сегодня моя очередь: я выгоняю тебя, славный Эзоп, посмеявшись над тобою…
История Родопы после её последнего свидания с Эзопом представляет мало интересного.
Куртизанка насытила единственное пылкое желание, которое оживляло её на земле, — с тех пор, когда принадлежа всем она не имела желания принадлежать никому; — желание мести.
Исполнив это, ей оставалось заняться только выполнением желания укрыть, когда смерть поразит её, своё тело в гробнице, подобной которой до неё не обладала ни одна женщина и ни одна после неё не будет обладать.
Говорят, что постройка пирамиды Родопы продолжалась тридцать лет, что она нанимала 370 000 работников и стоила на наши деньги десять миллионов рублей.
Это вполне возможно, если представят массу камня и мрамора, из которого состояла эта пирамида, и который привозили за двести лье, от того места, где она строилась.
Во всяком случае это доказывает, не только что любовники Родопы были щедры, так как, благодаря им, она приобрела десять миллионов, чтоб воздвигнуть себе пирамиду, но также и то, что она умерла уже не молодою, потому что она дождалась окончания строительства, чтоб уснуть в ней.
Тридцать лет. Родопе должно было быть по крайней мере пятьдесят, когда тщательно набальзамированная по египетскому обычаю, и обернутая с головы до ног бумажными тканями, с лицом покрытым картонажем, оно сошла в залу смерти своего гигантского саркофага.
А эти пятьдесят лет, — долгая жизнь для куртизанки, — все ли они были посвящены только любви?
Нет.
Нет такой дурной книги, в которой не нашлось бы хоть одной хорошей страницы, ни жизни, в которой не встретилось бы хоть одного доброго дела.
Вот доброе дело Родопы.
Известно какую важность для Египта имеет ежегодное разлитие Нила.
Во времена Родопы, в ту эпоху, когда живительные воды начинали увеличиваться, существовать обычай, необыкновенно украшать молодую девушку, избранную среди самых красивых, и бросать ее в реку, которую, таким образом, надеялись сделать милостивой.
Если она достигала желаемого уровня, — значить жертва была для неё приятна, если не достигала или превышала этот уровень, что было столь же гибельно, — значило что жертва, предложенная реке, была её недостойна.
Теме не менее и в том и в другом случае молодая девушка бывала утоплена.
И вот, в один год, была избрана жрецами или иерофантами, Hoфpe из Навкатриса, как имеющая быть отданной богу реки. Нофре, дочь Зоры, была алмэ, посвященная служению внутри храма Венеры Арсиноэ. Ей не было еще семнадцати лет; она была прекрасна; ей так хотелось жить!
Но такова была сила предрассудка, что когда, гордая честью оказанною её дочери, быть убитой ради общественного блага, сама мать объявила ей о решении судей, Нофре едва осмелилась выказать слезы.
Случайно, в эту минуту, Родопа проходила мимо храма: она увидала Нофре печальной и бледной, разговаривающей с своей матерью… Она обратилась с вопросом к обеим женщинам…
— Моя дочь обручена с Нилом, — сказала ей Зора. — Понимаешь ли ты нашу радость?
— Твою… да… я ее читаю в твоих глазах, — возразила Родопа; — но радость Нофре для меня сомнительна. Будь искренна Нофре. На самом ли деле, так восхищает тебя твое посвящение Нилу?..
Нофре не отвечала ничего; она страшилась гнева богов и особенно матери.
— Говори же, — нежно продолжала куртизанка, — говори без боязни. Если тебе не хочется умереть, — я спасу тебя, — я!
Родопа еще не кончила, как алмэ, вскричала, обнимая её колена: «Спаси меня!»
Церемония должна была происходить на другой день. Родопа немедленно отправилась в Мемфис.
Амазис был во дворце, когда ему подали папирус, к которому пурпурной лентой был прикреплен золотой цветок.
— Что это? — сказал он.
Уже несколько лет прошло со времени его приключения с красавицей в туфле; вид вьюнка, им отделенного от вазы и данного любовнице на шестьдесят часов, не напоминал ему ничего.
Но на папирусе он прочел эти слова:
«О царь, любимец богов! я прошу у тебя жизни не для себя; мне ничто не угрожает, но Нофре, дочь Зоры, прислужница при храме Венеры Арсиноэ, завтра должна быть принесена в жертву Нилу.
Родопа.»
— Перо! — вскричал царь.
И внизу, под именем Родопы он начертал.
«Я дарю жизнь Нофре, дочери Зоры; пусть возьмут другую алмэ в супруги Нилу.
Амазис.»
Только гораздо позже этот недостойный обычай был уничтожен в Египте.
Хоть мы не знаем наверно, когда и как умерла Родопа, мы однако можем рассказать, каков был конец Амазиса.
Сирия, принадлежавшая тогда Египту, взбунтовалась. Амазис во главе своего войска пошел на неё войною, и в ней вскоре было восстановлено спокойствие. Между тем, чтоб вполне восстановить порядок в этой провинции и предупредить какое-нибудь новое восстание, царь решил остаться в ней на целый год. А так как он полагал, что супруга и его две тысячи наложниц соскучатся в его отсутствие, он повелел им прибыть в Дамаск.
К несчастью он пренебрег приказанием привезти своего льва с голубыми глазами… Громадная ошибка после предостережения мага!..
На самом деле, в Дамаске, пользуясь отсутствием верного телохранителя, две тысячи пренебрегаемых женщин исполнили преступное намерение, скрываемое ими долгие годы в тайне. Они напали на царя во время его сна и изрезали его на куски.
Но какое же безумие — брать на себя такую обузу из двух тысяч женщин, «до которых не касался даже пальцем», как хвалился этим царь Амазис! В самом деле это поистине безумие.
Клеопатра

То было после знаменитой Фарсальской битвы, которая, подчинив Римскую республику Цезарю, сделала его полным обладателем мира.
Эта битва была решена ничем. Но это ничто было гениально. Цезарь приказал своим солдатам ударить во фронт кавалерии, долженствовавшей начать битву. Эта кавалерия почти вся состояла из молодых людей, желавших сохранить привлекательность свою на лошади: они стыдливо правили удилами. Семь тысяч из них бежало перед шестью когортами. Помпей оставил на месте пятнадцать тысяч своих воинов; Цезарь только тысячу двести.
Милосердие победителя к побежденным привлекло под его знамена столько солдат, что он был в состоянии начать немедленное преследование.
Помпей переплыл Геллеспонт с намерением бежать в Египет, к Птолемею-Дионису, обязанному ему своей короной. Но что такое благодетель, вчера могущественный, а нынче просящий пристанища? Птолемей-Дионис был негодяй, как большинство фараонов этой расы; в смерти Помпея он видел средство войти в дружественные сношения с Цезарем. Поэтому он назначил двух своих приближенных для встречи Римского полководца. Несчастный Помпей, сопровождаемый полдюжиной солдат и отпущенниками, взошел на барку, назначенную для перевозки его на твердую землю; почти тотчас же, в глазах его жены, которая с корабля, на котором он ее оставил, следила за ним взором, двое убийц, Ахилл и Септимий, — бросились на него и поразили кинжалами.
Тело его нисколько дней оставалось непогребенным на берегу моря; наконец один из его отпущенников и один солдат, воспользовавшись темнотою ночи, сожгли его и покрыли пепел песком и камнями.
Таков был конец того, кто был соперником Цезаря.
Однако Помпей имел право на более достойную гробницу, и тот же самый Цезарь поспешил отдать ему последний долг и отмстить за него неблагодарному негодяю.
Мы уже говорили о Египте, по поводу истории Родопы. Но Родопа жила за шестьсот лет до P. X., тогда как Клеопатра была почти современницей величайшей эпохи.
Александрия, один из редких городов великого Египта, противилась разрушительному действию времени и особенно людей. Имя её сохранилось, хотя в настоящее время она занимает не то место, какое занимала прежде.
Построенная Александром Великим, по рисунку знаменитого архитектора Финократа, Александрия находилась на левом берегу Нила, в тридцати милях от Средиземнего моря, и выше Пирамид.
Мы не станем подробно описывать какой она была во времена Клеопатры; мы войдем в нее вместе. с Цезарем, который хотел узнать в этом городе о Помпее.
Принятый с великой пышностью, при высадке на берег в порте Евноса, самим Птоломеем-Дионисом, Юлий Цезарь взойдя на носилки вместе с царем Египта направился ко дворцу этого последнего. На дорогё двумя знаменитыми личностями не было произнесено ни слова о цели их союза. Но если они не говорили ни слова, во всяком случае Цезарь и Птолемей не теряли времени. Меняясь по временам ничего не значащими фразами, они наблюдали, изучали и анализировали друг друга.
Легкая задача для Птолемея. Лице Юлия Цезаря, это прекрасное и полное, белое лице, с черными живыми глазами, — было открытой книгой, в которой можно было прочесть рассудительность, веселость и храбрость.
Напротив, голова египетская царя, — продолжим наше сравнение, — была закрытой книгой. Едва достигнув 18-ти лет, очень красивый, но красотой холодной и мрачной, он прежде всего внушил Фарсальскому победителю неясное но глубокое отвращение. С своим знанием людей, Цезарь угадал в нём злобного и лукавого человека.
Случай не замедлил доказать ему, что его предчувствие было справедливо.
Наконец они достигли дворца, в котором царь Египта приготовил великолепное помещение для своего славного гостя.
Цезарь удалился на некоторое время, чтоб поправить беспорядок своей одежды, ибо он заботился о своем туалете столь же внимательно, как и о своей личности.
Птолемей встретил его, сопровождаемый своими офицерами, и провел в залу, где был приготовлен пиршественный стол.
Но Цезарь терял терпение, желая узнать об участи Помпея.
Знаком пригласив царя удалить свиту, он грубо спросил:
— Что ты мне скажешь о Помпее, Птоломей?
— Все, что ты, Цезарь, пожелаешь узнать, отвйтил царь.
— Я желаю знать все. Он в Египте?
— Да.
— Быть может в Александра?
— Да.
— Пленником? Ты понял, что я его преследую? Ты поступил благоразумно, уверившись в нем, когда он явился просить у тебя убежища.
Птолемей зловеще улыбнулся и проговорил после некоторого молчания:
— Я сохранил для тебя, Цезарь, большую радость, но ты не желаешь ждать, и я удостоверю тебя. Я покажу тебе как поступает Птолемей с твоими врагами.
Сказав это, царь удалился. Когда он явился снова, его сопровождал Потин, начальник его евнухов, несший спокойно предмет покрытый пурпуром.
Уже взволнованный дурным предчувствием, Цезарь встал и поднял покрышку.
И тотчас испустил крик ужаса. Ему была принесена тщательно набальзамированная голова Помпея.
Отрицали горесть Юлия Цезаря в этом случае, но ошибались. Он был горд, но не жесток.
Ясно, что он воспользовался преступлением, но не сам совершил его.
— О, Помпей, Помпей! — стонал он, склоняя свой лысый лоб, пред этими плачевными останками его врага.
И обратясь к Птолемею, несколько смущенному подобным изъявлением приготовленной римскому полководцу радости, сурово сказал ему:
— И так, когда он явился, рассчитывая на твою благодарность, к твоему очагу, — ты принял его убийством?
Птолемей закусил губы.
— Признаюсь, — возразил он, — я не ожидал от тебя, Цезарь, подобных упреков! Но если б я оставил жизнь Помпею, он неминуемо стал бы уговаривать меня сражаться вместе с ним против тебя. Разве ты желал, чтоб я сделал подобную штуку?
Цезарь замолчал. Доводам не доставало справедливости. Но что справедливо, не всегда бывает приятно.
К инстинктивному отвращению, которое с первого раза внушил ему Птолемей, в этот час у диктатора прибавилось презрение к этому царю, который так строго прилагал поговорку: Vae victis! Горе побежденным!
Тем не менее он размыслил, что не время выражать свои чувства, и смягчив выражение своего голоса и лица, ответил:
— Ты, быть может, прав… Часто встречаются жестокие, роковые необходимости. Спасибо же за твой гробовой подарок. Я постараюсь, насколько буду в силах, поправить то зло, которое ты сделал.
И после этого заключения, Цезарь, приказав чтоб голову Помпея поставили в верное место, отправился с царем в пиршественную залу.
Пир этот был великолепен, но не доставало главного, чтобы он был весел: недоставало женщин.
Диктатор выразил свое изумление.
— Где же царица? — спросил он.
Он знал, что брат настоящего Фараона, — Птолемей Авлет, — умирая, завещал трон своему старшему сыну Птолемею — Дионису, с условием, чтоб он разделил его со своей сестрой Клеопатрой, старше его на три года, которая по странному обычаю египтян должна была выйти за него замуж.
И этот союз был совершен на самом деле.
Но о чем Цезарь не знал, и что узнал вкратце от своего хозяина, а позже, подробно, от других лиц, заключалось в том, что через нисколько дней после свадьбы, царствуя вдвоем, он заметил, что если он не примет мир, то его супруга и сестра может устроить таким образом, что будет царствовать одна. Птолемей-Дионис торжественно развелся с Клеопатрой, по причине несходства характеров, и изгнал ее в Сирию.
При объяснениях царя по этому предмету, Цезарь хранил благоразумную сдержанность. Птолемей-Дионис не мог жить с Клеопатрой; он развелся с нею, изгнал ее… Так что же?… Не Цезарю, который сам развелся с своей первой женой, следовало требовать объяснений, почему другой муж отправил прогуляться свою.
Но через нисколько недель, когда, под тем предлогом что он стесняет царя в его дворце, он поселился рядом, под охраной своих солдат, диктатор изменил свой язык.
Друзья Клеопатры, и между ними особенно Аполлодор, — объяснили ему поведение египетского царя. В своем завещании Птолемей Авлет назначил также римский народ своим наследником. Цезарь, как представитель этого народа, вознамерился поддерживать его права. Он объявил себя судьей несогласий существующие между Птолемеем и Клеопатрой, и приказал одному сам, а другой через посольство, явиться к нему.
Птолемей повиновался, уверенный, что сестра не осмелится презреть его гневом, явившись в Александрию.
И Клеопатра не была столь глупа, чтоб пренебрегать опасностью, которой она неизбежно подверглась бы. Египетская стража, охранявшая городские ворота, была предупреждена, что если бы появилась изгнанная царица, то с ней должны были поступить как с бунтовщицей.
И Птолемей бы поквитался извинением, как за убийство Помпея…
Но мы сказали, что Клеопатра имела друзей в самом городе, среди которых одним из самых преданных был всадник, по имени Аполлодор.
Однажды, ссылаясь на необходимость покупок, Аполлодор отправился в Ракотис, откуда возвратился вечером, неся на плечах превосходный ковер.
Столь прекрасный, что он объявил желание предложить его Римскому полководцу, — великому любителю хороших вещей.
Ковер для Юлия Цезаря! Египетские солдаты, стоявшие па страже у ворот Ракотиса, не имели и тени мысли остановить Аполлодора с его ношей.
Скажем, между прочим, что этот Аполлодор был чем-то вроде гиганта-Атласа, с плечами способными, подобно плечам его образца, поднять весь свет.
И он нес также целый мир, закутанный в ковёр. Mиp под формой женщины.
То была Клеопатра.
Было поздно; Цезарь готовился лечь спать, когда один из его отпущенников подал ему папирус, содержаний следующие слова на латинском языке:
«Ты звал меня, чтоб воздать мне справедливость. Я здесь».
Клеопатра».
Позади отпущенника в комнату диктатора вошел Аполлодор, и положил перед ним свою ношу, которую поспешил развернуть.
Была пора; Клеопатра задыхалась под тяжелыми складкам шерстяной материи. Ея. члены, онемевшие от слишком долгого бездействия, были неподвижны.
Лице её было покрыто, бледностью.
Цезарь преклонил пред ней колена и воскликнул:
— Боги! как она прекрасна! — она полуоткрыла, истомленные глаза, но лицу её промелькнула улыбка.
«Как она прекрасна!» Диктатор употребил самое лучшее средство, чтоб привести ее в чувство.
Если верить историкам того времени, — Плутарху, Аппиану Александрийскому и Диону Kaccию, — то Клеопатра (чтобы ни говорил Цезарь) не обладала необыкновенной красотой.
Но за недостатком правильности черт, она имела прелесть, грацию, ум… При том же она была очень ученой, она говорила на многих языках, и особенно обладала искусством пленять.
А Цезарь был одним тех которые ничего лучшего не желают, как быть плененными женщиной. Он обольстил большое количество знатных женщин и между прочим: Постумию, жену Сервия Сульпиция, Лоллию, жену Авла Габиния, Тертулину — супругу Марка Красса и даже Муцию, супругу Помпея; но он особенно любил Сервилию, мать Брута.
По-видимому, он не очень уважал супружескую постель и в провинциях, если прислушаться к току, что пели его солдаты во время его тpиyмфa по возвращении из Галлии:
«Римляне, бойтесь!.. к вам мы ведем развратника лысого,
В Галлии деньги он все растерял, что отсюда принес,
на любовниц.
Гельвий Цинна, народный трибун, уверял многих, что имел в своих руках совершенно готовый, пересмотренный закон, который он должен был исполнить в отсутствие Цезаря и по его повелению, закон, дозволявший Цезарю жениться, по его выбору, на стольких женщинах, на скольких он захочет, чтоб иметь наследников. А для того, чтоб никто не сомневался в том, что он имел репутацию развратника, Курион отец называл его в своих разговорах «мужем всех жен и женой всех мужей».
Курион отец был клеветник, как нам хочется думать, — но нельзя отрицать, что Юлий Цезарь обожал множество женщин.
Между прочим и Клеопатру. И эту последнюю с первой минуты, как только ее увидел. Сознаемся, что все способствовало тому, чтоб зажечь любовь в сердце будущего императора.
Друг столь же скромный, сколь физически сильный, Аполлодор удалился при первой улыбке Клеопатры Цезарю…
Они были одни… Одни в одну из тех сладостных ночей, которые бывают только в Египте.
Он перенес ее на постель, потому что она не могла еще стоять. Сидя подле нее, он каждую секунду жег её маленькие ручки поцелуями.
Она улыбалась.
— И ты не боялась явиться ко мне таким образом? — наивно спросил он.
— Разве я ошиблась? — возразила она.
— О, нет!
— Птолемей убил бы меня прежде, чем бы позволил увидеться с тобой.
— Убить тебя? такую прекрасную!
— Таково его убеждение, потому то он и изгнал меня!
— Он глупец!
— Я тоже думаю.
— Он зол!
— Я, думаю, тоже.
— Негодяй и дурак, который должен быть строго наказан!..
Клеопатра на этот раз минуту колебалась. То было беспокойство совести. Этот глупец, этот негодяй был все таки её мужем и братом.
Но уже два раза подтвердив слова Цезаря, могла ли она ему противоречить.
— Я думаю то же, — повторила она.
И вдруг, притворяясь как бы испуганной странностью своего положения, она вскричала, вскакивая с постели:
— Но я злоупотребляю твоей добротой, Цезарь. Я мешаю тебе.
— Куда ж ты хочешь идти? — возразил диктатор, тихо удерживая ее.
— Куда-нибудь, где я не стесняла бы тебя…
— Но разве я жалуюсь? И к чему ты говоришь мне о сне? Неужели ты думаешь, что я могу уснуть увидав тебя?.. Останься!.. останься молю тебя!.. Нам еще нужно о многом переговорить с тобой… Для того, чтобы возвратить тебе трон, разве я не должен долго и много говорить с тобой?
Цезарь налег на слова «возвратить тебе трон». Взгляд Клеопатры зажегся ярким блеском.
Случайно, так по крайней мере казалось, в то время когда, она готовилась оставить постель Цезаря, с ноги ее соскочила туфля. Известно, какое магическое действие производит маленькая ножка женщины на чувства распутника. Нога Клеопатры, быть может, по совершенству линий не могла сравниться с ногой Родопы, в которую в своё время влюбился Амазис, но такая, какой она была: худенькая, узкая, выгнутая, она восхитила Цезаря, как самое сладостное обещание.
Клеопатра провела целую ночь с Цезарем.
На другой день, утрем, один из офицеров этого последнего, явился к царю Египта, чтоб пригласить его немедленно явиться по важному делу к диктатору.
Важное дело заключалось, как можно предположить, в том, чтоб разделить трон с Клеопатрой, что Цезарь намеревался предложить Птолемею.
Можно вообразить удивление и ярость царя при виде сестры и жены в обществе Цезаря. Скрыв однако свои ощущения, он решился склониться перед царственной волей.
Но, едва возвратившись в свой дворец, он призвал Потина, начальника евнухов и первого министра, и Ахилла, одного из убийц Помпея и начальника египетских войск. В тот же день, тогда как Потин рассылал по всему городу эмиссаров обязанных возбуждать народ против непредвиденной власти, — Ахилл во главе своих солдат наблюдал за жилищем Римского полководца. То была настоящая осада, исход которой мог бы быть гибельным для Цезаря, — у которого для обороны была одна только когорта, — если б Кассий, один из его подчиненных, которому он передал начальство над флотом, не был во время предупрежден и не поспешил бы с другой когортой на помощь Цезарю.
Ахилл был убит; солдаты его разбежались; сам Птолемей-Дионис, с целью избежать мщения попечителя Египта, бросившись на барку, чтоб достичь одного из портов Сирии, был задушен матросами, желавшими получить хорошую награду от Клеопатры.
То было божеское наказание. Убийца сделался жертвою своей собственной измены.
Через несколько дней после этого происшествия Клеопатра, выйдя замуж за своего другого брата, Птолемея Меннея, заняла свое место на троне Египта.
То был брак ради проформы. Мужу было только одиннадцать лет. Истинным мужем Клеопатры в течение почти целого года был Юлий Цезарь. Он был настолько мужем, что от этой вдвойне прелюбодейной связи родился сын, получивший от своего отца имя Цезариона.
Когда Цезарь с сожалением покидал Египет, то целуя лоб этого ребенка, он мог сказать ему этим поцелуем: «я буду императором, ты — царем: мы с тобой увидимся».
Тщетная иллюзия! Отец и сын никогда больше не видались. Чрез несколько лет Цезарь, не смотря на все свое могущество, пал от меча Брута.
Что касается Цезариона, то он не жил даже столько, чтоб гордиться своим рождением.
Страсть Юлия Цезаря к Клеопатре была столь сильна, что он пожелал видеть ее в Риме, вместе с ее молодым мужем. Клеопатра охотно повиновалась; она прибыла в Рим с таким великолепием, что народ начал роптать на эту царицу — данницу, выказывавшую такую роскошь. Невнимательный к упрекам своей законной жены, Цезарь поместил Клеопатру в своем собственною дворце и на всех публичных празднествах являлся с нею. Он сделал более: он велел знаменитейшему скульптуру того времени сделать статую своей любовницы, приказал отлить ее из золота и поставить в храме Венеры, как раз напротив богини.
Ропот римлян перешел в крики. Венера-Клеопатра не могла более выходить, преследуемая угрожающим гневом народа. Она сама упросила своего любовника отпустить ее в Египет.
Последняя ночь, которую они провели вместе, — рассказывает Аппиан, — была ознаменована дурачествами достойными быть может коронованной куртизанки, но недостойными императора.
Двадцать греческих невольниц, выбранных из самых красивых, привезенных с собою царицей, служили совершенно голые на ужине двух любовников и в то время, когда они пили и ели, эти невольницы толпились около них в самых сладострастных позах; наконец, опьянелый от страсти, Цезарь, которого стесняли одежды Клеопатры, сбросил их с нее одну за другой; и ему нравилось сравнивать прелести царицы с прелестями ее женщин, и он порешил, что если две или три приближались к ней какой-нибудь частной красотой, — то ни одна не сравнилась в общем.
Нужно было расстаться. И Клеопатра даже не думала, что будучи далеко от Цезаря она будет забыта.
В числе подарков диктатора своей любовнице находились десять галльских стрелков. Египетская царица хотела вооружить войско по образцу этих стрелков; Цезарь дал ей десяток, избранный ею посреди солдат, составлявших первую сотню когорты.
Но не из интереса к своей армии, а вследствие заботы о своих наслаждениях Клеопатра взяла с собой этих стрелков. Среди них был один, по имени Андроник, мужественная красота которого произвела на нее сильное впечатление. Чтоб обладать одним, она потребовала десять; Цезарь не мог и подозревать истинной причины ее желания.
Но удалившись от берегов Италии, она не имела нужды сдерживаться.
— Пусть скажут галльскому стрелку Андронику, что я хочу его видеть, — сказала она.
Андроник поспешно исполнил приказание царицы.
Этот сын Галлии был на самом деле великолепен; лет двадцати пяти, высокий ростом, с белокурыми волосами, падавшими локонами по обе стороны лица, из под волчьей шкуры — он был прекрасен,
Он стоял прямо перед царицей, возлежавшей на пурпурных подушках, защищенных навесом от палящих лучей солнца.
— Доволен ли ты, Андроник, что едешь со мной в Египет? — спросила она своим полным нежности голосом.
Он отрицательно покачал головой.
— Нет!? — изумилась Клеопатра. — Ну что же, ты по крайней мере откровенен. А почему ты не радуешься увидеть Египет? Это прекрасная страна.
— Для меня одна только страна прекрасна: моя родина! — сказал галл.
— Как называется она?
— Я из города Тарба в Бигорре.
— Но что же там такого, о чем ты так жалеешь?
— Там есть горы и равнины, где я охотился на свободе, и зеленые папоротники, на которых я отдыхал; там есть быстрые ручьи, в которых я утолял жажду, всякие птицы, убаюкивавшие мой сон своим пением!
— Везде есть трава, источники и птицы!
— Ты ошибаешься, царица; не везде встречаются Пиренеи. Пиренеи есть только на юге Галлии.
— Да, и, быть может, также нет ли в Пиренеях какой-нибудь молоденькой девушки, воспоминание о которой сильнее запало в твою душу, чем воспоминание о почве, на которой ты родился? Признайся, ты любил и был любим на родине?
Андроник вздохнул.
— К чему воспоминания, — сказал он с горечью, — когда не принадлежишь самому себе, когда не знаешь даже, будешь ли когда-либо располагать собою!..
— Никогда? Почему никогда? Слушай, Андроник: ты меня интересуешь. Когда ты научишь моих солдат, то, если тебе хочется, отправляя тебя в Италию, я напишу Цезарю, чтоб он дал тебе свободу… чтоб он отослал тебя в твое отечество…
Физиономия стрелка засияла.
— Ты сделаешь это?.. — вскричал он.
— Сделаю, если буду довольна тобой.
— О, ты будешь довольна, потому что с этой минуты вся моя кровь принадлежит тебе.
Клеопатра странно улыбнулась.
— О! я не потребую от тебя крови, Андроник, — возразила она.
— Чего же, царица?
— Я скажу тебе позже, в Александрии… Ступай. Но не удаляйся от меня, — мне приятно тебя видеть.
На самом деле, во все время путешествия, галльский стрелок почти постоянно находился около царицы. Он не только ел за ее столом, но по особенной благосклонности, ему, по ее приказанию, подавали то же самое что она кушала. Ей нравилось разговаривать с ним, заставлять его рассказывать наиболее замечательные случаи его жизни, — по большей части охотничьи истории и описания битв.
Однажды вечером, грубо перебив его, она сказала:
— Но ты в своих рассказах никогда не говорил мне о любви, Андроник. Разве я ошибаюсь, предполагая, что в твоих горах есть молоденькая девушка, которая оплакивает твое отсутствие?
Стрелок печально улыбнулся.
— Нет, царица, — ответил он, — нет, ты не ошибаешься. Там есть молодая девушка, которой я оставил мое сердце.
— А! а! Вот видишь!
— Но любовь бедного крестьянина и пастушки может ли занять такую великую царицу, как ты?
— Должно быть, может, потому что я предлагаю тебе рассказать. Так ты любишь пастушку?
— Да, государыня.
— Как ее зовут?
— Фабиола.
— Который ей годъ?
— Ей было шестнадцать лет, когда я был принужден вступить в легионы Цезаря.
— А сколько времени ты служишь?
— Будет три года в октябрьские календы.
— Значить Фабиоле теперь девятнадцать лет. Хороша она?
— Я ее люблю!
— Это значит все. Ты ее любишь… и ни одна женщина в мире не может сравниться с ней красотою — даже я?..
Предлагая ему этот коварный вопрос, Клеопатра смотрела в глаза Андроника. Он вспыхнул… а она наслаждалась смущением, причиной которого была она сама.
— А потом? — продолжала она. — О не бойся ничего! Я не рассержусь, если даже узнаю, что я не так красива, как пастушка Аквитании Фабиола. Она красивее меня? говори!..
— Красивее?.. нет!.. Фиалка не может быть красивее розы… но…
— Но, — продолжала она, — ты надеешься обладать фиалкой, и не надеешься иметь розу… Ты благоразумен: для тебя фиалка — первой в свете цветок!.. Однако, положим, что тебе будет дозволен выбор. Понимаешь? Положим, что роза снизойдет до тебя, — разве не будешь ты благодарен? отвечай!
Возбужденная усилившейся страстью, при последних словах, Клеопатра, лежавшая на подушках наклонилась к прекрасному стрелку, стоявшему перед ней, представляя его взорам, вследствие отстранения корсажа из прозрачной египетской ткани, часть самых сокровенных своих прелестей.
Андроник сладостно вздрогнул. Как ни мало был он прозорлив до сего времени, в эту минуту ему трудно было не понять природу чувствований внушенных им царице. Но не в это время, не в этот час выразилось ей его убеждение об этих чувствах.
Сцена, которую мы пробовали изобразить, при конце имела свидетелем, — чего актеры не подозревали, — Птолемея Меннея брата и супруга Клеопатры.
Без сомнения этого супруга вовсе не следовало бояться? — стоит ли бояться ребенка четырнадцати лет. Однако за отсутствием сознания своих прав, этот ребенок имел инстинкт, ибо взирая на описанную сцену с середины палубы, где он остановился, он сдвинул брови.
— Отвечай! — продолжала Клеопатра, сжимая крохотной ручкой мускулистую руку Андроника.
Царь прыгнул к ней.
— Клеопатра, — вскрикнул он, — смотри как потемнело небо! Будет гроза. Разве ты не сойдешь в свою каюту?..
При звуках голоса Птолемея, Клеопатра приняла более приличное положение, а Андроник отошел на три или четыре шага.
В тоже время оба подняли глаза к небу… Небо было величественно. Ни одного облака, не затмевало его лазури.
— Ты глуп, Менней, — сказала Клеопатра, недовольным тоном. — Ты глуп, с своей грозой.
— Ты действительно думаешь, что я глуп? — насмешливо возразил ребенок.
Наступило молчание; потом Клеопатра сказала.
— Ступай, Андроник, к своим братьям по оружию.
И вперив свой взгляд в бледное лицо царя, она подумала:
«Э! э! у львенка начинают прорезываться зубы. Это надо принять к сведению; мы постараемся помешать ему кусаться».
Яд играет большую роль в истории государей и государынь древнего времени, а также, увы! и в истории средних веков!..
Предвидя свое высшее назначение, Клеопатра с пользой употребила свободу изгнания. Никто не знает, что может случиться; даже на троне вас окружают люди, которые вас стесняют, и те, от которых хорошо избавиться без скандала. В Антиохии, где она жила, будущая царица Египта, изучила, под руководством великого ученого, искусство отравления.
Возвратившись из Италии в Александрию, первой ее заботой было снова начать курс учения, которым она пренебрегала со времени пребывания в Египте Юлия Цезаря.
Её дворец-Антирод (остров Роз) был как нельзя более удобен для этих занятий. Под предлогом отдохновения от долгого путешествия она заперлась в этом дворце в обществе близких женщин и сотни невольников, под охраной египетских солдат и десяти галльских стрелков.
Каждый день она удалилась в свою лабораторию, где анализировала, сравнивала и делала опыты с ядами всех сортов: минеральными, растительными, и животными. Ибо все три царства природы имеют одинаковое отношение как к добру, так и ко злу, содержа в себе жизнь и смерть. По большей части эти опыты производились над животными: собаками, кошками, птицами; иногда над невольниками, над несчастными, которых считали за ничто — нужно уметь заставить страдать, чтобы уметь убивать.
Она изучила первенство такого-то яда над таким-то противоядием. Радостная, от успехов в науке, Клеопатра, окончив занятия, присутствовала в дворцовом саду при упражнениях египетских солдат, которых учили гaлльcкиe стрелки.
Потом, когда наступал вечер, прекрасного Андроника вводили потаенной дверью в ее спальню.
После того, что мы передали об их разговоре на палубе, царской галеры, никого не удивит любовь, или вернее каприз Клеопатры к молодому галлу.
И хотя Андроник признался, что он оставил свое сердце в Аквитании, он с такой страстью отвечал на ласки египетской царицы, о которой она и не мечтала. Правда, что сердце ничего не значит в известном роде нежности, и что в возрасте Андроника было бы больше, чем добродетелью, было бы героизмом, противиться созданию, обладавшему всей обольстительностью красоты и всем могуществом власти. Каждый вечер он любил по повелению египетской царицы.
По повелению — выражение совершенно точное. Однажды она ему сказала: «Я хочу, чтоб ты меня любил! — и он повиновался.
В течение трех недель он исполнял свое назначение официального любовника.
Странное смешение распутства и гордости! Иногда, когда он приближался к он изголовью, погруженная в важные размышления, она даже не поднимала головы…
И он должен был оставаться безмолвным и неподвижным, ожидая чтобы она заметила. что он здесь.
Наконец она его замечала; позабывая заботы настоящего и будущего царица становилась женщиной, и женщиной алчной до наслаждений. Ее огненный взгляд впивался в любовника… Но даже в минуты самого сладостного упоения, в минуту самого пылкого восторга, она заставляла этого любовника уважать то расстояние, которое отделяло его от царственной любовницы.
Понятно ли? — она принадлежала и не принадлежала ему.
Нужно было иметь двадцать пять лет, чтобы платить такой постыдной подчиненностью за несколько часов не полного блаженства.
Андроник имел эту смелость и эту силу три месяца кряду. Галлы были крепкие люди!
Между тем львёнок, как называла Клеопатра своего брата и мужа, — все с большим и большим нетерпением переносил удаление своей сестры и супруги в Антирод.
Однажды, во время упражнений египетских солдат, прибежавшие невольники объявили царице о прибытии короля.
Она, — вся грация — вышла ему на встречу.
Он хотел присутствовать при новых маневрах; они были нарочно для него начаты. В то время, когда их исполняли, Клеопатра заметила, что он не спускал глаз с Андроника.
Спустя несколько времени царь и царица были одни в отдаленной комнате.
— Клеопатра, — без вступления сказал Менней, — я ненавижу Андроника, одного из тех галльских стрелков, которых дал тебе Цезарь.
— А! — холодно сказала она. — Почему ты его ненавидишь!
— Потому, что ты его любишь..
Она пожала плечами.
— Разве Клеопатра может любить солдата! — воскликнула она.
— И так, чтоб доказать, что я ошибаюсь, возразил царь, — отдай мне этого человека.
— Возьми его! — отвечала Клеопатра. — Возьми уж и его товарищей. Они мне более бесполезны; мои египтяне стреляют теперь не хуже их.
— Хорошо. Я беру. Благодарю.
Десять стрелков сопровождали Птоломея в Александрию.
На другой день, обвиненные и осужденные за воображаемый заговор, они без дальнейших церемоний, были все десять распяты на площади в одном из самых многолюдных кварталов города. По особенной милости маленького государя осужденные прежде, чем быть распятыми, были удавлены.
Узнав о происшествии, Клеопатра даже не поморщилась.
Если все прочие галльские стрелки были ей бесполезны, как наставники ее солдат, то Андроник, в частности, перестал ей нравиться как любовник; ее прихоть прошла.
Но она находила дурным, что Птолемей позволил себе, без ее одобрения, умертвить этих десять человек. Один Андроник еще куда ни шло, царь, понятное дело, его ненавидел; но всех, — это слишком!
Нужно было сдержать львенка; у него были слишком явные деспотические наклонности.
Клеопатра явилась в Александрию. Она не сделала ни одного упрека своему мужу и брату по поводу умерщвления стрелков.
Но через месяц после этого, возвращаясь с прогулки, маленький царь выпил стакан Литуса, который подал ему преданный невольник, и почувствовал жестокие колики. Через час он, не смотря на всю помощь медиков, умер в страшных страданиях.
Клеопатра стала обладательницей трона.
Вскоре мы увидим, как она правила государством.

Юлия Цезаря более не существовало; его умертвили. Ему недостаточно было быть императором; он хотел стать царем. Составился заговор, под руководством Kaccия, Марка и Брута. Он пал в Сенате у подножия статуи Помпея, пронзенный двадцатью тремя кинжалами. «И ты, Брут», — проговорил он, падая.
Тело диктатора некоторое времени лежало на земле; наконец трое невольников положили его на носилки и отнесли во дворец. Из стольких ран только одна была смертельна, которую он получил в сердце.
Не один из убийц не пережил его тремя годами и не умер естественной смертью. Все они погибли от различных несчастий, одни утонули, другие погибли на поле битвы; некоторые убили себя теми же кинжалами, под ударами которых пал Цезарь.
Пророчество Kaccия сбылось: за смертью Юлия Цезаря последовало жестокое смятение; гражданская война перевернула верх дном всю Италию. Изменив своей старинной дружбе к императору, консул Марк Антоний был побежден Октавием, названным потом Августом, — которого Цицерон противопоставил ему вместо Цезаря, и он был побежден им при Модене. По совету одного из своих военачальников Антоний согласился соединиться с Октавием и тогда-то составился знаменитый триумвират из Лепида, Октавия и Антония, который ознаменовался долгим рядом подлостей и грабительства.
Триумвиры, скрепив свое могущество кровью самых знаменитых граждан, с Цицероном во главе, решили преследовать Брута и Kaccия, убийц Цезаря. Антоний настиг их при Филиппах и разбил их. После этой победы Октавий и Антоний без церемоний разделили империю и обделили своего сотоварища под предлогом измены. Антоний, накануне своего отправления на войну против парфян, послал посольство Клеопатре, сомневаясь, чтобы она не оказала помощи Бруту и Kaccию, — с приказанием явиться в Сицилию, чтобы объяснить свое поведение.
Имела ли на самом деле Клеопатра связь с убийцами её любовника? Это невероятно. Как бы то ни было, подчиняясь повелению Антония, египетская царица была несколько испугана. В эту эпоху ей было всего двадцать пять лет; она была во всем блеске своей красоты, чего она могла бояться?..
Когда она пристала к Тарсе, столице Сицилии все жители столпились на берегу. Антоний, занятый регулированием будущности народов и царей, один оставался с своими ликторами в трибунале. Восхищенная армия кричала: «Венера явилась к Бахусу. Это сравнение не было неприятно Антонию — извиняясь затруднениями высадки на берег, Венера вместо того, чтоб отправиться к Бахусу, пригласила его к себе на галеру. Бахус принял приглашение.
Во время десерта на этом пиру, который стоил около миллиона, Клеопатра, приказав принести чашу с уксусом, бросила в нее, чтоб распустилась, жемчужину из своих серег, стоившую около двух миллионов сестерций и проглотила… То была гастрономическая любезность, стоившая Клеопатре серьёзного расстройства в желудке.
Но Антоний был изумлен. Женщина проглатывающая по миллиону — клянусь Юпитером! В политических способностях этой женщины нельзя сомневаться! И триумвир более не сомневался. Он ни слова не спросила об ее поведении; нет, он потребовал от нее другой вещи, которая тотчас же была ему дана. Уверенная в своих прелестях, Клеопатра не страшилась отдаться слишком скоро. В тот же вечер, тогда как лиры и флейты оглашали берега Сиднуса, триумвир и царица Египта тысячью поцелуями скрепляли любовный и военный брак, который могла разрушить только смерть.
Подобный Цезарю, но не имевший его гения, чтоб избавиться от заблуждения чувств, Антоний совершенно отдался очаровательнице. Вначале, он намеревался, покинув Сицилию, идти войной против парфян, но начиналась зима. Зимою, проходить по диким странам, тогда как в Александрии, где царствует вечное лето, любовь хранила ему все наслаждения… Он может сражаться с парфянами, позже. Антоний сопровождал свою обожаемую любовницу в Египет; в течение двух лет он ни на минуту покидал ее…
Помня, однако, что она царица, а Антоний правил Востоком, Клеопатра краснела за то унижение, которому она подвергла своего раба. Уже несколько раз в своих интимных разговорах, под сенью дерев острова Роз, она старалась пробудить уснувшую душу триумвира.
Наконец Марк Антоний рассудил, что глава империи может употреблять свое время полезнее, чем на ловлю рыбы. Он оставил армию, и сказав «до свиданья» Клеопатре, возвратился в Италию.
Пришла пора. Его брат и супруга Фульвия подняли оружие против Октавия. Прежде чем начать еще одну битву, триумвиры были вынуждены примириться вследствие нерасположения их армий, отставших от этих братоубийц. Антонию был отдан весь Восток, и в удостоверение безопасности, он женился на прекрасной и добродетельной Октавии, сестре Августа. Вслед за тем, он отправился против парфян; но экспедиция не удалась.
«Время года было позднее; Антонию советовали побыть в Армении, где царствовал Артабаз, сын Тиграна, и вступить в Лидию весною. Но страсть его к Клеопатре, оживленная долгой разлукой, не давала ему покоя. Нетерпеливо желая явиться победителем в Египет, он пошел против столицы Лидийского царя и дабы раньше ее достигнуть оставил на дороге свои военные машины под охраной двух легионов.
Почти тотчас же его легионы были разбиты в пух и прах царем Парфянским и за этим несчастьем последовало отпадение Артабаза.»
В этом затруднительном положении Антоний чувствовал, что каждый час колебания сделает отступление всё более и более затруднительным; он оставил осаду и прошел сто миль, постоянно преследуемый парфянами, против которых он выдержал восемнадцать битв. Он потерял 24 000 человек в этой компании, но привязанность, выказанная ему в этом случае солдатами, утешила его в таком несчастье.»
Между тем его безумная любовь увлекала его к другим потерям; вместо того чтоб стать на зимние квартиры в Apмении, он спешил в Cирию, и во время похода, посреди снега и льда, потерял еще восемь тысяч человек. Ему, однако, нужен был успех, чтоб уничтожить следы своей неудачи, и он наказал Артабаза за отпадение, отняв у него его царство.
Антоний с триумфом вошел в Александрию, ведя, Артабаза прикованным к своей колеснице и представил его Клеопатре. На одном из народных праздников, на котором он председательствовал с своей любовницей, Антоний, сидя на золотом троне, провозгласил Цезариона, сына Цезаря, царем Египта и Кипра, и двух детей, которых он от нее имел — царями царей.
И это еще не все. Через некоторое время, он приказал Октавии, своей жене, предлагавшей ему приехать в Азию, не удаляться из Рима и в присутствии всех чинов Египта поклялся, что Клеопатра его законная супруга.
Это было уже безумием.
Столько оскорблений не могли остаться безнаказанными.
В ожидании справедливого наказания, ожидая смерти за Клеопатру, Антоний более, чем когда либо опьяненный любовью, жил только для Клеопатры.
Да, он безумно любил ее! Он любил ее до преступления, до низости.
Два факта могут служить тому доказательством.
У Клеопатры была сестра Арсиноя, моложе ее двумя годами, которая, когда старшая сестра, по воле Юлия Цезаря, получила царский скипетр, не побоялась попробовать вырвать этот скипетр из ее рук, напав во главе громады невольников, пиратов, беглецов из Сирии и Сицилии, на легионы диктатора.
Побежденная в первой же битве и взятая в плен, Арсиноя, несмотря на свои мольбы и слезы, должна была следовать за Цезарем в Рим, где он имел жестокость отдать ее во время триумфа на народное поругание. Вслед за тем, обосновавшись в одном из самых отдаленных городов Азии, Эфесе, она жила в нем в бедности, забытая и печальная…
Но она жила, а Клеопатра не прощала.
Однажды, встав поутру, царица Египта, предстала перед триумвиром с лицом искаженным синеватой бледностью.
— Что с тобой, моя милая? — спросил с беспокойством Антоний.
Она молчала.
— Что же с тобой? — повторил он. — Быть может, дурной сон, воспоминание о котором тебя тревожит?
— Да, — ответила Клеопатра, — я видела страшный, ужасный сон!.. Сон, который предвещает мне ужасную катастрофу.
И прижавшись к груди своего возлюбленная, Клеопатра продолжала со всеми признаками ужаса:
— О! спаси, спаси меня! Умоляю тебя Антоний! Она убьет меня! Она убьет моих детей!.. твоих детей!..
— Кто?..
— Арсиноя, сестра моя, которая уже намеревалась похитить мою корону.
— Но она ведь далеко, далеко отсюда, в Ефесе.
— Разве для ненависти существуешь расстояние! Говорю тебе, она убьет меня. Она растерзает всех, кто мне дорог. Сны не лгут. Я видела сегодня ночью; она проникла сюда и ногами топтала безжизненные трупы Цезариона, Птолемея и Александра, — моих сыновей, и приставив к моему горлу кинжал, она мне крикнула: «Я хочу царствовать. Я буду царствовать! Умри!..»
— Полно, — сказал, улыбаясь, Антоний, — ты однако не умерла. Цезарион и Александр тоже живы. Успокойся, моя царица. Сон — ложь.
Клеопатра подняла свое бледное лицо, в чертах которого выражение гнева сменило ужас.
— Так-так! — воскликнула она. — Ты говоришь, что любишь меня, а когда я прошу твоей помощи и покровительства, — у тебя одни только насмешки.
— Я не смеюсь, душа моя! Но чего же ты хочешь?
— Арсиноя хотела меня убить; я хочу, чтоб она умерла.
— Она хотела убить тебя… во сне…
— Довольно! это слишком! Если ты не веришь снам, — я им верю. При том, ее прошедшее не убеждает ли в ее будущем? Нет, нет не без цели боги потрясли мой сон этим могильным видением. Кто знает, что в эту минуту Арсиноя не замышляет погубить меня!
— Можно убедиться в этом, послав в Ефес взвод солдат.
— Я только этого и прошу! Пошли в Ефес взвод Сагонтинцев, под начальством Энобарба. Он мне предан; он не захочет, чтобы царице Египта, жене его полководца, угрожала гордость соперницы…
— Угрожала? — весело повторил Антоний, который ни как не мог принять всерьез боязнь Клеопатры, по поводу сна.
Но она снова сдвинула брови. Опять сделавшись важным, Антоний поспешил ее успокоить. Энобарб был призван, и ему дано было поручение. В тот же день, со взводом Сагонтинцев, он отправился в ионический город.
Клеопатра была права, сказав, что Энобарб был ей предан — он был так предан, что убил Арсиною, хотя ему и не было это положительно приказано.
Несчастная сестра царицы, пораженная зловещим пред- чувствием, при виде солдат любовника Клеопатры, спаслась в храм Дианы, как неприкосновенное убежище. Энобарб последовал за ней и умертвил на самом алтаре богини.
Когда он возвратился в Александрю:
— Ну что? — спросили у него Антоний и Клеопатра.
— Я ее убил, отвечал он.
— Так она составляла заговор? — спросил Антоний
— Конечно! — вскричала Клеопатра, — ведь он же убил ее! Я тебе говорила, что сны не лгут.
Другая черта постыдного падения Антония еще более характерна.
Между женщин, находившихся в услужении у Клеопатры была одна девушка, из Кассалы, в верхней Нубии, по имени Жевра, — редкой красоты, хотя ее кожа была бронзового цвета. Для Антония цвет кожи не значил ничего, если ему нравилась форма. Жевра ему понравилась. Однажды утром, во дворце Антирода, предполагая, что Клеопатра в саду, Антоний ощутил желание изменить мрамору ради бронзы.
Но Клеопатра была не в саду. Она находилась в соседней комнате и появилась в ту самую минуту, когда, увеченный страстью Антоний принимал, за царицу простую невольницу.
За кратковременную любовь к ней цезаря Жерва заплатила жизнью. Клеопатра потребовала, чтоб Антоний своими руками подал чашу со смертоносным ядом той, с которой только что наслаждался. И Антоний раболепно исполнил это бесчеловечное требование, и когда несчастная, испустив два или три стона, упала у ног Клеопатры, сидевшей па троне с своим любовником без- страстно смотревшим на предсмертные конвульсии.
— Я люблю тебя! — произнесла Клеопатра. И их уста слились в поцелуе.
Клеопатра умерла тридцати девяти лет, процарствовав двадцать два года, из которых четырнадцать с Антонием.
Она умерла добровольно от укуса ядовитой змеи, после того как Антоний был разбит на голову Октавием.
За отсутствием живой Клеопатры Октавий во время своего триумфа велел нести ее изображение.
Но, исполняя ее желание, выраженное в ее завещании, он повелел похоронить египетскую царицу в одной гробнице с Марком Антонием.
В том же завещании мать препоручала своих детей властителю вселенной.
Но властитель мира был гуманен только до тех пор, пока полагал, что его гуманность не повредить его интересам.
Он призвал в Италию Александра и Птолемея, двух сыновей любви Клеопатры и Марка Антония и дочь, названную по имени матери Клеопатрой.
Принятые доброй и благородной Октавией после триумфа Августа, Птолемей, Александр и Клеопатра были воспитаны ею, как ее собственные дети.
Но что касается Цезариона, сына Цезаря, он был умерщвлен в Египте.
То был, как говорит философ Apий, один из его царедворцев, которого Октавиан заставил совершить эту жестокость, сказав ему, что два Цезаря смутят мир и что одного совершенно достаточно…
Для царедворца было недурно сказано.
ГРЕЦИЯ
Религиозная проституция в Греции, существовала с того самого времени, как появились боги и храмы.
Она восходит к началу греческого теогонизма.
Эта теогония, которую создало поэтическое воображение эллинов за восемнадцать веков до нашей эры, была аллегорической поэмой любовных наслаждений во Вселенной.
Все религии имели одну и ту же колыбель; повсюду женская природа, распускалась и рождала при плодотворном прикосновении мужской природы.
Повсюду обоготворяли мужчину и женщину в наиболее выразительных их половых отличиях.
Греция заимствовала из Азии культ Венеры и Адониса, а так как двух этих влюбленных божеств было недостаточно, то Греция умножила их под множеством различных имен, так что в ней было почти столько же Венер, сколько храмов и статуй.
Жрецы и поэты, бравшиеся общим хором за изобретение и описание подвигов богов, развивали одну только тему: чувственное наслаждение.
В этой остроумной и прелестной мифологии поминутно является любовь под самыми разнообразными формами, и жизнь каждого божества есть ничто иное как сладострастный гимн во славу чувствований.
Понятно без всякого труда, что проституция, которая является в «Одиссее», под самыми различными формами метаморфоз богов и богинь должна была быть отражением греческих нравов во времена Инаха.
Нация, религиозные верования которой были только громадой постыдных легенд, могла ли быть целомудренной?
Греция, с самых героических времен, приняла культ женщины и мужчины, который Вавилон и Тир установили в Кипре.
Культ этот вышел с острова, специально ему посвященного, и распространился по всем островам Архипелага, откуда перешел в Коринф, Афины и во все ионические города.
По мере того, как Венера и Адонис получали право гражданства в страна Орфея и Гесиода, они теряли некоторые отличительные черты своего халдейского и финикийского происхождения.
Венера и Адонис были более прикрыты, чем в малой Азии.
Но под этим прикрытием существовала изысканность и утонченность, которой, быть может, не было известно в священных местностях Милиты и таинственных лесах Бельфегора.
Самая древняя Венера, приводимая Сократом и Платоном была Венера Пандемос или народная, та самая, которую Тезей поставил в рождавшихся Афинах, и которая была обоготворяема маленьким народонаселением. В нескольких шагах от Венеры стояла совершенно независимо статуя Пито.
Если совершенно неизвестно в какой позе была представлена мать любви, то тем не менее можно предполагать, что эта поза была выразительна.
В самое короткое время это место стало столь посещаемо, что позже, Солон, желая употребить на постройку храма деньги афинян, — воздвиг его как раз напротив Венеры Пандемос.
Этот храм под призванием проституции стал доходным, так как в четвертый день каждого месяца празднества в честь богини привлекали большое число куртизанок.
В этот день существенная добыча от их ремесла под видом жертвы обогащала алтарь их дорогой богини.
Независимо от афинского храма, народная Венера была обоготворяема и в других местностях Греции.
В Фивах она существовала с основания города при Кадме.
Предание даже говорит, что статуя, которой был украшен храм, была сделана из той бронзы, которой были обиты корабли Кадма, снятой после его высадки в Беотии.
Мегаполис обладал тремя различными статуями богини.
В Елисе была также статуя, сделанная скульптором Сотасом, и представлявшая Венеру лежащей на спине козла с золотыми рогами.
Обыкновенно богиня была обожаема куртизанками и их любовниками, под именем Гетеры или блудницы, — была легендарная Венера, происхождение которой восходить к баснословным временам Греции.
Когда Абидос был порабощен иноземцами и страдал от своей неволи, однажды ночью солдаты уснули среди оргии, дававшейся куртизанками. Одна из них, увлекаемая любовью к отечеству, воспользовалась обстоятельствами, чтоб похитить ключи от города и, перейдя через ограды, они разбудили побежденных, храбрость которых сделала остальное.
Когда настало утро, часовые были задушены, враг изгнан со стыдом и страна освободилась.
В воспоминание этого замечательного случая, жители, почти чудесным образом избавленные от постыдного ига, воздвигли храм во имя Венеры-Гетеры.
На мысе Самосском храм богини имел также свою историю, быть может менее героическую, но за то более поэтичную.
Он был построен одной куртизанкой, которая на берегу Эвксинского Понта молила Венеру послать в ее жилище большее количество посетителей.
В Самосе Венера-блудница, которую звали то богиней тростников, то богиней болот, имела храм, вполне посвященный проституции, поскольку гетеры, сопровождавшие войско Перикла на осаду Самоса доставили необходимую для его постройки сумму.
Другая Венера — Венера Перибазия, — которой Дедал, тот самый, что сделал план Критского лабиринта, — поставил статую из чистого серебра, у Римлян стала похотливой Венерой.
Приносимые этой богине жертвы были в большинстве случаев внушаемы качеством приносивших эти жертвы женщин.
Золотые, серебряные фаллусы, фаллусы из слоновой кости, дорогие безделушки, зеркала из полированного серебра, носившие описания обстоятельств, были приносимы в жертвоприношения, которые также состояли из постоянных принадлежностей куртизанок.
Многоразличная в своих видоизменениях, Венера сохраняла свою мифологию и была то Мушеей или богиней вертепов, то Кастинией или богиней постыдного совокупления; то Скотией или богиней мрака, то Дорцето или потаскушкой, наконец Каллипигой и Механитис.
Под именем Дерцето скрывается следующая легенда. Венера, упавшая с Олимпа в самое глубокое море, была принесена гигантской рыбой на берега Сирии.
В благодарность она поставила своего спасителя в число звезд.
Под именем Механитис или механической она была представлена с деревянными ногами и в мраморной каске.
Вследствие остроумного механизма, статуя могла принимать какие угодно позы.
«Эта богиня, говорит Дюфур, была без сомнения, под различными видами богиней красоты; но красота, которую она собой олицетворяла была не красотой лица, а красотой тела.
И греки, более привязанные к скульптуре, чем к живописи, отдавали предпочтение форме, а не цвету. «Красота лица придавалась почти безразлично всем богиням греческого пантеона, тогда, как красота тела была одной из божественных принадлежностей Венеры.»
Когда троянский пастух Парис, отдал яблоко одной из богинь-соперниц, он сделал выбор только после того, как увидел их без всякой одежды.
Таким образом, Венера представляла не духовную красоту женщины, но красоту материальную, телесную.
«Поэты и артисты давали ей очень маленькую голову с узким и низким лбом и взамен этого длинные, гибкие, полные члены. Совершенство красоты у богини начиналось, особенно, с чресл.
Греки были первыми в мире знатоками этого рода красоты.
Но однако не Греция, а Сицилия воздвигла храм Венере Каллипиге.
Храм этот обязан своим происхождением приговору, не имевшему такой знаменитости как суд Париса, ибо судившиеся стороны не были богинями.
Две сестры в окрестностях Сиракуз, купаясь однажды, заспорили о своей красоте.
Молодой сиракузец, проходивший мимо и видевший споривших, не будучи видим ими, преклонил колена, как будто пред Венерой, и вскричал что старшая победила.
Девушки убежали полураздетыми.
Молодой человек возвратился в Сиракузы и, еще взволнованный от восторга, рассказал, что видел.
Его брат, приведенный в восторг рассказом, объявил себя в пользу младшей.
Наконец, они собрали все свои драгоценности и отправились к двум сестрам, предлагая себя в зятья.
Младшая заболела от мысли, что побеждена; она согласилась на пересмотр приговора, и оба брата объявили, что они обе достойны быть победительницами, так как судья видел одну справа а другую — слева.
Обе сестры вышли замуж и принесли в Сиракузы славу о своей красоте.
Их осыпали подарками, и они приобрели такое богатство, что имели возможность воздвигнуть храм богине, бывшей источником этого состояния.
Статуя, которой восхищались в этом храме, соединяла в себе сокровенные прелести обеих сестер, и это соединение двух моделей в одной почти произвело тип совершенной красоты.
Эту красоту обессмертил поэт Керпидас из Мегалополиса, никогда не видевший оригиналов.»
Атеней нередает тот же анекдот, который под прозрачным покровом скрывает историю двух сиракузских куртизанок.
Куртизанки не довольствовались построенным храмом Венере, они принимали также деятельное участие в посвященных ей церемониях.
К храму который богиня имела в Коринфе, по свидетельству Страбона принадлежала тысяча посвященных проституток, услуги которых увеличивали доходы жрецов и алтаря богини.
Чтоб сделать Венеру благосклонной, в Греции был обычай посвящать ей известное число молодых девушек для частных услуг. Коринф более других городов имел эту привилегию.
Всякое ходатайство перед богиней совершалось куртизанками, которые первые входили в храм и последними из него уходили.
В важных обстоятельствах видали даже странные процессии, состоявшие из этих созданий, проходивших по городу в костюмах своего ремесла.
Вне этих, так сказать, легальных жертвоприношений женщины, упавшие до разряда проституток, специально отправляли известные праздники у себя дома за запертыми дверями.
Таковы были афродизические и алоенские.
Последние бывали после сбора винограда, находились под покровительством Цереры и Бахуса и собирали большое количество куртизанок.
Сидя со своими любовниками, вокруг уставленного кушаньями стола, они проводили многие дни и ночи в разврате, оглашая эти ночи смехом и песнями, и обливая вином.
Исключая храмы Венеры, где куртизанки были как дома, все другие были для них строго заперты, ибо они были оплеваны честными женщинами, которые бежали от них, как от чумы, и не могли глядеть не краснея.
Однако в Элевсисе они сохранили для себя залу в храме Цереры. Они могли собираться в ней без жрецов, одни заменяя последних, другие в качестве присутствующих, сохраняя целомудрие, которое не всегда было в их привычках.
Но уроки добродетели заменялись со стороны старух, так сказать, практическим курсом посвящения в таинства Венеры.
Таким образом, культ Венеры был культом чувственной любви, полового разврата, и главными его поклонницами были проститутки.
За 638 лет до P. X. родился второй из семи греческих мудрецов, афинский законодатель Солон.
В эту эпоху гостеприимная проституция давно уже исчезла с эллинской почвы и брак был даже уважаем.
Но следы религиозной проституции были еще столь явными, она приносила такие громадные доходы храмам и жрецам, что законодатель был поражен этим.
Тогда он задумал регламентировать проституцию не только для того, чтоб обратить в пользу государства те громадные суммы, который доставались в частные руки, но также в видах улучшения распущенных нравов своего народа.
Дело шло о том, чтоб удержать афинских юношей в границах, за которые они переступили, и остановить разлитие разврата, долженствующего переродить расу.
Кроме того, следовало обеспечить скромность честных женщин, ставших целью преследований со стороны молодых развратников и старых прелюбодеев.
Эти-то различные мотивы заставили его основать учреждение, которое он населил невольницами всех наций.
Женщинами, приобретенными на деньги государства, содержавшимися на его счет и служившими пороку, удовлетворяя его без захвата чужой собственности.
И чтоб придать этому учреждению уважаемый характер, чтоб отнять у него чисто пагубную сторону, во главе его Солон поставил важного чиновника; по крайней мере так было вначале.
Сверх того, эти несчастные были, так сказать, отделены от остального народонаселения.
Секвестрованные в местности, где они занимались своим постыдным ремеслом, они не могли являться ни на общественных праздниках, ни в религиозных процессиях.
Если, отказываясь от чрезмерной суровости, власть дозволяла им являться вне своих жилищ, то они были: обязаны носить одежду, форма и цвет которой объясняли народу кто они.
Однако редкая терпимость, позволявшая им выходить, строго запрещала посещать местности города, где их появление могло бы произвести скандал.
Их качество иностранок совершенно лишало их общих преимуществ, в такой мере, что достаточно было афинской женщине отдаться проституции, чтобы утратить права рождения.
Но эта благоразумная предусмотрительность не была сохраняема; по смерти Солона проституция проникла всюду, во все классы общества, и даже на Форуме они сталкивались с честными женщинами.
Гиппий и Гиппарх, сыновья Пизистрата, сделались покровителями этих созданий.
За столом, но поводу смерти их отца, матроны и куртизанки сидели рядом, как позорный вызов, брошенный общественному приличию.
За этими пирами, превращавшимися в оргии, по словам Идоменея, происходили крайние безобразия; они оканчивались в полях, виноградниках и садах, открытых по приказу.
Хотели, чтоб в публичном разврате каждый принимал участие, не скрывая даже своего стыда в заведении, основанном Солоном.
Нравы никогда не очищались до добродетели, но но крайней мере это учреждение заставляло уважать домашний очаг.
Если мужья не боялись посещать Пирей, населенный куртизанками, в обществе своих друзей, и посвящать Венере-Пандемос своих жен, то они были уверены что дом их гарантирован от нечистого прикосновения проституции.
Спартанки и коринфские женщины не имели ни характера, ни силы своих сестер афинянок.
Они тихо погружались в колею проституции, столь глубоко проведенную еще до них, и даже находили в этом известное удовольствие.
В Коринф еще непрестанно приезжали иностранцы ради торговли, повсюду оставляя следы своего великодушия — такое положение дел не было странно.
Но в Спарте, хваставшейся строгими добродетелями, бывшей типом суровой республики, роль публичной женщины менее понятна.
Правда, что Ликург в своем законодательстве мало заботился о женщинах.
Когда он был призван спартанцами дать им законы, женщины уже давно жили в разврате, который только увеличивался от их мужского воспитания.
Они разделяли, будучи полуодетыми, все мужские упражнения, боролись с ними, сражались рядом с ними, или упражнялись в беге.
Между тем, нравы Спартанцев с отвращением отвергали любовь, которая не была в естественных условиях, удаляясь таким образом от Афинян, которых пылкость увлекала к постыдным поступкам.
У них дружба двух мужчин не могла быть заподозрена ни в какой пошлости, потому что ее единственным двигателем было братство по оружию.
Но к обладании женщиной они не примешивали ни ревности, ни удовлетворенного самолюбия.
Они смотрели на них, как на бродящий скот, которым каждый мог завладеть и оставить себе на потеху.
По этому женщины и девушки всего чаще отдавались без вознаграждения, каждому кто их желал, ни мало не стыдясь поступка, который оставлял по себе совершенное равнодушие.
Поэтому, обращаясь к истокам древнегреческого распутства, мы вынуждены прибегнуть к героине столько древней, сколь и легендарной — к образу Елены Прекрасной или Троянской, имени ставшему нарицательным при обозначении женщины в высшей степени свободной нравом и столь же независимого вкуса.
Елена Троянская
Из многочисленных куртизанок древности первое место бесспорно принадлежит Елене, «прекрасной, лилейно-раменной» супруге Атрида Менелая, куртизанке по натуре, едва ли не первой женщине, из-за обладания которой разгорелась война народов, погубившая Трою.

Легенда утверждает, что Елена была дочерью супруги лакедемонского царя Тиндарея, красавицы Леды, и бога богов Зевса, проведшего с ней ночь любви в образе лебедя. Очевидно, при создании этой легенды главную роль играла фантазия, необыкновенно пылкая у восточных народов, в особенности в тех случаях, когда они затруднялись объяснить себе факты, не поддававшиеся их умозрению. Если же взглянуть на это проще, вся эта история представится в менее поэтическом, но зато более правдоподобном виде… Однажды ко двору царя Тиндарея прибыл какой-то знатный чужеземец, молодой и красивый. По обычаю того времени, хозяин дома обязан был уступить свою жену на ночь гостю. Радушный и гостеприимный Тиндарей, разумеется, не пошел против обычая, и Елена явилась следствием этого гостеприимства. Ребенок родился такой поразительной красоты, что слухи о нем прошли от Элиды до Малой Азии. Так как братья и сестры Елены наружностью мало чем отличались от обыкновенных смертных, красота новорожденной была признана божественной. Ее восхитительная лебединая шея и грудь породили вышеприведенную легенду, тем более имевшую основание, что Зевс-громовержец имел привычку, нарушая супружескую верность, превращаться во всевозможные одушевленные и неодушевленные предметы.
По мере того как Елена росла, расцветала ее красота. Чтобы оградить молодую девушку от нежелательных случайностей, к царевне приставили специальную охрану, от которой, однако, ей прежде всего и пришлось защищаться. Но это были еще цветочки, ягодки зрели впереди.
Однажды, когда Елена, имея всего двенадцать лет от роду, вместе с подругами совершала торжественные пляски у алтаря Артемиды, Тезей, герой, слава о подвигах которого уже гремела по всему свету, с помощью своего верного друга Пирифоя похитил ее и увез в Афины. Эллений утверждает даже, что в момент похищения красавице было всего семь лет, с чем, однако, трудно согласиться. Есть основания предполагать, что похищение, в те времена практиковавшееся очень часто при сватовстве, в данном случае было совершено только для проформы и сопротивление Елены было притворным, так как отвечало ее мечтам.
Не надо этому удивляться: античные народы смотрели на вещи не так, как мы. Плутарх, как бы желая сгладить разногласие относительно возраста Елены, умалчивает о годах, а говорит только, что похищенная еще не достигла возраста, требуемого для брачной жизни.
Братья Елены, Диоскуры Кастор и Поллукс, тщетно искали сестру и уже готовы были отказаться от дальнейших поисков, когда, на их счастье, афинянин Академ дал им подробные сведения. Молодые люди немедленно отправились освобождать красавицу из плена, не казавшегося ей, однако, тяжелым. Освобожденная Елена рассказала братьям, что, будучи увезена Тезеем в Афины, она была сдана им на попечение его матери Этры, заботившейся о ней, как о собственной дочери, и уверяла, что благодаря этому избавилась от покушений Тезея, сохранив свою честь незапятнанной. Как увидим ниже, ее уверения, очень далекие от истины, были только защитой перед родными, негодовавшими на ее чересчур легкомысленное поведение.
По дороге в Лакедемонию Елена остановилась в Микенах у своей старшей сестры Клитемнестры, супруги «царя царей» Агамемнона. Дурис Самосский и Павзаний в один голос утверждают, что в это время Елена уже носила под сердцем тайный плод своей связи с Тезеем, грациозную Ифигению, впоследствии воспетую поэтами, которая и родилась в Аргосе. Не желая появиться в Спарте, где ее ожидали женихи, с фактическим доказательством своего бесчестия, Елена отдала Ифигению Клитемнестре, воспитавшей ее, как собственную дочь. Агамемнон, вернувшийся из путешествия, нисколько не удивился прибавлению семейства и признал себя ее отцом. Однако некоторые писатели не соглашаются с такой покладистостью «царя царей» и, признавая снисходительность элидских мужей к своим супругам, все-таки уверяют, что глава Атридов потребовал серьезных объяснений от Клитемнестры относительно ребенка, которого она выдала за своего, и, только получив их, согласился сохранить тайну его происхождения.
Как бы то ни было, это первое приключение юной дочери лакедемонского царя стало притчей во языцех и создало Елене громкую известность. Женщина, так рано вступившая на поприще любви, конечно, не могла сделаться достоянием одного мужчины, и каждый втайне надеялся когда-нибудь воспользоваться ее ласками. Боги нечасто награждали женщину красотой, способной поссорить два десятка военачальников, не возбудив их гнева против себя, и не нести ответственности за причиненный вред. Действительно, красотой с Еленой не смогла сравняться никакая другая женщина. Цедрений говорит, что у нее были «большие глаза, в которых светится необыкновенная кротость, пурпурный ротик, сулящий самые сладкие поцелуи, и божественная грудь». Недаром же по форме ее грудей вылили чаши, предназначенные для алтарей Афродиты. Овидий прибавляет, что ее лицо не нуждалось в косметике, к которой прибегали почти все гречанки. Будь целомудрие Елены даже заперто в железной башне, рано или поздно его похитили бы!
Елена вернулась в Лакедемонию как раз в тот день, когда Тиндарей хотел решить ее судьбу. Претендентов на божественную ручку прекрасной царевны оказалось великое множество. Предвидя дурные последствия, способные возбудить вражду между женихами после избрания одного из них в мужья Елены, Тиндарей заранее заставил их дать клятву быть союзником того, кому посчастливится стать его зятем, и только после этого избрал дочери мужа. Гигин доказывает, однако, что выбор мужа был предоставлен самой Елене и что счастливцем оказался белокурый спартанец Менелай, брат Агамемнона. Возможно, что при выборе он показался ей проще остальных, и красавица предугадала, что с этим мужем нетрудно будет поладить, когда она пожелает отдаться тому или другому мужчине, приглянувшемуся ей, но не вызывает сомнений, что ни один из сватавшихся не нарушил данной клятвы, и Менелай торжественно увез Елену к себе на родину.
Увы, их семейное счастье оказалось непродолжительным. После того как Елена одарила супруга дочерью Герионой, Афродита приготовила ему неприятный сюрприз в лице троянского царевича Париса.
Парис, или Александр, как иногда его называет Гомер, был сыном царя Приама и Гекубы, которой за несколько дней до его рождения приснилось, что она родит горящий факел, который сожжет древний Илион до основания. Оракул разъяснил, что у Гекубы родится сын, который станет причиной гибели его родного города. Мудрый старец Приам, чтобы избежать грозившего несчастья, тотчас же после рождения Париса призвал пастуха и приказал отнести ребенка на вершину горы Иды и оставить там на произвол судьбы. Но судьба сжалилась над малюткой: в течение восьми дней медведица кормила собственным выменем брошенное дитя, пастух же, пораженный увиденным, взял ребенка на воспитание. Приам даже и не вспоминал о Парисе, имея, по словам Гомера, пятьдесят сыновей и столько же дочерей — полигамия была обычным явлением на Востоке, — из которых, кроме Париса, приобрели известность Гектор, Деифоб, Кассандра, Поликсена и Гесиона, впоследствии похищенная греками.
Однажды, когда юный Парис, пася стада у подошвы Иды, отдыхал под деревом, перед ним неожиданно предстали супруга Зевса — гордая Гера, мудрая Паллада-Афина и обольстительная Афродита, сопровождаемые вестником богов — Гермесом. Последний рассказал изумленному юноше о причине их появления.
На свадьбу Пелея и Фетиды, которую удостоили своим присутствием все небожители, забыли пригласить богиню пагубного раздора — Эриду. Оскорбленная этим, она сорвала в Гесперидском саду золотое яблоко, сделала на нем надпись «Самой красивой» и бросила среди пирующих. Мир и согласие тотчас же были нарушены, так как три богини одновременно заявили притязание на золотой плод и за решением спора обратились к Зевсу, указавшему им на царственного пастуха, как на особенного знатока красоты. Не соблазнившись обещаниями Геры, сулившей богатство и владычество над Азией, пренебрегая мудростью и военной славой, способной затмить всех героев земли, которые давала Паллада-Афина, Парис отдал яблоко Афродите, обещавшей ему в супруги самую прекрасную женщину на свете. Однако прошли годы, прежде чем богиня любви исполнила свое обещание.
Но вот Афродита вторично явилась фригийскому пастуху и предложила отправиться в Элладу, где в царских чертогах Атрида Менелая, в Спарте, он найдет обещанное. Но пообещать легче, чем исполнить. Парис уже успел жениться на нимфе Эноне, когда-то любимице Аполлона, обладавшей даром прорицания. Она предсказала Парису гибель всей его семьи и страшное бедствие отечества, если он не откажется от поездки в Спарту. Но Парис, решив, что предсказание внушено обыкновенной ревностью, не послушался и, желая овладеть самой прекрасной женщиной, стал добиваться, чтобы Приам его признал. Вскоре случай представился. Парис отличился, победив многих соперников во время торжественных состязаний в борьбе. Получив приз, он открыл отцу свое происхождение, показав пеленки, в которые был завернут, когда его отдали пастуху. Обрадованная Гекуба, забыв свой вещий сон, с радостью приняла сына, а Приам вскоре возложил на него поручение, хотя и почетное, но очень опасное — потребовать в Греции выкуп за увезенную сестру — Гесиону.
Все это отвечало надеждам и ожиданиям Париса. Окруженный блестящей свитой, с богатыми подарками, юноша, не заботясь об исполнении отцовского поручения, поспешил прямо в Спарту, во дворец Атрида Менелая, где был радушно принят.

По окончании обеда, когда Парис рассказывал Менелаю об Илионе и его сокровищах, вошла Елена. Троянский ловелас сразу узнал в ней тот образ, о котором мечтал. Ведь Елена была похожа на Афродиту. День за днем он проводил в гостеприимном дворце, а прямодушный герой Менелай, чуждый притворства, не ожидавший обмана, радовался его продолжительному присутствию. Быть может, все обошлось бы вполне благополучно, если бы торжественное жертвоприношение не потребовало отъезда Менелая на остров Крит. Это и решило судьбу Трои.
Елена влюбилась в Париса, который изощрялся в способах, желая привлечь ее внимание, не подозревая, как легко достанется ему эта победа. Колутий, поэт V века, превосходно описал приезд троянского царевича, волнение царицы при виде его, страсть, которую он ей внушил, и его усилия всецело овладеть ею, хотя ради этого он прибегнул к не особенно благородной уловке.
— Знаешь ли ты, — иронически говорит Парис Елене, — что Менелай принадлежит к таким людям, которые терпеливо переносят оскорбления?.. Во всем Аргосе не встретишь женщины трусливее его!
Елена молча слушает речи красивого юноши, думая совершенно о другом, и тонко, осторожно высказывает свои желания, делая вид, что уступает ему.
— Ах, — вздыхает она, — мне так бы хотелось увидеть стены, где ты родился!.. Я желала бы пройтись по тем уединенным местам, где раздавались гармонические песни второго Феба, превратившегося в пастуха и по велению богов много раз водившего там своих волов… Покажи мне Трою, я согласна следовать за тобой и не боюсь гнева Менелая!
Очевидно, знакомство с Тезеем развило в Елене вкус к приключениям, куртизанка брала в ней верх над царицей. Впрочем, дочь Леды и не могла поступить иначе. После того как она приняла любовь чужестранца, любовники на всех парусах полетели к берегам Трои, захватив с собой многие сокровища. Волны Эгейского моря качали беглецов, нетерпеливо ожидавших очаровательной ночи в прекрасном царстве Приама.
Но гордая Гера еще гневалась на Париса и тотчас отправила Ириду объявить Менелаю о совершившемся преступлении. Ограбленный герой, вернувшись в опустевшие палаты своего дворца, стал замышлять тяжкую кровавую месть. Настало время призвать на помощь своих прежних соперников по сватовству. Снова их всех соединило одинаковое желание найти ту, которой каждый из них надеялся овладеть в свою очередь, и, наверное, не один из них мысленно упрекал себя за то, что не опередил Париса, теперь наслаждавшегося в объятиях похищенной красавицы.
Перед отплытием в Трою Менелай пожертвовал в храм Дельфийского оракула массивное золотое ожерелье, принадлежавшее Елене, которое, как утверждали, было подарено ей Афродитой. Только на этом условии оракул обещал победу. В 106-ю Олимпиаду, когда фокейцы разграбили Дельфийский храм, ожерелье Елены вместе с ожерельем Эрифилы, жены предсказателя Амфиарая, находилось в числе вещей, поделенных фокеянками. Ввиду возникших ссор и горячих споров пришлось бросить жребий между женщинами. Ожерелье Эрифилы досталось свирепой фокеянке, впоследствии убившей своего мужа; ожерелье Елены стало добычей другой, необыкновенно развратной женщины, долго странствовавшей по свету с каким-то эпирским юношей.
Окрыленные будущим успехом, военачальники Элиды, вооружив корабли, поспешили к берегам Илиона, где аргивянка Елена уже стала супругой своего похитителя. По Гомеру, в тот момент, когда обе армии сражались, Елена, вызвавшая эту кровопролитную войну, сидела во дворце и
…ткань великую ткала,
Светлый, двускладный покров, образуя на оном сраженья,
Подвиги конных Троян и медянодоспешных Данаев,
В коих они за нее от Ахеевых рук пострадали…
Понятно, что ее первый супруг с трудом удерживал свое пока бессильное бешенство и, удалившись в палатку, думал о неверной, разделявшей невдалеке от него ложе с Парисом. Она же вовсе не жаждет увидеть своего обманутого мужа, хотя имеет возможность очень легко пройти ночью в греческий лагерь. Очевидно, она ждет, чтобы ее похитили в третий раз.
Ее красота по-прежнему сохраняет всю свою чистоту и благородство, никто не решается бросить ей упрек. Даже троянские старейшины, умудренные годами и опытом, поражаются ее красоте:
Старцы, лишь только узрели идущую к башне Елену,
Тихие между собой говорили крылатые речи:
Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы
Брань за ту женщину и беды столь долгие терпят;
Истинно, вечным богиням она красотою подобна…
Приам же ее призывал дружелюбно:
Шествуй, дитя мое милое, ближе ко мне ты садися…
Ты предо мною невинна, единые боги виновны…
Овидий идёт еще дальше.
«Когда Менелай уехал, — говорит он, — Елена застыла на одиноком ложе и пошла согреваться в объятия гостя. О, Менелай, ты был глуп, оставив жену под одной кровлей с чужеземцем. Безумец, ведь это все равно, что поручить голубку хищному ястребу, стадо овец — кровожадному волку. Ни Елена, ни ее похититель не были виновны: на месте Париса ты сам, да и любой из нас поступил бы точно так же. Ты натолкнул их на измену, уступив место и время, ты сам указал жене дорогу. Что ей оставалось! Муж в отсутствии, а рядом прекрасный чужеземец. Она побоялась одна лечь в широкую постель. Пусть Менелай рассуждал, как ему угодно, но, по-моему, Елена невиновна. Она только воспользовалась случаем, предоставленным ей слишком недальновидным муженьком».
Итак, пока глубокая злоба бросала воинов одного на другого, пока меч дрожал в руке Менелая, Парис, постыдно бежавший с поля боя, спешит насладиться любовью с Еленой. Возмущенная его трусостью, она осыпает его оскорблениями, на что Парис отвечает:
Нет, не печаль мне, супруга, упреками горькими сердце,
Так, сего дни Атрид победил с ясноокой Афиной,
После и я побежду; покровители боги и с нами.
Ныне почием с тобой и взаимной любви предадимся,
Пламя такое в груди у меня никогда не горело,
Даже в тот счастливый день, как с тобою из Спарты веселой
Я с похищенной бежал на моих кораблях быстролетных
И на Кранае сопрягся и первой любовью, и ложем,
Ныне пылаю тобою, желания сладкого полный…
Однако, несмотря на такое красноречие, мудрено поверить, что Парис терпеливо ожидал прибытия на остров Кранай, чтобы воспользоваться плодами своей победы, и что Елена не отдалась ему раньше бегства из Греции; это было бы не естественно и не в характере любовников.
Но у Елены возвышенная душа, она не хочет наслаждаться, в то время как другие страдают. Она бранит Париса за лень и легкомыслие, видя, как он небрежно чистит свои доспехи, но тот невозмутим, чем вызывает ее ропот:
…Такие беды божества предназначали сами,
Пусть даровали бы мне благородного сердцем супруга,
Мужа, который бы чувствовал стыд и укоры людские…
Она величественнее, чем те, кто ее окружает. Если она покорилась велению Афродиты и бежала с Парисом, это не значит, что она потеряла свое благородство.
Когда Парис погиб под стенами Илиона, Елена недолго горевала, став супругой его брата Деифоба, ни на минуту не прервав любовных утех, зажженных в ней златокудрой Кипридой. В книгах судеб недаром сказано, что «ни одна смертная не может противиться богине!».

Военные успехи, все время переходившие от одной стороны к другой, побудили осадную армию прибегнуть к хитрости. Скульптор Эпей с помощью Афины-Паллады построил по мысли хитроумного Улисса огромного деревянного коня, в брюхо которого спрятали храбрейших вооруженных воинов. Оставив коня посреди лагеря, греки сели на корабли, делая вид, что отступают, и притаились за островом Тенедосом. Обрадованные троянцы выходят из города и, увидев огромного коня, требуют, чтобы его привели в Трою и пожертвовали богам в благодарность за избавление от греков. Этому больше других воспротивилась красивейшая из дочерей Приама, Кассандра, обладавшая даром предсказания. Но за отказ стать супругой Феба она встречает полнейшее недоверие. Троянцы больше поверили греку Синону, проникнувшему, переодевшись нищим, в осажденный город и уверявшему, что враги погибнут, как только коня введут в Трою. Но Елена узнала Синона и, заподозрив недоброе, ночью пришла в храм Афины-Паллады, где был поставлен конь, и, подражая голосам жен каждого из элидских военачальников, спрятанных в брюхе гигантского животного, стала призывать их прекратить братоубийственную войну. Но и это не спасло Трои.
Улучив удобный момент, когда беспечные троянцы заснули, греки вышли из коня, напали на сладко спящих воинов Приама и открыли городские ворота; к ним поспешили остальные, и кровь рекою полилась по мраморным лестницам дворцов. Деифоб пал под ударом Атрида Менелая, который, найдя Елену, размахивает мечом над неверной, чтобы отомстить за свой позор, но вновь увидев ее лицо во цвете неувядаемой юности и красоты, он вспыхивает прежней любовью, меч падает из его рук, и он заключает Елену в свои объятия.
Старая Гекуба, пророчица Кассандра и вдова Гектора Андромаха становятся пленницами, в то время как дочь Тиндарея, возвращенная любезным мужем в Спарту, воцарилась в своих дворцовых покоях. В Элиде торжественно отпраздновали ее возвращение. Повсюду раздавались веселые песни в честь Менелая, счастливого владельца той, которую Гомер называет «благороднейшей из женщин». Что делать, она была причиной всевозможных бедствий, ниспосланных судьбой, но сама никогда не являлась их сообщницей.
Эврипид в своих «Троянках» говорит, что Менелай хотел убить Елену, но она принесла ему повинную за свое прошлое поведение, уверяла, что порывалась бежать к нему в греческий лагерь, но часовые не пропустили ее и что Деифоб после смерти Париса насильно сделал ее своей супругой. Павзаний добавляет в подтверждение, что видел статую, изображавшую Менелая, преследующего Елену с мечом в руках. В данном случае художник перешел границы истины: гнев Менелая моментально угас при виде обнаженной и трепетавшей груди, которую он не мог не целовать.
Из гомеровского рассказа мы узнаем, что Елена впоследствии спокойно жила с Менелаем. Когда Телемак в поисках своего отца пришел просить приюта у Менелая, он увидел, как
…к ним из своих благовонных покоев Елена
Вышла, подобная светлой, с копьем золотым, Артемиде…
На ее лице нет и оттенка смущения, она господствует в этом великолепном дворце, где, конечно, очень любезно принимает чужестранца. Когда разговор коснулся грустных тем,
В чаши она круговые подлить вознамерилась соку,
Гореусладного, миротворящего, сердцу забвение
Бедствий дающего…
При появлении Елены ее красота заставляла забывать, скольким храбрым воинам в расцвете лет она помогла спуститься в мрачный Эреб. Кто посмеет бросить на нее хотя бы малейшую тень? Божественная красота не поддается поруганию и навсегда сохраняет свой небесный блеск! Невинная в преступлениях, совершающихся вокруг, она всегда отразит обвинения, сыплющиеся на нее.
Увы, судьба, покровительствовавшая этой очаровательной куртизанке в течение всей ее богатой приключениями жизни, приготовила ужасный конец супруге Менелая.
После его смерти незаконные сыновья Атрида, Никострат и Мегапенф, изгнали Елену из Спарты. Очевидно, Менелай во время пребывания супруги в Трое нашел утешение с другой женщиной, поэтому причиной Троянской войны правильнее будет считать не похищение Елены, а нарушение Парисом священных прав гостеприимства.
Изгнанная из Спарты, Елена искала убежища на острове Родосе, где царствовала до совершеннолетия своих двух сыновей Поликса, вдова Тлеполема, погибшего под стенами Трои. Считая Елену виновницей гибели своего мужа, Поликса задумала жестокую месть. Елена неожиданно приобрела в ней неумолимого врага и там, где надеялась найти покровительство, нашла смерть. Настал час, в который Парки произнесли свой приговор над головой спартанской царицы. Однажды, когда Елена купалась, Поликса подослала к ней убийц, женщин, наряженных фуриями. С громкими криками бросились они на «лилейно-раменную» красавицу, и подруга Тезея, вдова Менелая, Париса и Деифоба почувствовала на своей божественной шее ужасную веревочную петлю, долженствовавшую положить конец жизни дочери Леды и Зевса. Страшная казнь была придумана Поликсой, которая не могла без скрытого бешенства смотреть на женщину, не потерявшую своей красоты даже в несчастии. Зато с каким наслаждением глядела она, как это благородное и чистое лицо, шедевр божественного вдохновения, исказилось в конвульсиях агонии и как трепетало повешенное на дереве тело, когда-то полное сладострастия!
Но Елена должна была оставить по себе немеркнущую память. На том же самом Родосе, где она мучительно окончила свои дни, ей воздвигли храм, по словам Павзания, называвшийся храмом «Елены Дендритийской», и основали культ красоты, переживший века. Тот же Павзаний уверяет, что масса народа, говорящего о прекрасной Елене, и не подозревает, что она была повешена.
Другой греческий писатель Фотий настаивает на том, что Елена сама наложила на себя руки и что под деревом, на котором она повесилась, выросла травка, называемая елененон. Плиний, не оспаривая этой версии, прибавляет, что травка обладает чудесными свойствами: она дает женщинам красоту, а положенная в вино возбуждает веселость. Но не одни жители Родоса воздвигли храм в честь Елены, — Павзаний видел другой в Лакедемонии. Геродот рассказывает, что в ее храмах совершались чудеса, как, например, ослепление поэта Стезихора, дурно отозвавшегося в своей поэме о Елене, и о возвращении ему зрения после того, как он написал полинодию, и о даровании красоты уродливой девушке.
Знаменитый греческий оратор Изократ (436—338 до Р. X.) в панегирике Елене утверждает, что она не только бессмертна, но обладает божественной властью, позволившей ей включить своих братьев, Кастора и Поллукса, и супруга Менелая в сонм богов. Особенно похвальным мифология находит то, что, обожествив Менелая, Елена пожелала никогда с ним не разлучаться.
Говорят, что в Лакедемонии ей воздавали божественные почести, а в Фере построили храм даже в честь Менелая, почему и предполагают, что он погребен вместе с Еленой.
Обилие легенд, тесно связанных с жизнью этой царицы-куртизанки, разобраться в которых в настоящее время не представляется никакой возможности, служит ясным доказательством того обаяния, каким в античном мире пользовалась красота, в какой бы форме она ни выражалась. Греки всегда восторгались Еленой, и серьезные культы, посвященные ей, постоянно защищали ее от возводимых обвинений. Как многие, она поддавалась увлечению, толкавшему ее к неизведанному; наподобие сладострастной и трогательной Афродиты, она приносит утешение и опьяняет мир, жаждущий идеала. Красота охраняет ее от упреков. Отчего ей краснеть? Это всесильные боги вложили в ее сердце такое всепожирающее пламя и бросили обезумевшую от волнений любви в объятия страстного смертного!..
«Страстная» Сафо

Если любовь — божественная страсть, более сильная, чем энтузиазм дельфийских жриц, вакханок и жрецов Цибелы, то Сафо или Сапфо — красноречивейшее ее олицетворение.
К сожалению, все дошедшие до нас сведения об этой «царице поэтов» настолько разноречивы, так переплетены со всевозможными легендами, что не представляется возможности нарисовать хоть сколько-нибудь схожий портрет знаменитой гетеры-поэтессы, «десятой музы», по мнению Платона. Расстояние, отделяющее ее от нас, слишком велико, чтобы можно было проверить данные, выдвигаемые всевозможными авторитетами, как нечто неоспоримое. Все эти противоречия несомненно доказывают, что существование Сафо не прошло в истории бесследно и что между многочисленными выдающимися женщинами античного мира она является личностью далеко не заурядной.
«Страстная» Сафо, как называли ее современники, родилась на острове Лесбос в городе Эросе в 42-ю Олимпиаду,» за 612 лет до P. X. Отца ее звали Скамандронимом, мать — Клеидой. Кроме Сафо, у них было трое сыновей: Харакс, Ларик и Эврас; с первым из них мы встретимся позднее. Скамандроним, несмотря на свое аристократическое происхождение, занимался торговлей и имел хорошие средства. Сафо, едва достигнув шестилетнего возраста, осталась круглой сиротой. Когда в 595 году начались политические волнения, приведшие к ниспровержению аристократии, молодая девушка вместе с братьями бежала в Сицилию и только спустя пятнадцать лет смогла вернуться на Лесбос. Она поселилась в городе Митилены, почему впоследствии ее и стали называть Сафо Митиленской, в отличие от другой Сафо — Эфесской, обыкновенной куртизанки, жившей гораздо позднее знаменитой поэтессы, но с которой ее зачастую смешивают.
Сафо, воспитывавшаяся в школе гетер, рано почувствовала призвание к поэзии. Ее страстная натура не могла утаить в себе чувств, волновавших ее. Она писала оды, гимны, элегии, эпитафии, праздничные и застольные песни стихом, названным в честь ее «сафи- ческим». С лирой в руках она декламировала свои жаркие строфы, в силу чего ее и считают представительницей мелической (музыкально-песенной) лирики, очень близкой к теперешней мелодекламации. Все ее произведения — или призывы к любви, или жалобы на нее, полные страстной мольбы и горячих желаний. То немногое, что сохранилось от этих песен, позволяет нам считать вполне основательным и справедливым восторженное отношение древних к великой лирической поэтессе. По выражению Шиллера:
Тот лишь музами владеет,
Чья душа к ним пламенеет!.. —
а у Сафо душа действительно пламенела. Недаром она оказала такое огромное влияние на Горация и Катулла, родственного ей по духу певца нежных чувств и страстей. Страбон называет ее не иначе, как «чудом», утверждая, что «напрасно искать в истории женщину, которая в поэзии могла выдержать хотя бы приблизительное сравнение с Сафо».
Антипатр Сидонский со своей стороны посвящает ей двустишие:
Сафо меня называли, и в песнях далеко всех женщин
Я превзошла, как Гомер превзошел всех мужчин
в своих песнях.
Солон, услышав однажды на пиру какое-то ее стихотворение, тотчас же выучил его наизусть, прибавив, что «не желал бы умереть, не зная его на память».
Сократ величает ее своей «наставницей в вопросах любви». «Сафо воспламеняет во мне любовь к моей подруге! — восклицает Овидий и советует: — Заучивайте наизусть Сафо, — что может быть страстнее ее!»
Увы, боги, даровавшие ей благородный и чистый гений поэзии, не позаботились об ее наружности. По свидетельству современников, Сафо была небольшого роста, очень смуглая, с живыми блестящими глазами, а если Сократ и называет ее «прекраснейшей», то исключительно за красоту стиха.
Вот что говорит Овидий устами Сафо: «Если безжалостная природа отказала мне в красоте, ее ущерб я возмещаю умом. Я невелика ростом, но своим именем могу наполнить все страны. Я не белолица, но дочь Кефая (Андромеда) нравилась Персею». Однако можно поверить, что лицо поэтессы в моменты высшего вдохновения преображалось и становилось действительно прекрасным. Когда страсть клокотала в Сафо, когда ее трепещущие руки бряцали на лире, когда гармонические звуки сливались с ее вдохновенными строфами, когда все ее существо проникалось волнением божественного экстаза и энтузиазма любви, она не могла быть некрасивой.
У поэта Домохара читаем:

Светом чарующим блещут ее лучезарные очи,
Творческий дух отражая, ключом животворным кипящий…
Это лицо, озаренное мыслью и вместе улыбкой,
Нам говорит, что слились в ней счастливо
Киприада и Муза.
По возвращении Сафо из Сицилии между «десятой музой» и «ненавистником тиранов», поэтом Алкеем, ее товарищем по изгнанию, завязался роман, не имевший, однако, никаких серьезных последствий. Алкей, конечно, не мог не увлечься изящной, богато одаренной талантами девушкой. Называя предмет своей страсти «пышнокудрой, величавой, приятно улыбающейся», поэт заявляет, что хотел бы признаться ей в любви, но не решается: «Сказал бы, но стыжусь». Сафо ответила: «Когда бы то, что высказать ты хочешь, прилично было, стыд навряд смутил тебя». Несомненно, они были близки между собою, но близость эта не перешла пределов товарищества.
Вскоре после этого Сафо вышла замуж, за кого — неизвестно, спустя год родила дочь, названную в честь бабки Клеидой. Вот она пишет:
Дитя у меня есть родное,
Прелестное, точно цветочек,
Сияющий пышной красою!..
Я милой Клеиды
Не дам за нее злато Лидии,
Дитя мне дороже Лесбоса!..
Но безжалостная судьба недолго позволила ей наслаждаться семейным счастьем. Муж и горячо любимая дочь вскоре один за другим спустились в мрачное царство Галеса. Лишенная семьи, Сафо всецело отдается поэзии и переносит всю страстность своей натуры на — лесбийских девушек.
В те далекие времена на родине Сафо были женщины, известные своими противоестественными нравами, положившими начало так называемой «лесбийской любви». Отличаясь необыкновенным любострастием, они не удовлетворялись одними мужчинами и заводили сношения с себе подобными. То, что теперь считается отвратительным пороком, тогда не находили позорным, и лучшие писатели Греции и Рима прославляли лесбийских женщин на всевозможные лады. Лесбиянки, помимо любовников, имели любовниц, возле которых возлежали на пирах, убаюкивали ночью в своих объятиях и окружали нежнейшими заботами. «Лесбиянки не любят мужчин», — восклицает греческий философ и сатирик Лукиан. Изобретение этой «лесбийской» или «сафической» любви почему-то приписывали Сафо. Однако тот же Лукиан в своих «Диалогах» протестует: «Женщины Лесбоса, — говорит он, — действительно были подвержены этой страсти, но Сафо нашла ее уже в обычаях и нравах своей страны, а вовсе не изобрела сама».
Новейшие критики, главным образом немецкие, относятся с полнейшим недоверием к свидетельству древних писателей, тем не менее немногие дошедшие до нас стихотворения Сафо разбивают скептицизм высоконравственных немцев. Да и трудно отрицать существование «лесбийской любви», когда «царица поэтов» является прямой ее выразительницей. Сафо должна любить, обожать, поклоняться всему, что истинно прекрасно, а что прекраснее женщины?..
В это время Сафо становится во главе риторической школы, существовавшей в Митиленах, хотя некоторые писатели утверждают, что она сама основала ее, назвав «Домом Муз», куда стремились не только лесбиянки, но и чужеземки. Из многочисленных ее учениц особенно прославились: Эрина Феосская, Миртис Антодонская, Анагра Милетская, знаменитая Коринна Танагрская, Андромеда и Аттида, две последние, впрочем, только благодаря стихам Сафо, давшим им бессмертие. Страсть к подругам, несомненно, возбуждала в ней необыкновенный экстаз. Высказанное предположение получает подтверждение при чтении оды «К моей любовнице»:
Блаженством равен тот богам,
Кто близ тебя сидит, внимая
Твоим чарующим речам,
И видит, как в истоме тая,
Из этих уст к его устам
Летит улыбка молодая.
И каждый раз, как только я
С тобой сойдусь, от нежной встречи
Трепещет вдруг душа моя
И на устах немеют речи,
И чувство острое любви
Быстрей по жилам пробегает,
И звон в ушах… и бунт в крови…
И пот холодный проступает…
А тело, — тело все дрожит…
Цветка поблекшего бледнее
Мой истомленный страстью вид…
Я бездыханна… и, немея,
В глазах, я чую, меркнет свет…
Гляжу, не видя… сил уж нет…
И жду в беспамятстве… и знаю —
Вот, вот умру… вот умираю.
Что бы ни говорили немецкие критики, трудно поверить, что вышеприведенные строфы продиктованы только дружбой; к тому же и само заглавие не оставляет сомнений. Невозможно, чтобы та, которой посвящены эти строфы, не занимала видного места в жизни Сафо. Это — пароксизм страсти, чувствуется, что женщина обезумела от любви и в самом деле вне себя, что ее энтузиазм является последней каплей и что, трепеща от желаний, она действительно способна умереть. Это ревнивая и горькая жалоба на хладнокровие или равнодушие той, к которой она питала пылкую страсть.
Возьмите другое стихотворение: «Любовь, разбившая мои члены, снова обуревает меня, сладострастная и лукавая, точно змея, которую нельзя задушить. Аттида, ты ненавидишь воспоминание обо мне и стремишься к Андромеде»…
Итак, как видите, у Сафо были соперницы, она пережила все мучения ревности, глядя на подругу, которая предпочла ей другую. В бессонную ночь она зовет Аттиду, «обожаемую любовницу», на свое одинокое ложе и призывает смерть, не будучи в состоянии покорить бесчувственное сердце.
«Мои песни не трогают неба, — жалуется она, — молитвы Андромеды услышаны, а ты, Сафо, напрасно молишь могущественную Афродиту!» Что может быть драматичнее чувств, поочередно бушующих в ней! «Мое горе, — говорит она с тоскою, — тайна моего сердца… Когда-то, Аттида, я любила тебя!»…
Форма ее стихотворений напоминает любовные монологи, по которым легко уследить за разнообразными перипетиями ее страданий. «Ты забываешь меня или любишь другую смертную?.. Ах, хоть бы ветер рассеял удручающее меня горе!»
Измена Аттиды особенно волнует Сафо. «Я видела ее, она рвала цветы… молоденькая девушка, с цветочной гирляндой, опутывавшей ее прекрасную шею»… Но идиллическое спокойствие нарушено при воспоминании об Андромеде… «Неужели, Аттида, — спрашивает Сафо, — это она очаровала твое сердце?.. Женщина, дурно одетая, не знающая искусства походки, в одежде с длинными складками?.. Но я незлопамятна, — прибавляет она, — это чувство чуждо моему сердцу, оно его не знает!»
Достаточно и этих примеров, чтобы осознать, что подобная натура не могла удовлетворяться одною дружбой, ей необходимо увлечение, бури сильных страстей.
«Любовь разрушает мою душу, — объясняет Сафо, — как вихрь, опрокидывающий нагорные дубы».
Страсть пожирает ее: «Что касается меня, я буду отдаваться сладострастью, пока смогу видеть блеск лучезарного светила и восторгаться всем, что красиво!»…
Сафо обожала всякий предмет, без различия пола, могущий дать ей наслаждение и сладкое опьянение чувств.
В разгар пира, когда в кубках кипело вино, называемое «молоком Афродиты», Сафо в страстной позе возлежала около Аттиды, Горго или Телезиппы, «прекрасной воительницы», упиваясь сладостью любовных отношений. Иногда, впрочем, она жаждет присутствия мужчин, к которым также неравнодушна. Вот слова, влагаемые нашим бессмертным Пушкиным в уста Сафо:
Счастливый юноша, ты всем меня пленил:
Душою гордою, и пылкой, и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.
Музыка не меньше опьяняет и восторгает ее:
«Я спою для моей возлюбленной.
Вперед, моя божественная лира, — говори!
Стрекоза с гармоническим жужжаньем
трепещет крылышками в знойное лето,
сжигающее нивы;
я, как она, трепещу, сожженная дыханием любви».
Но если Сафо легче других поддавалась законам любви, — любовь рождала в ней истинную поэзию.
Некоторые писатели предполагают, что стихотворение Сафо «К моей любовнице» посвящено Родопе, которую поэтесса ревновала к своему брату Хараксу. Вот что рассказывает Апулей.
Около 600 года (до P. X.) в Египте, в царствование фараона Амазиса, проживала красавица куртизанка, по имени Родопа, фракийская уроженка. Харакс, занимаясь виноторговлей, частенько ездил на корабле, нагруженном лесбосским вином, в Египет и однажды в городе Навкратисе увидел красавицу, в которую не на шутку влюбился, за огромную сумму выкупил ее из рабства и привез в Митилены. Сафо, познакомившись с ней, воспылала к куртизанке жгучей страстью, на которую та и не думала отвечать. Эта холодность сводила с ума поэтессу, сгоравшую от желаний. Постоянные ссоры между братом и сестрой заставили Харакса увезти Родопу обратно в Навкратис, где он надеялся быть единственным обладателем красавицы. Но судьба, очевидно, шла против него. Как-то раз, когда Родопа «погружала свое разгоряченное тело в студеные нильские воды», орел унес одну из ее сандалий и по странной случайности уронил перед фараоном Амазисом, стоявшим в преддверии храма в ожидании жертвоприношения. Сандалия оказалась необыкновенно миниатюрной, фараон во что бы то ни стало пожелал найти ее владелицу, обладавшую, без сомнения, восхитительными ножками. Придворные отправились на поиски и после очень долгих странствий отыскали красавицу и привезли к своему владыке. Очарованный Родопой, Амазис, по одним слухам — женился на ней, по другим — сделал своей любовницей, но так или иначе она оказалась навсегда потерянной для Харакса. Неомненно, эта легенда явилась оригиналом сказки «Золушка». Надо еще прибавить, что в Греции египетскую куртизанку прославляли под именем Дорика, а стихи Сафо обессмертили любовницу ее брата.
Потерявший Родопу и почти все свое состояние, Харакс должен был выслушать от сестры много горьких истин, вызванных частично разорением, частично ревностью. Овидий так передает настроение Сафо:
«Бедный брат, охваченный любовью к прелестнице, воспылал страстью к ней, нанеся себе ущерб, соединенный с позором. Обеднев, он плавает на легких веслах по лазурному морю и теперь напрасно ищет богатств, неразумно потеряв их. Он ненавидит меня за правдивые упреки. Вот что дала мне свобода, вот что дал мне любящий язык!»…
Полагают, что Сафо умерла около 572 года, покончив жизнь самоубийством. По мнению древних, такая необыкновенная женщина «с божественной печатью на челе», конечно, не могла сойти в мрачный Эреб, следуя примеру простых смертных. И жизнь ее, и смерть должны быть отмечены чем-нибудь легендарным, иначе она потеряет все обаяние. Для оправдания своих предположений, желая уверить потомство в правдоподобности их, придрались к оде Сафо, озаглавленной «Гимн Афродите». Вот он:
Златотронная, юная, вечно прекрасная.
Дочь Зевса, плетущая ковы любви,
Я взываю к тебе: «Пощади!..
Не терзай, Афродита всевластная,
Истомленной терзаньем груди.
Но явся и ныне могучей царицею!»…
Прежде часто на зов моей грустной мольбы,
Дом отцовский оставивши, ты
Со златою своей колесницею
Прилетала ко мне с высоты.
Быстролетною стаей воробышки нежные
На трепещущих крыльях богиню Любви
Чрез пространства эфира безбрежные,
С олимпийского трона везли.
Отпустив их назад, вопрошала, блаженная,
Ты меня, улыбаясь бессмертным лицом:
Что случилось? Тоскую ль о чем,
Или, новой бедой угнетенная,
Я зову тебя в горе моем?
И чего я с таким безрассудным томлением
Все ищу и прошу, и кого, полюбя,
Сетью нежною думала я
Уловить?.. «Кто холодным презрением
Оскорбляет, о Сафо, тебя?
Пусть теперь он бежит, но с тревогою страстною
Скоро будет везде за тобою следить;
Пусть не принял даров, но дарить
Будет сам он подругу прекрасную, —
Он не любит, но будет любить…»
О, приди же и ныне, и в тяжком томлении,
Изнывающей — дай мне свободно вздохнуть,
И, чего истомленная грудь
Жаждет так, дай тому исполнение
И сама мне помощницей будь!..
Кто же был тот, кто внушил Сафо такие страстные мольбы? Легенды указывают на молодого грека Фаона, за деньги перевозившего желающих с Лесбоса или Хиоса на противоположный азиатский берег. Однажды Афродита под видом старухи попросила перевезти ее. Исполнив желание незнакомки, Фаон отказался от платы, за что будто бы богиня подарила ему чудодейственную мазь, превратившую его в красивейшего из всех смертных. Сафо страстно влюбилась в него, но, не найдя взаимности, бросилась с Левкадской скалы в море. По преданиям, тот, кто страдал от безумной любви, находил на Левкаде забвение.
Однако некоторые писатели, не упоминая даже, при каких обстоятельствах умерла Сафо, похождение с Фаоном относят к Сафо Эфесской.
В честь Сафо митиленцы вычеканили ее изображение на монетах. Можно ли сделать что-нибудь большее для царицы? По словам Плиния, существовал портрет Сафо кисти художника Леонта.
Французский публицист Шеве (1813—1875) рассказывает, что римляне воздвигли ей статую из порфира, работы Силениона. Цицерон подтверждает это, упрекая Вара за то, что тот увез из Пританеи превосходнейшую статую Сафо. Каковы были эти различные олицетворения лесбосской гетеры у народа, доведшего до бреда, до безумия поклонение красоте?.. В его глазах мрамор одухотворялся — искрой жизни сияло чело, родившее песни, перед которыми эллины с благоговением преклонялись, и дивная статуя вещала им:
«Я любила, я многих в отчаянии призывала на свое одинокое ложе, но боги ниспослали мне высшее толкование моих скорбей… Я говорила языком истинной страсти с теми, кого сын Киприды ранил своими жестокими стрелами… Пусть меня бесчестят за то, что я бросила свое сердце в бездну наслаждений, но, по крайней мере, я узнала божественные тайны жизни! Моя тень, вечно жаждущая идеала, сошла в чертоги Гадеса, мои глаза, ослепленные блестящим светом, видели зарождающуюся зарю божественной любви!»…
Лучшую эпитафию великой греческой поэтессе оставил Пинит:
Пепел лишь Сафо да кости, да имя закрыты землею,
Песне ж ее вдохновенной бессмертие служит уделом!..

Аспазия

Вот имя, которое переносит нас в самый блестящий период античного мира, в период яркого расцвета эллинского гения. Если Елена Спартанская олицетворяет собой красоту, Сафо Митиленская — страсть, то Аспазия Милетская бесспорно является олицетворением ума, ставящего ее выше всех греческих женщин. Эта Гера Перикла — Олимпийская — царствовала в демократических Афинах, управляя судьбами города; будучи в нем иностранкой; она возвестила свободу соотечественницам в стране, законы и обычаи которой держали женщину под непрерывной опекой, превратив древний гинекей в политический салон. Это она создала из Перикла политика, из Сократа — диалектика, из Алкивиада — стратега и государственного мужа. Недаром уверяли, что в ее теле обитает душа Пифагора!
Приблизительно около 455 года (до P. X.), в 82-ю Олимпиаду, из Мегары в Афины приехала красивая двадцатилетняя девушка или женщина, чтобы основать школу риторики. Вместе с нею прибыли несколько молодых гречанок, желавших посвятить себя тайнам наук. Появление их произвело сенсацию; тотчас же навели справки и узнали, что новоприбывшие — коринфские куртизанки, во главе которых стояла милетская гетера, по имени Аспазия. Они поселились все вместе, держали открытый дом, занимались политикой, философией, всевозможными искусствами и охотно допускали желающих на свои собрания. Не привыкшие к подобного рода зрелищам, афиняне сперва из простого любопытства начали наведываться в гостеприимный дом, куда их привлекала красота приезжих женщин, а затем его стали посещать увлеченные научными вопросами, разрешавшимися там. В салоне Аспазии можно было встретить философов: Анаксагора с его учеником Еврипидом, убежденным женоненавистником, Зенона, Протогора, врача Гиппократа, ваятеля Фидия и чаще других — Сократа, постоянного посетителя собрания великих умов. Какие речи должны были произноситься там, какие возникали споры! Сколько наслаждений обещали красивые коринфянки афинским мужам, посещавшим их собрания, которыми руководила «прелестная милезианка» Аспазия!.. Ее ум, здравый смысл, остроумие, красноречие, уменье слушать и вести споры невольно заставляли присутствующих с благоговением внимать речам необыкновенной красавицы.
О, красота еще прекраснее бывает,
Когда огонь речей в ней искренность являет.
Прекрасен розы вид, но более влечет
К цветку нас аромат, который в ней живет!
Вести об этом вскоре проникли в гинекеи, и затворницы — законные супруги — в свою очередь захотели познакомиться с удивительной женщиной, смело высказывавшей собственные мнения в присутствии мужчин, не боясь скомпрометировать себя. Это вызвало целую революцию. Афинянки разделились на две враждебные партии: одни, стоявшие за Аспазию, требовали и себе полнейшей свободы; бывшие против нее отстаивали неприкосновенность гинекея. Первые, более решительные, стали посещать собрания «прелестной милезианки» и выходили оттуда, многому научившись. Например, жену Ксенофонта Аспазия учит супружеским обязанностям, жену Истиомаха — ведению хозяйства, для каждой посетительницы у нее готовы полезный совет и нравственное поучение. Обычной темой разговоров в салоне Аспазии был брак, условия которого, утвержденные воинскими законами, «милетская гетера» находила возмутительными и старалась разъяснить это своим слушательницам.
«Каждая женщина, — внушала она, — должна быть свободной в выборе мужа, а не выходить за назначенного ей родителями или опекунами; муж обязан воспитать свою жену и разрешать ей высказывать свои мысли; гинекей — плохая школа; жена — подруга мужа, а не самка; при существующем отношении к браку на каких принципах возможно воспитание детей?»
Надо сознаться, что Аспазия выражалась слишком смело и вряд ли могла рассчитывать на сочувствие мужей, совершенно неразделявших этих взглядов. Зато женщины были в восторге и верили гетере, как оракулу, рассказывая повсюду, что она вместе с высшими достоинствами женщины соединяет все качества мужчины. Она — поэт, философ, оратор, государственный человек.

Разумеется, такая женщина не могла не заинтересовать Перикла, знаменитого правителя Афин. В это время он уже имел двух сыновей, Ксантиппа и Паралеса, от своей законной супруги, имя которой осталось неизвестным, и таким образом, исполнив долг гражданина, начинал тяготиться семейными узами, втайне мечтая найти достойную подругу своему сердцу. Именно тогда «Аспазия» т. е. «желанная», «любимая», появилась на его пути. Однажды Сократ, близкий друг правителя, не стеснявшийся всюду называть «прелестную милезианку» своей «несравненной учительницей», предложил Периклу посетить ее салон. Предложение отвечало желаниям великого государственного мужа, и Аспазия имела удовольствие принять у себя того, кого афиняне называли «Олимпийцем». Зевс нашел свою Геру! Эти два великих ума эпохи сразу почувствовали влечение друг к другу. Кто знает, кем бы стал Перикл без Аспазии и Аспазия без Перикла! Судьба ничего не могла придумать лучшего, как свести их.
Но положение любовницы не удовлетворяло честолюбия Аспазии. Ей казалось слишком унизительным быть только сожительницей Перикла, не имея прав на уважение, которым пользовались законные супруги афинских граждан, способные только рожать детей; она хорошо их узнала. Перикл, очарованный красотой и умом своей любовницы, вполне разделял ее мнение и в один прекрасный день развелся, по обоюдному согласию, с женой, дал ей приданое и выдал замуж, оставив сыновей при себе. Таким образом, желание Аспазии исполнилось!
Она стала супругой «Олимпийца» и водворилась в его доме, превратив гинекей в открытый политический салон, разрешив знаменитым гостям Перикла переступить священный порог этого до сих пор недоступного мужчинам места. Там, окруженная афинянками, не боявшимися злословия, и иностранками, радушно принятыми в доме правителя, Аспазия является во всем великолепии своего ума и красноречия. Ее салон стал местом свидания всех тех, кто готовился по примеру Перикла вести борьбу за народное дело. Мужчины, например Лизикл, впоследствии женившийся на супруге «Олимпийца», будучи безродным торговцем баранами и обладавший только эллинской сметкой, учился там логике, красноречию, политике и стратегии, сумев настолько хорошо воспользоваться уроками, что с течением времени занял в Афинах одну из важных государственных должностей. Что касается Алкивиада, самого талантливого ученика второй супруги Перикла, его жизнь и деятельность слишком много лестного говорят об учительнице, чтобы нужно было повторять это.
Действительно ли милетская гетера была законной супругой Перикла? Вопрос, на который ответить очень мудрено. Одни утверждают, другие отрицают возможность подобного брака. Кому верить? Известно, что любому афинскому гражданину разрешалось открыто иметь любовницу-куртизанку, к какой бы национальности она ни принадлежала, но закон строжайше воспрещал ему жениться на чужеземке. Преступивших этот закон беспощадно карали: жена продавалась, как наложница, муж, помимо уплаты огромного денежного штрафа, терял все свои гражданские права, а их дети признавались незаконными и лишались звания афинянина. Положим, браки с иностранками были нередки, но держались в секрете, так как при заключении их приходилось прибегать к противозаконным средствам — подкупу, подлогу, раскрытие которых влекло за собой весьма дурные последствия. Когда Аспазия родила сына, названного в честь отца Периклом, его признали незаконным, из чего следует заключить, что Аспазия была только любовницей правителя Афин, а не женой. Однако, с другой стороны, Перикл, открыто называвший «прелестную милезианку» своей супругой, публично при встречах и прощаниях целовавший ее, вряд ли рискнул бы это делать, зная суровость афинских законов. Итак, вопрос остается открытым.
Но если даже Аспазия была только любовницей «Олимпийца», большинство афинян уважали ее, как жену своего покровителя, обладавшую вместе со свободой гетеры солидностью законной супруги. Вопреки наветам врагов Перикла, его друзья искренне восхищались ее умением держать себя. Аспазия была первой и, быть может, единственной женщиной в Афинах, вокруг которой группировались выдающиеся люди эпохи, беседовавшие с нею о серьезных делах, выслушивая с благоговением ее мнение, следуя ее советам. Для Сократа, Фидия и Анаксагора она была преданной, умной подругой, для Перикла — любовницей и женой, радостью его жизни, очарованием его домашнего очага и поверенной каждого дня. Она знала тайну речей, разглаживающих морщины,.любовь, утешающую всякое горе, и ласки, опьяняющие ум.
Связь Перикла с Аспазией была предметом постоянных насмешек и оскорбительных намеков со стороны его политических врагов. Уверенные, что правитель смотрит на все глазами своей сожительницы, ее величали то «Еленой второго Менелая», то «Омфалой», то «Деянирой нового Геракла», утверждая, что эта «хищница с собачьими глазами» сделала из жилища Перикла настоящий дом терпимости, наполненный куртизанками и даже замужними афинянками, которые своим развратом помогали мужьям в их политической карьере.
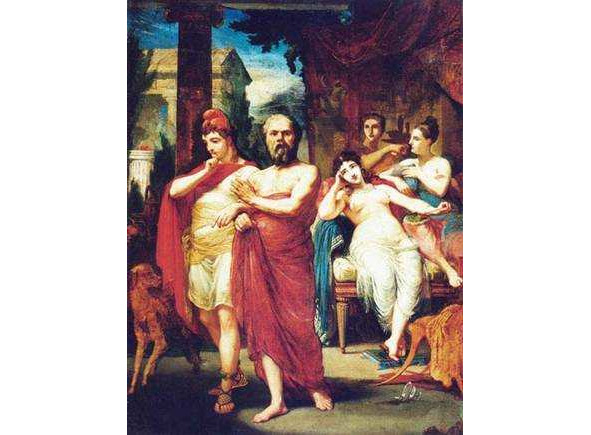
Поэты, писатели, драматурги не стеснялись позорить женщину, виновную только в том, что она была умнее их и не обращала ни малейшего внимания на все укоры, чем еще больше раздражала клеветников. Аспазию считали злым гением Перикла, вдохновительницей его неосторожной политики и самовластных поступков; упрекали за громадные расходы, которые Перикл будто бы черпал из государственной казны, чтобы платить за ненужные работы друзьям своей супруги; утверждали, что правитель, поддававшийся всем капризам Аспазии, был способен пожертвовать ради нее славой и процветанием Афин; намекали даже, что благодаря ее влиянию он мечтал о тирании.
Откуда же взялась такая необыкновенная женщина, столь сильно повлиявшая на жизнь Афин? На основании слухов и сплетен недруги составили краткую биографию Аспазии, не подтвержденную, впрочем, никакими документами.
Сожительница Перикла была дочерью некоего Аксиокуса, человека выдающегося ума, имевшего благотворное влияние на своих близких, чем и объясняются таланты и способности его дочери. Аспазия родилась в 76-ю Олимпиаду, около 475 года (до P. X.), в городе Милете, одном из самых процветающих на Ионийском берегу. Славное военное прошлое способствовало развитию в нем промышленности и торговли, торговля принесла богатство, богатство создало разврат. Милет настолько же славился своими философами, как и куртизанками. Это был в одно и то же время Афины и Коринф Ионии, явившийся лучшей школой для Аспазии, гетеры-философа. Если верить поэтам, в детстве ее похитили и увезли в Мегару или Коринф, где она росла в качестве невольницы в руках своих похитителей, постаравшихся, насколько было в их средствах, развратить ее. Вскоре, однако, благодаря красоте и уму, ей удалось понравиться какому-то богатому афинянину, который выкупил ее и дал свободу. В сущности, подобный роман — удел всех гетер. По другим слухам, Аспазия до прибытия в Афины никуда не выезжала из Милета, где вела жизнь куртизанки, подражая знаменитой Фаргелии, имевшей четырнадцать любовников, правителей города, и умершей замужем за тираном Фессалии, отдаваясь только самым знатным гражданам. Правда ли это? Большинство древних авторов не называют никого, кроме Перикла и Лизикла, живших с Аспазией, и то не в качестве любовников, а законных мужей. Главное несчастье для Аспазии заключалось в том, что в Афинах она была иностранкой, стоявшей как бы вне закона. Перикл, женившись на ней, совершил поступок, ничуть не поражающий нас, но, несомненно, он преступил закон и оскорбил освященные временем идеи своих сограждан. Никогда Афины не хотели видеть в Аспазии законную жену Перикла, отчего и считали ее только сожительницей, за глаза называя куртизанкой.

В 440 году возникло крупное недоразумение между Милетом и Самосом по поводу небольшого города Приена, лежащего на азиатском берегу. Перикл предложил враждующим сторонам, находившимся под протекторатом Афин, прислать своих выборных, чтобы мирным путем разрешить конфликт, но самосцы не согласились и под предлогом, будто вмешательство Афин являлось злоупотреблением властью, объявили себя независимыми. Афиняне не могли потерпеть такого оскорбления, в котором видели происки персов, и по инициативе Перикла стали готовиться к войне. Политический центр, каковым был салон Аспазии, не мог пропустить такого важного государственного события, чтобы страстно не обсудить его. Легко можно поверить, что Аспазия. как милезианка, горячо отстаивала права своих сограждан. Вокруг нее, выражаясь современным языком, собиралась «милезианская колония», и естественно, что ее интересы и желания были на стороне жителей Милета. Возможно, что Перикл, находившийся под постоянным давлением партии своей супруги, сочувственно отнесся к жалобам ее родного города. Ведь и государственный человек не застрахован от интимного влияния близких ему.
Говорят, что Аспазия сопровождала Перикла во время этой кампании со множеством куртизанок, хорошо заработавших, так как война продолжалась около девяти месяцев. В конце концов, самосцы сдались, согласились срыть свои укрепления, отдать Афинам свой военный флот и уплатить контрибуцию. Экспедиция против Самоса, пример которого мог повлечь за собой возмущение других городов, находившихся под протекторатом Афин, еще сильнее утвердила могущество афинян, не стоив им при этом ни одной драхмы благодаря огромной контрибуции, взысканной с непокорных. Но враги Перикла стали распространять слухи, что дело могло уладиться мирно, если бы не вмешалась «милетская хищница с собачьими глазами, погубившая столько храбрых граждан и заставившая матерей проливать горючие слезы».

Однако напасть прямо на Перикла они еще не решались и задумали обрушиться на лучших его друзей, чтобы сильнее поразить правителя. И вот бездарный поэт Гермипп предъявил обвинение Анаксагору, Фидию и Аспазии в атеизме, развращении молодых девушек и сводничестве, карающихся по воинским законам смертью. В качестве свидетеля по первому пункту он выставил раба Перикла, слышавшего разговоры обвиняемых о божественных предметах, к которым, по его мнению, они относились с явной насмешкой; относительно второго пункта поэт-клеветник ограничился сплетнями, утверждавшими, что Аспазия, жившая с Периклом уже двенадцать лет, потеряла свои прелести, но, желая удержать возле себя любовника, принимала куртизанок, замужних женщин и юных афинянок, чтобы сводить их с «Олимпийцем». Несмотря на шаткость доказательств, обвиняемые находились в большой опасности. Вдохновенный Фидий умер в темнице, не дождавшись оправдания, Анаксагор бежал из страны, где клевета сильнее разума. Быть может, Аспазия и последовала бы его примеру, но Перикл, слишком искренно любивший супругу, удержал ее от ложного шага, который враги, наверное, истолковали бы по-своему и, конечно, не в пользу беглянки. К тому же в это время великий человек нуждался в поддержке, чувствуя, что общественное мнение против него. Уже поговаривали о привлечении его самого к суду за лихоимство и несправедливость.
Аспазия храбро предстала перед ареопагом. Так как афинские законы не разрешали женщинам защищаться самим, Перикл выступил защитником своей возлюбленной. В умышленно краткой, но содержательной речи, касавшейся первого пункта обвинения, Перикл, щадя религиозные суеверия и предрассудки судей, блестяще оправдал Аспазию. По второму пункту он выступил с пространной речью. Гордо опровергая клевету Гермиппа, падавшую и на самого защитника, он разбудил в суровых судьях чувство сожаления и великодушия. Страстность Перикла в борьбе с подлой клеветой, боязнь увидеть любимую женщину вырванной из его объятий, желание смыть пятно, брошенное на нее, придало необыкновенные силы защитнику, вдохновение и красноречие его выступления достигли высшей степени! Этот суд стал зрелищем, какого никогда больше не видели судьи и граждане Афин! Слезы, которых ничто не могло исторгнуть из стоической души Перикла, ручьем лились из его глаз. Могли ли судьи после всего этого не согласиться с ним? Итак, заговор не удался!
Возраставшее значение Афин тревожило Спарту. Трижды спартанцы являлись в Афины и, поощряемые афинской олигархической партией, надеялись свргнуть Перикла, заботившегося о благосостоянии государства. Однако все происки оказались тщетными. Тогда пелопоннессцы потребовали, чтобы Афины признали самостоятельность всех городов, подвластных им, но, получив отказ, без объявления войны напали ночью на город Платен (431 г. до P. X.). Захвата города нельзя было допустить, и афиняне под предводительством Перикла выступили на защиту родины. Так началась «пелопонесская» война.
Но и на этот раз политические враги Перикла не могли оставить в покое Аспазию. Они уверяли, что война началась из-за похищения мегаринцами двух куртизанок, живших в доме Перикла. «Гера» разгневалась, «Олимпиец» метнул молнию, и кровь полилась! Мы знаем, насколько нелепы были подобные россказни.
Надгробная речь, произнесенная Периклом при погребении воинов, павших в этой войне, по утверждению Сократа и Платона, была составлена Аспазией. Вот несколько отрывков из нее.
«Общественное погребение и свидетельства почтения и скорби при виде павших за отечество граждан красноречивее говорят о нашей благодарности, чем это в состоянии сделать слово… Мы могли бы достойнее справить торжественный обряд молчанием. Но обычай требует речи; прежде всего я хочу говорить о нашем великом государстве, за которое проливали кровь эти воины… Республика наша велика и славнее всех; трудами и жертвами наших отцов она так расцвела, а мы наслаждаемся этим процветанием… Мы живем при таком государственном устройстве, благодаря которому все граждане равны перед законом, в то же время граждане, имеющие средства, внутреннее достоинство и таланты, могут достигнуть общественного почета и стать благодетелями государства. Далее, у нас есть средства сделать себе жизнь приятною, ибо здесь мировой рынок, куда стекаются произведения отдаленнейших стран… Если лакедемоняне готовятся к войне суровым воспитанием с самого раннего детства, то мы доказали, что при наших более легких обычаях и привычках мы приготовлены к ней не менее их. Таким образом, мы соединяем интерес к тому, что прекрасно и приятно, с образом жизни, делающим человека способным к воинским напряжениям; мы стремимся к образованию и обширным знаниям, не теряя при этом своей силы. Мы мужественны и готовы на крайнее, потому что мы не боимся ужасов войны и в то же время умеем в полной мере пользоваться дарами мира. Таково государство, за которое эти воины с честью погибли на поле брани, дабы оно не было оскорблено в своих правах, и за которое оставшиеся в живых также охотно будут терпеть, сражаться и, если на то будет воля богов, умрут!».
Надо признать, что женщина, способная составить подобную речь и так понять афинскую душу, не будучи прирожденной афинянкой, уже одним этим заслужила бессмертие. Нам известно также, что она научила Перикла, как нужно произнести эту речь, произведшую на слушателей столь глубокое впечатление. Поэтому становится вполне понятным то поклонение, которым окружали Аспазию ее искренние друзья.

Кровопролитная война еще продолжалась, когда на Афины обрушилось другое несчастье, более ужасное, более беспощадное — чума, угрожавшая уничтожением города. Спасения ждать было неоткуда. Афиняне не успевали погребать жертвы чудовищной болезни. Плач и стенание оглашали Афины. Ряды друзей Перикла и Аспазии заметно редели. Вслед за сестрой «Олимпийца» чума унесла в могилу и двух его сыновей от первого брака, Ксантиппа и Паралеса. Удар был слишком жесток и страшно повлиял на Перикла. Только Аспазия могла хоть немного смягчить тяжелое горе, ниспосланное на голову ее мужа несправедливой судьбой; лишь возле этой удивительной женщины афинский полубог нашел успокоение от пережитых страданий. Но ведь от Аспазии он имел сына? Да, незаконного, непризнаваемого афинянами. Следовательно, род знаменитого афинского деятеля, поднявшего свою родину на недосягаемую высоту, должен навсегда угаснуть? Эта мысль сводила Перикла с ума, и он задумал свершить то. на что еще никто не отваживался, свершить, даже не надеясь на благополучный исход, зная враждебное отношение со стороны народной партии. Но он ошибался. Смерть его законных сыновей и непритворное отчаяние великого человека сделали свое дело. Народные симпатии вернулись к Периклу, и когда он на собрании поднял вопрос о признании законным сына, рожденного Аспазией, его самое заветное желание осуществилось. Его брак с иностранкой, в нравственности которой уже никто не сомневался, был признан…
События последнего времени расшатали крепкое здоровье Перикла, и он скончался в середине 426 года. Аспазия осталась одинокой в стране, относившейся к ней после смерти «Олимпийца» далеко не дружелюбно. Она должна была иметь возле себя надежного защитника и исключительно ради этого вышла замуж за Лизикла, когда-то ее ученика, превратившегося теперь в полководца. Через полтора года Аспазия, имевшая уже от Лизикла сына, по имени Пориста, вторично овдовела: ее муж погиб в одном из сражений. Тогда вместе с сыном она удалилась из Афин, где когда-то царила, и умерла в неизвестности. Звезда «Олимпийца» закатилась вместе с ним!
В сущности, биография Аспазии начинается с ее связи с Периклом и кончается его смертью. Эта удивительная женщина не имеет своей истории, но ее окружает легенда, создавшая из милетской гетеры идеальную личность, которая живет в воспоминаниях, как дивная муза века Перикла!

БЛУДНИЦЫ АНТИЧНОЙ ЭЛЛАДЫ
Посещение куртизанок в античные времена не только не марало мужчину, но даже бросало на него лоск необходимого воспитания.
Однако, не должно думать, чтоб проститутки всегда оставались безнаказанны.
В известные минуты против них издавались жестокие запрещения.
Если обратиться к современным рассказам, Афинский Ареопаг оказывался беспощадным, когда распространение проституток вызывало скандалы.
Их заставляли платить разорительную пеню и даже по простому доносу анонима порой подвергали смертной казни,
В числе важных преступлений считался вход куртизанок в не свой храм; с их стороны считалось беззаконием присутствие при таинствах культа.
Следующая картина, написанная Дюфуром, даст точное понятие об их положении.
«Закон не жалел для них никакого оскорбления. Рождающиеся от них дети, также как и сами куртизанки, разделяли с ними позор; то было пятно, которое могло быть смыто только славным служением государству.
Личное положение наложниц существенно отличалось от положения куртизанок, но положение детей тех и других было почти одинаково.
Незаконнорожденные, кто бы ни была их мать, были как бы извергнуты из народонаселения.
У них не было ни особенной одежды, ни явных отличий, но в детстве они играли и упражнялись отдельно, на месте, принадлежавшем храму Геркулесса, которой считался их божеством.
Когда он делался взрослым, то не мог наследовать; не имел права говорить перед народом и не мог сделаться гражданином.
Наконец дети проституток, как бы для усиления повода, не были обязаны кормить своих родителей. При Архонте Евклиде оратор Аристофан предложил закон, по которому каждый объявлялся: незаконнорожденным, если не мог доказать, что родился от гражданина и свободной женщины.
Солон, регламентируя проституцию, поставил против нее спасительный оплот и предполагал держать на некотором расстоянии презренных ремесленников разврата, которые пожелали бы заняться позорным промыслом, портя девушек и мальчиков.
Существовал закон, относившийся к проституции, известный нам из одной из речей Эсхина: «Кто сосводничает молодого юношу или свободную женщину, — да будет наказан смертью.»
Но вскоре закон этот был смягчен и заменился штрафом в двадцать драхм.
Смертная казнь сохранялась только в тексте Закона, и даже, как уверяет Плутарх, развратные женщины, которые открыто занимались ремеслом сводней, никогда не были наказываемы, как того требовал закон.
Тщетно Эсхин требовал приложения закона, который никогда не прилагался.
На самом деле было очень трудно провести границу, откуда начиналось преступление, в виду которого был составлен этот закон, ибо в Греции существовал обычай, дававший любовнику право похитить возлюбленную, если только она соглашалась и не было препятствия со стороны родителей. Достаточно было получить согласие отца или матери, чтоб обладать желаемой женщиной.
Когда молодая девушка или ее мать получила от мужчины подарок, эта девушка уже не считалась невинной, хотя бы ее девственность и не была нарушена.
Ей уже не были обязаны ни прежним уважением, ни прежним вниманием, как будто она вступила в проституцию.
Ареопаг, судивший куртизанок и их отвратительных паразитов, когда о преступлении было доказано народным голосом или каким-нибудь гражданином, не удостаивал заниматься простыми проступками, который могли бы быть совершены этим нечистым населением, преданным дурным нравам, и подчиненным строгому наблюдению полиции.
В Афинах куртизанки делились на три главные категории.
Первый разряд составляли диктериады.
То были невольницы, собранные Солоном, когда он основал места разврата, названныйдиктерионами.
Эти не должны были иметь ни отвращения, ни отказа для тех, которые хотели ими обладать с той самой минуты, как принимали на себя подать назначенную законами.
После диктериад шли авлетриды, составлявшие посредствующий класс среди проституток.
Более свободные, эти женщины, игравшие на флейте, плясавшие и певшие, отправлялись в дома упражняться в своих талантах, куда призывали их на пиры или во время празднеств.
Их искусство служило для того, чтоб воспламенять пирующих, с которыми вскоре они разделяли наслаждения.
Наконец гетеры занимали высшее место среди проституток.
С образованным умом, блистающие красотой, эти женщины, с помощью своего богатства, могли, до некоторой степени, разделять могущество с высокопоставленными лицами. Они избирали в любовники полководцев, поэтов, философов, судей, и только тех, которые им нравились, громко выражая и свою антипатию и свое отвращение.
Что касается диктериад, то эти презренные создания, приговоренные так сказать к заключению, не имели нужды быть судимыми, не имея возможности грешить.
Сверх того, их поведение делало их столь низкими, что их едва ли считали в числе жителей государства; ибо тогда как гетеры сохраняли права гражданства, они, напротив, не только теряли свое, но даже носимое ими имя и занимаемое ими место.
Эта мера прилагалась даже к распутным афинянкам, к тем, который, впав в порок, разделяли унижение куртизанок низшего разряда.
Но и гетеры, и авлетриды, и диктериады не могли без воли Архонтов переступать границы республики,
В Афинах куртизанки были собраны в корпорацию ради эксплуатации своего постыдного ремесла; там каждая повиновалась особенным постановлениям, смотря по категории, к которой принадлежала.
То было их силой и вместе с тем вопросом о существовании.
Налог, которому были подчинены проститутки и который носил название pornicontelos’а, скрывался во мраке древности. Он был годичный, но республика не вычитала его предварительно.
Легко понять к каким ресурсам должны были прибегать собиратели этого налога, чтоб вынудить деньги с своих жертв, чтоб заставить их заплатить наибольшую сумму и уменьшить таким образом свои потери на cчет увеличения прибыли.
С каждым годом сумма доставляемая этим безнравственным налогом увеличивалась, как вследствие увеличения народонаселения, так и вследствие новых записей.
Проституция ютилась в Афинах только в некоторых известных местностях.
Внутренность города была положительно воспрещена куртизанкам; они могли селиться только вне городских стен и почти с общего согласия они избирали Пирей.
На самом деле Афинский порт, по своему наружному виду и по своему народонаселению естественно представлял более благоприятные условия для их ремесла.
Там были хижины рыбаков, гостиницы, обширные местности, назначенные для торговых магазинов и загородные дома.
А среди всего этого целая толпа праздных людей, торговцев со всего света, воров, игроков и развратников. Одним словом, главные потребители порока и легко достающихся удовольствий.
Куртизанки жили в своих собственных домах, в центре своих занятий, с несколькими нанятыми прислужниками, которые были только помощниками проституции, ибо по этому поводу существовать положительный закон.
Когда свободная женщина вступала в услужение к куртизанка, республика лишала ее звания граждан, и конфисковала в свою пользу, как невольницу.
Ранним утром или как только наступала ночь, проститутки выходили из домов и начитали долгую прогулку, отыскивая покупателей, которые бы ж не редки и не представляли особенных препятствий для обольщения.
Наиболее предпочитаемая ими местность была громадная площадь, напротив цитадели, касавшаяся самой гавани.
Там, под портиками, где собирались играть в кости, философы и толпы голодных, — они являлись то закутанными, те полуодетыми, различными способами преследуя проходящих.
«Каждая гетера, — говорит Дюфур, — совершенно по своему привлекала мужчин. Ее взгляды, улыбки, позы, жесты были более или менее ясной приманкой, на которую она ловила рыбу. Каждая хорошо знала, что должно ей скрывать и что выказывать: она бывала то рассеянной и равнодушной, то неподвижной и безмолвной, то бежала за своей добычей, захватывала и уже не выпускала из рук; она искала толпы, а не уединения.

У них у всех был особенный смех призывный и тихий, который издалека будил нечистые желания, говоря чувственности, вблизи заставлявший блестеть зубы из слоновой кости, дрожать коралловые губы, образовываться на щеках похотливые ямочки и волновать ее пышную белую грудь».
Так как доходы были обильны, а жизнь спокойна, то число куртизанок быстро увеличивалось порочными женщинами из соседних стран.
А в то время, как диктериады держались в Пирее, гетеры, более их отважные, приближались к городу и основались в Керамике.
Эта новая местность, которую готовилась профанировать проституция, содержала в себе гробницы героев, падших на поле брани, и академический сад.
По своему расположению со своими вечно зелеными рощами, колоннадами, статуями, портиками она составляла от порта Керамика, до порта Димина, род аристократического убежища, где гетерам было отлично. Под сенью этих дерев, куда не могли проникать палящее лучи солнца, они особенно выставляли себя на показ. Они умели привлечь к себе все, что было в Афинах блистательного и юного.
Дети знатных фамилий, богатые купцы, поэты, философы, полководцы, все несли им свою дань восторга.
В любовных делах вскоре установился обычай и своим лаконизмом доказал, как афинский народ дорожил своим временем.
Если гетера сумела привлечь взгляды чувствительного любовника, то этот последний отправлялся в Керамик и на стене начертывал имя прелестницы, которая увлекла его сердце. Иногда та же самая гетера отравляла свою служанку в Керамик, чтоб начертать углем имя мужчины, которого она хотела обольстить. Между тем аристократия, столь же производительная как проституция Керамика, и обладавшая безнаказанностью, которой не имели диктериады, производила громадный издержки на гетер, в которых эти последние отдавали отчет только своим собственным доходам. Эта странность, доказывающая насколько сделала громадные успехи проституция в стране искусств, в то же время доказывает, что по мере того, как одна из каст была отравлена ее постыдным присутствием она перешла за пределы всякой скромности и стыдливости.
Таким образом гетерам было совсем дозволено жить в Афинах, тогда как диктериадам повелено было перейти в Керамик. Но однако последние оставались еще в Пирее, в достаточно многочисленном количестве, подобно прежним куртизанкам низшего класса.
Говоря прежде о костюме гетер мы упомянули о том, что он, будучи далеко не похож на обыкновенную одежду женщин, изменялся при каждой случайности.
Предписанный Солоном, подтвержденный после Ареопагом, он отличался от одежды обыкновенных честных женщин необыкновенно яркими красками, которые давали возможность открыть профессии тех, которые были в этой одежде.
Без всякого сомнения гетеры избегали в большинстве случаев тех мер, которые были прилагаемы к диктериадам.
Вот между прочим портрет, нарисованный Дюфуром в его Истории проституции, тех великих блудниц, которые в Афинах занимали славные места проституток:
«Гетеры имели громадные преимущества над замужними женщинами. Правда, они являлись на известном расстоянии на религиозных церемониях, они не разделяли участия в жертвоприношениях, они не давали пиров для граждан, но зато сколько нежных и сладостных пиров давали они ради суетности женщин.
Вот, что мы смогли собрать, из тех сведений, которые относятся до Греческой проституции, до ее нравов и обычаев, до ее начала и развития. Эти замечания мы прямо взяли из сочинения Дюфура о проституции в античном мире и теперь для большего ознакомления с, блудницами древнего мира в Греции мы расскажем историю Фрины.
Фрина

Фрина, Аспазия, Лаиса, Глицерия, Ламха, Миррина, Леонтия, Сафо, Каликсена, Вакха, — в истории насчитываются мириады подобных женщин, среди которых историку остается только выбирать только портреты знаменитых греческих куртизанок, которые сделали из своего постыдного ремесла такой промысел, который был уважаем в античное время.
Не имея возможности говорить обо всех, мы скажем об одной из самых знаменитых (Фрине) — о той, которая на свои собственные деньги, доставленные ей ее поцелуями, предложила построить город Фивы, разрушенный македонскими войсками.
Целый город значит побольше, чем пирамида Родопы! Однако ей отказали в её предложении, быть может потому, что она постановила условием, чтоб на главных воротах новых Фив было выбито следующее изречение:
«Разрушены Александром и построены Фриной».
Фрина родилась за 328 лет до P.X. в Беотии т. е, в центральной Греции. Кто был ее отец — неизвестно. Мать ее жила продажей каперсов. Как Фрина решилась или скорее возымела идею отдаться культу Венеры стоит того, чтобы быть рассказанным.
Ей было тогда 16 лет; она уже была очен красива, но никто еще не говорил ей об этом.
В один из жарких летних дней, когда она купалась в обществе молодых девушек ее лет в прозрачных водах небольшого озера, находившаяся в деревне Феспи, один незнакомый молодой человек просил ее поговорить с ней по секрету.

Он был молод и по-видимому честен. Фрина без всякого колебания согласилась на его желание.
— Ступайте, — сказала она своим подругам, — я вас догоню.
Она осталась одна с незнакомцем.
— Дорогая Фрина! — сказал он ей.
— Вы знаете мое имя? — с удивлением сказала она.
— Да, я раз двадцать слышал как называли тебя твои товарки.
— Где же?
— А когда ты купалась.
— Когда я купалась? Но где ж ты был?
— Я был скрыт под теми кустами, где ты и твои подруги оставляли свои одежды.
Фрина отвернула свое лицо, покрасневшее от стыда. Молодой человек преследовал ее страстным возгласом:
— Не обвиняй богов за то, что они позволили очам моим, подивиться такой обольстительной красоте! Напротив! благодари их за то счастье, не зная которого я был восхищен!. Я хочу возблагодарить тебя добрым советом, Фрина! Ты прекрасна, прекраснее всех красавиц, прекрасна такой красотой, которая для тебя будет источником богатства и почестей, ты мне можешь поверить. Я называюсь Эвтиклесом, я поэт, а поэты читают в будущем!.. Но не в этой печальной стране ты достигнешь назначенного тебе высокого назначения… Для этого ты должна, немедля, завтра же. вечером отравиться в Афины, в пристанище всяческой славы, всяческого богатства и всяческого сладострастия.
— Э! э! — возразила Фрина несколько насмешливо, — уж не поэт ли Эвтиклес доставит мне почести и богатства?
Эвтиклес меланхолически улыбнулся.
— Нет, — возразил он, — я беден: я могу тебе доставить только наслаждение.
Если бы Фрина была более опытна, она бы ответила; но она была еще совершенно невинна, однако по инстинкту, глядя на прелестную голову поэта, подумала о нем.
И в то же время слова Эвтиклеса ее поразили, и после небольшого молчания она сказала:
— Да ведь я не знаю ни кого в Афинах, к чему же я приду в этот город! (если только приеду в него) И к кому обращусь я в нем?
Эвтиклес быстро написал, несколько слов на табличках, которые отдал Фрине.
— Ты придешь сюда, — ответил он, — твой путеводитель и твой покровитель будут там же.
И она громко прочла слова: «Порт Керамик».
— Что это такое Керамик? — спросила она.
— Предместье Афин, где назначаются любовные свидания.
— А когда мне нужно быть там?
Поэт думал несколько секунд.
— Через неделю, день в день.
— А этого путеводителя — защитника ты знаешь.
Эвтиклес вздохнул.
— Диниас, мой господин.
— Он молод?
— Да.
— Любезен?
— Да.
— Богат?
— Да.
— И ты думаешь, что он меня полюбит?
— Я уверен.
Снова наступило молчание.
— А ты? — прошептала Фрина, подавая руку поэту. — Разве мы с тобой не встретимся?
Он запечатлел долгий поцелуй на этой руке и вперил в ее улыбающиеся глаза благодарный взгляд, проговорив:
— Да, моя милая Фрина, мы увидимся. — И быстро удалился.
Афинские вельможи имели при себе юношей, — в большинстве случаев поэтов, обязанность которых состояла в добыче любви. И эта обязанность не имела в то время в себе ничего постыдного и позорного. Обожатели сладострастия, греки находили совершенно естественным, что те, которые умели рисовать его, могли и доставлять оное.
Диниас, господин Эвтиклеса, один из самых богатых вельмож Афин, скучал; уже давно красота самых прелестных гетер Акрополиса не была для него тайной. Ради рассеяния он испробовал наслаждение с дектериадами т. е.. с самым низшим классом проституток; однажды вечером в сопровождении не- скольких своих друзей он отправился в один из самых постыдных предместий Катополиса, где матросы бесчинствовали с публичными женщинами самого низшего разряда.
Ничто его не заняло.
Он пришел в отчаяние! И он был прав: обладая громадным богатством, он не находил женщины, которая могла бы ему понравиться.
Возвращение Эвтиклеса возбудило надежду и радость в душе Диниаса.
— Господин, — сказал Эвтиклес, — я открыл сокровище.
— Где?
— В Беотии девушку шестнадцати лет.
— Красивую?
— Восхитительную, и не столько вследствие чистоты ее черт, но особенно вследствие идеального совершенства ее форм. Сама Венера позавидовала бы Фрине.
— Каким же образом ты мог судить об этом?
— Уставь от ходьбы, сожженный солнцем, я прилег, чтобы отдохнуть под тенью лавровой и миртовой рощи на берегу одного озера. Фрина пришла купаться со многими из своих подруг. Никогда не видал я, никогда! и не мог видеть такой женщины, как она… возле нее другие не существовали!
Глаза Диниаса заблистали.
— Ты с ней говорил? спросил он. — Она согласна?…
— В сказанный день и час она будет в Керамике, — отвечал Эвтиклес.
Диниас бросил поэту кошелек.
— Возьми! — проговорил он — И, если ты не обманул меня, если эта Фрина и впрямь так хороша, как ты, уверяешь я тебе дам столько золотых монет, сколько она от меня получит в первую ночь поцелуев!..
Фрина явилась на свидание, назначенное Эвтиклесом. В сопровождении старой служанки, в назначенный вечер, она сидела под деревьями близ порта Керамика, отыскивая из под своих длинных ресниц того могущественного покровителя который был ей обещан; но мимо нее проходили, не удостаивая ее взглядом: ее, более чем простая, одежда была не в состоянии прельстить.
Наконец один мужчина лет сорока, великолепно одетый, приблизился к ней, внимательно посмотрел на нее и, коснувшись её плеча, проговорил:
— Встань и следуй за мной Фрина. Я — тот, кого ты ждешь.
То был действительно Диниас. Явившись вместе со своим господином в Керамик, Эвтиклес издалека показал ему молодую девушку и удалился, не желая быть свидетелем того, что должно было происходить.
Фрина повиновалась Диниасу. В нескольких шагах нетерпеливо ожидали два мула, которых держали под уздцы служители; девушка вскочила на одного из них, на другого вскочил Диниас. Вскоре они достигли красивого дома, построенного близ моря. Переданная в руки невольниц, Фрина прежде всего приняла ароматную ванну, потом ее переодели в столу или в длинное платье из легкой ткани, причесали и надели на нее всякого рода драгоценности. Когда ее привели в таком виде к Диниасу, он вскрикнул от восхищения.
— Правду сказал Эвтиклес! — воскликнул он. — Ты, Фрина, удивительно прекрасна.
Диниасу оставалось только увидеть, что найденное им столь же прекрасно, сколь виденное.
И он был согласен с убеждением поэта, ибо на другой день весело сказал ему:
— Ступай к моему казначею, мой милый, и возьми тысячу золотых монет.
«Что тысяча! — подумал Эвтиклес, подавляя вздох, в котором было больше алчности, нежели сожаления. — О Фрина! если б я был Диниасом, то платя не только по золотой монет, а по одному оболу за поцелуй всех твоих прелестей в эту первую ночь любви, — как бы я ни был богат вчера, сегодня бы я разорился.
И Фрина между прочим не забыла, что обещала Эвтиклесу. По случаю ли или по ревнивому предчувствию в течение той недели, когда Диниас обладал прекрасной феспиянкой, он не доставил ни одного случая поэту, приблизиться к ней.
Она не выходила из того маленького домика, в котором он поместил ее, он сам ни покидал ее ни на минуту.
Но в одно утро Диниас был призван за важным делом в Саламин. Он еще не уехал, когда Эвтиклес был предупрежден одним из невольников, что Фрина желала бы с ним поговорить. Он не шел, а летел.
Она была одета в тоже самое платье, в котором он встретил ее в поле, — и был удивлен, снова встретив ее в такой простой одежде.
— Ты не понимаешь? — сказала она с нежной улыбкой. — Тебя принимает не любовница Диниаса, а простая девушка из Феспи.
Против воли поэт склонил голову при этих словах. Как будто читая в его мыслях, Фрина возразила:
— Ах, правда! любовница Диниаса, быть может, не похожа на ту девушку. Я не кажусь тебе столь же привлекательной, как в то время, когда ты следил взглядами за моим веселым плесканьем в воде озера?
Эвтиклес вздрогнул при сладостном воспоминании о первому свидании. Закрыв глаза, как будто для того, чтоб оживить это воспоминание, он упал перед молодою женщиной и сжал ее в своих объятиях.
— Так что же, — продолжала она, отдаваясь его восторгам. — Разве роза, потеряв свои шипы, потеряла и свой аромат? И кроме того, — в эту минуту она подарила его пламенным поцелуем, — клянусь тебе, что Диниас не научил меня…
— Чему?
— Любить.
Фрина умерла 55-ти лет, и во все время своего существования она была очень любима; вокруг себя она всегда видела толпу обожателей, и потому только, что довольствовалась быть обожаемой за то, что дала ей природа, никогда не прибегая к помощи искусства; только раз в день она принимала ванну и ванну из чистой воды; ее красота имела потребность только в ваннах красоты.
И манеры и голос Фрины не имели ничего общего с другими подобными ей женщинами. В театре, на прогулке, в академии никогда не слыхивали чтоб она смеялась с целью привлечь на себя внимание. Получив самое посредственное образование, она говорила мало, но, обладая умом, она говорила только умные вещи. Она одевалась со вкусом и вместе с тем просто; кроме того она была нравственна, она была скромна, но когда ее встречали на улице, то платье всегда плотно прикрывало ее шею.
И кроме того она никогда не бывала в публичных банях.
Только однажды она явилась голой: то было на празднике Нептуна в Элевзисе. Она сбросила свои одежды, распустила свои длинные волосы и вошла в море, как вышедшая из него Венера. Но подобный поступок пред лицом всего народа был вовсе не бесстыдством а грандиозным великодушием.
Народ знал ее за красавицу, но знал ее только по слухам, она делала ему честь открытием своей красоты, и народ благодарил ее громкими рукоплесканиями.
Апеллес находившийся в это время там, до такой степени был восторжен таким соединением совершенств, что тогда же написал свою Венеру выходящую из воды. После этого приключения Фрина стала любовницей Гиперида.
Он был уже давно в нее влюблен, но был беден, а куртизанка назначала за свои ласки высокую цену, и он не осмеливался явиться к ней.
Случай, при котором ему пришлось присутствовать со всем народонаселением Афин, придал ему смелости.
Вечером Фрина была одна на одной из террас своего жилища, выходящего на маленькую речку, когда один из ее невольников возвестил ей о Гипериде.
Он любил ее, а она не знала даже его по имени.
Но в этот день она была великодушна.
— Зови! — сказала она невольнику.
Гиперид явился.
Ему было лет двадцать восемь или тридцать; не будучи красавцем, он не был и дурен. Он смело приблизился к ней, как человек готовый победить или умереть…
Она показала ему на седалище и спросила.
— Кто ты?
— Тебе сказали, что меня зовут Гиперидом.
— Твоё занятие?
— Я адвокат.
— Адвокат! — и Фрина сделала гримасу, повторив это слово.
— Ты их не любишь? — заметил Гиперид.
— Нет.
— Почему?
— Потому, что один адвокат меня любит.
— Разве любить тебя преступление.
— Конечно, когда дурен, глуп и зол, как Евтихий.
— А так это Евтихий, я разделяю с тобой твое отвращение, но не все же адвокаты дурны, глупы и злы.
— Наконец, чего же ты от меня хочешь?
— Я люблю тебя.
— О! о! и ты тоже.
— Тоже?.. нет я люблю тебя не так как Евтихий. У меня есть сердце; у меня есть разум: я тебе посвящаю их.
Куртизанка презрительно пожала плечами.
— Сердце, разум, да что же я из них сделаю? Больше ты ничего не можешь мне предложить?
— Нет, я имею еще нечто.
— Что же?
— Мою кровь, Фрина. Я предлагаю тебе торг!
— Какой?
— Ты ненавидишь Евтихия; отдай мне одну ночь, — одну только… и я убью его.
Фрина нисколько секунд смотрела в глаза Гипериду.
— Если б я тебя поймала на слове, то тебе было бы очень не ловко.
— Попробуй.
— Хорошо я принимаю, только я хочу назначить порядок условий. Убей Евтихия, тогда я подарю тебе не одну, а десять ночей.
— Десять невозможно, — возразил Гиперид. — Евтихий подлец: он не будет драться, что бы ни сказал я ему и что бы не сделал; а потому я должен буду убить его без борьбы — следовательно меня арестуют и заключат в тюрьму, а потом умертвят как виновного в убийстве.
— А! ты уж трусишь.
— Я не страшусь смерти; я страшусь только того, что приобретя награду, не буду, вследствие смерти, иметь возможности получить ее… Но ты приказываешь…
Гиперид встал.
— Куда идешь ты? сказала Фрина.
— К Евтихпо.
— Нет; я раздумала; я не хочу, чтоб его убивали. Я хочу предложить совершенно иной торг, чтобы принадлежать тебе.
— Говори.
— Не здесь. Вечерний воздух начинает быть холоден. Дай мне руку и взойдем в дом. — Фрина провела адвоката в свою спальню, которых в ее доме было множество; но эта, как позже узнал Гиперид, сохранялась для самых близких друзей.
Фрина возлегла на ложе.
Вслед за тем, смотрясь в медное зеркало, она обратилась к своему сотоварищу, сказав ему:
— Ты сейчас мне сказал, что ты образован; докажи же мне сначала каким образом можно быть мне приятным, — мне, которая сделала ремесло из очень дорогой продажи своего тела?
Гиперид вздохнул.
— Увы, Фрина! — ответил он. — Твое требование слишком трудно.
— Так трудно, что ты отказываешься. Ты удивляешь меня! Однако ты мог бы доказать это.
— Любовь бессловесна.
— Каким же образом?
— Я дозволяю тебе испробовать все те отношения, вследствие которых я могу быть счастлива, будучи любимой тобой.
Гиперид приблизился к постели и склонился к куртизанке таким образом, что его дыхание взвевало ее душистые волосы.
— Да, — прошептал он, — да, Фрина, ты можешь быть счастлива моею любовью, ибо она такова, подобной которой ты не встретишь. Ты улыбаешься… ты полагаешь, что я хвастаюсь… Искусная в науке любить, ты не веришь, что есть люди, способные чему-нибудь научить тебя?..
Ты заблуждаешься! Истинная любовь обладает наслаждениями, принадлежащими только ей… Закрой на минуту свои насмешливые глаза и сожми свои улыбающаяся губы.. Потом когда я скажу тебе: «взгляни!» если ты сама не увидишь в зеркале какого то особенного выражения на своем лице, — тогда я солгал и пожирающий меня огонь бессилен оживить тебя, жестокая статуя.
Уступая желанно Гиперида, Фрина закрыла глаза и согнала с лица улыбку. Через нисколько минут, открыв свои длинные ресницы, куртизанка взглянула в зеркало и вскрикнула от изумления.
На самом деле, ее физиономия говорила, что-то новое; она чувствовала что-то, чего никогда не ощущала.
Никогда!.. Нет, некогда поцелуи Евтиклеса производили на нее такое же сладостное ощущение…
Но ей сейчас было уже двадцать четыре года; восемь лет прошло с того времени; она позабыла.
— Ну? — спросил Гиперид.
— Ты прав, — ответила она, снова сделавшись госпожой самой себе. — Ты любишь меня, и я думаю, что я могла бы тебя полюбить. Ты доказал мне, что ты смышлен. Это хорошо. Но это еще не все. Я требовательна! Мне нужно иное доказательство твоей страсти. Я его потребую от твоего сердца.
— Требуй! оно готово!
— Мы увидим.
Она как то особенно ударила в ладоши. Вошел невольник и по ее знаку поставил около постели стол из полированного дерева, — ножки которого были из слоновой кости и имели форму львов, — а на этот стол чашу и сосуд. Потом он удалился.
Тогда, указывая на них рукой Гипериду, который следил любопытными глазами за этой сценой, Фрина сказала ему:
— Знаешь, что в этом сосуде!
— Откуда я могу знать! — возразил Гиперид. — Икарское или Корцирское вино, которого ты любишь выпить вечером нисколько глотков.
— Нет, там не вино. Слушай Гиперид, минуту назад ты считал меня за жестокую статую. Я не статуя, но я жестока. Ты предложил мне жизнь Евтихия за одну ночь счастья… Я отказалась… Но ты также предлагал свою: я принимаю… В этом сосуде яд, страшный и приятный яд; он не причиняет страдания. Через несколько часов после приёма ты тихо заснешь… А мне хочется, чтоб завтра все Афины повторяли: «У Гиперида не было денег, чтоб заплатить Фрине, он заплатил ей своею жизнью!»
Гиперид взял твердой рукой чашу.
— Лей! — сказал он.
Она налила.
Он хотел выпить, но она остановила его.
— Погоди, — проговорила она. — Подумай… Это не пустая игра: ты умрешь.
— Через сколько часов?
— Через пять или шесть.
— Пять или шесть вечностей наслаждешя!.. За нашу любовь, Фрина! — и он сразу осушил чашу, далеко отбросив ее.
— Теперь я достоин тебя?
— Да, — ответила она, подавая ему руку. — Я люблю тебя! Я твоя…
На рассвете Гиперид проснулся.
Первый взгляд его встретил улыбку Фрины.
— Так я не умер? — весело вскричал он.
— Ты пожалеешь об этом!
— Нет, потому что в могиле, я бы не мог бы уже любить тебя..
Эта ночь любви имела много, сестер. И Фрина не скрывала нежной привязанности к Гипериду: она повсюду являлась с ним.
Это было неблагоразумно, потому что она знала злость Евтихия. К печали причиненной презрением Фрины прибавилась ярость при виде ее любовником собрата по профессии. Однажды, когда она прогуливалась с одной своей подругой, к ней подошел Евтихий.
Она хотела удалиться.
— Только два слова, — сказал он голосом, который выражал и мольбу и угрозу.
— Ну что?
Он наклонился к ней ж прошептал:
— Моя любовь и пять талантов… или ненависть и смерть… выбирай!
Фрина вздрогнула, при объявлении этой войны, но силой воли сдержав движение, выражавшее боязнь, она иронически ответила, смотря прямо в лицо Евтихию:
— Так, значит, это правда, что змея свистит перед тем как ужалить… Свисти же, Евтихий, но чтоб ужалить, верь мне, сначала вставь зубы; это не повредит тебе.
И она удалилась.
Через две недели Евтихий представил Фрину пред трибунал Гелиастов, как виновную в профанации величия Тесмофоров, так назывались праздники в честь Цереры, торжествуемые ночью. Обвиненная в осмеянии священного культа, Фрина могла всего страшиться; ибо хотя куртизанки были очень любимы в Афинах, — однако трибуналы держали их в строгой подчиненности, наблюдая, чтоб они не разрушали общественный порядок, возбуждая презрение к богам.
Трибунал Гелиастов состоял из двухсот членов, из которых каждый получал по три обола и платил штраф, если являлся поздно.
Естественно, что Гиперид был защитником своей любовницы; но хотя по виду он был уверен в ее оправдании, однако в глубине души чувствовал беспокойство, припоминая, что несколько лет назад куртизанка Феориса, жрица Венеры и Нептуна, была приговорена к смерти.
Фрина должна была явиться пред судилищем в десятый день месяца каргелиона. Накануне этого дня, утром, когда молодой адвокат резюмировал главные доводы защитительной речи; к нему вошла Вакха, подруга Фрины. Лицо ее было печально.
— Что с тобой, — вскричал Гиперид, подбегая к молодой женщине. — Фрина беспокоится и прислала тебя?…
Вакха сделала отрицательный знак.
— Нет, — возразила она; — Фрина продолжает надеяться на тебя, как на оратора и любовника.
— Так что же?
— А я, признаюсь, не так спокойна.
Гиперид хотел вскрикнуть.
— О! пойми меня! — продолжала Вакха, — я не сомневаюсь в твоем таланте и в твоей любви. Но я боюсь… боюсь, что талант и любовь не послужат удостоверением для судей… Мне кажется, чтоб достичь, этого ты имеешь надобность в могущественном покровительстве.
— Могущественное покровительство?.. Если ты кого-нибудь знаешь, кто за все, что я имею, уверил бы меня в спасении Фрины, — назови, — я готов…
Вакха вздохнула.
— Я тебе сказала бы, чтобы я сделала на твоем месте, — ответила она, — но вы, мужчины, — вы, ученые, — вы всего чаще отрицаете наши советы, советы невежественных и слабых женщин.
— Да объяснись же, чтобы ты сделала на моем месте.
— Ты будешь считать меня безумной.
— Безумная может бросить луч света мудрецу.
— Слышал ты о Лизандре, о пастухе горы Гиметты…
— Который читает в будущем посредством зеркала, подаренного ему персидским магом Осоранесом в благодарность за то, что он помешал ему погибнуть. Да, я слыхал о Лизандре и его волшебном зеркале. И ты хочешь, чтоб к нему я отправился за советом?
Гиперид засмеялся. Вакха склонила голову.
— Я была уверена, — прошептала она, — что ты посмеешься надо мной, но что это доказывает? Что ты имеешь менее любви к ней, чем я дружбы, потому что при малейшей надежде быть ей полезной, я не остановилась бы ни перед каким поступком, каким бы он ни показался смешным и странным.
Гиперид перестал смеяться, и сжав руку куртизанки, вскричал:
— Вакха, клянусь Юпитером, ты права! Я увижу Лизандра.
Вакха радостно воскликнула.
— Но, — возразил Гиперид, — в какой местности Гиметты живет он?
— Я знаю, — ответила Вакха.
— Ты уже спрашивала его!
— Да; я хотела узнать долго ли будет меня любить Тимей.
— А что он сказал тебе?
— Правду!.. Он. отвечал мне, что Тимей будет любить меня до тех пор, пока я буду любить его. Я первая бросила его.
— О! о! На самом деле, после такого верного предсказания нельзя сомневаться в науке пастыря.
— Ты еще смеешься?
— Что тебе до этого, если я готов за тобой следовать?
— В путь же!
— В путь!
Лизандр, счастливый обладатель волшебного зеркала, подарка персидского мага, жил в хижине на вершине Гиметты.
Ему было от двадцати пяти до двадцати шести лет; его манеры и разговор согласовались с его личностью, покровительствуемой богами, хотя были несколько быстры и фантастичны.
Он сидел за крынкой молока и куском хлеба, когда Гиперид и Вакха явились к нему. Он ни мало не смешался от их прихода, и когда закончил завтрак сказал им:
— Что вам от меня нужно?
— Посоветоваться с тобой, — отвечал Гиперид.
— О чем?
— Об участи женщины, которую мы любим.
— Ее имя?
— Фрина!
— Фрина!?
Лизандр повторил это имя с странной улыбкой. Было ясно, что он слышал его и благодаря, его зеркалу, давно уже познакомился с нею. Смотря на Гиперида и Вакху он продолжал:
— А что вы желаете знать? Жизнь ее разве в опасности? Разве она путешествует где-нибудь? Больна ли она?
— Твой вопрос меня удивляет, Лизандр, — возразил Гиперид; — как можешь ты не знать того, что уже две недели как не тайна для Афин. Фрина обвинена в богохульстве и на завтра должна по этому случаю предстать пред судилищем гелиастов.
Пастух пожал плечами.
— Если б мне было нужно припоминать и беспокоиться обо всем, что я слышу о вашем свете, — отвечал он, — мне некогда было бы заниматься собой.
— Какой же твой мир, что ты не заботишься о нашем? — возразил Гиперид, рассерженный презрительным тоном пастуха.
Но этот последний сжал ему руку.
— Кто из нас имеет один в другом нужду? — спросил он. — Ты или я? Так как ты затрудняешь меня своими рассуждениями, то поспеши объяснить мне какую услугу должен я тебе оказать моей наукой или уходи.
Гиперид, у которого терпение не составляло главной добродетели, хотел возразить дерзостью, но Вакха не дала ему произнести ни слова.
— Лизандр прав, — воскликнула она, сопровождая эти слова умоляющим взглядом, обращенным к своему товарищу. — Мы имеем в нем нужду; скажи же ему, что нам надо знать и пусть он удовлетворить наше желание.
— А что стоит твой совет, о том, что я, ее адвокат, должен сделать, ради спасения Фрины? — спросил Гиперид у пастуха.
— Две мины.
Это было дорого, по мнению Гиперида; очень дорого за то, чтоб услышать какую-нибудь глупость. Но он находил невозможным отступить.
— Вот твои две мины, — сказал он, подавая Лизандру деньги.
— Хорошо. Следуй за мною.
Адвокат и его подруга повиновались. Пастух провел их в сад, находившийся сзади его хижины, под громадную сень виноградников. Посреди виноградника, в большом ящике находилось волшебное зеркало, сделанное из лавы, в металлической рамке. Лизандр сел на землю, поставив зеркало себе на колена, пред своими посетителями и приказав им молчать, начал свое колдовство произнесением вслух нескольких слов на непонятном языке.
Вакха и Гиперид смотрели в зеркало, безмолвные и неподвижные. Она — потому, что верила в искусство волшебника; он — потому, что не хотел услыхать упрека в том, что был помехой волшебным чарам.
Прошло несколько минут и ничего необыкновенного не случилось. Адвокат начинал утомляться своим долгим вниманием.
Но вдруг глухой гнев Гиперида уступил место живому удивлению. В центре черного стекла появилось белое пятно, которое все увеличивалось и приняло форму женщины, в которой нельзя было не узнать Фрины. Да, то была Фрина во всем блеске своей красоты, такая, какой она явилась на празднике Нептуна восхищенному народу, совершенно обнаженной…

Гиперид и Вакха вскрикнули в одно и тоже время ж в одно же время они обернулись, как будто под влиянием той мысли, что изображение, явившееся им в зеркале, было воспроизведение самой Фрины, пришедшей тайком за своим любовником.
Но образца не было, и когда Адвокат и куртизанка снова взглянули в зеркало, изображение исчезло.
Но что это значило? Гиперид просил у Лизандра совета, как спасти Фрину от жестокой опасности, а Лизандр показал ему обнаженную Фрину. К чему? Какой смысл заключался в этом явлении?..
Тщетно адвокат допрашивал пастуха; он уже положил зеркало в ящик и на все вопросы неизменно отвечал:
— Она прекрасна! Фрина восхитительно прекрасна!
Гиперид и Вакха возвратились в город, оба изумленные видением, и оба не понимали, какую пользу можно извлечь из этого колдовства.
На другой день Фрина явилась пред судилищем.
Главным обвинителем, как мы сказали, явился Евтихий, обвинявший Фрину в оскорблении величия праздника Цереры; кроме этого, очень важного, обвинения Евтихий развил пред судилищем и другое…
Он говорил, что Фрина, не довольствуясь оскорблением установленного культа, хотела ввести в государство поклонение новым богам.
— Я доказал вам, — говорил он, оканчивая речь, — нечестие Фрины, бесстыдно предающейся оргиям, на которых присутствуют мужчины и женщины, обо — боготворящие Изодэтес. Преступление ее явно, оно доказано. За это преступление назначается смерть. Пусть же Фрина умрет. Так повелевают боги; ваш долг повиноваться им.
Гиперид возражал Евтихию.
Он прежде всего настаивал на том, что поведение Фрины гораздо выше поведения других женщин из того же класса, что она не могла обращать в смешное — уважаемые всеми церемонии, и никогда не думала вводить нового культа. Речь была красноречива, но она не убедила судей, не смотря на заключение, в котором Гиперид вдохновенно воскликнул, что вся Греция будет рукоплескать оправдательному вердикту, постоянно повторяя: «Слава вам, что вы пощадили Фрину»! Не смотря на остроумное сравнение Евтихия с жабой, вызвавшее улыбку лицах некоторых из судей, большинство Гелиастов имело во взглядах, в самом положении нечто угрожающее.
Гиперид не ошибался.
«Что сделать, чтоб убедить их? — думал он, испуганный этими пагубными признаками. — Что делать?
И чтоб рассеять зародившееся беспокойство; молодой адвокат, как будто отирая лоб закрыл лицо платком.
Вдруг он вздрогнул при одном воспоминании.
— О! да будет благословен гиметский пастух! — Его совет под видом изображения совершенно обнаженной Фрины, только сей час был понят Гиперидом. В зале раздавался глухой шум, произведенный разговорами судей.
Гиперид величественным движением руки заставил их замолкнуть. И обернувшись к обвиняемой, сидевшей около него на скамьё, сказал ей:
— Встань, Фрина.
Затем, обратившись к Гелиастам, проговорил:
— Благородные судьи, я еще не окончил своей pечи! Нет! Еще осталось заключение, и я заключу так: посмотрите, смотрите все, поклонники Афродиты, — а потом приговорите, если осмелитесь, к смерти ту, которую сама Венера признала бы сестрою…
Говоря эти слова, Гиперид быстро сбросил с Фрины все одежды и обнажил пред глазами всех прелести куртизанки.
Крик восторга вылетел из груди двухсот судей.

Фрина перед ареопагом. Фрагмент картины Ж. Л. Жерома. 1861 г.
Охваченные суеверным ужасом, но еще более восхищенные удивительной красотой, предстоявшей перед ними, — сладострастно округленною шеей, свежестью и блеском, тела, — гелиасты, как один человек, провозгласили невинность Фрины.
Жаба Евтихий был покрыт стыдом… его ярость удвоилась при виде радостной гетеры, свободно уходившей под руку со своим милым адвокатом. Исход процесса Фрины был событием в Афинах.

Афинские куртизанки все явились к Фрине с поздравлениями.
Одна из них, Фивена, от всех написала Гипериду письмо сочиненное поэтом Альцифроном, в котором от имени всех афинских куртизанок было предложено воздвигнуть ему статую. Но Гиперид отказался от подобной чести, быть может, потому, что в глубине души он считал Лизандра достойнее этой почести.
Во всяком случае, после подобного успеха, он, да простят нам это выражение, — встречал любовь на каждом шагу.
В тот день в который он разошелся бы с Фриной, каждая гетера сочла бы за счастье предложить себя спасителю всей корпорации.
* * *
Будем продолжать историю жизни Фрины и рассказ о любви ее к Праксителю-ваятелю.
Праксителю достаточно было увидать Фрину, чтоб представить ее смертным под видом богини любви. Говорят, что сам Пракситель влюбился в свое создание, и продав оное, просил его за себя за муж. И никто не был оскорблен безумной страстью артиста, видя в этом поклонении невольную почесть красоте богини.
По-видимому, со стороны Праксителя было бы гораздо проще жениться на модели, принадлежавшей ему. Но существовали причины, почему ваятель, не хотел этого союза, — серьезные причины, которые мы объясним впоследствии. Как женщина, Фрина была совершенством красоты; но ей не доставало выражения, выражения, которое художник должен был заимствовать у другой женщины…
И это заимствование было причиной разрыва Праксителя с Фриной. Фрина не простила ваятелю, что он осмелился оживить воспроизведение ее тела посторонней душой.
Но в первые месяцы любви Пракситель и Фрина обожали друг друга. Они посвящали один другому все свое время, но должно сознаться, что большая часть издержек приходилась не на долю ваятеля, в котором искусство господствовало над любовью. Это так справедливо, что однажды Пракситель сказал Фрине.
— Я тебе много обязан, Фрина, за доставленные наслаждения, за славу; мне хочется поквитаться с тобой… Но золота ты не захочешь; выбирай прекраснейшую из моих статуй: она твоя.
Фрина вскрикнула от радости при этом предложении; но после краткого размышления сказала:
— Прекраснейшую из статуй?.. А которая из них самая прекрасная?
— Это меня не касается, — возразил, смеясь, Пракситель. — Я тебе сказал: выбирай…
— Но, я ничего не смыслю.
— Тем хуже для тебя.
Фрина обвела жадным взглядом мастерскую, наполненную мрамором и бронзой.
— Ну? — спросил артист.
— Я беру твое слово, — ответила молодая женщина. — Я имею право взять, отсюда статую. Мне этого достаточно: я в другое время воспользуюсь моим правом.
— Хорошо.
Несколько дней спустя Пракситель ужинал у своей любовницы. Во время ужина быстро вошел невольник, исполнявший свой урок.
— Что случилось? — спросила Фрина.
— У Праксителя, в его мастерской, пожар, — отвечал он.
— В моей мастерской! — вскричал Пракситель, быстро поднявшись с своего места. — Я погиб, если пламя уничтожит моего Сатира или Купидона.
И он бросился вон.
Но Фрина, удерживая его, сказала, с лукавой усмешкой:
— Дорогой мой, успокойся: пламя не уничтожит ни Сатира, ни Купидона; оно даже не коснулась твоей мастерской, все это пустяки. Я хотела узнать только, какой из статуй ты отдаешь предпочтение… теперь я знаю, С твоего позволения, я возьму Купидона.
Пракситель закусил губу, но хитрость была так остроумна, что сердиться было невозможно.
Фрина получила Купидона, которого через нисколько лет она подарила своему родному городу.
— Я обессмерчу тебя! — сказал Пракситель Фрине в одну из восторженных минут любви и благодарности. — Обожаемая при жизни, я хочу, чтоб ты была обожаема и после смерти. Я хочу, чтоб через тысячи лет люди в восторге перед твоим образом, спрашивали самих себя: женщина ли это или скорее сама Венера, которая ради моей славы и их восхищения, сошла на землю и явилась ко мне?…
Прельщенная идеей пережить себя и внушать еще на земле желания в то время, когда она ее покинет, Фрина не отказала Праксителю; то были сладостные сеансы, во время которых художник часто уступал место любовнику, забывая триумф будущего для наслаждений настоящего. Тем не менее работа над статуей статуя продвигалась: еще несколько дней работы, и Пракситель мог бы отдать свое новое произведете на всеобщее восхищение. Тело было совсем окончено; только лицо не удовлетворяло ваятеля. Фрина удивлялась; она находила лицо столь же прекрасным, как и все остальное; оно было похоже на неё.
— Что же ты еще хочешь здесь делать? — спрашивала она Праксителя.
— Не знаю. Но голова эта не должна быть такою.
И целые часы он проводил в задумчивости, созерцая эту голову, отыскивая чего в ней не достает.
Ей не доставало выражения. Нельзя дать того, чего нет. Фрина по природе была меланхолична, недаром ее называли плачущей. А Венера, мать любви, не умела быть печальной; если в глазах ее когда либо блистала слеза, то была слеза наслаждения.
В нетерпении от бесконечной мечтательности ваятеля, Фрина начала на него дуться.
— Если ты не находишь в моих чертах того, что нужно для твоего мрамора, говорила она ему, — то мне совершенно бесполезно сидеть здесь.
Однажды утром, Пракситель, уже два дня не видавший Фрины, прогуливался в своем саду, преследуя свою неотвязную мечту, отыскивая это неизвестное, которого не доставало статуе, когда серебристый смех, вылетевший из группы миртов и роз, привлек его внимание. Он тихо приблизился. Под ароматной сенью, лежа на траве, спала его молодая невольница Крамина, которую он купил с месяц назад за чистоту ее форм, но поэтому же он стал любовником Фрины; красота Крамины была уже не нужна ему более. Молоденькая девушка смеялась во сне, без сомнения убаюкиваема счастливыми грезами, быть может видя во сне какое-нибудь дорогое и любимое существо, оставшееся на родине. Как бы то ни было, Пракситель был восхищен при виде этого лица, прекрасного уже и без того и сделавшегося еще прекраснее вследствие отражения на нем радости.
— Клянусь богами! — вскричал он; — на этих пунцовых устах я отыскал улыбку моей Венеры.
И увлеченный непреодолимым порывом он поцеловал Крамину, и она проснулась. Она встала покрасневшая и застыдившаяся. Но господин — всегда господин, к тому же он был прекрасен. Пропавшая было улыбка снова появилась на губках девушки.
В тот же вечер, после сеанса, на котором невольница с успехом заменяла куртизанку, Пракситель, отправился к Фрине, чтоб сказать ей:
— Не сердись. Я нашел.
Фрина последовала за своим любовником; она вместе с ним вошла в мастерскую, где возвышалась блещущая Венера.
— Ну, что ты скажешь? — спросил Пракситель.
Фрина была очень бледна.
— Я говорю, — возразила она, — что это лицо мое, но не мое на нем выражение. Где ты взял эту улыбку, Пракситель?
— К чему тебе знать?
— Я желаю.
— Я взял ее у одной из моих невольниц.
— Позови ее.
Пракситель позвал Крамину; прекрасная невольница явилась. Она остановилась в нескольких шагах от любовницы своего господина, в скромной и почтительной позе.
Но женщины при известных обстоятельствах имеют удивительный такт. Пускай Крамина стала в позе невольницы, Фрина по ее глазам, опущенные ресницы которых плохо скрывали пламя, узнала в ней свою соперницу, — она узнала это по закрытым, но трепещущим губам.
— На самом деле, эта девушка должна лучше меня улыбаться, когда ей говорят: «я тебя люблю!» — проговорила она. — И это понятно… Непривычка слышать!.. Мой привет Праксителю! Ты хорошо сделал, что решился отыскать в навозе жемчужину!
И так как ваятель хотел протестовать, она продолжала, не дав ему проговорить ни слова:
— Неужели ты думаешь, что я могу ошибиться? От этой девчонки пахнет поцелуями… Ты был прав, возвысив ее до себя, потому что это было тебе полезно… Но я не унижусь до того, чтоб принимать последки после невольницы. Прощай!
И она удалилась, чтоб никогда не возвращаться.
* * *
Фрина приближалась к тридцатилетнему возрасту; она была во всем блеске красоты, на вершине богатства и, мы могли бы сказать, на вершине своего могущества, ибо греки смотрели на нее как на свою царицу, и где бы она ни показывалась, все головы склонялись перед нею.
Богатая, обожаемая, осыпаемая лестью, все еще молодая, всё еще прекрасная, Фрина должна бы быть счастлива. Нет, в глубине души она питала мрачную скорбь. В Афинах был один человек, который не занимался ею. Этого человека звали Ксенократом. Он был философом.
Родившись в Халкедоне, Ксенократ сделался учеником Платона, который почтил его своим уважением и дружбой; он сопровождал его в Сицилии, и когда тиран Дионисий с угрозой сказал Платону, что ему «срубят голову», — Ксенократ ответил ему: «Сначала нужно отрубить мою!..»
Ксенократ гнушался развратом, против которого он гремел без устали. Он пил только воду, не играл ни в какую игру, носил грубую одежду и отворачивался при встрече с женщиной.
Таков был тот, презрение которого приводило в отчаяние Фрину, — то была прихоть. Насытившись глупцами, она желала мудреца.
На Ксенократ был последователен в своих убеждениях. Он жил один, говоря что человеку достаточно и самого себя, в маленькой избушке в отдаленном квартал города.
Однажды вечером, во время грозы, в двери к нему постучалась женщина и попросила гостеприимства. Эта женщина дрожала от холода, насквозь промоченная дождем.
— Войди, — сказал Ксенократ.
И чтоб согреть ее, он зажег огонь.
— Ты добр, — сказала женщина; — благодарю тебя.
— Благодарить меня не за что; ты страдала, — я тебя принял. Тоже самое я сделал бы для собаки.
Фрина, ибо то было она, улыбнулась этому более чем грубому ответу. Однако она сняла покрывало, которым была обернута. голова и явилась своему хозяину во всем блеске красоты,.
Он даже не взглянул на нее.
Прошел час, прошло два; Ксенократ читал при свете лампы, Фрина продолжала греть ноги и руки у очага.
Наконец, закрыв книгу, философ, сказал:
— Приближается ночь; тебе пора удалиться.
— Удалиться? — ответила она. — Ты шутишь! Не ты ли сейчас сказал, что то, что ты сделал для меня, ты сделал бы для собаки. Разве ты не слышишь как стучит дождь в стены твоей хижины. В такую погоду ты не выгнал бы на улицу и собаки, зачем же гонишь меня? Я остаюсь. Если тебе хочется спать, ложись; я тебя не стесняю.
— О! я тоже не стану стесняться.
Философ улегся на своей постели.
— Я не люблю красивых женщин! — заметил он.
— Каких же ты любишь? дурных?
— Ни тех и ни других.
— Ба! Твоя добродетель — ложь! Поспорим на этот золотой браслет против этого тома сочинений твоего учителя. О чем говорится в этой книге? О Гиппие или рассуждение о красоте… Да разве Платон смыслил что-нибудь в красоте, когда он никогда не видывал меня!.. Поспорим, что если я захочу, ты меня полюбишь?…
Ксенократ, приподнявшись на постели, смотрел на куртизанку.
— Ты Фрина! — вскричал он.
— Да.
— Я не должен бы ни минуты сомневаться в этом, судя по твоему бесстыдству.
— И защититься от обольщения, выгнав меня, не правда ли?…
Философ пожал плечами.
— К чему я тебя выгоню? — ответил он. — Твои обольщения не испугают меня. Ты уверена, что заставишь меня полюбить тебя? Попробуй.
— Хорошо. Дай же мне место на твоей постели, мудрец.
— Ложись. Но скорее, а то я засну.

Улыбаясь иронически на эту браваду, Фрина сняла одну за другой, с расчитанной медленностью, свою одежду и легла рядом с философом, совершенно, если верить легенде голая!
Но какое искусство ни употребляла Фрина в этой маленькой комедии, — всё было тщетно. Когда она подошла к постели, Ксенократ спал. О ужас! Он храпел.
Фрина поспешно оделась!..
На листке бумаги, который она вложила между страниц сочинения Платона, она написала:
«Я спорила, что оживлю человека, а не статую. Я тебе ничего не должна.»
И она удалилась.
Фрина умерла пятидесяти лет и до конца жизни имела любовников. По этому поводу она говорила:
— Мое вино так хорошо, что хотят выпить его до донышка.
В дельфийском храме в честь нее была поставлена статуя с следующею надписью:
«Фрине — любовь»
Циник Кратес, проходя однажды перед этой статуей вскричал:
— Это не «Фрине — любовь», а сверху следовало бы начертать: «Грекам — стыд».
Но Кратес был неправ. Если куртизанки был слишком любимы в Греции, то должно сознаться, что они часто возвышались до этой симпатии своими великими поступками. Лехна вместе с Гармодием и Аристогитоном стремилась уничтожить тиранию, и достойная возлюбленная этих героев свободы она предпочла смерть бесчестию, Аспазия, любовница Перикла, давала уроки мудрости Сократу; куртизанка Гиппарета помогала Евклиду; Леонтия написала с Эпикуром свод сладострасмя, Лаиса украсила свой родной город Коринф великолепными монументами.
Фрина намеревалась перестроить Фивы на свои деньги и ее имя было достойно того, чтоб перейти в потомство! Благодеяние облагораживает, и куртизанка, предлагая воздвигнуть город, стоила солдат, который его разрушили.

Фрина. С картины Буланже
РИМ И ВИЗАНТИЯ
Древняя проституция шла в Европу по Средиземному морю, которое было, так сказать, ее колыбелью. Это зависело от того, что все торговые сношения Европейцев шли по водам этого моря, на берегах которого раньше, чем где-либо развились колонии, служившие центрами торговли и досылавшие свои торговые флоты в самые отдаленные страны известного тогда мирa.
Именно в этих-то колониях и особенно в приморских городах проституция получила чрезмерное развитие, вначале будучи предназначена единственно для заезжих иностранцев. В Коринфе было гораздо больше проституток, чем даже в Афинах, самом замечательном городе Греции; — путешественник мог найти в этом городе женщин всех стран и состояний. В нем проституция была возведена из ремесла в искусство. В Коринф и в Египетский город Навкатрис греки посылали девушек учиться разврату. Стоя на коринфских возвышенностях, проститутки ожидали прибытия иностранных путешественников, и как только пассажиры выходили на берег, они целыми толпами окружали их; проститутки эти были до такой степени прелестны и вместе с тем так разорительны, что составилась пословица, говорившая, что в Коринф безнаказанно не съездить?
Но мы уже видели, как развивалась проституция в Греции, и до каких размеров она доходила. Нам теперь желательно нарисовать картину страшного разврата, царствовавшего в Риме и в его преемнице — Византии.
Едва ли когда-либо и где-либо проституция развивалась до таких поразительно громадных размеров, до каких она достигла в великом Рим, где она, по преданию, обязана своим происхождением Акке Лауренции, прозванной волчицей (Lupa), откуда произошло название домов разврата — лупанары. В честь Лауренции до X века по P.X. ежегодно совершались празднества, душою коих был религиозный разврат, сопровождавшая самыми циническими зрелищами в цирке. На этих празднествах присутствовали целые толпы публичных женщин, подобно тому как на празднествах Адониса, Приапа, Бахуса. Культы эти, занесенные из Греции, где они тоже были культами сладострастия, культами чувственной любви, хотя и смягчались художественным чувством греческого народа, в Риме превратились в бешеные оргии сладострастия, которыми оскорблялась всяческая стыдливость и скромность. Но еще безобразнее их были культы Озириса и Изиды, занесенные на Римскую почву из Египта. Бесчисленные храмы в честь этой богини были настоящими домами распутства, а жрецы оных — первыми сводниками, обольстителями и растлителями невинных девушек.
В Риме публичный разврат развился преимущественно под влиянием аристократии, под влиянием богатых и привилегированных классов. Проституция была обязана своим появлением инициативе вельмож и богачей, а ее распространению содействовала нищета и рабство. Контингент проституции постоянно пополнялся невольницами; свободные римские женщины, занимавшиеся: проституцией, лишались всех своих прав; они объявлялись презренными, и теряли права наследства; то был род гражданской смерти. Достаточно указать на то обстоятельство, что когда Тиверий освятил донос по поводу оскорбления величества, то сенат включил в число уголовных преступлений принос изображения императора в нужное место или в дом разврата.
Но как глубоко вкоренился в римском обществе времен Цезарей разврат видно из того, что знаменитейшие римские матроны без всякого стыда, открыто заключали любовные связи с гладиаторами и мимами. Сама царственная Мессалина, — эта meretrix augusta, — супруга слюнявого идиота, императора Клавдия, не только публично жила с канатным плясуном Мнестером, но ненасытная в жажде наслаждений, под ложным именем Лизиски, посещала дома разврата, предаваясь там каждому встречному, и уходя оттуда, по выражению одного латинского автора lasciata satiata (усталая, но не насытившаяся). Гордые римские патриции разорялись на публичных женщин. Цезари Рима, властители вселенной, заводили в своих дворцах дома непотребства; содержали в них целую стаю содомитов и сводней, рачительно доставлявших им со всех концов света живое мясо, и иногда; как Гелиогабал, Тиверий, Нерон доходили до самого чудовищного, до скотского безобразия. Оргии, происходившие в этих дворцах, были каким то воплем, таким то неистовством распутства и зверской, часто кровожадной, чувственности. Один из лучших Цезарей — Юлий Цезарь был прозван лысым развратником, и тратил на своих любовниц громадные суммы.
Сервилии за одну ночь он заплатил 1 500 000 франков, что на наши деньги составит около 400 000 руб. сер.
Царственные женщины Рима были не лучше его повелителей; матери растлевали своих детей; дети насиловали матерей. Разврат разливался повсюду, во всех классах общества, и великий Рим погибает в предсмертных корчах сладострастия.
Рабство и нищета, как мы сказали, были главными поставщиками разврата. Невольник всецело принадлежал своему господину, который имел полное право проституировать и свою рабу и раба, как имел право положить на него клеймо, обезобразить его самым варварским образом и даже убить, не отвечая за это ни перед законом, ни перед общественным мнением. Невольник не был существом, он был вещью.
Нищета в великом городе иногда доходила до того, что народ вопил как безумный: крови и хлеба. И эта нищета вынуждала несчастных женщин продавать себя разврату и наполнять ту бездонную яму, из которой распространялся смрад, и в которой кишмя кишела толпа оборышей общества, — яму, называемую проституцией. Предсмертная картина римской жизни отвратительна и ужасна. Растление римского общества шло быстро и перед своим концом это общество представляет поголовное распутство. Стоить только прочесть произведения римских авторов так называемого «золотого века», чтоб составить понятие о том, до какой степени были извращены нравы даже лучших из римлян.
Проституция в Риме почти с самого начала была легально признана и терпима. Ораторы, историки, поэты признавали ее необходимость и защищали ее. Цицерон в одной из своих речей, прямо говорит своим согражданам, что воспрещение сношений с публичными женщинами, будет очень строго, и что этим будут оскорблены предки, которые признавали за ней право гражданства.
Но во всяком случае главными распространителями разврата в Риме были высшие классы, бравшие пример со своих повелителей, а эти повелители, начиная с Цезаря и Августа, только в том и проводили свое время, что растлевали невинных девушек, доставляемых в их дворцы-лупанары со всех концов вселенной, ограбленной ими и их клевретами.
И в Греции и в Риме жрецы были не последними распространителями разврата, хотя религиозную проституцию невозможно считать их созданием. В Греции и в Риме разврат был обязан и своим появлением и развитием всему, что было праздно, богато и самовластно. Дворы греческих тиранов, как дворы Дариев и Сарданапалов были исходными пунктами всепоглощающего разврата, а дворы Римских императоров довели этот разврат до такой степени, что ум человеческий невольно изумится и ужаснется при виде той картины, которую они представляли.
Взгляните вы на лучшего из них, — Юлия Цезаря — и вы с негодованием и ужасом отвернетесь от такого безнравственного человека, который, пользуясь своей неограниченной властью, не спускает ни одной смазливенькой женщине, то и дело насилует и растлевает невинных девушек, предлагает сенату проект закона о введении многоженства, проматывает на разврат громадные суммы и совершенно справедливо получает от Светония прозвище мужа всех жен. Юноша Октавий, попирая самим же им изданные законы, не перестает развращать и насиловать женщин. Августу его друзья со всех концов вселенной доставляют невинных девушек, которых, совершенно голых сама жена императора ведет к нему на смотр.
Его развратные оргии, сопровождавшиеся разыгрыванием соблазнительных сцен из греческой мифологии, так дорого стоили бедному народу, что когда в Риме начался голод, то жители с горькой иронией говорили, что боги съели весь хлеб.
Пьяница Тиверий, неумолимо строго наказывавший других за каждый проступок против половой нравственности, в то же время казнил смертью и мужчин и женщин, не соглашавшихся стать жертвами его скотского сладострастия и часто наполнял дворец толпами голых женщин, для возбуждения этой картиной своих упавших сил. Калигула был еще хуже. Он держал целую стаю содомитов, насиловал и растлевал знатнейших римлянок и наконец, завел во дворце дом непотребства в настоящем смысле этого слова. Посетители этого заведения должны были платить дороже, чем в обыкновенных лупанариях и тем пополнять промотанную казну тирана. Гелиогабал впоследствии явился достойным преемником Калигулы; а Нерон дошел до такого скотского безобразия, до такого извращения человеческой природы, когда красота и изящная обстановка уже не удовлетворяют человека, а только безобразие и грязь могут раздражать и удовлетворять его. Нерон обыкновенно инкогнито шатался по улицам Рима, посещая кабаки, харчевни и другие места самого отвратительная разврата, где часто вступал в драки и уносил на своем царственном теле следы побоев. Коммод сделал из своего дворца кабак и публичный дом, в который привлекались женщины лучших фамилий целыми сотнями. Самыми любезными и близкими друзьями Гелиогабала были три кучера: Протоген, Гордий и Гиерокл. Иногда он, на свои вечера приглашал всех до единой римских проституток, катался по городу в колеснице запряженной голыми женщинами, а в его путешествиях за ним следовало шестьсот колесниц наполненных проститутками, содомитами и своднями.
Этот пример самого отвратительного разврата, подаваемый самими повелителями, конечно развращающе действовал на народные массы и еще сокрушительнее на аристократию. В эпоху основания вселенской монархии — история высших классов запятнана развратом и непотребством; любимым местопребыванием Римской аристократии были публичные дома, — а жены патрициев в то же время толпами стекались к эдилам требовать записки в проституционные книги, на свободное занятие промыслом разврата, зарабатывая себе таким образом деньги на роскошные платья, на экипажи и лошадей; на лакомства и благовония, на пиры и на наемных любовников, — и вот Рим представляет нам собою такую картину: — разврат в домах, разврат в храмах, разврат на сцене, самые цинический разврат в цирке и на улицах!.. «Разврат достиг своего зенита!» — восклицает Ювенал. Римская аристократа со своими царями и полководцами разоряет мир, высасывает из народа последнее соки, доводя его до такой ярости, до такой бедности, до такого остервенения, что по временам вечный город оглашается неистовым криком: «крови и хлеба!» И народ утоляли сытые богачи и хлебом и развратными, кровавыми зрелищами.
Заметим теперь, что чем разнообразнее, изысканнее, распространеннее разврат, тем дороже он стоит, тем богаче должен быть потребитель, тем беднее народ, а чем больше бедности, тем развращеннее народные массы, тем больше на рынке порока продается женщин, которые или по воле и власти своих родителей или по своему желанно, путем голода и отчаяния доходят до того, что начинают промышлять продажей своего тела. Следует заметить еще, что Римская аристократия никогда не была вынуждаема дожидаться, чтоб голод, нищета, бесприютность наполнили этот рынок голодным пролетариатом продающим себя за кусок хлеба; она всегда могла накупить сколько угодно невольниц и тешить ими свою откормленную плоть. Невольничество было главным стимулом древней проституции. Без него она все-таки не могла бы развиться до таких поразительно громадных размеров, каких она достигла вообще в античном мире. Мы знаем, что сами правительства брались за проституцию, чтобы сделать ее источником государственная дохода, но при этом они организовывали ее так, чтобы по возможности предохранить общественные нравы от пагубного влияния разврата, хотя эта организация вполне согласовывалась с растленными нравами и грубо эгоистическими тенденциями, мужского аристократического населения страны. Мужчины, даже разращенные до мозга костей, всегда строги к поведению женщин. В Риме, напр., как и везде прелюбодеяние чрезвычайно строго наказывалось не только государством, но и самовольною властью мужа, провинившейся жены. У Горация и других римских поэтов часто приходится читать, как любовники замужних женщин застигнутые мужьями, умирают под розгами, сбрасываются с высокой кровли, подвергаются увечью или ограблению до гола, а иногда даже кастрированию и т. д. «Подвергаясь ярости мужа» — говорить Гораций о таком любовнике, — ты рискуешь всем своим благополучием, своею жизнью, своею честью!» — «Не нужно трогать матрон, — продолжает поэт, — лучше иметь дело с проституткой. — Когда я творю с нею любовь, я не боюсь, что вдруг вернется муж, заскрипят ворота, залает собака, и мне тотчас же придется бежать босиком и нагишом, — ибо горе тому, кого поймает муж матроны!»
В интересах семейства, желая предохранить его от порочного влияния, была развита римлянами и доктрина о необходимости проституции. «Очень жестоко, — говорить в одной из своих речей Цицерон, — было бы запретить юношам всякое сношение с проститутками. Кто осуждает за это наше время в развращенности, тот также осуждает обычаи наших предков и их уступчивость. Когда же люди воздерживались от этого, когда осуждали, когда не позволяли проституции?» Даже сам строго-нравственный Катон, этот суровый блюститель нравов, проповедовал, «что молодые люди вместо того, чтоб волочиться за чужими женами, должны ходить к проституткам».
Так влияла развращенность общества на мыслителей и законодателей, так же пагубно влияла она на литературу, которая, как представительница общественного развития, всегда являет собою верное отражение общественных нравов. А литература античного мира, за очень немногими исключениями, до такой степени пропитана цинизмом, так бесцеремонна в выражениях, что современный читатель невольно изумится, как все это читалось и представлялось публично, в присутствии знатных римских матрон, столь стыдливых и целомудренных. Мы не станем говорить здесь о греческой литературе, — не станем говорить ни об этих Сафо, певицах лесбийской любви, ни об Анкреонах почти открыто воспевавших мужеложство. Мы скажем несколько слов о римской литературе, преимущественно о той ее эпохе, которая известна под именем «золотого века». Гораций, Овидий, Тибулл, Катулл, Проперций, Ювенал, Петроний, Марциал, — словом вся эта плеяда блистательных гениев и талантов римской поэзии, была разве только немногим лучше той гнившей в разврате аристократии, для которой они писали, и которую хлестали бичами своих сатир и эпиграмм. Один служит при дворе сводником, другой умирает от полового истощения, третий пишет только для пламенных любителей непотребных домов, четвертый на старости лет предается пороку содомии и т. д. и все это без зазрения совести рассказывается в великолепных стихах. Театр имел то же направление. Напр., у Плавта и Теренция в их комедиях почти нет других действующих лиц, кроме сводней и проституток. Даже Овидий не советует молодым девушкам посещать театры. — «Молодая девушка, — говорить Гораций, — которая забавляется сладострастными танцами Эонии, уже с самого нежного возраста мечтает о преступной любви.» Ко всем этим возбуждениям прибавьте еще многочисленные роскошные бани, в которых вместе моются и мужчины и женщины, сводни соблазняют девушек, любовники устраивают rendez-vous. Цезари и патриции высматривают новые жертвы для своего ненавистного сладострастия, а их жены развратничают с банщиками и кучерами. Соберите все это в один фокус и у вас составится полная картина внутреннего состояния умирающего Рима.
Такое небывалое в истории Европы развитие разврата обусловливалось в Риме развитием вселенской власти вечного города, основанной на силе войск. Армии обыкновенно действуют развращающе на народонаселение, а у Рима была громадная армия; Рим, разорявший вселенную получал отовсюду не только громадные богатства на свой разврат, но и наполняли свои непотребные дома толпами прекрасных пленниц, захваченными когтями римских орлов. Возвращение армии из похода постоянно бывало праздником разврата. Когда Цезарь с триумфом входил в Рим после завоевания Галлии, то его солдаты пели: «Граждане! берегите своих жен — мы ведем к вам плешивого развратника! Цезарь, ты промотал в Галлии все золото, взятое тобою в Риме!»
Древнюю цивилизацию поило, кормило, одевало и нянчило рабство, оно же доставляло проституток. Большинство публичных женщин были рабынями, которые покупались или были захватываемыми силою. Особенно силен был этот промысел в Риме, куда после каждого завоевания приводились многочисленный толпы женщин назначенных для проституции и рабов — мальчиков, которых скопили и делали евнухами, или же замещали ими любовниц…
В Риме существовал даже особенный рынок при храме Венеры, специально назначенный для торговли живым мясом. Продажа детей родителями была также в ходу, и по большей части отцы и матери, как говорить Плавт, — делали это не по жестокости, а чтоб не умереть от голода. Однако, часто родители развращали своих детей для того лишь, чтоб достать денег на пьянство и т. п.
И кроме того в Риме сама государственная власть бросала в безвыходный омут разврата многих женщин. Так, прелюбодейные жены, сначала отдавались на всеобщее поругание, а потом осуждались на пожизненную проституцию. Во время же гонений на христиан множество мучениц, приговоренных к смерти, до совершения казни отводились в публичные дома и там отдавались всем желающим, которых всегда находилось множество, так как это подлое удовольствие предлагалось им бесплатно.
Вообще, большинство римских проституток принадлежало к низшим классам и занималось этим ужасным ремеслом вследствие голода и холода; многие из них не имели даже платья, а с тела никогда не могли скрести вшей. По словам Теренция, «большинство из них страдает в такой ужасной нищете, что продают себя за кусок черного хлеба.»
Самыми презренными, самыми отвратительными были лачужницы, жившие в лачугах (casae) не лучше собачьих конур; могильщицы — достояно пребывавшие на кладбищах, и ночевавшие всегда под открытом небом; двух-обольные, — т. е. получавшие два обола; кабачницы, проституировавшие в кабаках низшего сорта; волчицы и т. п. Римляне были очень изобретательны!..
И в Греции и в Риме содержание публичных домов было ремеслом очень распространенным. Содержатель — Leno — встречался во всех классах общества, под всеми видами. Доходы с этих домов были так значительны, что даже почетные граждане давали деньги на открытие и обогащались этим. Рабыни или кабальные должницы своих антрепренеров, — проститутки подвергались самой безжалостной и возмутительной эксплуатации и должны были развратничать без отдыха, то будучи понуждаемы к этому ложными обещаниями, то за недостаточную выручку будучи подвергаемы такому жестокому бичеванию, что спины у них обливалась кровью.
Публичные дома в Риме группировались около цирков театров, рынков. Вокруг большего цирка стояли ряды конур (cellae et fomices) служивших для проституции народа до и после игр. Общее число проституток было громадно: по Трояновской переписи их оказалось 32 000. Такого количества никогда не было даже в Коринфе, самом проституционном городе Греции, хотя многие еще укрылись от этой ревизии, производившейся с фискальной целью.
Рим умирает в предсмертных корчах сладострастия, любуясь гибелью народа в цирках и упиваясь запахом человеческой крови, грабит вселенную, заводит непотребные дома во дворцах цезарей, топчет ногами, и презирает всех им ограбленных, избитых, развращенных, — а с берегов Иордана раздается любящий кроткий голос: «Идите ко мне все труждающие и обремененные и я успокою вас!..» Все раздавленные и угнетенные спешат на голос учителя унижающего гордых и возвышающего смиренных. Проститутки делаются самыми горячими прозелитками евангелия и усердными спутницами Иисуса, так человечно прощавшего им грехи… Но для первых отцов церкви, каравших всякое половое наслаждение вне брака, проститутки были отверженными созданиями и подвергались суровому церковному покаянию.
Византийские законодатели собирают значительные налоги со всех нищих и проституток, рабов и отпущенников, запрещают патрициям жениться на публичных женщинах, предписывают последним носить платье с условными признаками, дабы они не смешивались с честными женщинами, кладут печать позора на их детей, жестоко наказывают как растлителя, так и девушку, соблазненную им, не обращая внимания было ли с ее стороны согласие. Но ухудшая таким образом положение несчастных публичных женщин, христианские законодатели не достигли главной цели: искоренения разврата, ибо он возбуждался и поддерживался высшими классами, богачами и вельможами; а византийские императоры, жестоко наказывая простой народ, не смели также бесцеремонно обращаться с главной опорой разврата — аристократией, и византийская империя умерла такой же развратной как и Рим. Сам Феодосий в одной из своих новел признается, что разврат к проституция пожирают Империю, не смотря на самые жестокие наказания… Он кончает угрозами; но что значили эти угрозы для той же аристократии, которая не краснея слушала громовые речи Златоуста?… Провинции гибли от анархии, опустошались администраторами, умирали от голода, и мудрено ли, что жены и дочери были продаваемы богатым развратникам!..
Не помогли репрессивные меры, не помогли и магдалинские убежища, заведенный экс-проституткой императрицей Феодорой, которая приказала силой захватить с улицы 500 публичных женщин; им было так «хорошо» в этой убежище, что большинство из них в первую же ночь. утопилось в море!
Византия наследовала разврат от Рима и повторила его предсмертную агонию!..
Мессалина

Мессалина в изображении Обри Бёрдслея. 1897 г.
Клавдий, четвертый император после Августа, родился в Лионе, в 714 году от построения Рима, за 10 лет до P. X. Сын Друза и дядя Калигулы, он был один из всего семейства пощажен племянником.
Выть может потому, что последний считал его достойным себе преемником. Еще в колыбели, когда умер его отец, Клавдий страдал болезнями, которые мало-помалу ослабили его тело и ум так, что его долго не счисли способным к общественным занятиям. Довольно высокого роста, но толстый и неповоротливый, он и по уму был точно таким же, неповоротливым.
Мать его, Антония, называла его чудовищем и выродком природы, и когда она говорила о какой-нибудь глупости, она постоянно произносила эти слова: «он глупее моего сына». Его дед, Август, писал поэтому поводу к одному из родственников:
«Что касается до меня, я буду приглашать молодого Клавдия каждый день ужинать со мной, чтобы он не ужинал один с Сульпицием и Афенодором. Я хотел бы, чтоб несчастный избирал с большей заботливостью примеры для своего поведения. В делах серьезных он никуда не годится.»
Он вообще известен в истории под именем слюнявого идиота. Однако после смерти Калигулы он был избран в императоры римскими легионами, которые находили гораздо выгоднее для себя империю, чем республику.
При своем вступлении на престол, Клавдий выразился совершенно: он начал прокламацией и эдиктом в которых обещал прощение и забвение прошлого.
Ради только примера, он повелел предать смерти некоторых трибунов и центурионов, которым было недостаточно убить Калигулу, и которые осмелились сказать, что вместе с племянником нужно бы отправить на тот свет и дядюшку.
Эти негодяи заслуживали урока. Ясно, что Калигулу убить было недурно, потому, что Калигула заслужил это, потому что его ненавидели. Но убить его храброго дядю Клавдия, который был избран народом и армией было очень дурно.
Приговорить к смерти и центурионов и трибунов!..
И тогда, как они умирали на крестах, добрый Клавдий, как пример сыновней любви, назначил празднество в честь своей бабушки Ливии, повелел установить публичное жертвоприношение в честь своей матери и отца. Вслед за тем, представляя из себя саму скромность, он отказался от самых высоких титулов, которые были изобретены царедворцами и между прочим от титула Императора.
То был в сущности один из самых гнусных властителей. Но так как наша задача заключается вовсе не в истории Клавдия, то мы перейдем. к описанию жизни жены его, Мессалины, которая сопровождала его колесницу вовремя его тpиyмфa, по возвращению из Британии, где он изволил прогуливаться целых две недели. То была почесть, оказанная ей сенатом.
Мессалина! С этим именем связываются воспоминания о том глубоком разврате, в котором погибал властелин Вселенной.
Роль любезного и любимого императора, игранная Клавдием, была наконец кончена.
Сбросив маску, Клавдий свободно отдался той роли, которую он должен был играть во всемирной истории, — роль подлого, глупого и жестокого тирана.
А так как он упражнялся в этом под влиянием своей жены, то нам необходимо объяснить, что это была за женщина.
Мессалина (Валерия) последняя внучка Октавия, сестра Августа, была дочерью Валерия Мессалина Барбатуса и Эмилии Лепиды.
Еще шестнадцати лет она уже выказывала самые развратные инстинкты. Да и как могло быть иначе? Отец ее, человек, хотя и уважаемый, предан был пьянству, из чего вытекало, что он совсем ею не занимался.
А мать ее, Лепида, считалась одной из самых развратных женщин Рима, — одной из самых распутных и злых женщин.
В качестве жрицы Приапа, Лепида не довольствовалась почти открыто упражняться в самом безобразном сладострастен, уверяли, что она занималась магией, и что под сенью ночи, в сообществе старой фессалийской служанки она составляла напитки, в которых любовная трава была по преступному расчету смешиваема с ядом. Какова мать, такова и дочь.
Однажды будучи 16-ти лет, Мессалина заметила в галерее сирийского невольника, который заснул. Раскалив одну из своих шпилек, которые употреблялись римскими женщинами для того, чтоб удерживать свои волосы, она с громким хохотом проколола ими обе щеки несчастного.
Тот кричал и плакал.
— О чем ты жалуешься? — спросила его Мессалина. — Я еще была слишком добра. Вместо щек я могла бы проколоть тебе глаза.
В другой раз перед ее дворцом прогуливался красивый школьник, приготавливая речь, которую он должен был произнести вечером.
Мессалина подошла к нему, взяла у него его таблички с записями и, взглянув на него, сказала:
— Твоя речь ничего не стоить.
— Неужели? — смеясь возразил школьник. — Ты напишешь лучше?
— Без сомнения. Ты говоришь о философии, а философия — пустая наука! В твои лета, при твоей красоте может быть одно только интересное занятое в жизни.
— Какое?
— Читай!
Мессалина подала свои таблетки молодому человеку, на которых были начертаны следующие слова:
«Любить, любить и любить!..»
Клавдий в своей юности, был помолвлен на Эмили Лепиде. Но за два года до своего восшествия на императорский трон, через шесть месяцев после своего развода со второй женой, Клавдий решил, что он женится на дочери Эмилии.
Мессалине едва исполнилось двадцать лет, а Клавдию уже было сорок восемь. Не смотря на эту громадную разницу в летах, не смотря на бесчисленные физические недостатки будущего императора Мессалина согласилась быть его женою.
Она дала это согласие потому, что Трифена, старая фессалийская колдунья, сказала ей, что этот человек скоро будет занимать одно из первых мест в Риме, что он будет императором, а она императрицей…
Не прошло недели со дня сватовства будущего императора, как Мессалина, одетая в белую тунику, символ девственности, с челом увенчанным цветами, символом плодородия, — покрытая пунцовым покрывалом, отправилась вместе с Клавдием в носилках, дно которых было покрыто овечьей кожей, в храм Юпитера, где должна была праздноваться их свадьба.
Во главе процессии шла Лепида, с толпой женщин несших светильники. По окончании церемонии все отправились в жилище мужа, где был приготовлен свадебный пир.
Шестьдесят собеседников заняли ложа в триклиниуме, — так называлась пиршественная зала. Во время пира две артистки на цимбалах по очереди оглашали воздух звуками своих инструментов, дабы помешать пирующим совершить непростительное неприличие т. е. заснуть за столом.
За десертом явились комедианты, которых называли гомеристами, потому что они декламировали стихи знаменитого греческого поэта и начали увеселять пирующих.
Но Лепида, не понимавшая ни крошки по-гречески, по знаку Клавдия, приказала заменить их танцовщицами, которые в то время, как один из египетских невольников, по имени Измаил, с удивительным искусством подражал пению соловья, начали постыдный танец.
Мессалина, чтоб лучше видеть этот танец, скинула свое покрывало; Клавдий разразился громким хохотом глупца.
Наконец, настал час, когда нужно было проводить Мессалину на брачное ложе, которое, следуя обычаю, было поставлено не в спальне, а в одной из галерей дворца, напротив двери и возвышалось на эстраде из слоновой кости, окруженное статуями богов и богинь.
Пропели эпиталаму или песнь в честь новых супругов; потом, после того как Лепида обняла свою дочь и перемолвилась с ней несколькими тихими словами, Клавдий и Мессалина остались одни.
Но Клавдий слишком много выпил и съел на свадебном пиру. В нескольких шагах от него, на ложе, покрытом пурпурными тканями, вышитыми золотом, отдыхала двадцатилетняя женщина, а Клавдий, сидя в углу, храпел что было силы.
А между тем она была прекрасна: лоб ее был чист, уста свежи и розовы, как будто она никому не дарила поцелуев, кроме детей; великолепные черные глаза закрывались длинными ресницами, а в противоположность им ее густые волосы были золотисто-пепельного цвета.
Да, Клавдий спал, он не только спал, но даже храпел; он храпел, а его жена смотрела на него во глаза с странной улыбкой, — с улыбкой, которая в одно и тоже время выражала и удивление и насмешку и презрение.
Вдруг из полуоткрытого окна до Мессалины долетели звуки, привлекшие ее внимание; — звуки эти были столь же обольстительны, сколь были противны звуки, издаваемые Клавдием; эти звуки походили на пение соловья… два соловья пели под сенью сада. Очарованная этими ночными звуками, Мессалина задумалась, заметив, что серенаду ей давал только один из певцов.
— Измаил! — прошептала она.
Она угадала: то был Измаил, прекрасный египетский невольник, который как бы для аккомпанемента гармонии первой ночи любви, вследствие поэтической идеи, отправился в сад своего господина, бороться в и разнообразии модуляций с постоянным обитателем этих садов — соловьем.
Но как ни было удачно подражание, Мессалина не обманулась; она отличила ложь от истины и, слушая невольника, ощутила бесконечно более сильное чувство, чем то, которое производит обыкновенный талант; чувство это выражалось в оживлении ее лица, в волнении ее груди. Клавдий продолжал храпеть.
Мессалина соскользнула с постели, осторожно отворила дверь и, легкая как птица, скрылась в саду. Через несколько минут в садах Клавдия распевал только один соловей.
Клавдий все продолжал храпеть…
На другой день, утром, Мессалина, после ванны, занималась своим туалетом, при котором присутствовало около двенадцати невольниц, которых звали ornatrices. Ей убирали голову, когда один из служителей дворца доложил, что секретарь Клавдия его историограф Нарцисс желал бы ей представиться. По происхождению из невольников, — он достиг того, что был освобожден своим господином, который смотрел на него как на существо высшее и ничего не предпринимал без его совета.
Мессалине было известно влияние Hapцисca на Клавдия, же она дала себе обещание, выходя за последнего замуж, управлять его фаворитом. Она приказала немедленно ввести его.
Нарцисс вошел. То был человек лет 30-ти, в котором не было ничего замечательного, исключая крайнего бесстыдства.
Он довольно фамильярно поклонился Мессалине и, ожидая ухода прислужниц, начал гладить большую лакедемонскую собаку, которую он, не стесняясь, привел с собой в покои молодей женщины.
Мессалина нахмурила брови.
— Что доставлять мне удовольствие видеть вас и вашу собаку, г-н Нарцисс? — сказала она насмешливым тоном.
Нарцисс улыбнулся: он предвидел подобный прием.
— Извините меня, — отвечал он; — но мой дорогой Мирро имеет обыкновение всюду следовать за мной куда бы я ни шел, он так меня любить и так верен мне, что у меня не хватает смелости прогнать его. Не правда ли, верность — редкая вещь в настоящее время.
— Дальше, — возразила Мессалина, не отвечая на этот прямой вопрос.
— Дальше, — ответил Нарцисс, вынимая из кармана таблички. — Я позволил себе побеспокоить вас, чтобы передать вам описание одного случая произошедшего сегодня ночью в этом доме.
— Этой ночью?
— Да. Я предполагал, что прежде, чем я передам моему господину, — мне так приятно давать ему это название, хотя он и освободил меня, — вам не будет неприятно узнать о происшествии, которого я был случайно невидимым свидетелем и записал по обязанности историографа. Сегодня ночью я не спал, устав ворочаться на постели, я сошел в сад и…
Нарцисс не окончил фразы. Приблизившись к нему, Мессалина вырвала у него из рук таблички без гнева, скорее смеясь, хотя смех этот был не натурален.
Со своей стороны Нарцисс не сделал ничего, чтобы воспротивиться движению молодой женщины. Наступило краткое молчание, в продолжение которого они пристально глядели друг на друга. Мессалина первая прервала это молчание.
— Вы на самом деле хотели передать эти таблички Клавдию? — сказала она шипящим голосом.
Нарцисс пожал плечами.
— Вы слишком молоды и слишком прекрасны, — возразил он, — чтоб служить забавой для быков; разверните эти таблички и вы в них прочтете, что я хотел передать Клавдию без всякой опасности для вас.
Мессалина прочла:
«Сегодня утром я Нарцисс, управитель Клавдия, обрил брови египтянину Измаилу и за его дерзость приказал выжечь на лбу его клеймо.»
— А! — холодно прошептала она, — так Измаил был настолько дерзок!
— Да! — отвечал Нарцисс, — вчерашний его успех в подражании пения соловья вскружил ему голову. Сегодня утром, проходя мимо меня, он едва мне поклонился; я исправил его — отныне он будет почтительнее. Согласитесь вовсе не хорошо, что простой невольник считает себя равным Юпитеру.
Мессалина отдала таблички Нарциссу.
— Хорошо, — ответила она и, наклоняясь к Мирро, чтобы приласкать ее, добавила: — эта собака верна?
— Так же, как его хозяин, — живо отвечал управитель. — Привязана до самой смерти к тем, которые удостаивают ее любви.
Рука Мессалины уже не гладила более собаку. Смелый отпущенник покрывал ее пламенными поцелуями.
— Я хочу пить, — сказала Мессалина.
Нарцисс встал, чтоб приказать принести питье своей госпоже. Молодой ассирийский невольник принес на подносе чашу, наполненную слегка подслащенным белым вином.
Мессалина выпила, и вытерев концы пальцев о волосы раба, она брызнула через плечо несколько капель оставшегося в чаше вина в лицо Нарцису, что было высшим выражением любезности у римских женщин того времени и Нарцисс, преклонив колена, сказал страстным голосом:
— Я до самой смерти буду помнить это, моя повелительница.
И отпущенник Нарцисс стал первым любовником Мессалины, жены Клавдия. Первым, говорим мы, потому, что Измаил, подражатель соловья, был минутной прихотью, которую нечего было считать.
Между тем Клавдий не всегда спал, находясь возле своей новой супруги, доказательством чему, — а разве это не доказательство? — может служить рождение двух сыновей: Британика и Октавия, Клавдий обожал своих детей не так, как Мессалина, которая заботилась о них только в то время, когда было нужно их покровительство.
Клавдий особенно любил своего маленького Тиверия прозванного Сенатом Британиком в воспоминание той славы, которою покрыл себя его отец во время экспедиции в Британию. Он проводил целые часы около его колыбели, укачивая его, а позже, когда ребенок был в состоянии понимать, он давал ему мудрые советы и учил молиться богам.
Клавдий был хорошим отцом и без всякого сомнения если бы он был женат на другой женщине, а не на Мессалинe, — на женщине, преданной своим обязанностям — Клавдий, говорим мы, без сомнения продолжал бы свое царствование не так, как его начал, без особенного блеска, быть может, без особенной пользы для народа, но также без скандалезных глупостей и идиотских жестокостей.
Клавдий, делавший добро, стеснял Мессалину, которая помышляла только о зле. Искусная в распутстве, она подчинила своему влиянию не сердце, а тело своего мужа. Затем она постаралась развить его природные недостатки. Клавдий был всегда алчен до вина и еды, — она с утра напаивала его почти до бесчувствия, в этом помогал ей Нарцисс. Императрица нашла в этом человеке драгоценное орудие. Алчный до золота, до роскоши, он только и думал о том как бы побольше украсть, и он вполне достиг своей цели; ибо после его смерти, случившейся при Нероне, осталось четыре миллиона сестерций.
— — Воруй сколько ты хочешь, — сказала ему Мессалина, — я ничего не вижу и постараюсь, что бы не заметил и Клавдий. Но и ты с своей стороны сделай так, чтоб Клавдий не замечал моих удовольствий.
Понятно, что, сделавшись ее любовником, Нарцисс никогда не помышлял о том, чтоб безраздельно обладать ею. Он не был ревнив. После него настала очередь других отпущенников живших во дворце, которые пользовались благосклонностью императрицы. Нарцисс даже сам исполнял самые низкие причуды Мессалины. Таким образом, когда на одном из праздников во дворце появился канатный плясун по имени Мнестер и императрица пленилась им; ибо он был великолепен: то был Геркулес с примесью Аполлона, и кроме того он играл трагедии. Мессалина была восхищена. По окончании представления она послала одну из своих женщин отыскать мима. Мнестер явился. Императрица сидела в одной из своих зал; у ног ее отдыхал Мирро, подаренный ей Нарциссом.
Когда она чего-нибудь или кого-нибудь желала, Мессалина не теряла времени на разговоры.
— Ты прекрасен, и я люблю тебя Мнестер! — сказала она ему. Она ожидала, что при этих словах, увлеченный радостью мим бросится к ее ногам.
Каково же было ее удивление, когда он остался холодным и неподвижным.
— Разве ты не слышал моих слов, — продолжала она голосом, в котором слышался скорее гнев, чем любовь. — Глух ты и нем, что ли?
— Ни то и ни другое, с позволения Вашего Величества, — сказал тихо Мнестер.
— Так почему это молчание, когда я удостоила тебе сказать, что ты мне нравишься.
— Я слыхал, что в императорских дворцах стены имеют уши, и то, что я ответил бы Вашему Величеству может быть передано вашему августейшему супругу.
Мессалина улыбнулась.
— Ты благоразумен! — заметила она.
— Когда имеешь одну только кожу, так поневоле дорожишь ею, — ответил он.
— Ну так тебе нечего бояться за свою кожу. С этой стороны дворца уши закрыты.
Мнестер поклонился.
— Это меня немного успокаивает.
— Вот как? не много!
— О! чтоб ответить Вашему Величеству, как вы по-видимому желаете, что я вполне принадлежу вам и счастлив этим, мне недостаточно иметь убеждение, что ни один шпион не следит за мной.
— А! тебе недостаточно?
— Ваше Величество позволите ли мне объяснить мою мысль, рассказав небольшую басню.
— Рассказывай.
— Однажды львица встретила на своей дороге зайца, миловидность которого ее пленила. «Следуй за мной в мою берлогу» — сказала она ему. «Охотно, — отвечал заяц, — вы так прекрасны, что удар когтей вашей изящной лапки мне показался бы лаской. Но на вашего супруга я не надеюсь, его движения слишком быстры, когда он даст удар, этот удар убивает. Прежде чем я последую за вами, благоволите увидать его и предупредить, что вы желаете взять меня для своей забавы и развлечений. Предупреждений таким образом г-н лев не будет иметь ни малейшей причины удивляться моему присутствию и гневаться за симпатию, которой вы меня удостоите; я же не буду страшиться, что в один прекрасный день, будучи в дурном расположении духа он бросит меня мертвым к вашим ногам, под тем предлогом, что тогда как ваш господин и повелитель говорил вам о серьезных делах вы были заняты презренной игрушкой.
Мессалина выслушала до конца басню Мнестера, и когда замолчал он, проговорила:
— Ты не глуп, но уж слишком осторожен. Сотни других на твоем месте, что бы насладиться ласками львицы пренебрегли бы когтями льва. Но пусть будет по твоему, трусишка! Мы сделаем так, чтобы прибавить тебе храбрости.
Мнестер оставил Мессалину, когда к ней явился Нарцисс. В двух словах она объяснила ему сущность приключения и они оба посмеялись, что какой-то мим предлагает свои условия императрице, чтоб сделаться ее любовником. Случай действительно был очень странен. Но препятствия только раздражали желание Мессалины: она желала Мнестера; он ей был необходим.
— Вы будете иметь его, — весело сказал Нарцисс. — Я беру на себя поговорить со львом.
Он направился к Клавдию и сказал ему:
— Моя императрица изволит гневаться.
— На что?
— Ош предлагала Мнестеру, акробату, быть у нее в услужении и получила отказ.
— Ты шутишь?
— Ни мало! Он осмелился ответить, что предпочитает свободу чести принадлежать супруге императора.
— И она не приказала избичевать его до тех пор, пока куска кожи не осталось на его костях! Клянусь Юпитером, пусть приведут ко мне этого негодяя, и я сожгу его живого.
— Простите его ваше величество. Императрица вовсе не желает так строго поступить с Мнестером. Этот шут слишком хорошо танцует для того, чтоб быть распятым или сожженым.
— Танцует то он действительно не дурно! Чего же желает императрица?
— Так как она не имеет столько власти, что бы заставить себя послушаться, то она просит, что бы вы сами отдали такое приказание.
— Эта справедливо; пошли ко мне Мнестера.
Мнестер явился очень бледный — женщины ведь так изменчивы. Оскорбленная малой поспешностью в удовлетворении ее желания, Мессалина могла сменить любовь на ненависть.
— Так это ты, ползучий червяк, осмелился отказаться от службы императрице, — загремел Клавдий, идя к миму. Последний распростерся перед нам на полу.
— Помилуй Цезарь! — пробормотал он.
— Помилования! — повторил Клавдий, приставляя к горлу Мнестера конец маленького кинжала, с которым он никогда не расставался. — Ты заслуживаешь, чтоб я вонзил по самую рукоятку этот кинжал в твою голову! Но я слишком добр, и к тому же ты первый канатный плясун в Риме… Я тебя прощаю. Только слышишь, ты отправишься сейчас же к императрице и скажешь, что ты принадлежишь ей с головы до ног.
Мнестер приподнялся.
— Я иду, — сказал он.
— В добрый час!
И таким то образом, канатный плясун, по повелению императора, сделался любовником императрицы.
Но не смотря однако на ее красоту, не страшась ее всемогущества, некоторые из римлян отказывались как от позора от счастья разделить ложе с женой императора Клавдия. И ярость, причиняемая этим презрением, породила в ней ту жажду крови, которую она не замедлила передать своему мужу. Она была только развратна и сделалась кровожадной.
Первые четыре или пять лет ее замужества с Клавдием были до некоторой степени прологом к постыдному существованию Мессалины. Если она уже является неистовой блудницей, то все еще скрывается в тени, отдаваясь вышедшему из границ сладострастию. Но пролог, в котором было несколько комических сцен, окончился и начинается драма, которую не осмелятся сыграть ни на одном театре. Пресытившись тем, что заставляла краснеть людей, эта женщина, которую звали Мессалиной, решилась заставить краснеть самих богов. Она даже не женщина, она менада, которую не насыщало даже злоупотребление восторгами. Первым из тех людей, которые предпочли смерть необходимости сказать распутной женщине: «Я люблю тебя!» был сенатор по имени Аппий Силаний, второй муж матери императрицы.
Он женился на Лепиде против своего желания по воле императора Клавдия, который хотел ввести Аппия в свое семейство в вознаграждение за те услуги, который последний оказал государству.
Мессалина с изменнической радостью следила за спором по поводу этого брака. Ей было смешно видеть мужчину вынужденного отдать свою руку запятнанной женщине.
И когда Аппий подчинился, — ей было этого мало, он выказал себя слабым ей было нужно, чтобы он выказал себя подлым. Особенность дурных натур заключается в том, что они стараются унизить до своего уровня всех их окружающих.
Прошел только месяц с тех пор, как Аппий стал мужем Лепиды, как однажды вечером под предлогом желания поговорить об очень интересном предмете Мессалина призвала во дворец своего отчима, Аппий явился. Императрица лежала. Он извинился и хотел уйти.
— Зачем? — проговорила Мессалина. — Вы боитесь меня?
Стоя по средине спальни со сложенными на груди руками Аппий проговорил с важностью:
— Я ожидаю приказаний вашего величества.
Ея величество закусила губы.
— О! О! — улыбнулась она, — такой тон, такая сдержанность, мой милый Аппий, — более уместны, если бы вы находились в присутствии отвратительной старухи.
— Я жду приказаний вашего величества, — тем же ледяным тоном проговорил сенатор.
Мессалина вздрогнула.
— Мне угодно, — сказала она шипящим голосом, — спросить вас, Аппий, что если б я была вдовою вместо матери и сказала бы, что люблю вас, на ком бы вы скорее женились на мне или на ней?
Аппий посмотрел на нее как будто с трудом веря, что эти слова были действительно произнесены ею. Но она в одно и то же время улыбалась с насмешкой и угрозой.
Он не мог более сомневаться, что от ответа зависела его участь, однако он не колебался.
Одетый в свою белую тогу, вышитую пурпуром, он сделал несколько шагов к порогу спальни и громко, крикнул.
— Рабы! скорее ищите доктора! Ее величество страдает припадком безумия.
Через два дня Аппий был приговорен к смерти.
Что за причины заставили Мессалину желать смерти Аппия, который был уже не молод, когда женился на Лепиде, а следовательно мог надеяться, что будет в безопасности от преследований своей кровожадно-страстной падчерицы.
Но Мессалина обладала, гением зла; ее прельщало только то, что выходило из ряду обыкновенных вещей, по своему безобразию. Кроме того Лепиде не нравился ее второй муж. Однажды она жаловалась своей дочери на холодность Аппия.
— Он надоедает тебе, — отвечала Мессалина; — успокойся: мы от него избавимся.
Мы видели, что от него действительно избавились.
Другой сенатор, Вициний, подобно Аппию, заплатил жизнью за свой отказ на предложение Мессалины. Но он умер иначе. Нужно же разнообразить свои удовольствия!
В одном из предместий Рима жила женщина по имени Локуста, занимавшаяся приготовлением ядов, Она несколько раз была приговариваема к смерти за свои преступления; но каждый раз невидимая рука спасала ее от наказаний. К этой-то Локусте обратилась Мессалина, чтобы отмстить Вицинию, и молодой сенатор упал во время обеда, как пораженный громом, попробовав блюдо из шампиньонов. Позже от яда той же самой Локусты, налитого Нероном, погиб сын Мессалины и Клавдия Британик.
Когда постыдная страсть Мессалины делала ее смертельным врагом человека, то страсть к золоту побуждала ее к убийству. Так погиб консул Валерий Азиатик за то, что обладал великолепными садами окружавшими его дворец, в которых впервые были выращены вишневые деревья.
Два знатных римских всадника, родственники Аттика были приговорены Клавдием на смерть в цирке в бою с гладиаторами.
Совершенно покорный прихотям своей жены и отпущенников, Kлaвдий мало-помалу привык назначать смертную казнь так же спокойно, как будто дело шло о пире. Видеть страдания стало для него наслаждением. Он присутствовал на всех казнях отцеубийц; однажды, когда он обещал присутствовать в Тибуре, при пытке по древнему обычаю, врага государства, палач не явился, и любезный император прождал до самого вечера другого палата, которого велел привезти из Рима.
Но бои гладиаторов всего более восхищали Клавдия. Когда один из них падал пораженный на смерть, Клавдий, если можно так сказать, обонял его корчи и приказывал прикачивать тех, которые упадали даже случайно, чтобы созерцать их искаженные страданием лица.
При особенно торжественных случаях Мессалина и Нарцисс изобретали для народа какой-нибудь остроумный сюрприз.
Пойдемте, читатель,; в один из этих дней в амфитеатр Августа.
С солнечным восходом герольды приклеивали афиши во всех храмах и портиках Рима, объявляя, что в четвертом часу, соответствующем нашему десятому часу утра, в означенном амфитеатре будет публичное зрелище.
Еще не было третьего часа, когда народ входил в цирк по тридцати лестницам в верхний ярус, где только и было дозволено ему сидеть. Через час в среднем ярусе поместились всадники, под ними сенаторы, все в сопровождении своих жен и детей: потом над императорской ставкой, еще пустой, в уровень с сенаторскими местами, в ложе охраняемой четырьмя ликторами, вооруженными розгами, явились пять закутанных женщин, вид которых произвел на некоторое время почтительное молчание. То были весталки с великой жрицей во главе.
Наконец явился император, вместе с императрицей и были встречены, восторженным криком толпы, повторявшимся три раза: «Да сохранят вас боги!»
Мы не станем подробно описывать всех актов. зрелища и займемся описанием сюрприза, приготовленного Мессалиной и Нарциссом для Клавдия и народа.
Представление началось охотой за оленями; затем происходила конная битва, потом борьба ста человек с несколькими львами, тиграми, медведями и т. п. Зрелище было великолепно. Но герольд, при самом начале объявил, что оно окончится битвой братьев Петра, всадников, с гладиаторами.
Римляне особенно нетерпеливо ожидали этой битвы.
Это нетерпение еще усиливалось вследствие любопытства при виде громадной эстрады, устроенной на кирпичах посредине арены, и окруженной громадной толщины кольями, соединенными цепями, как будто для того, чтоб помешать приближаться и людям и зверям.
— Гладиаторы будут сражаться на этой эстраде? — спросил Клавдий у Мессалины и Нарциса. — Но как они взойдут? я не вижу лестницы.
— Только бы взошли, а то о чем беспокоиться Вашему Величеству.
— В полу быть может есть трап?
— Может быть.
— Они спрятаны под этим полом?
— Мы не говорим «нет».
В назначенную минуту, — как в наших волшебных пьесах дьяволы, на сцене появились двести гладиаторов и между ними оба всадника, все одетые в приличные случаю костюмы в indicula или тунику без рукавов, стянутую поясом; с головами покрытыми шлемами; с мечами в правой руке, на которой были надеты стальные перчатки.
Они разделились на пары и один из них — Друз Петра, младший из братьев, обращаясь к императорской ставке проговорил от лица всех:
— Цезарь, привет тебе от тех, которые должны умереть.
Цезарь поклонился.
Битва началась. Жестокая битва без жалости и пощады. А между тем эти люди не имели никакой ненависти друг к другу. Они убивали вследствие приказания. Но самолюбие, за отсутствием справедливого гнева, оживляя их, заставляло их защищаться и убивать возможно большее число противников.
Битва продолжалась уже около получаса; треть сражавшихся валялось на полу, истекая кровью. Император веселился. Однако нечто отравляло эту его радость. Роза имела шипы. До настоящей минуты братья Петра, помогая друг другу, с невероятной ловкостью, оставались живы и здоровы.
— Ах! неужели не убьют их! — ворчал он.
Как будто в ответ на великодушное желание повелителя, братья убили еще двух противников.
— Это постыдно! — вскричал император. — Гладиаторы, люди, которых обязанность состоит в том, чтобы убивать, позволяют побеждать себя простым любителям.
— Вы хотите, чтоб они тотчас же умерли? — спросила Мессалина, наклоняясь к своему супругу.
— Да, да! — ответил он, не подумав, иначе он признал бы невозможным исполнение своего желания. Всадники должны бы были пасть, но только тогда, когда утомились бы битвой.
— Приказание Вашего Величества будет исполнено, — сказала Мессалина.
В левой руке у ней был красный шелковый платок. Три раза она махнула этим платном. То был сигнал начальнику цирка.
Раздался свисток, и опять-таки, словно по волшебству, в одну минуту, пол, на котором сражались гладиаторы, раскрылся, и живые и мертвые, победители и побежденные провалились в бездну, из которой, как из кратера, вылетало пламя и дым.
Крик восторга двадцати тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей приветствовал это столь же неожиданное, сколь быстрое, исчезновение.
Народ чудовищ, ты был достоин чудовищ-правителей!
— Ну что же? — сказали Мессалина и Нарцисс Клавдию, который от изумления сидел с раскрытым ртом и блуждающими глазами. — Довольны ли вы теперь? Хорошо?
— Очень хорошо, — ответил император. — Но, — прибавил он со вздохом, — Очень скоро кончилось.
Из кожи несчастных, отданных по инсинуациям императора палачам и диким зверям, Мессалина сделала себе носилки.
Ей; расточительность не знала границ. В ее апартаментах попирали ногами пурпур. Она ела только на золоте, оставляя серебро Клавдию. В ее спальне, на бронзовом треножнике постоянно курились самые драгоценные ароматы, за громадные издержки доставляемые из Аравии и Абиссинии.
В этой то комнате, в обществе самых красивых женщин и юношей Рима по крайней мере раз в неделю происходили празднества в честь Венеры.

Мессалина. Художник Крёйер Педер Северин. 1881 г.
Не трудно догадаться, что происходило на этих ночных оргиях: они скандализировали всю империю. Но Мессалина мало заботилась об общественном мнении, и еще менее об оппозиции, встречаемой ею со стороны тех, которых она призывала на эти празднества.
Кто бы она ни была: мать ли самого честного семейства, невинная ли девушка, женщина ли, девственница — она должна была повиноваться приказанию присутствовать во дворце Августы на ночной оргии.
На одной из площадей Рима возвышалась колонна, называвшаяся Лакторией, у подножия которой оставляли найдёнышей.
Однажды Мессалине пришла фантазия отправиться к этой колонне. Когда она сходила с носилок, то заметила молодую женщину, выразительная и приятная физиономия которой поразила ее. На руках у этой женщины был ребенок, которого она подняла с каменных ступеней статуи. Ее сопровождал молодой человек с мужественными и суровыми чертами лица.
— Кто ты? — спросила Мессалина, касаясь своим длинным ногтем, который она отпускала по обычаю знатных римских женщин, руки молодой женщины.
Ей отвечал провожатый:
— Меня зовут Андроником, — сказал он. — Та, который ты говоришь, Августа, — Сильвула, моя жена.
— Разве у вас нет детей, что вы отыскиваете их здесь.
— У нас есть один ребенок, — возразила Сильвула; — но в его колыбели есть пустое место, и Бог повелел заботиться счастливым матерям о тех, которые плачут.
Мессалина молчала несколько минут, бросая свой злобный взгляд на молодую чету, и потом проговорила:
— Ну, Андроник и Сильвула, вы мне нравитесь. Сегодня вечером вы оба явитесь в мой дворец на праздник Венеры.
Андроник и Сильвула отрицательно покачали головой.
Мессалина нахмурила брови.
— Что это значит? — заметила она. — Вы отказываетесь.
— Есть один только Бог, — сказал Андроник, — и этот Бог не дозволяет распутства…
— А! а! — воскликнула императрица. — Так вы — жиды! Причиной более! Меня займет ваше посвящение матери Приапа и Гермафродиты. — Затем обратившись к двум сопровождавшим ее ликторам, прибавила: — Руфус и Галл, я приказываю вам привести ко мне завтра этого мужчину и женщину.
Андроник и Сильвула переменялись горестными взглядами и первый, склонив голову, сказал:
— Бесполезно тревожить твоих служителей, Августа. Ты требуешь, мы явимся во дворец.
И на другой день, действительно, Андроник и Сильвула явились к Мессалине в тот час, когда начиналось празднование в честь Венеры.
Но когда, после их приветствия императрице, их готовились увенчать розами и подали им чашу с питьем, которое предназначалось для возлияний богине:
— Есть один только Бог! — громким голосом произнес Андроник, отталкивая чаши и венки. — И этот Бог повелевает его служителям скорее умереть, чем оскорбить его.
Христианин еще не докончил этих слове, и прежде, чем кто либо мог воспротивиться его движению, он поразил кинжалом свою жену в грудь и упал с нею рядом, пронзив себя тем же орудием.
Мессалина пожала плечами и толкнула ногой еще трепещущие трупы.
— Подымите эту падаль! — крикнула ода своим лакеям.
На луперкалиях, празднествах установленных Ромулом и Ремом, в память того, что они были вскормлены волчицей, — царствовало самое бесстыдное распутство. И Мессалина была первой женщиной в Риме, из такого высокого класса, которая опустилась ниже самой последе ней, своим бесстыдством.
На Луперкалиях, в течение многих часов, как только дневной свет уступал место светильникам, можно было видеть полунагую Мессалину, с распущенными волосами, с лицом разрумяненным вином, бегающую кругом смоковницы, под которой, по преданию, Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы.
На Сатурналиях Мессалина также давала народу пример самого безобразного разврата.
С известной точки зрения это имело еще извинения. Паганизм, исключительно состоявший из чувственных элементов, узаконивал злоупотребление всеми наслаждениями, всеми страстями, всеми пороками, как будто надеясь посредством этого с успехом бороться с новой религией…
Предаваясь со всею пылкостью своей кради и нервов, нечистым безумствам луперкалий и сатурналий, Мессалина повиновалась богам… она не была преступна… Но от чего с ужасом отвращается ум, что поднимает в душе отвращение, что поражает глаза, так это-то, когда эта презренная женщина, — жена Цезаря, не довольствуясь более принимающими поцелуи любовниками, преследует тех, которым их продают…
Ювенал, в одной из своих кровавых сатир, вывел Мессалину предпочитающей нары царственному ложу; он показал нам эту царственную куртизанку закутывающеюся в одежду темного цвета, скрывающую под черным париком свои белокурые волосы и спешащей в сопровождении наперсницы в один из тех подлых домов Субурского квартала, где ожидала ее пустая коморка, над дверью которой было написано имя Лизиски, под которым она проститутствовала, и цена ее ласк.
Ювенал также передал нам, что усталая, но не пресыщенная, Лизиска в час утреннего рассвета, с пожелтевшими щеками, еще пропитанная вонью ламп, «возвращалась к изголовью императора, принося с собою смрад своего чулана».
Мы опускаем занавес на этом отвратительном периоде из истории Мессалины. Что может быть любопытнее и ужаснее этого очерка страшного падения? Ее смерть?
Да, смерть и предшествовавшие ей Факты. И мы расскажем, как умирала волчица.
Мессалине самой хотелось управлять в цирке колесницей, запряженной четверкой лошадей, приведенных из Македонии.
Она была очень искусна в управлении своими конями. Однако, однажды одна из лошадей споткнулась и увлекла других в своем падении. Августа так сильно была брошена на землю из колесницы, что потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, первая фигура, привлекшая ее внимание между окружавших ее, — была фигура консула Гая Силлия.
Гай Силлий слыл во всей империи за прекраснейшего римлянина; можно бы предложить, судя по характеру Мессалина, че он был одним из её любовников. Но это было бы ошибкой. Мессалина ни разу за всю жизнь не перемолвилась с ним ни словом; Силлий, с своей стороны, находясь с нею вместе, казалось, не замечал её существования.
То была глухая борьба равнодушия между этими лицами. То был с их стороны расчет. Ни один не хотел сделать первого шага, дабы остаться господином другого.
После этого понятно удивление Мессалины при виде Силлия в числе лиц, которые, по-видимому интересовались ею; и это удивление возросло еще более, когда она узнала что он первый бросился к ней на арену и перенес ее в императорскую ложу.
Лед был разрушен; Силлий сделал первый шаг, она — второй.
Через нисколько минут, удалив всех, кроме него, она быстро спросила:
— Так ты меня любишь?
— Люблю, — отвечал он.
Черты Мессалины осветились радостью. Она торжествовала. Но эта радость была непродолжительна.
— Да, — повторил Силлий, — я люблю тебя, но я боюсь, чтобы эта любовь не значила того же, как если б я не любил.
— Почему? — возразила императрица. — Разве тебе кажется, что я нахожу неприятным сделаться твоей любовницей?
— Нет… но мне невыносимо быть твоим любовником! Мне…
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать… Я очень требователён, без сомнения, но я уж таков и потому-то так долго я избегал тебя!.. Я хочу сказать, что мне нужно все или ничего… Все или ничего, слышишь?.. Мессалине-императрице, я отдам душу… Жене Клавдия — ни волоса!..
Императрица улыбнулась.
— Ты ревнив? — заметила она.
Силлий сделал презрительно-надменный жест.
— Ревнив? полно! — отвечал он. — Ревнуют к мужчине, а Клавдий не мужчина, не человек, он — скот… Нет, я не ревную к Клавдию; он мне не нравится — вот и все.
— Тогда я тебе сказала бы «я требую».
— Моей крови, как крови Аппия Вициния и многих других? Что же? Я не дам тебе ни одного поцелуя…
— Но ты, который так громко говоришь, — ты также не свободен, как и я..,.
— Правда; но гарантируй мне будущее, и я без размышления пожертвую тебе настоящим.
— Однако, Юния Силана, жена твоя, — прекрасна.
— Во всем мире для меня одна только женщина прекрасна: ты!
— Ты откажешься от Юнии, если я прикажу тебе?
— Завтра, сегодня же.
— А потом?
— Потом? Народ устал от ига Клавдия; пусть Мессалина, не заботясь о своем первом муже, завтра станет женой другого… женой настоящего мужчины… и завтра же народ, просвещенный этим смелым презрением, столкнет сидящего на троне автомата.
— Чтоб возвести другого истинного мужчину… второго мужа императрицы?..
— Почему нет?..
Силлий так гордо произнес эти слова, что страсть тем более пылкая, что она так долго была сдерживаема, питаемая императрицей к прекраснейшему римлянину, выразилась в лихорадочном восторге Мессалины.
— А! вскричала она, сжимая ему с страшной силою руку, — ты прав! В тебе римляне найдут, по крайней мере, Императора. Ступай скажи Юнии Силане, что она больше не жена тебе, и, клянусь богами! через неделю ты будешь моим мужем. Быть может, ты отвергнешь меня, когда падет Клавдий… Но какое мне дело? Раз в жизни я буду любима истинным мужчиной.
Вследствие одной только гордости Гай Силлий совершил безумный поступок, беспримерный в истории, ибо он не любил, он не мог любить Мессалину. Несчастный! — он любил свою жену…
Между тем, следуя но роковому пути, на котором, но замечательному выражению Тацита «опасность была единственной защитой против опасности», в тот же день, вернувшись домой Силлий объявил Юнии Силане, чтоб она немедленно отправилась к своим родным, потому что он разводится с нею.
Сначала она думала, что он шутит. Но видя его бледного, но твердого, слыша его глухой, но не дрожащий голос, повторявший обыкновенную в этом случае формулу: «Иди! Я тебя отпускаю!» Юния Силана, сдержав рыдания рвавшиеся из ее груди, поклонилась, и прошептала эти слова: «Боги да простят вам и да хранят вас Гай Силлий…» Она удалилась.
О своей стороны, Мессалина не медлила и повсюду объявила, что она выходит замуж за Силлия. В течение недели, протекшей со времени первого разговора до дня свадьбы, она отослала в дом своего нового супруга большую часть своих богатств, свою золотую посуду и своих невольников.
Было невозможно, чтобы происшествие, взволновавшее весь город, осталось тайной для Клавдия.
— Что это значит? — спросил он императрицу. — Меня уверяют, что вы намерены выйти за муж за Гая Силлия?
У Мессалины был уже приготовлен ответ.
— Ваше величество не обманули, — подтвердила она. — Необходимо, чтоб при вашей жизни вся империя была уверена, что я поступаю так, как будто бы вы лежали в гробнице.
— А почему нужно чтобы все были в этом уверены?
— Потому что мне было открыто невидимым голосом, что предатели злоумышляют погубить вас. Они хотят похитить у вас власть. Но я бодрствую, и я, привлекая на себя и на одного из ваших врагов всю тяжесть общественного негодования, я отвращаю опасность от вашей священной особы. Вот мой брачный контракт с Силлием… Подпишите его, дабы, когда настанет время сбросить притворство, я могла бы доказать, чтo действовала с вашего соизволения.
Клавдий подписал. Он подписал брачный контракт своей жены с Силлием. Подумайте: невидимый голос говорил об этом! Мессалина играла эту опасную комедию из повиновения богам, для того, чтоб спасти Клавдия! — При таких условиях слюнявый идиот обеими руками подписал бы приказания о своей смерти, если бы ему это предложила Мессалина.
На другой день, пользуясь отсутствием императора, которого заботы о жертвоприношении призывали в Остию за пять лье от Рима, Мессалина праздновала свею свадьбу со всеми обычными церемониями. Вкусила ли она в объятиях прекраснейшего римлянина, все то счастье. о котором мечтала? Нам желательно думать, что по крайней мере в эту первую брачную ночь, коронованная куртизанка не покидала брачного ложа, ради подражателя соловью.
Мессалина при совершении своего цинического преступления забыла только одно, что если Клавдий был настолько глуп, чтоб простить ее, за то близ него были умные люди, которые могли не извинить ей.

«Мессалина Соблазняющая»
С картины Павла Сведомского
К числу этих людей принадлежал Нарцисс, прежний любовник Мессалины. Пока Мессалина предавалась распутству и выставляла в смешном виде своего слишком добродушного супруга, Нарцисс улыбался, даже более, не раз он официально помогал в прихотях своей любезной подруги. Он, как мы видели, по воле императора отдал в полное ее владение фигляра Мнестера, в которого она влюбилась. В другой раз он приказал начальнику ночной стражи, Децию Кальпурнию, совершенно закрыть глаза если ночью ему случиться встретить на улице некую Лизиску, имевшую некоторое сходство с Августой.
Но вот, вместо того, чтоб спокойно заниматься любовными похождениями, Мессалина вмешивается в политику. Нарцисс не был обманут божественными голосами. У него в мизинце был свой Гай Силлий, и к тому же он, был честолюбив. У Силлия была цель, потому что он рисковала всем. А если, случайно, он выиграет партию, то кто поручится ему, Нарциссу, что умница Гай Силлий, став Цезарем, будет для него тем же, чем был глупец Клавдий?
Кроме того Нарцисс имел важную причину быть недовольным Мессалиной. Несколько месяцев тому назад эта последняя, имея причины жаловаться на одного отпущенника, грека Полибия, без совещания с ним, Нарциссом, выпросила у императора его голову. Пусть она умертвит двадцать сенаторов, сотню всадников, — все это прекрасно!.. Но отпущенника!.. Нарцисс был сердит на Мессалину.
Вот почему именно, рассмотрев с одним из своих друзей, — таким же отпущенником, как он, — Калистом, обстоятельства дела, было решено, что если ни советы, ни угрозы, не излечат Мессалину от безумной страсти, то он предоставит ей до конца опозориться. Дабы вернее одним ударом поразить ее. Каждый час являлись в Остию шпионы доносить об успехах происшествия в Риме.
Он дал время совершиться свадьбе.
Великодушный в ненависти, он не расстроил ни пира, ни брачной ночи… Но на утро он начал свои неприятельские действия.
Клавдий не делал шагу без толпы куртизанок. Среди этих гетер были две, которым он оказывал предпочтение; то были две великолепных женщины, привезенные торговцем невольниками из Александрии, которые будучи проданы одному ловкому господину, были источником его состояния. Во всякое время дня и ночи, в городе и за городом Кальпурния и Клеопатра имели свободный вход в покои Цезаря.
Цезарь опоражнивал стакан меду, когда прекрасные египтянки, по приказанию Нарцисса, явились в слезах перед императора:
— Что это значит? — вскричал он, более беспокоясь о самом себе, чем о них. — Не горит ли дворец?..
— О! если б только дворец! — возразила Кальпурния.
— Вашей империи, вашему величеству угрожает пожар!.. — ответила Клеопатра.
— Империи!.. мне!.. пожар!..
Клавдий решительно ничего не понимал. Утром, храбрый император, вообще не обладавший ясным рассудком, с трудом отличал правую ногу от левой.
— Посмотрим! посмотрим! — возразил он. — Объяснитесь, мои деточки, без метафор.
Клеопатра и Кальпурния пали на колена.
— Так как, Цезарь, ты приказываешь, то узнай все! — сказала Кальпурния, продолжая изображать безнадежность, смешанную с ужасом, — Презирая божеские и человеческие законы, императрица совершила одно из самых гнусных дел! Вчера она вышла замуж за одного из своих любовников.
— За консула Гая Силлия, — добавила Клеопатра.
— Замуж? моя жена? — воскликнул Клавдий; и припомнив недавнее происшествие, продолжал: — Ах да! знаю! Третьего дня она мне говорила об этом! Но это брак вымышленный… он должен уничтожить замыслы моих врагов…
— Вымышленный брак! — возразила Клеопатра. — Мессалина обманула твое доверие, Цезарь! Она в настоящий час уже обвенчана с Силлием.
— С Силлием, — подтвердила Кальпурния, — которой осмеливается повсюду объявлять, что отнимет у тебя скипетр, как отнял жену… под самым носом…
Клавдий уже не смеялся.
В эту минуту вошел Нарцисс, взволнованный, с искаженным лицом…
— Что ты мне скажешь! — вскричал Клавдий. — Мессалина!..
— Мессалина более не принадлежит тебе, государь, — отвечал Нарцисс. — Она жена Гая Силлия. И твой наглый и дерзновенный соперник не только взял у тебя жену, но взял также твое имущество и невольников. Мое сердце обливается кровью, советуя тебе проявить строгость, но прощение невозможно! Сенат, народ, армия видели свадьбу Силлия, и если ты не поспешишь, муж Мессалины будет властителем Рима.
Клавдий побледнел.
— Хо-хо-зяин Рима!.. Си-силий… — заикался он. Он особенно сильно заикался в припадка гнева.
— Да, — подтвердил Нарцисс, — и единственное средство спасения, для вашего величества заключается в избрании того из твоих служителей, на верность которого ты полагаешься, и в полномочии ему разъединить преступников и наказать их.
Клавдий бросился к отпущеннику и судорожно схватил его.
— Ступай же! — вскричал он. — Кто более тебя мне верен? Тебе я поручаю наказать их! Ступай! почему ты уже не возвратился!..
Была осень; наступило время созревания и сбора винограда. Алчная до всех удовольствий, после любви, Мессалина предалась вину. Ради торжества второго дня своего брака, она давала под предлогом сбора винограда праздник Бахусу, в садах своего нового мужа.
Там собралось двести или триста женщин и мужчин, — все едва, едва прикрытые конскими или леопардовыми шкурами; потрясая палками, обвитыми виноградными листами, упившиеся вином, они плясали, прыгали как демоны вокруг чана, до краев наполненного пурпурными гроздьями, оглашая воздух неистовыми криками: «Иo! Ио! Вакх! Эван! эвое!..»
Вдруг голос, как будто сошедший с неба, раздался среди неистово пляшущей толпы…
Этот голос принадлежал доктору Вектию Валенсию, старинному любовнику Мессалины, — а кто не был ее любовником! — теперь товарищу по оргии…
Без сомнения, с целью дышать свободнее, Валенсий влез на вершину сикоморы и оттуда закричал:
— Гей! гей! друзья! берегитесь!.. Я вижу со стороны Остии приближается громадная гроза!..
Гроза, когда на небе не было ни облачка! Доктору отвечали свистками.
Мессалина бросила в него свой тирс.
И снова все начали прыгать и скакать…
Но потому ли, что менее пьяный, чем его товарищи, Валенсий предугадал кровавую развязку, или случайно пьяница сделался пророком, — только не прошло еще часа с того времени, как доктор с своей обсерватории произнес зловещее предсказание, как со всех концов начали являться гонцы, извещая Мессалину и Силлия, что Клавдий, узнав обо всём, идет мстить…
При этом, громовом известии все друзья и собеседники Мессалины и Силлия, отрезвев, как бы по волшебству, исчезли.
Супруги остались одни.
Правда ли, что Клавдий, полоумный Клавдий, понял, что ему изменили и что он должен наказать?…
— Он не осмелится! — прошептала Мессалина.
— Он не осмелится! — повторил Силлий.
Тем не менее из благоразумия они расстались. Силлий отправился на Форум, где, сохраняя спокойствие, занялся делами.
Мессалина удалилась в сады Лукулла к своим детям и матери.
Но вскоре новые гонцы объявили ей, что центурионы, по приказанию императора, арестовали повсюду всех тех, которые считались ее соучастниками, — всех тех, которые присутствовали на ее свадьбе с Силлием.
Даже Силлий был взят. Мессалина затрепетала; она начала верить, что он осмелится. Что делать?
Она приказала Британику и Октавию бежать в объятия отца.
Она умолила Вибидию, самую старшую из весталок, просить милосердия у римского верховного жреца.
С своей стороны, она направилась в сопровождении од- ной только своей матери на дорогу в Остию, и, так как ее слуга и невольники оставили ее, она, за несколько часов до того обладавшая двадцатью колесницами, сочла себя очень счастливой, имея возможность сесть на грубую телегу, в которой из сада вывозились нечистоты.
В ту минуту, когда волчица, вместо того, чтоб оскалить зубы, постыдно склонила выю, — она сама произнесла свой приговор.
Нарцисс, быть может, не раз подумал бы передо тем как нанести удар августейшей особе, если б она стояла прямо…
Клавдий задрожал бы при рычании той, которая была его сообщницей. Это рычание напомнило бы ему их общие преступления и общее сладострастие. #
Но Мессалина плакала… Мессалина молила… Мессалина преклонила колена…
Удалили весталку Вибидию, которая с горькой энергией говорила, что жена не может быть казнима без защиты.
Британику и Октавию помешали приблизиться к отцу.
Чтоб усилить ярость Клавдия, Нарцисс проводил его в дом Силлия, сверху до низу наполненный драгоценными предметами, похищенными преступною женой из дворца Цезаря.
При виде этого император, сохранявший во все время своего переезда из Остии в Рим, мертвое молчание, заикаясь более, чем когда либо, приказал подать лошадь, чтоб отправиться в лагерь, где он желал сказать речь своим солдатам. И в то же время, обращаясь к Нарциссу, спросил:
— Умерла она?
Отпущенник сделал отрицательный знак.
— Чего ж ты ждешь? — быстро воскликнул Клавдий. — Не хочешь ли и ты изменить мне? Кто император, а или Силлий?
Нарцис более не колебался; в то время, когда Клавдий скакал в лагерь, он приказал центурионам и трибунам стражи убить Мессалину, так как таково было приказание цезаря.
Для большей уверенности, он поручил отпущеннику Эводу проследить за быстрым исполнением приказания.
Мессалина вернулась в сады Лукулла. Лежа на меху, положив голову на грудь матери, она предавалась бесполезному плачу.
Лепида понимала это очень хорошо; более мужественная, чем ее дочь в эту высокую минуту, она предлагала ей не ждать убийственнего железа, чтоб покончить с жизнью.
Опередив трибунов и центурионов, Эвод подошел к императрице.
— Лизиска, женщина Субуры, — вскричал он, бросая ей кинжал, — покажи нам, так ли ты умеешь умереть, как умела любить!..
Лепида вскочила при этих словах бывшего невольника.
Мессалина только рыдала сильнее…
— Дочь моя, я тебе говорила, — произнесла Лепида; — и ты должна бы была меня послушаться вместо того, чтоб выслушивать клевету этого подлеца.
Проговорив эти слова, Лепида схватила ногу Эвода.
Отпущенник бросился на обеих женщин.
Но трибун, явившийся с центурионами, оттолкнул его, сказав:
— He ты, а я и мои солдаты должны исполнить правосудие Цезаря. Оставь нас исполнить нашу обязанность.
Между тем Мессалина, обезображенная, с угрюмым взглядом, смотрела на поданный ей матерью кинжал. Нужно было — умереть. Умереть, увы! в то время, когда так хорошо жить!
Трепещущей рукой она приставляла железо то к горлу то к груди.
Но у нее не хватало сил.
Трибун почувствовал сожаление к этой ужасной агонии — он мечом поразил несчастную женщину, которая тотчас испустила дух.
Это было в 801 г. от построения Рима, в 48 г. от P. X.
В тот же день погибло сто друзей Мессалины.
Погиб Гай Силлий, ее второй муж, римские всадники, друзья Силлия, один сенатор, Сульпиций Руф, префект ночной стражи — Деций Калпурний: то была настоящая бойня. Не забыли даже Мнестера, которому не простили его прошлого… Августа сошла в ад в многочисленном обществе.
Клавдий сидел за столом, когда начальник стражи, Гета, явился донести, что правосудие совершилось.
— Имею честь уведомить ваше величество, — начал он, — что ее величество императрица…
— Ах, да! — прервал его Клавдий, — где же она? Почему она не идет обедать?
— Но, — возразил изумленный Гета, — потому что она умерла.
— Умерла!
Император с минуту размышлял, потом без всякого признака сожаления, он сказал:
— А! Она умерла!.. Налей-ка мне вина.
Хотя Клавдий имел тысячу причин не вступать в новый брак после смерти Мессалины, однако он женился в четвертый раз на племяннице своей Агриппине, тоже вдове, после Домиция Энобарба, имевшей сына Нерона.
Агриппина во всех отношениях стоила Мессалины… Клавдий узнал об этом на свою голову.
Полоумному Цезарю пришла мысль заставить трепетать новую Августу.
Однажды, во время оргии, он произнес, «что такая его судьба, чтоб переносить распутство своих жен и казнить их».
А между прочим, Агрипина вовсе не желала быть казнённой.
И к тому же ей самой хотелось поцарствовать под именем Нерона, который был еще ребёнком и которого Клавдий назначил наследником престола вместо Британика.
Императрица отравила императора.
А так как яд, приготовленный Локустой, действовал медленно, то страшась, чтоб Клавдий вследствие своей крепкой натуры не спасся от смерти, Агриппина послала за своим доктором Ксенофоном, который под видом обыкновенно принимаемого Клавдием рвотного ввел в его горло перо, смоченное в самом тонком яде…
Последними словами цезаря, которые мы считаем себя не в праве перевести, были: «Voe me! Vое me! puto, cavi mе!»
До самой смерти Клавдий и Мессалина оказались достойными друг друга.

Камея с изображением императора Клавдия
Феодора

Императрица Феодора. Мозаика. Равенна.
Феодора родилась в Константинополе в 497 году.
Константинополь, древняя Византия, основанный в 658 году до P. X. Мегарским царем Бизасом, был окрещен новым именем 11 мая 330 г. христианской эры.
Константин перенес свою столицу из Рима в Византию по той причине, что первый он находил невыносимым, вследствие всеобщего растления, которым было заражено все римское общество, в последние минуты своего существования.
Совершенно невероятно, что Константину достаточно было восьми месяцев, чтоб построить этот город. Правда, для золота все возможно, однако здания воздвигались как бы по волшебству. Для украшения Константинополя, Константин не только похитил все драгоценности Греции в Азии, но даже из Рима захватил все сокровища.
И не удовлетворяясь тем, что ограбил свое родное гнездо, он еще и ослабил его, отняв у него легионы, охранявшие его границы, и разместил их по провинциям.
Это произвело двойное зло: страна была отдана в жертву варваров, а солдаты, не бывая в сражениях, предались праздности и изнежились.
Но Константин Великий достиг своей цели. Италия погибла среди нищеты и безнадежности. Тем хуже! Как мог Рим позволить себе упрекать своего великого императора за то, что он велел умертвить своего сына Криспа из зависти к его достоинствам и свою жену Фавсту под ложным предлогом, что она присоветовала ему это убийство.
Когда Феодора, будущая императрица, родилась — Константинополь, в царствование Анастасия, прозванного Разноглазым, потому что один глаз у него был черный, а другой — голубой, — находился во всем блеска своего великолепия, — великолепия ненавистного, ибо оно было создано деспотизмом! Наследники Константина были тоже тиранами; новый Рим был только тенью древнего. В том были граждане, здесь — рабы.
Но рабы эти наслаждались. Что значило для них склонять голову перед падшими существами, носящими название людей, ставшими вследствие постыдного временщичества, самыми богатыми и могущественными личностями в Империи. Национальная гордость, любовь к отечеству были пустыми словами для этого выродившегося народа. Знаете ли, кто значил в Византии более самого императора? Возницы ипподрома, и куртизанки!..
Ганна, мать Феодоры, была проституткой самого низшего разряда; отец ее Аккаций кормил зверей в Прациниенском амфитеатре.
Феодора была третьей дочерью этой странной четы. Она еще едва лепетала, когда уже обе ее сестры, Анастасия и Комитона, служили на театре, — на театре, куда отправлялись распутники делать выбор, в котором никогда не было отказа. Естественно, что Феодора предназначалась для тех же занятий, в которых упражнялись ее мать и сестры; как только она достигла возмужалости, ее завербовали в разряд голоножек, так назывались проститутки, которые не занимались танцами и игрой на флейте, обольщая только своими обнаженными прелестями.
Феодора была мила, хотя и очень мала ростом; у ней был ум и веселость и она скоро получила большой успех. Но годы сделали раздражительным характер Ганны; часто, когда она считала вправе жаловаться на своих дочерей, то не заботясь об их красоте, составлявшей все их достояние, она жестоко их била.
Вслед за одним из припадков бестолкового гнева, которого она была жертвой, Феодора с глазами красными от слез, отправилась в театр; по дороге она встретила скомороха, халкедонца Адриана. То был высокий красивый мужчина с более мужественной и гордой осанкой, чем ему подобные. Он остановился пред молодой девушкой и сказал ей:
— Здравствуй, Феодора. Ты плакала! Кто же причиной твоих слез? Скажи мне — я отмщу за них.
Феодора наклонила голову.
— Меня избила матушка, — ответила она.
— А! — воскликнул Адриан. — Правда, говорят, что мать твоя зла. Но ты так мила: как у ней хватает духа бить тебя? Если бы я был на ее месте, я касался бы твоего прекрасного тела только устами.
Феодора улыбнулась.
— Но ты не на ее месте.
Проговорив это, она хотела продолжить свой путь. Но, удерживая за рукав ее туники, Адриан возразил вполголоса, как будто страшась, чтоб его слова не коснулись слуха прохожих:
— Феодора, ты несчастна у своей матери… И притом разве исполняемое тобою ремесло не отвратительно для тебя? Хочешь, чтоб тебе не приходилось больше плакать? Я живу близ ворот св. Римлянина, вместе со старой родственницей, в небольшом домике, скрывающемся код сенью дерев. Скажи мне слово, и ты будешь хозяйкой в этом дому. Моя тетка, Флавия, будет твоей служанкой; я — твоим рабом.
Феодора с удивлением смотрела на Адриана.
— Ты любишь меня? — спросила она.
— Больше жизни!..
Она задумалась, Из куртизанки, то есть любовницы всех сделаться любовницей одного, и кого же? Фигляра? Разве это не значило упасть?
Но этот фигляр был красив и молод. К тому же в его голосе слышалась такая нежность. В первый раз Феодора почувствовала, что у ней есть сердце.
— Что же? — прошептал Адриан.
— Я согласна, — ответила она. — Сегодня вечером вместо того, чтоб идти к матери, я приду к тебе. Но как я найду твое жилище?
— Я провожу тебя. При солнечном закате я буду ждать тебя в садах, близ терм Зевксиппа.
— И ты обещаешь так скрыть меня, что никто не откроет? О! матушка убьет меня в наказание за мое бегство. Отец посмеется над этим; он занят одними своими медведями…
— Клянусь, никто тебя не откроет? Воробей предлагает тебе свое гнездо. Кому придет на ум, что это гнездо служит убежищем голубя?..
Пoзже Феодора говорила своей приятельнице Антонине жене Велизария, что первые три месяца, проведенные ею в гнезде воробья показались ей тремя днями. Как бы низко ни упала женщина, а любовь всегда может возродить ее к новой жизни. Притом же, так как ее падение было не ее ошибкой, а зависело от воли семьи и особенно от нравов общества, Феодоре было легче искупить свое прошлое. Едва только было ей сказано: «Ты должна продавать свои поцелуи, чтобы жить,» — и она повиновалась. И как могло быть иначе? Она не понимала всей презрительности того ремесла, к которому ее приговаривали. Но вот, вместо этих слов: «Будь моею; я покупаю тебя!» она слышит: «Будь моею; я люблю тебя!» И за то, чтобы вознаградить ее за веру в любовь, небо послало ей истинную любовь…
То было правосудие!..
Феодора была счастлива, когда три месяца скрывалась в объятиях своего любовника, в маленьком домике у ворот св. Римлянина. Адриан удалялся только тогда, когда этого требовали его обязанности, всё остальное время он посвящал своей возлюбленной, стараясь обогатить ее ум теми познаниями, которыми обладал он сам, ибо, опять-таки Адриан не был обыкновенным фигляром, шутом, паяцем: он получил образование и даже писал небольшие пьесы для театра.
Он выучил Феодору читать и писать. Это послужило ей на пользу, когда она сделалась императрицей.
Но как ни была она счастлива, она очень подурнела. День ото дня розы на лице ее бледнели; день ото дня лицо ее делалось худощавее, тогда как по странному контрасту талия ее делалась полнее.
При начала четвертого месяца своего пребывания у Адриана, однажды утром, оставшись одна с Флавией, она не без беспокойства рассматривала в зеркале изменение своих черт и чрезвычайное развитие форм; вдруг оказалась удивлена, услыхав за спиной взрыв хохота.
Она обернулась.
— Чему вы смеетесь? — спросила она Флавию.
— Тому, что ты ошибаешься в причине совершенно естественной вещи.
— Совершенно естественной?..
— Без сомнения. Полноте, не беспокойтесь, моя душенька! Ваша свежесть возвратится, ваша талия снова станет тонкой и грациозной. Надо только потерпеть месяцев шесть или семь.
— Шесть или семь месяцев это почему?
— Вы не понимаете? Как… вы не…
— Понимаю! — в свою очередь возразила Феодора и так сухо, что вся веселость старушки сразу пропала.
Да, она поняла, так хорошо поняла, что осталась неподвижной, со сжатыми губами, с устремленным куда-то взглядом. То, что составляет радость супруги, для куртизанки составляет ужас, и куртизанка вдруг проснулась в Феодоре. Она была беременна! беременна!..
Если уже зарождение ребенка так повредило ее красоте, то что станется с нею, когда она будет еще носить этого ребенка шесть или семь месяцев? Что станется с нею, когда она произведет его на свет? Что бы ни говорила Флавия, у Феодоры на этот счет было свое убеждение, если и основанное не на своем опыте, то по крайней мере добытое ею от своих подруг по театру: «быть матерью, всегда чего-нибудь стоит».
Вошел Адриан.
— Что с тобой? — спросил он, при виде бледной и мрачной Феодоры?
Она вздрогнула при виде своего любовника, и сдержала себя.
— Будешь ли ты любить своего сына или дочь, Адриан?.. — спросила она.
Он испустил крик счастья.
— Возможно ли! — воскликнул он. — Ты спрашиваешь меня буду ли я любить моего… нашего ребенка?.. Столько же, как тебя… Ты сомневаешься?
— Нет! — ответила она.
Несчастная желала бы сомневаться; она потребовала бы от него величайшего преступления: избавить ее от материнской ноши.
На щеке ее повисла слеза ярости, стертая Адрианом как слеза радости поцелуем. Бедный Адриан! Тогда как его страсть усиливалась от того, что он считал новой связью с его возлюбленной, она, напротив, содрогалась от этого и чувствовала, что любовь к нему превращалась в глухое отвращение.
Мы говорили, что любовь перерождает самых испорченных женщин; но это нравственное перерождение длится только до тех пор, пока эта женщина расположена к нему своими инстинктами. Возвратите к жизни голодную больную собаку, она за ваши заботы отдаст вам всю свою привязанность; при тех же условиях волк, как бы вы за ним не ухаживали, убежит в лес, и вы будете еще счастливы, если, покидая вас, он не познакомит вас с своими зубами.
Есть много женщин — волчиц; Феодора была одною из этих женщин. Однако, во все время беременности она не выражала своих новых чувств. Она по прежнему была любезна с Адрианом, улыбалась когда он говорил об их ребенка, когда он с любовью шутил над увеличивающейся полнотой ее талий.
— К тебе это очень идет! — говорил он.
— Ты находишь? — возражала она.
Адргаш не был наблюдателен, иначе он ужаснулся бы того огненного взгляда, которым сопровождалась поздравления его любовницы.
За нисколько дней до родов, Феодора узнала от тетки Адриана, что ее мать, Ганна умерла. Флавия считала себя обязанной передать эту новость молодой девушке.
Феодора не пролила ни слезинки, когда узнала, что ее мать перестала существовать. Ей пришла зато в голову успокоительная мысль: «Она больше не будет меня бить!»
Жнут то, что посеют.
Конец беременности наступил в апрельские календы, 15-го числа этого месяца 515 года она родила сына. Опытная бабка, старая Флавия, присутствовала при родах; она первая взяла на руки маленького Иоанна…
Для кормления ребенка была заранее куплена коза.
У Флавии было как будто предчувствие, когда она подала Феодоре ее сына. Обыкновенно в подобном случае взгляд матери освещается бесконечной радостью. Взгляд Феодоры выражал только ужас, почти отвращение…
— Вы не поцелуете его? — прошептала старушка.
— После, после! — нетерпеливо отвечала родильница.
— Оставьте, тетушка, — сказал Адриан. — Наша Феодора, быть может, страдает… Не беспокойте ее.
И он поцеловал своего сына за двоих.
Через две недели, совершенно поправившаяся после родов, Феодора, сидя за своим туалетом, с восторгом убедилась, что старая Флавия не обманула ее обещанием совершенного восстановления ее красоты.
Да она была прекрасна; прекраснее чем прежде. Ее прелести не только не пострадали, а напротив выиграли в своем развитии. Кожа ее имела более блеска; её формы, не утратив нежности, стали полнее…
Окно комнаты, в которой она одевалась, выходило в сад. В этом саду посреди зеленого луга, ребенок под надзором Флавии, пил жизнь из сосцов своей рогатой кормилицы.
Адриан, сидя в некотором отдалении, е умилением смотрел на эту картину.
— Феодора! — весело вскричал он. — Феодора! взгляни: он сердится! — И в самом деле, без сомнения, недовольный тем, что она позволила себе быстрым движением прервать его завтрак, своими крохотными ручонками мальчуган бил козу. — Мы и родимся-то неблагодарными.
Феодора не пошевельнулась; в эту минуту она причесывалась. Ея черные волосы восхитительно разделенные на две половины, возвышались и удерживались золотой шпилькой. Только окончив это занятие, и окончив тщательнее обыкновенного, она наклонилась в окно, но для того, чтоб знаком позвать своего любовника.
Он прибежал.
— Ты хочешь что то сказать мне?
— Да.
— Что же?
— Я хочу сказать, что я ухожу.
— Как! Ты уходишь?
— Да, ухожу… Я оставляю тебя. Мне кажется, я -выражаюсь понятно. Я не люблю тебя больше, Адриан, и оставляю.
Она подала ему руку; он не взял ее. Он был уничтожен, разбит!..
И было от чего.
— Так будет! — продолжала она, сопровождая эти слова жестом, который выражал: «я не задерживаю тебя.»
И она прошла мимо.
Но Андриан пришел в себя; он бросился между любовницей и дверью и вскричал:
— Это невозможно! Это сон! Ты покидаешь меня, Феодора? Ты меня больше не любишь, говоришь ты? За что же ты разлюбила меня?
Она пожала плечами.
— Наконец. продолжал он, задыхающимся голо- сом, — должна же быть какая-нибудь причина разлуки. Что я тебе сделал?.. Несчастлива ты здесь? Не причинил ли я тебе невольно какой-нибудь печали? Ах! Я сошел с ума!.. Ты смеешься, Феодора!.. Тебе покинуть меня! Я не верю тебе!.. А наш ребенок!.. ведь ты не рассчитываешь же, что я отдам тебе нашего ребенка!.. Он также принадлежит мне, как и тебе!..
— Он принадлежит одним вам!
— Что ты сказала?
— Я говорю, что отдаю вам нашего ребенка… Что вам еще от меня нужно?
Адриан стоял перед Феодорой, с лицом искаженным горем. При последних словах своей возлюбленной, он отступил на шаг; в его глазах высохли слезы.
— А! — сказал он. — Вам не нужно вашего ребенка!
— Нет, — ответила она. — И так как следует вам сказать все, потому что вы не понимаете, — этот ребенок и есть причина того, почему я вас теперь ненавижу… он же — причина того, что я возненавидела вас с той самой минуты, как он зародился в моих внутренностях!.. Разве я создана для того, чтоб быть матерью? Когда вы говорили мне о любви, разве вы говорили мне о детях? Всякому свое назначение. Мое — нравиться.
— Да, — медленно подтвердил Адриан, — нравиться… и умереть в грязи…
Феодора подняла свое чело, покрытое яркой краской.
— Ты мог осмелиться оскорбить меня, фигляр! — сказала она. — Но если я должна умереть в грязи, в чем я жила с тобой? Пусти!
— О! я больше вас не удерживаю, — сказал Адриан.
Он отошел от двери. Феодора твердым шагом прошла через сад и вышла, не кинув в последний раз взгляда на своего ребенка.
Она прямо направилась к родительскому дому.
Но вот уже нисколько месяцев Аккаций пребывал не на земле, а под землею. Один из его воспитанников, белый медведь, привезенный недавно, умертвил его.
Смерть отца на пять минут огорчила Феодору. Правда, он ни разу не поцеловал ее, но также ни разу он ее и не ударил.
Оставались сестры.
Но Анастасия и Комитона не любили Феодору, которая была гораздо моложе и красивее их; они, по-видимому, не очень обрадовались её появлению.
— Будьте спокойны! — сказала им Феодора, которая не обольщала себя на этот случай. — Я рассчитываю остаться у вас не на долго.
Случай исполнил её надежду.
Когда три сестры-куртизанки, собравшись на галерее толковали о смерти их отца, — надо же о чем-нибудь толковать! — некто Гецебол, правитель части малой Азии, явился к ним. Готовясь оставить Константинополь, куда он был призван для отдачи отчета императору, Гецебол хотел выбрать себе по вкусу любовницу. Кажется, в его наместничестве таких вещей недостовало. Накануне, в цирке, он заметил Анастасию и явился сделать ей предложение проследовать за ним в Никею.
По всему вероятию Анастасия охотно согласилась бы на желание Гецебола, если б он его выразил… Но он не выразил его, и вот почему.
Когда предшествуемый целой толпой слуг и невольников, он проник в галерею, в которой блистали Анастасиея, Комитона и Феодора, то отыскивая глазами ту, которая вчера его пленила, он довольно сильно стукнулся коленом об ящик, стоявший по средине комнаты, из чего произошло, что не поддержи его во время один из слуг, то хотя он и был правителем четырех провинций, ему пришлось бы, как простому смертному хлопнуться.
Восклицание ужаса и взрыв смеха приветствовали этот странный вход.
Восклицание ужаса принадлежало Анастасии и Комитоне, смех — Феодоре.
Несколько смущенный своим приключением, Гецебол тотчас пришел в себя. Между тем, в качестве вельможи, и так как он был очень тщеславен, он почувствовал себя оскорбленным смехом женщины, и направившись с распущенным хохлом, подобно индийскому петуху, к младшей дочери Ганны, он, задыхаясь, сказал.
— Ты знаешь, кто я?
— Если б ты был сам император, — ответила Феодора, — все-таки ты расквасил бы себе нос, а я бы не меньше смеялась. Разве смех, по-твоему, — преступление.
Гецебол закусил губы. Сердиться ему или не сердиться? Эта куртизанка была очень дерзка, но в тоже время, — прелестна!.. Во сто раз прелестнее Анастасии.
— У тебя веселый характер, моя милая! Как тебя зовут?
— Феодора.
— Ну, Феодора, по моему мнению, — смех не преступление; напротив, я сам очень люблю веселых людей. Я их так сильно люблю, что если ты согласна, я возьму тебя с собою во Фригию.
— Вы берете меня с собой? Но мне также необходимо, в свою очередь, узнать кто ты, чтоб размыслить, ехать ли с тобою.
— Это справедливо. Меня зовут Гецеболом. Я правитель Фригии, Битимии, Лидии и Эонии. Я живу во дворце в Никее, и имею другой.
— А я где буду жить?
— В моих дворцах, вместе со мною, моя милая!..
Феодора подумала с минуту. Гецебол был не молод и не красив, не смотря на свой парик с длинными темно-русыми локонами.
Но он был правителем Фригии, Битинии, Лидии и Эонии.
Но он обладал дворцами.
Кроме того его предложение вызвало жалостную гримасу у Комитоны и Анастасии, главное — у Анастасш, которая видела, как добыча проскользнула у ней между пальцев.
И если приятно для женщины уязвить соперницу, то еще приятнее, когда эта соперница — родная сестра.
— Едем! — сказала Феодора.
— Едем! — повторил обрадованный Гецебол.
В тот же вечер, новая чета, отправившись из Бoсфopa, направилась в Никомидийский залив; на другой день они вышли на берег в Битинии и следуя по Римской дороге, достигли берегов Сангария, где позже император Юстиниан построил мост, бывши! чудом века, — мост Софона.
Но Феодора не подозревала тогда, что она возвратится в эту страну вместе с императором, своим супругом. В этот час, рядом с любовником, в тележке, везомой мулами и сопровождаемой солдатами и невольниками, побежденная жаром, она, подобно этому любовнику, засыпала. Она не спала; она была погружена в дремоту и с полузакрытыми глазами строила план поведения. Она согласилась быть любовницей Гецебола; но в глубине души радовалась ли она этому? Нет. Молодая и хорошенькая женщина никогда не радуется тому, что принадлежит старику.
Сквозь сеть своих ресниц, рассматривая морщинистое, дряблое лицо наместника, она невольно припоминала прекрасную голову Адриана. «Как, говорила она самой себе, — я буду вынуждена выносить ласки этой старой обезьяны! принуждена притворяться, что люблю его! Притворяться? — да. С виду я буду его любовницей, но на самом деле… Мы посмотрим.
Феодора достигла Никеи в не очень благоприятном для Гецебола расположении духа. Тем не менее должно полагать, что из самого расчета, она нашла полезным отказаться от своей сосредоточенной суровости, ибо вскоре, ослепленный её благодарной нежностью, старик облек свою любовницу безграничным могуществом. Она злоупотребляла им. Бросая золото горстями, она каждую неделю давала праздник или во дворце, или в театре. Каждый день она покупала новые наряды; её ящики были наполнены материями Персии и Китая, её ларчики — драгоценными каменьями, её конюшни — кровными лошадьми, её портики — невольниками. Чтоб удовлетворить прихотям своей любовницы Гецебол опустошил свои ларцы, затем ограбил жителей вверенных ему провинций, на которых наложил чрезвычайные налоги. Сначала начался ропот, потом раздались крики… Правитель мало заботился об этих криках, лишь бы платили… Но шум достиг Константинополя; император отправил в Никею консула, Кефегия с поручением проучить Гецебола и при случае и наказать.
Кефегий был добряк, имевший некоторую привязанность к Гецеболу, с которым он некогда победил болгар; он нашел его за столом с Феодорой…
— Кефегий! — вскричал Гецебол. — Какой ветер занес вас? Полагаю, вы не обедали? Рабы, скорее прибор его светлости…
— Извините, дорогой друг, — возразил Кефегий, — я с удовольствием сейчас пообедаю с вами; но прежде я должен бы сказать вам наедине несколько слов.
— Наедине?..
— Да, по повелению его величества императора.
Гецебол побледнел.
— Феодора, мы сейчас к тебе придем, — сказал он, вставая.
И немедленно он увел Кефегия. Тот не замедлил с объяснением дела.
— Дорогой Гецебол, — начал он, — его величество не доволен вами.
— О!
— Позвольте! Между нами, его милость имеет серьезные причины быть недовольным. Вы разоряете страну для увеселения женщины…
— Но…
— Но, опять таки между нами, вам известно, мой уважаемый друг, что Анастасий, который сама доброта, когда ему подчиняются, становится свирепым, если заметит, что ему сопротивляются. Итак, выбирайте, я имею полномочия: или вы прогоните немедленно эту женщину…
— Прогнать Феодору? Никогда!..
— Позвольте мне продолжать, прошу вас. Или вы немедленно прогоните вашу любовницу… и ваши… глупости будут забыты… или приготовьтесь умереть…
— Умереть?
— Умереть сегодня же. Прочтите этот пергамент. В нём сказано: Приказ повиноваться консулу Кефегию, как самому мне, — подписал Октавий, с приложением его печати. Полноте, Гецебол, вы не заставите старого товарища прибегнуть относительно вас к жестоким крайностям. И согласитесь, что простое подобие сопротивления было бы новым безумством с вашей стороны. Вы поймете, что я принял свои предосторожности. Я взял с собою нескольких гуляк, которые позаботятся о ваших фригийских солдатах не больше, чем о мухах… Взгляните!..
Из открытого окна консул показал правителю сотню сагонтинских солдат, построенных как на битву перед его дворцом.
Внезапная борьба поднялась в его душе. Как? За свою безумную страсть к женщине, он должен умереть? Но что особенного в этой женщине, чего бы не было в другой?.. Ничего!..
— Вы правы, Кефегий, — сказал он, — я был безумен… Но я излечился и докажу вам… Пойдемте!
И, войдя под руку со своим другом в залу, где Феодора, сидя на кресле из черного дерева, спокойно продолжала обедать.
— Презренная! — вскричал старик громовым голосом, протягивая руку по направлению к своей любовнице. — Презренная! сию минуту вон из этого дворца, в который ты никогда не должна бы входить! Я тебя прогоняю? Слышишь ли? прогоняю!.. И чтоб завтра же тебя не было в этой стране, которую ты разорила своим недостойным мотовством, или, так же верно, что я называюсь Гецеболом, и что люблю и уважаю нашего великодушного императора, могущественного Анастасия, я тебя заставлю погибнуть под плетьми.
Феодора встала в то время, когда правитель обратился к ней с этой обвинительной речью, но встала не спеша и без всякого смущения. Если б не легкий румянец на щеках и почти незаметное дрожание губ, — сказали бы, что это ругательство, такое грубое по форме, было принято ею за любезность.
Также хладнокровно она дошла до двери, которую отворил пред нею один из служителей, в последний раз служивший ей. На пороге этой двери, обернувшись, она окинула старика презрительным взглядомъ:
— Подлец! — сказала она.
Гецебол задрожал… Он хотел говорить… Его язык прилип к гортани…
— Оставьте, — сказал Кефегий, — великодушно поспешив на помощь своему другу, — разве вы не знаете, что такое гнев женщины!
— Подлец! — повторила Феодора.
И она вышла.
Вечером она покинула Никею.
То было справедливое возмездие! Феодора постыдно оставила молодого и прекрасного любовника; старый и гадкий любовник постыдно прогнал ее. Она не стоила того, чтоб жалеть ее.
Что сталось с ней после того, как она оставила Фригию? Мы не могли открыть, не смотря на все наши розыски. С 517 года — эпохи, в которую она была любовницей Гецебола, до 528-го года — начала сношений с Юстинианом, — история молчит о Феодоре. В каких различных странах в течение девяти лет раскидывала она свой шатер куртизанки? Мы не знаем, но можем сказать, что она умела избирать себе жилища, ибо когда в 525 году, мы встречаем ее в Константинополе, на ипподроме Феодосия, ее одежды были усыпаны бриллиантами.
Прокопий, греческий историк, её современник, рассказывает, что когда она появилась на ипподроме, — вся толпа испустила крик восторга.
В 525 году на Востоке царствовал уже не Анастасий; тот уже умер; ему наследовал Иустин Первый.
У Иустина был племянник Юстиниан, которого он любил как сына, которого он осыпал почестями и богатством, с которым он советовался обо всем, что касалось управления государством, — так что в последние годы его царствования, не он, а его племянник был настоящим императором. Этот Юстиниан присутствовал на ристалище на ипподроме Феодосия, в тот день, о котором мы говорим; как все прочие и он видел Феодору; как все и он нашел ее удивительно прекрасною.
Но как ни было сильно впечатление произведенное на него куртизанкой, оно, без сомнения, вскоре исчезло бы, если б не одно необыкновенное и неожиданное происшествие… Прошло уже около получаса, как Феодора сидела против императорской ложи на первой скамье: первый забег уже кончился, не произведя большего интереса; готовился второй, заранее приветствуемый народом; на этот раз готовилась произойти борьба между двумя соперниками, одинаково искусными, одинаково известными: Красными и Белыми. На этот раз Феодора наклонилась со вниманием. Въехали восемь колесниц. Тридцать две лошади, пущенные своими возницами, еще возбужденные звуком труб и цимбалов подняли в воздухе целую тучу песку, посыпанного голубой и пурпуровой пудрой. В дни великих торжеств арена ипподрома румянилась, как кокетка.
Феодора встала совершенно прямо, как будто наэлектризованная зрелищем.
— За Красных! — вскричала она в ту минуту, когда восемь колесниц неслись мимо нее, и в тоже время она сняла с своей шеи роскошное рубиновое колье и бросила его на арену.
Красные выиграли. Красный возница первый достиг цели. Победитель возвращался к тому месту, на котором лежало колье; он соскочил на землю, поднял драгоценность, поднес сначала к своим губам, лишь том, наклонившись, не без достоинства, сказал:
— Благодарность красоте!
Раздался гром рукоплесканий в честь Феодоры и возницы.
Этим еще не кончилось. Всегда, во всех странах, толпа склонна к преувеличению. Колье Феодоры стоило от двух до трех сот золотых су; повсюду, особенно на ипподроме, повторяли, что оно стоит от пяти до шести тысяч. Королевский подарок!
Случайно или с намерением, но удар был нанесен.
— Лентилий, — сказал Юстиниан одному из своих товарищей, римскому всаднику, который исполнял при нем, вследствие тесной дружбы, обязанности любезного любовника, — ты узнаешь, кто эта женщина, такая прекрасная, так великолепно бросающая бриллианты возницам.
Лентилий наклонился. Для него слушать — значило повиноваться. В тот же вечер он привел Феодору к Юстиниану в императорский дворец.
Через шесть месяцев, Юстиниан просил своего дядю уничтожить древний закон, запрещавши сенатору жениться на актрисе или проститутке, чтоб жениться на Феодоре.
И так как сам он был женат на наложнице — Евфимии невольнице, — то, чтоб сделать приятное племяннику Иустин одним росчерком пера уничтожил благородный и уважаемый закон.
Каким образом, в шесть месяцев Феодора достигла того, что принудила Юстиниана не то что возвысить ее до себя, но унизиться до нее? Открытие этой тайны для нас недоступно.
Однако, должно сказать, что не одним только поощрением его чувственности прежняя любовница Адриана достигла господства над Юстинианом. Он был слишком силен, чтоб подчиниться такому грубому влиянию. Влюбленная и прекрасная и только прекрасная и влюбленная, Феодора никогда не сделалась бы его женой. Но она была умна; она умела читать в его душе, и прочитав, имела на столько таланта, что стала его поверенной и советницей.
Нельзя вообразить, какое могущество заключается в двух существах разных полов, соединенных любовью и гордостью. Юстиниан мечтал о троне и имел надежду получить его после дяди; между тем народ и армия не скрывали своей симпатии к Виталию, внуку знаменитого полководца Аскара, самому бывшему знаменитым военачальником. Виталий был препятствием для Юстиниана; и поэтому Юстиниан ненавидеть его и не скрывал этого.
— Показывать своему врагу, что ненавидишь его, — - ошибка! — говорила Феодора Юстиниану, — громадная ошибка, предупреждающая о том, чтоб остерегаться врага, а если он на столько глуп, что не остережется, и с ним случайно произойдет несчастье, то общественное мнение обвинит вас. Позволите ли вы мне, мой друг, восстановить приличный порядок вещей?
— Делайте! — ответил Юстиниан.
Этот разговор произошел немного ранее свадьбы Феодоры и Юстиниана. На другой день брака на большой обед у императора был приглашен Виталий. Феодора употребила столько любезности, столько грации, что полководец был восхищен. То было честное и правдивое сердце; жена ему улыбалась; сам муж казалось сознал несправедливость своей вражды; он позволил вести себя по покатости, по которой его вели. Через несколько дней он был принят Юстинианом; в течение месяца трое новых друзей не раздавались.
Но однажды вечером, после прогулки по морю, во время которой Феодора и Юстиниан необыкновенно ласкали его, Виталий был изменнически поражен в спину убийцей, оставшимся неизвестным.
Какое несчастье! этот добрый Виталий!.. Феодора и Юстиниан не имели достаточно слез, узнав эту гибельную новость.
То были крокодиловы слезы, которыми народ не был обманут. Но Иустин признал их невинными. Старый император слабел с каждым днем. В 526 году, Антиохия была почти совершенно разрушена землетрясением, Иустин был настолько огорчен этим несчастьем, что надел вретище и заперся на три месяца в своем дворце, чтобы рыдать и молиться.
На следующий год, в апрельские календы, с согласия сената, он сделал своего племянника Цезарем и соправителем.
Четыре месяца позже, — в августовские календы 527 г. — соправитель царствовал один. Иустин более не существовал.
Прежде, чем обратимся к частной жизни Феодоры, императрицы, мы быстро набросаем очерки её главных поступков.
Для куртизанки Феодора недурно играла роль императрицы, в политическом отношении.
Умирая, Иустин оставил греческую империю, слабые останки римского могущества, в самом жалком состоянии. Со всех сторон ей угрожали враги: вандалы в Африке, персы в Азии, готы в Италии. Вскоре Константинополь, а с ним вместе вся империя должна была сделаться добычей варваров.
По совету Феодоры, первой заботой Юстиниана было поставить в главе войска одного из прежних своих стражей, сделавшегося впоследствии одним из его офицеров, подобно ему, рожденного в хижине, во Фракии. Этого офицера звали Велисарием; он был величественного роста; сила его равнялась его мужеству; ум его был жив; взгляд верен и быстр. То была трудная задача, которую возложил на него Юстиниан: сохранить восточную и западную империи. Велисарий показал себя достойным этого назначения.
Победы Велисария были бесчисленны и блестящи: он несколько раз разбивал персов в Сирии, вандалов в Африке, царя которых привел пленником в Константинополь. В Италии он победил готов, и прислал ключи от Рима византийскому императору.
Велисарий одержал столько же побед, сколько давал сражений. С 527 г. когда Юстиниан вступил на трон, до 558 года, т. е. в течение тридцать одного года ни сердце, ни рука Велисария не ослабевали.
Велисарий, по истине, был провидением Юстиниана и Феодоры и они были бы должны вознаградить его по царски за столько великих услуг. Но… мы дальше будем говорить о том, как он был вознагражден.
В этой главе мы упомянем о тех громадных работах, которые но совету его жены и по примеру Константина были исполнены Юстинианом.
«Не было ни одной провинции, — говорит Прокопий, — в которой бы он не построил города, крепости или, до крайней мере, дворца».
Таким образом на том месте, где был храм, посвященный Константином Божественной мудрости, уничтоженный пожаром, Юстиниан построил храм Св. Софии, для украшения которого он приказал забрать все самое драгоценное из древних языческих храмов.
Та же Феодора, после того как вступила на императорский трон, выказывая великую любовь к религии, заставила Юстиниана обессмертить его имя благочестивыми постройками; и она же, мечтая об его славе, посоветовала ему привести в порядок законы, которые известны до настоящего времени, под именем Юстинианова кодекса и послужили источником для многих европейских законодательств. Теперь, когда мы сказали о сделанном Феодорой добре, нам еще остается сказать о том, что она сделала злого. Увы! этот рассказ будет длиннее первого.
Да, из гордости Феодора желала, чтоб государь, с которым она разделяла трон, был величайшим государем во всем мире и с этой целью она призывала его к великим деяниям.
Но, странная аномалия! — Человек имя которого она желала прославить во всей Вселенной, — этого человека она, его жена, не боялась бесчестить, каждый день предаваясь самому возмутительному бесчинству.
Юстиниан и Феодора
Знал ли Юстиниан о развратном поведении Феодоры? Как же он мог не знать об этом? Феодора центром своего распутства избрала самый императорский дворец. Опять-таки то было в нравах той эпохи; Юстиниан был человек той эпохи: он видел и избегать видеть. К тому же, быть может, он говорил самому себе, что разумнее не возмущаться тем злом, которое впервые произведено не нами. Он заведомо знал, что женился на куртизанке. Мог ли он требовать, чтоб эта куртизанка, под пурпуром, отказалась от своих наклонностей, вкуса, инстинктов?
У Феодоры были три подруги в наслаждениях: Клизотала, Изидора и Македония, но самым дорогим её другом была Антонина, жена Велисария, ибо Велисарий также был женат на куртизанке. Что сделал господин, то и слуге его дозволительно сделать.
Подобно Феодоре, Антонина бывала иногда в театре одной из застольниц проституционного портика. Однажды, возвратясь из путешествия, Велисарий пришел в ярость при рассказе о некоторых приключениях, в которых Антонина была героиней и его первым движением было бросить ее в тюрьму. Но такая строгость была вовсе не в расчете Феодоры; ей не нравилось, что полководец давал пример императору, наказывая жену легкого поведения. Императрица призвала Велиcapия и пригласила его немедленно примириться с Антониной. Велисарий повиновался, во-первых, потому что, не смотря на её ветреность, он обожал свою жену; во вторых, она была для него великой помощью у императрицы в том случае, когда император, чувствовал потребность отплатить неблагодарностью за его услуги.
Да, Феодора полновластно царила над Императором! И несчастие тому, кто омрачал это могущество! Вот один из тысячи примеров:
По возвращении из одного путешествия в Лидию императрица встретила во дворце, в качестве секретаря, молодого римлянина, по имени Корнелий, которым Юстиниан был, по-видимому, очарован.
— Этот Корнелий прелестен! — повторял каждую минуту Юстиниан. — Он мил, образован, умен, любезен! Благодаря ему, каюсь, дорогая Феодора, я почти позабыл о вашем отсутствии.
— Право? — возразила императрица — Я в восхищении от того, что ваше величество мне открыли! Корнелий нравится вам, и без сомнения и нам понравится.
Лучезарный Корнелий поклонился. Он не сомневался в своем счастье. Государь и государыня одинаково удостаивали его вниманием.
Но вечером, когда он прогуливался в садах, его нечаянно окружила стража и потребовала, чтоб он следовал за нею. И так как Корнелий отказывался, так как он сопротивлялся, стража схватила его, связала и унесла неизвестно куда.
На другой день, в тот час когда Юстиниан имел обыкновение работать с Корнелием, он был удивлен, не видя своего секретаря. Он приказывал отыскать его, когда вошла Феодора,
— Совершенно бесполезно отыскивать Корнелия, — холодно сказала она, — его не найдут.
— Почему? — спросил император.
— Потому что он в тюрьме.
— Полно! Что такое он сделал, чтоб быть заключенным в тюрьму?
Феодора улыбнулась своей нехорошей улыбкой, и наклоняясь к императору, сказала ему:
— Я не люблю тех, которые заставляют позабывать меня.
Император тихо пожал плечами.
— Ревнивица! — сказал он.
И больше ничего. Никогда более не было между супругами разговора о прелестном Kopнелии.
Феодора была неумолима и свой ненависти, — а не много было нужно, чтоб заслужить ее; — однако, смотря по степени, она выражала ее различными способами.
Она приказала устроить под землей, в основании своего летнего дворца, темницы в который никогда не проникал луч света.
Там-то люди, которые стесняли ее или просто ей не нравились, отправлялись на тот свет.
Там-то Корнелий, — этот тростник, осмелившийся бороться с дубом, — страдал и умер.
Тех же, на которых она имела право жаловаться, — тех умерщвляли тотчас же.
Орудие этих сокращенных экзекуций звали Андрамитисом. То был черный евнух, колоссального роста и весьма благообразный. Феодора привезла его в одно из своих таинственных странствований. В Константинополе говорили потихоньку, что то был демон, которого она купила у одного египетского мага. Во всяком случай Андрамитис любил только Феодору и повиновался только ей. Даже сам император не имел власти заставить сделать Андрамитиса одно движение, если императрица не позволяла ему.
Этот Андрамитис одним ударом убил Виталия. Он всегда наносил только один удар и не спереди как лев, а сзади как тигр, — тот же Андрамитис через нисколько недель по возвращении Феодоры в свой родной город освободил ее от одного воспоминания в белокуром парике. Персы напали в то время на Бити-нию; бежав от персов, Гецебол отправился в Константинополь, на площади Константинополя носилки экс-наместника встретились с носилками Феодоры. У знал ли или не узнал Гецебол свою бывшую любовницу, во всяком случае он благоразумно не дал ничего заметить: но его прежняя любовница узнала его и отдала приказание Андрамитису.
На другое утро Гецебола нашли зарезанным в постели.
Сделавшись императрицей и оставшись куртизанкой, Феодора усложнила роль Андромитиса, как исполнителя её мести, другими не менее важными и не менее гнусными занятиями.

Императорская чета — Юстиниан и Феодора
Когда-то существовала в Париже Нельская башня, на берегу Сены; те, кто входил в эту башню пропадали бесследно; их уносила река. Но Маргарита Бургонская и её сестры Жанна и Бланка были жалкими подражательницами Феодоры и её достойных подруг — Македонии, Изидоры, Клизоталы и Антонины. И притом в Константинополе эти слишком эротические знатные дамы не заманивали сами, подобно обитательницам Нельской башни, проходящих: для этого у них были особые женщины. Что касается остального, то в императорском дворце древней Византии, также как позже в Нельской башне, после окончания оргий, те, которые служили для ненасытного сладострастия, исчезали…
И это исчезновение состояло в обязанностях Андрамитиса.
В глубине сладострастно отделанной залы, в которой несчастные молодые люди, жертвы ненасытной страсти этих обжор в продолжении целой ночи были опьяняемы поцелуями и вином, услаждаемы изысканными кушаньями и безумными ласками, — была скрытая под небесно-голубого цвета материей, дверь, окрашенная красной краской — цветом крови…
Феодора и её собеседницы уходили, говоря им, без содрогания: «до свиданья!» Гнусная ложь! они знали, что никогда более их не увидят. — Феодора и её подруги удалялись; к влюбленным являлся Андрамитис и приглашал их следовать за собою.
Они безбоязненно шли за ним.
Андрамитис направлялся к красной двери, от которой только он один имел ключ и отпирал ее. Тогда, сделав знак молодым людям идти впереди его он пропускал их в большой коридор, в конце которого виднелась лестница; без сомнения ведшая к потаенному выходу, который выведет их из дворца.
Но на середине прохода, они не замечали, что красная дверь за ними запиралась, в тоже время им показалось, что пол под ними обрушивается. Один крик ужаса вылетал из пяти грудей… потом наступало молчание… гробовое молчание. Пол становился на прежнее место, скрывая тела несчастных, растерзанных во время падения об острые крючья и ножи, и эти куски падали на дно колодца, в котором в час прилива Босфор обновлял воду и смывал кровавые пятна.
Эта машина была гораздо удобнее мешка Маргариты Бургундской. Из мешка выходят; пример Бюридан. Никто не мог выйти, иначе как в кусках, из убежища Феодоры.
Между тем, время насмехалось над смешными претензиями Феодоры, доказывая день ото дня, что она создана из той же глины, как и последний из её подданных. Тщетно она напрягала усилия в бесконечно мелочных заботах о самой себе, проводя каждое утро от пяти до шести часов в бане, плотно потом завтракая и долго потом отдыхая; с каждым днем она замечала как увядала её красота. Вид первой морщины произвел в ней глупую ярость против природы и сделал ее, если только это было возможно еще более гнусной и более злобной. К её природным порокам присоединились другие. Она была надменна и распутна; она стала недоверчива и жадна. Доселе она расточала золото, теперь она начала его поглощать и брала его всюду.
Чтоб вырвать признание в воображаемых преступлениях у людей, состоянием которых она намеревалась завладеть, она изобрела особые пытки. Вот что почти всегда было результатом этого изобретения. Пытаемому, который был привязан к скамье и как должно скован, стягивали голову бычачьей жилой, так что вены на лбу его вздувались, чуть не лопаясь, и его глаза готовились выскочить из орбит. Опьянелый от боли, он испускал пену, выл, рычал… И он признавался…
Всего прискорбнее было то, что злоупотребляя своей властью над Юстинианом, Феодора, и его увлекала по пути беззаконий… Он не был кровожаден, — но стал таким… Он любил народ, из которого вышел, — и разорил его; он имел уважение к славе, благодарность к оказанным услугам — и растоптал под ногами эту благодарность и уважение…
Велисарий, как известно, в течении тридцати лет был оплотом империи, в 558 г., уже старик, знаменитый полководец, как будто помолодел, пойдя против гуннов, рассыпавшихся по Италии. Через три года, подстрекаемый Феодорой, Юстиниан, упрекая Велиcapия за то, что он хотел занять трон, лишил его всех почестей, приказал выколоть ему глаза и заключил в башню на берегу моря, которую и доныне называют башней Велисария.
Из окна своей темницы, из которого спускался на веревке мешок, старый полководец кричал прохожим: «Дайте же один обол старому Велисарию, у которого зависть выколола глаза».
Антонина, жена Велисария, в преклонных летах, сохранила роскошные черные волосы… Напротив волосы Феодоры падали и седели, что заставило ее употреблять золотую пудру. Из зависти, из ревности к волосам своей подруги Феодора обвинила Велисария в заговоре против Юстиниана.
Весьма остроумное средство, посредством мучений мужа заставить поредеть волосы жены. О! Феодора была искусна в изобретениях.
Мы приближаемся к развязке истории Феодоры; но прежде, чем мы скажем как умерла эта коронованная блудница, — в своей постели как честная мать семейства, — мы передадим одно приключение, которое, как мы полагаем, немало способствовало тому, чтобы поддержать в ней до самого последнего вздоха её кровожадность.
Это было в 542 году; Антонина была с Велисарием в Италии; вследствие различных причин, о которых не стоит говорить, императрица, охладев к остальным трем своим подругам, несколько дней уже не принимала их к себе.
Но отказавшись неожиданно от оргий, Феодора не отказалась от наслаждений. Каждый вечер, по обыкновению ей приводили любовника. — Однако, не смотря на то, что она была одна, по утру, когда, покидая его, она иронически говорила ему: «до свиданья!» этот любовник одной ночи уходил из дворца в красную дверь.
Ничто не изменилось в привычках минотавра, разве только одно, что он пожирал четырьмя жертвами менее.
В этот вечер Феодора вошла беспокойная в свои апартаменты. Император страдал, очень страдал; он едва пообедал и, покинув стол, бросился на постель, не смотря на просьбы императрицы, отказавшись принять медика.
Что такое случилось с его величеством?
Ах! Феодора не скрывала от самой себя: что когда его величество будет в земле, она, императрица, рискует окончить свои дни в монастыре, основанном ею для известного достаточно распространенного класса женщин, называвшегося «монастырем покаяния». Наверное ее не оставили бы на троне: у ней так мною врагов!
Опустив голову, в глубокой думе, Феодора сидела в комнате рядом с той, в которой она ожидала любовников.
Прошло десять минут, и она не слыхала никакого сигнала, которым обыкновенно предупреждали ее о приходе любовника…
Легкий шум вывел ее из задумчивости, она подняла голову…
Перед ней стоял коленопреклоненный юноша, красота которого сразу поразила императрицу.
Не отдавая себе отчета, ей казалось, что она когда то, где то видала эту прекрасную фигуру. Но при настоящем расположении ума, ей было неприятно, что этот любовник, как ни был он красив, предупредил ту минуту, в которую было дозволено ему к ней явиться.
Она нахмурила брови и отрывисто сказала:
— Что тебе надо? Кто звал тебя?
— Простите меня, государыня, — отвечал молодой чело- век, по-видимому, не смущенный этим приемом, и не оставляя своего почтительного положения, — простите мое нетерпение, которое могло заставить меня сделать непристойность… Но… не правда ли, вы императрица?
— Да. Потом?
— О! я не сомневался в этом! Вы именно такая, какой представляет вас этот портрет, на память нарисованный моим отцом и отданный им мне в самую минуту смерти, когда он открыл мне тайну моего рождения.
— Тайну твоего рождения? Мой портрет нарисованный им на память… как же звали твоего отца?…
— Его звали Адрианом, меня зовут Иоанном…
Феодора вздрогнула. С ней говорил её сын — живой портрет ее первого и единственного возлюбленного… Она понимала теперь, почему так поразило ее при первом взгляде лицо этого юноши.
Ея сын! этот юноша был её сыном!.. И она узнала по портрету, который представлял ее в то время, когда ей было двадцать лет. Это льстило её самолюбию. Попеременно глядя то на портрет, то на молодого человека, отдавшего ей её изображение, на котором более вдохновенный, чем искусный, карандаш воспроизвел её прежние черты, она улыбалась…
Но сын! Имела ли право, она, жена императора, иметь сына?… этот сын не повредит ли ей? Не повредил ли уже он, узнав тайну своего рождения?..
Она выпустила из рук портрет… улыбка исчезла с её губ…
— О! не бойтесь ничего! — вскричал Иоанн, как будто он, как в открытой книге читал в душе своей матери, — только я, вы и Бог знаем кто я…
Императрица вздохнула. Она сделала движение, означавшее: «Слава Богу!..»
— Но, — сказала она, после молчания, — полагая что твой отец не обманул тебя, чего ты надеялся, являясь ко мне? И как ты сюда вошел?…
— О! что касается этого, — сказал Иоанн, — я не сумею объяснить вам, потому что не могу объяснить самому себе. Без сомнения, добрый ангел принял меня под свое крыло. Явившись вчера вечером в Константинополь, сегодня утром, с рассветом дня, я сел у вашего дворца, — быть около вашего жилища для меня почти то же, что быть около вас, — когда одна женщина подошла ко мне и спросила, что я здесь делаю?
У этой женщины был благосклонный вид. Я отвечал, что желаю видеть императрицу. Я мог ответить это не компрометируя вас? — Откуда вы? — продолжала женщина: — Вы не из этого города. — Я родился, здесь, — отвечал я, — но уже много лет, как я здесь не был. Я из Понке, в Сирии. — И вы никого не знаете в Константинополе? — Никого. — И вы желаете видеть императрицу? для чего? — Потому, что, говорят, она прекрасна… что она должна быть добра. — И вы будете просить об её покровительстве, чтоб получить место в её страже? — Да, о! я буду чрезвычайно счастлив, служа моей государыне! — Женщина, казалось, размышляла о чем-то, потом сказала: — У меня есть друзья во дворце, с которыми я поговорю о вас. Сегодня вечером, при наступлении ночи, будьте на этом месте; если возможно будет ввести тебя к императрице, — тебя введут. Я не пренебрег этим свиданием, гораздо раньше ночи я был уже там, где поутру встретил женщину, которую благодарил до глубины души и которую ждал нетерпеливо. Она, наконец, явилась. — Я успела, сказала она. — Императрица вас примет. Следуйте за мною!» Я повиновался и следом за нею, вошел во дворец через дверь, выходящую в сад. Я поднимался по лестнице, когда моя путеводительница скрылась, к моему великому огорчению, потому что, весь преданный моей радости, я позабыл поблагодарить ее. Какой то гигант-негр, заменил ее, и взяв меня за руку, провел в великолепную комнату, сказав одно только слово: «жди!» Остальное вам известно. Я ждал около часа, когда в этой стороне мне послышались шаги. Быть может я был виноват, но это было выше моих сил, — я поднял портьеру, увидел вас и… Вы спрашиваете, чего я прошу, чего я надеюсь получить от вас? Мне нечего более надеяться… я получил все, что желал… я видел вас, я мог вам сказать: «Великая государыня! Вам нужна собака, готовая за вас умереть, — вот она!»
Этот рассказ вследствие усилий своей воли, Феодора слушала спокойная и важная. Между тем, в то время, когда говорил молодой человек, сколько новых ощущений, ощущений сладостных прошло по душе Феодоры. Этот юноша был её сын… ее сын!.. Ея кровь и плоть И он был прекрасен!.. о, да, прекрасен!.. И он любил ее, как любил своего отца, на которого походил не только лицом но даже голосом…
При звуке этого голоса Феодора снова стала двадцатилетней.
И он ничего не говорил… Он ничего не скажет, что могло бы повредить ей. О, нет! Подобно своему отцу он был умен.
У нее был сын! С сыном женщина, будь она хоть императрицей — не одна. У нее есть защитник.
Но если император не умрет?.. И почему он должен умереть? Его жизнь вне опасности и узнает…
Машинально она протянула руку сыну… и снова отняла ее.
Он все еще стоял на коленях.
— Садись, — сказала она ему.
Он медленно сел. Ясно, что движение матери не ускользнуло от него, и он все еще надеялся на что-то.
— И так, — спросила она, — только в минуту смерти, отец открыл тебе…
— Да, в минуту смерти!..
— В каких выражениях он передал вам эту тайну?
— Он говорил мне, что имел счастье любить вас и быть любимой вами… Тогда вы были дитем народа, как и он. Что вы ушли из своего семейства… но…
— Сами вы или по совету отца пришли, вы ко мне?
— По совету моего отца и по своему желанно. У меня не было никого больше там, кого бы я любил…
— Что вы делали в Понке?
— Отец был управителем богатого купца; я — секретарем.
— Давно вы жили в Сирии?
— Двадцать лет.
— Но у вашего отца была старая родственница… тетка?…
— Флавия. Да. Она воспитала меня и умерла назад тому девять лет…
— А! Она!.. И она никогда не говорила вам…
— Никогда. Когда я спрашивал о моем отечестве и моей матери, она говорила мне, — то же говорил мой отец, — что я из Битинии, и что мать моя умерла, родив меня.
Феодора хотела продолжать свои вопросы, когда постучались в дверь той комнаты, в которой она говорила с своим сыном.

У императрице все было методично и условно; по стуку она узнала, кто стучался. То был один из комнатных слуг императора, Бобрикс, которому она поручала во всякое время и во всех обстоятельствах являться к ней с известием требует ли ее император или только даже желает ее видеть.
— Войди, — возвала она.
Бобрикс вошел. Император страдал сильнее; выйдя из своего беспамятства, он произнес имя императрицы.
— Достаточно, — сказала Феодора. — Я следую за тобой, Бобрикс.
И рассеянно обратившись к Иоанну:
— До свиданья! — сказала она.
Потом она быстро удалилась.
Юстиниан на самом деле, страдал; но его болезнь не имела ничего опасного. Он просто обожрался. Был призван доктор, который вместе с императрицей оставался целую ночь у постели своего августейшего больного.
Только пред рассветом, заметив, что император успокоился, и уверенная эскулапом, что опасности не было, Феодора вернулась в свои апартаменты.
А где её сын? Она теперь думала о своем сыне, не страшась более за своего супруга. Она вошла в комнату, в которой она его оставила; его там не было; она искала, в других комнатах — нигде… никого!
Вдруг какой-то бледный свет, какое то сомнение оледенило её… Направившись к маленькой двери, скрытой в филенках, она прошла несколько ступеней и вошла в комнату Андрамитиса.
Он спал сном праведника, — этот храбрый Андрамитис. Что может быть лучше сна, после того, как исполнил свою обязанность? Она бросилась на него.
— Этот юноша… этот араб, которого привели ко мне?…
Негр устремил на Феодору, сонный взгляд, бессмысленный от изумления.
— Ну! — продолжала она. — Этот юноша? Где он? Говори! да говори же! где он!
— Он там, — возразил евнух, — где должен быть. Вы ушли. Я спросил его. Он мне сказал, что оставляя его, вы ему сказали: «до свиданья». Я проводил его в красную дверь…
Десница Бога! Господь не хотел, чтоб эта женщина, которая в двадцать лет не умела быть матерью, испробовала бы это счастье в пятьдесят. И на самом, деле, испробовала ли она? Из уважения к женщине и к человечеству мы желали бы так думать.
И как доказательство мы приведем последний акт её жизни.
Это было в 565 году, когда сначала Феодора, а потом Юстиниан, — она в апреле, он в июле, — оставили этот мир.
Хотя он был гораздо старее ее, — ему было восемьдесят четыре года, — Юстиниан не переставал окружать заботами и попечениями ту, которая разделяла с ним трон, славу и преступления.
Целый месяц, во все время болезни императрицы, — каждый день, в полдень, он садился у её постели и покидал только в полночь. Роковая минута приближалась. Доктора давали Феодоре пожираемой раком в желудке, только сутки для жизни.
Был вечер. Освободившись на несколько минут от страданий, ее величество лежала на постели неподвижная и безмолвная.
— Желаете вы чего-нибудь, мой друг? — спросил император, объясняя грезами это безмолвие и неподвижность.
Она готовилась ответить «Нет!» когда вошел Андрамитис. Тоже постаревший, но так же преданный своей госпоже, черный евнух до конца подчинялся всем её капризам.
При нечаянном появлении своего демона, Феодора странно улыбнулась. Казалось приход Андрамитиса встретился с мыслью, которой она была занята в ату минуту.
— Да, — сказала она, вместо нет. — Дайте мне этот кинжал, который лежит на столе.
Этот кинжал с золотой рукояткой, который Феодора просила Юстиниана передать ей, был подарок, поднесенный, ей утром полководцем Нарциссом, преемником Велисария в командовании императорскими войсками.
Юстиниан поспешил исполнить желание Феодоры и подал ей кинжал, который она, по-видимому внимательно рассматривала.
И в тоже время сказала нежным голосом:
— Андрамитис, поищи на тигровой коже, около моей постели мой изумрудный перстень, который я сейчас потеряла.
Андрамитис приблизился и чтоб лучше отыскать наклонился над мехом, подставляя таким образом свою широкую спину под руку больной.
Она приподнялась на своем изголовье, размахнулась кинжалом и всадила его по самую рукоятку между плеч негра.
Он упал, не испустив и вздоха.
Юстиниан вскрикнул от удивления.
— Боже мой! — воскликнул он, — к чему ты убила этого невольника, моя дорогая!
— Он обворовывал меня! — холодно ответила Феодора, снова опускаясь на подушки. Она лгала; Андрамитис не крал; она убила его потому, что через двадцать три года она не простила ему, что он вывел её сына через красную дверь, И потому, что накануне смерти, не имея, следовательно, более надобности в своем невольнике, — ей было приятно насытить этим несчастным свою злобу.
Нa другой день, 17 апреля 565 года, императрица Феодора скончалась.
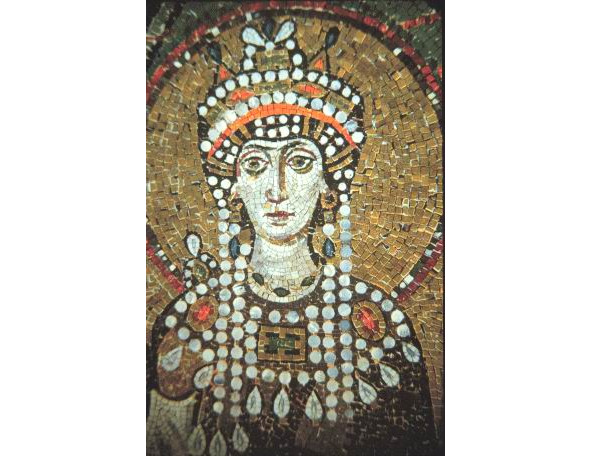
Императрица Феодора. Византийская мозаика.
Книга вторая
ПРЕЛЕСТНИЦЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РЕНЕССАНСА
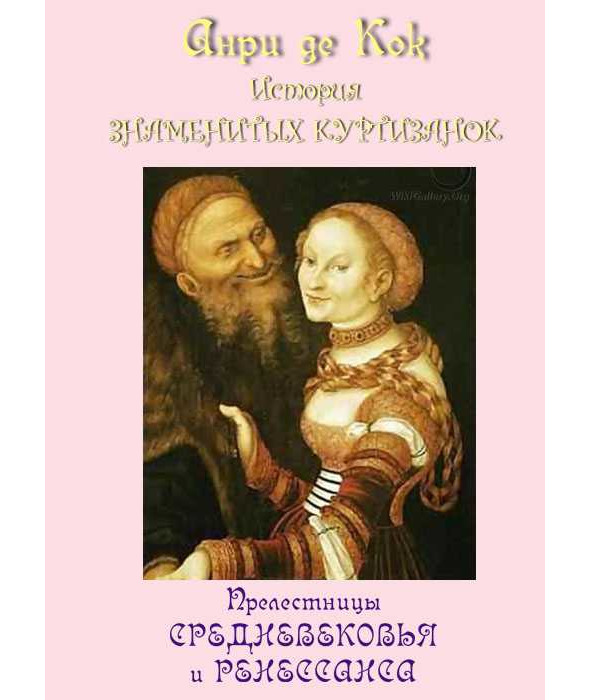
Империя

Было одиннадцать часов вечера; Империя принимала ванну перед тем как лечь в постель.
То была столь же богатая, сколь прелестная куртизанка ХV века. Прекрасная по природе, она обогатилась разоряя самых знатных итальянских, французских и германских вельмож.
В это время она была в Констансе, императорском города, где должен был собраться собор по назначению Людовика XII, короля Франции и Максимилиана I Германского императора, чтоб свергнуть с папского престола слишком желчного Юлия II.
Но понятно, что Империя не занималась политическими вопросами. Она явилась в Констанс потому, что он был наполнен кардиналами, архиепископами и прелатами, которые, беря пример с папы, пользовались наслаждениями любви и роскоши, как им хотелось.
В тот вечер, когда начинается наш рассказ, Империя, будучи несколько больной, велела запереть свою дверь для всех посетителей. У Империи были расстроены нервы в этот вечер, и за десять тысяч экю она не подарила бы и тени улыбки влюбленному. Лежа в своей мраморной ванне, с недвижным взглядом, блистающая нагою красотой, она по временам вздыхала.
Изабелла, Франсуаза и Катарина, — её прислужницы, стояли в нескольких шагах, безмолвные и неподвижные. Они потому были безмолвны, что знали, когда их госпожа была в дурном расположении духа, против которого были бессильны знаменитейшие медики, — самое благоразумное было молчать. Однажды, в подобном случае она как бешеная кошка растерзала щеку одной из служанок только за то, что та чихнула. Ей не нравилось, если чихают, когда она грезит.
Между нами, она была зла столько же, на сколько была богата и прелестна. Не по природе зла, а потому, что ее испортил свет. Она его тиранила.
— А-а-х! воскликнула она. — Как я скучаю!
Госпожа говорила; она жаловалась, и три статуи осмелились оживиться. Более смелая, Изабелла, приблизилась первая и рискнула сказать.
— Вы скучаете? Не угодно ли вам развеяться?
Империя с сомнением покачала головой.
— Попробуй! сказала она.
— Я знаю хорошую песню, продолжала Изабелла, я могу вам спеть.
— Пой!
Изабелла начала:
Зверей всех опасных —
Медведей и львов,
Из мест сих прекрасных
Мы выгнали вон.
С такой быстротою Пастух что спешишь?
Судьбою самою…
— Довольно! — грубо перебила Империя. — Твоя песня стара.
Изабелла отошла. Приблизилась Катарина.
— Конюший графа Даммартена, — сказала она, — рассказал мне рецепт, как сделаться хорошей куртизанкой. Я могу его сказать…
— Говори.
— Возмите: три фунта бесстыдства, самого утонченного, которое растёт на скале, называемой Медным Лбом; два фунта лицемерия; фунт притворства; три фунта лести, два фунта…
— Довольно! — перебила Империя, — твой рецепт глуп.
За Катариной последовала Франсуаза.
— Госпожа, конечно, знает, что я — бретонка. В нашей стороне много танцуют. Я могу для вашего развлечения станцевать branle gai.
— Танцуй.
Бретонка, подражая своему национальному инструменту, начала играть на губах и заплясала. Но столь же несчастливая как певица и рассказчица, она должна была остановиться, когда ей было сказано.
— Довольно!.. Твой branle gai печален.
Все три прислужницы снова стали статуями.
— Отыщите мне книгу, — приказала Империя.
— Какую, госпожа?
— «Сто баллад» или «Дамского Кавалера»… Нет!.. Я предпочитаю «Большеногую Берту» или скорее «Часовню невинности». Ах! да принесите мне первое, что попадётся вам под руку. Право, несносно иметь таких глупцов своими служительницами! Я всех вас прогоню. Слышите!?
Бедные служанки бросились вон из ванной комнаты и вскоре вернулись, неся каждая по совершенно новой книге, украшенной почти на каждой странице политипажем.
Империя взяла случайно один из трех томов. То была «Большеногая Берта», одна из самых приятных сказок.
Она прочла две строчки и бросила книгу.
— Я все таки скучаю! — вскричала она. — Выньте меня из ванны!..
Проговорив эти слова, она встала совершенно прямо. В то же время какой-то крик раздался с порога залы, дверь которой была оставлена служанками отпертою. Кто это крикнул? Вы это сейчас узнаете.
В свите Бордосского архиепископа, явившегося в Констанс по обязанности, был молодой человек, по имени Филипп де Мала, самый прелестный и самый любезный мужчина и самый недостойный священник. Вы можете прочесть об этом у Тассо в его «Освобожденном Иерусалиме».
Но Филипп был еще целомудрен… Он еще не вкушал поцелуев, но он желал вкусить этой сладости. И особенно он желал вкусить ее от Империи, «самой знаменитой, самой любезной, самой восхитительной куртизанки во Вселенной» Так, по крайней мере говорили в то время.
А он не сомневался ни в чем. Ему еще не было семнадцати лет, — ему было простительно. Так как она была самой прелестной, то она и должна была научить его любить.
Таким образом, в тот же вечер, в тот же час, когда Империя тосковала в своей ванне, Филипп Мала направлялся к жилищу куртизанки.
Еще утром он осведомился о жилище куртизанки у метр-д’отеля монсеньора.
— Она, полагаю, должна жить на самой лучшей улице города?
— Parbleu! Конечно, Империя живет на лучшей улице и в лучшем доме!.. Для Империи не может быть ничего лучшего.
— Вы хаживали к ней, Доминик?
— Десять раз. Монсеньор часто посылает ей рыбы и дичи.
— Это далеко?
— Нет. Напротив озера, около францисканского монастыря. Да как же я не ходил к ней! Не я ли научил ее повара, как приготовлять goen gel fisch! Вы их кушали мосье?
— Да! да! Они великолепны! А как называется улица?
— Какая улица!
— Где живет она, т. е. Империя?..
— Мескирш… Да зачем вы меня об этом спрашиваете? Уж не пришла ли вам мысль… хо!.. хо!.. хо!.. Верьте мне, выкиньте ее из головы. Скорее вы стащите луну с неба, чем покорите сердце Империи. Она не из тех женщин, которые занимаются любовными нежностями. Чтобы обольстить ее нужны бриллианты, золото, нужно богатство. И она настолько знает толк в драгоценностях, что не раз отказывалась от двадцати бриллиантов только потому, что на одном из них было пятно. Империи, мосье Филипп, созданы не для молодых, а для старых дураков.
— К чему это длинное рассуждение? — с оттенком нетерпения возразил Филипп. — Почему ты думаешь, что я хочу ухаживать за Империей? Я спрашивал тебя, где она живет из простого любопытства… Ты сказал мне, ну и возвращайся к своим goen gel-fisch и прощай!
Это была ложь, которую произнес Филипп Мала, ложь — усиленная гневом. Но раз сотворив грех, на полдороге не останавливаются. Ночью, когда полагали, что он спит в своей комнате, клерк выскочив из окна отеля своего господина побежал по ночным улицам города и остановился на улице Мескирш, перед домом Империи.
Прежде всего этот дом представился ему не тем, чем он его воображал. По его мнению дом Империи должен был всю ночь, с верху до низу, сиять огнями, в нем должны были раздаваться звуки музыки и пения. Но, как и жилище любого честного гражданина, дом куртизанки в этот поздний час покоился в глубоком сне. Только в одном окне светился огонек.
«Это окно ее спальни! подумал клерк. — Она в постели. Тем лучше, — взойдем!»
Однако он не мог войти прямо. Перед дверью отеля ходил сторож с алебардой на плече.
— Куда вы идете? — сердито спросил солдат, направляя свое оружие против юноши.
— К Империи.
— Она сегодня не принимает.
— Но я имею дело не до нее. Взгляните на меня: разве я могу быть принят Империей? Я хочу, друг, говорить с одной из ее служанок, моей двоюродной сестрой.
— А как зовут вашу сестру?
— Катариной.
Филипп ответил не колеблясь, и его добрая звезда подсказала ему имя, которым действительно называлась одна из служанок куртизанки.
— Войдите! — сказал солдат, убирая свою алебарду. Клерк бросился вперед.
В конце, коридора была лестница, которая вела на первый этаж, в приемные комнаты, и во второй, в особенные комнаты Империи. Когда он отыскал эту лестницу, когда он ступил на первую ступеньку, клерк необычайно обрадовался. Свет, который он заметил с улицы, горел во втором этаже. Ему следовало взойти туда. «Смелость, смелость и смелость!» Эти слова — ключ к дверям любви.
Ванна, которую принимала Империя, распространяла свой аромат по всем комнатам отеля.
— Гм! — воскликнул Филипп, впивая этот восхитительный запах. — Она ложится спать, как Венера, на розах и жасминах.
Он прошел ступеней двадцать и достиг первой площадки. Вдруг шум поспешных шагов раздался над его головой. Это шли три служанки из комнаты, в которой Империя принимала ванну, в библиотеку. Изабелла несла светильник. Клерк, прислонившись к балюстраде, видел как три женщины прошли подобно урагану, и поймал на лету следующие фразы:
— Сегодня она довольно жестка!
— Как терновник.
— Бойся уколов.
«О ком они говорят?» — подумал Филипп. Мог ли он предположить, что они сравнивают Венеру с терновником?
Служанки снова вернулись, каждая с книгой. Но последняя из них, Изабелла, спеша за своими товарками, позабыла запереть не только дверь передней, но даже и дверь самой залы. Луч света, выходивший из этой последней, падал на лестницу. Руководимый каким-то предчувствием, Филипп пошел на этот свет. Через две секунды он был в передней, где, опершись на дверной косяк, он глядел в ванную. Это было в ту самую минуту, когда Империя, послав за «Большеногой Бертой», вскричала, что она хочет спать и встала из ванны, чтобы отнести ее в постель.
Легче понять, чем описать то, что почувствовал клерк при виде этого тела, одаренного всеми совершенствами. Представьте себе искателя золота, только что приехавшего в Калифорнию, который с первого раза нашел целый кусок драгоценного металла… Неправда ли, он обезумеет от радости? И в этом безумстве, не заботясь о завистниках, он забудет о благоразумии. Тоже случилось и с Филиппом Мала при виде Империи, совершенно нагой. Он испустил крик величайшего восторга. При этом крике, испуганные служанки вместо того, чтобы поспешно затворить двери, совсем растворили их.
— Мужчина! — невольно воскликнули они.
— Мужчина! — вскричала Империя, снова погружаясь в воду.
Клерк оставался неподвижным и только проговорил:
— Какая жалость!
Империя была по природе капризна, т. е. также способна сделать доброе дело, как и злое, готова сказать «да» также как и «нет», любить и ненавидеть, броситься на шею, чтобы поцеловать или задушить. В первые две минуты, прошедшие за той секундой, когда она заметила Филиппа, вид клерка не произвел на нее ни малейшего впечатления. Не то чтобы она повиновалась чувству оскорбленной стыдливости, — стыдливость и Империя давно уже жили как кошка с собакой, — но она считала в высшей степени неприличным и, следовательно, достойным самого строгого наказания поступок мальчика, который, проникнув к ней, даром наслаждался зрелищем, которое немногим доставалось видеть за самую дорогую цену.
Однако она не рассердилась. Львица не злится на червя.
— Кто ты? Как тебя зовут? — шипящим голосом сказала она.
— Меня зовут Филипп Мала. Я секретарь монсеньора архиепископа Бордосского.
— А! И это монсеньор архиепископ посылает тебя к дамам по ночам, заставать их в ванне?..
— О, нет! Я пришел сам. Я любил вас, еще не зная, и хотел видеть. Теперь я вас видел лучше… о! гораздо лучше, чем я смел надеяться, и еще сильнее люблю вас.
— Право?.. Так ты не жалеешь о том, что ты сделал?..
— Жалеть!.. О, я жалею только о том, что не пришел раньше! Вы так прекрасны, и я так счастлив близ вас!
По мере того, как Филипп говорил, лицо Империи из сурового и строгого становилось все более и более нежным; на ее губах прежде сжатых, в ее глазах, прежде смотревших с угрозой, теперь сияла улыбка.
— Ах! — сказала она таким голосом, который согласовывался с выражением ее физиономии, рассматривая черту за чертой прелестную голову клерка. — А… так вы, господин Филипп Мала, близ меня счастливы!
— Как в раю.
— А вы уже бывали в нем?
— Да, в грезах, мечтая о вас!
— Ну, а если бы я рассердилась? Если для того, чтобы наказать вас за то, что вы выбрали такую странную минуту, чтоб представится мне я приказала бы моим стражам взять вас!.. Я имею право. Входить к дамам ночью, подобно вору, запрещено законом. Тогда вы не столько бы любили меня, не правда ли?
— Когда бы я умер, конечно, я перестал бы вас любить. Но пока бьется мое сердце, оно будет биться только для вас.
— У вас есть на все ответ. Хоть вы еще очень молоды, вы должно быть много учились, что так хорошо говорите.
— Много учился? О, нет! Только сегодня вечером я в первый раз прочел самую лучшую книгу, которая может существовать на земле.
— Какую книгу?
— Ваши глаза.
— А что вы читаете в них? Что вы дерзкий и нескромный ребенок, которого, если я не хочу велеть взять, так все-таки прогоню!..
Ребенок сделал отрицательный знак.
— О, нет! — возразил он. — Я не читал этого.
— Что же?
— Что вы хотите узнать, действительно ли в таком маленьком теле может существовать такой великий огонь, и что ночь в объятиях клерка может пройти также гладко и быстро, как в объятиях короля.
Пламенная краска покрыла щеки Империи.
— На самом деле; ты демон, — воскликнула она бросая в лицо Филиппа несколько капель ароматной воды. — Но пусть я буду проклята, а ты мне нравишься, и то, что сказали тебе мои глаза, подтвердят тебе мои губы… Ступай!.. Изабелла, уведи его, пока я выйду из ванны. Вода холодна как лед. Ты будешь виноват в том, что завтра я буду кашлять.
Филипп последовал за Изабеллой в комнату смежную со спальней Империи.
— Это все равно! — прошептала на ухо клерка служанка прежде, чем возвратиться к своим товаркам, чтоб присутствовать при ночном туалете госпожи. — Все равно, — вы можете похвастаться, что у вас больше шансов, чем у другого мужчины. Я видела, как по приказанию госпожи убивали под окнами людей, которые не делали и сотой доли того, что сделали вы. Но не бегите! У вас есть чванство… Только если у вас нет денег, берегите свою шкуру!..
И она, смеясь, убежала.
Филипп ждал около четверти часа, потом явилась та же служанка; чтобы отвести его к госпоже.
Та лежала на великолепной постели из дуба с инкрустациями из слоновой кости и золота, на которую всходили по пяти ступенькам, покрытым мягчайшим ковром. Как только Изабелла отвернулась, клерк одним прыжком очутился на пятой ступени у самого изголовья. Но оттолкнув его руку, которая сжала ее руки, Империя сказала:
— Та, та, та!.. Поговорим сначала серьезно.
— Серьезно?.. повторил Филипп. — О! к чему?..
— Потому что я этого хочу, потому что это необходимо. Начнем. Вы мне нравитесь, я сказала уже и не отрекаюсь… Я была одна и скучала… вы пришли и останетесь — хорошо! Но вы мой милый, конечно знаете, что я живу любовью, как булочник своими хлебами. Любовь — мой товар, У каждого свое занятие. Дело только в том, чтобы уметь им пользоваться. Итак, вы по вашей молодости и особенно по вашей профессии, занимаясь которой не куют денег, заплатите мне не так как принц, не так как герцог, даже не так как граф, а как барон… ну что же вы мне заплатите?
Филипп наклонил голову. Вопрос, хотя и уместный, казался ему слишком жестоким.
— Ну же? — холодно спросила Империя.
— У меня в кошельке есть четыре серебряных экю, — пробормотал он.
— Что вы сказали? сколько экю?
— Четыре.
— О! о! четыре!.. ха! ха! ха? Но, мой милый друг, я не продаю моих ночей дешевле ста золотых экю, т. е. пятисот экю серебряных… У вас только и есть чтобы заплатить за четыре поцелуя, только за четыре маленьких поцелуя… Ну, а, если вы предпочитаете я вам дам взамен четырех маленьких один большой… Где ваши четыре экю!
Филипп вынул из кошелька четыре серебряных монеты и подал их Империи, которая спрятала их под подушки.
— Хорошо! — сказала она. — Ну что вы хотите: четыре маленьких или один большой?
Все более и более потрясенный сухим и резким тоном куртизанки, клерк потерялся совершенно. С сердцем, переполненным слезами, как у ребенка, которого бранят, когда он думал, что его приласкают он сидел с опущенной головой.
— Ну же! ну! — продолжала нетерпеливо Империя. — Поспешим!.. Поздно! я хочу спать. Один большой или четыре маленьких?
— Один, но пусть он длится! — вздохнул Филипп.
Империя наклонилась к нему. Если бы он не был так неопытен, то по той страстности, с какой губы куртизанки прильнули к его, он понял бы, что все это — шутка… Но шутка, которую она имела мужество продолжать… Она оттолкнула его.
— Конец! — сказала она, отворачиваясь чтобы скрыть свое смущение. — Прощайте г-н Филипп.
— Прощайте?.. О нет! нет! умоляю вас! — вскричал клерк. — Если у меня нет денег, то есть кровь. Хотите за один поцелуй всю мою кровь?..
Он схватил стилет, который Империя постоянно имела при себе. Она взглянула на него. О! он не шутил. Он убил бы себя, если бы она приказала.
— Гм! — сказала она, пожимая плечами. — Ты не осмелишься поранить себе даже пальца?..
— Вы полагаете? — Он поднял кинжал и приготовился вонзить.
— Филипп!.. — прошептала она. — Мой Филипп!.. — И выхватив у него кинжал, бросила его на пол.
И вовремя. Конец лезвия пробив рукав поранил руку клерка.
Тогда она сжала его в своих объятиях так, как будто хотела его задушить, и осыпала поцелуями со словами:
— О! я люблю тебя, малютка! люблю! Как ты не догадался, что я шутила? Я провинилась перед тобой?.. Я тебя опечалила?.. Прости! Я люблю тебя! Я вся твоя даром, слышишь ли: вся от ног до головы!.. Тебе платить!.. Я заплачу тебе за ту радость, которую я испытываю близ тебя!.. Херувим мой!.. Я люблю тебя!.. А ты меня любишь? скажи…
— О!..
— Скажи! скажи! скажи: «моя Империя, я люблю тебя!..»
— Моя Империя, я лю…
— Госпожа! кардинал принц Рагузский непременно хочет говорить с вами…
То не крик женщины, а рев тигрицы вырвался из груди Империи — при этих словарь, произнесенных Изабеллой за дверью спальни.
— Изабелла! — кликнула Империя, после некоторого молчания, во время которого она сжимала руками свою голову, как будто для того, чтоб она не треснула. — Изабелла, войди сюда!..
Служанка вошла дрожавшими шагами.
— Чертова дочь, ты зачем позволила войти кардиналу, когда ты знала…
— Госпожа, это не моя вина! Никто не виноват в этом. Принц Рагузский, вы сами знаете, неспокоен. Ваша стража хотела преградить ему вход. Он приказал своей охране обезоружить наших. Я даже удивилась, что вы не изволили слышать шума на улице. Бедняга Сентон получил удар шпагой в лицо…
— Подлецы!.. они должны были скорее умереть, чем уступить.
— Без сомнения! Но их только шесть, а у принца двенадцать воинов.
— Хорошо! Завтра у меня будет двадцать четыре. А! я и у себя дома больше не хозяйка!.. Наконец, чего же хочет кардинал? Разве в полночь наносят визиты?.. Ступай, скажи ему… нет, я сама скажу ему!.. Где он?
— В большой зале первого этажа. Солдаты остались у лестницы.
— Счастливы, что они не вошли вместе со своим господином. Одень меня, одень скорее!.. Филипп, любовь моя, не бойся ничего: он уйдет, хоть он и принц Рагузский… Только согласись, он могуществен… я не могу делать ему слишком большое неудовольствие. Он хочет говорить со мной, ну и будет говорить; но он уйдет, я тебе обещаю… Обними меня, моя милочка… Ты ничего не потеряешь от ожидания. Ты увидишь, как я приму этого кардинала, который силою врывается в мой дом. Ты увидишь!.. Ах, Изабелла! как ты неловка! Ты не можешь застегнуть платья.
— Это вы несколько волнуетесь.
— Я волнуюсь, дурочка!.. Если бы ты была на моем месте, ты, быть может, не волновалась бы. Позови Франсуазу и Катарину.
— Слушаю.
— И скажи им, чтоб зажгли огонь в моей молельной!.. Я больна… О да!.. я больна от ярости… Мне не следует ходить и беспокоиться… Принц поднимется сам… Дай мой чепчик, Филипп, — благодарю. Поцелуй меня… Я тебя люблю!.. Хочешь послушать, как я выпровожу господина кардинала? Нет? Ты предпочитаешь остаться здесь?
— Я пойду за вами в самый ад.
— В добрый час! Ты не труслив. Поцелуй меня. Ну, ты придешь. Скрывшись за моим креслом, ты будешь присутствовать при моем разговоре с принцем. А! Потому что он принц, так он и думает, что имеет право меня беспокоить?
— Молельная ваша, сударыня, освещена.
— Хорошо. Пойдем, Филипп. Ты знаешь кардинала?
— Да. Я часто видал его у архиепископа, моего господина.
— В таком случае и не вздумай показываться. Он зол. Он велит тебя убить, как собаку, если начнёт подозревать тебя… Я полагаю, что тебе лучше остаться здесь.
— А я хочу лучше идти с вами. Ведь он меня не увидит. И при том я хочу знать, что он вам скажет.
— О любопытный!.. Ревнивец! Ты сомневаешься, как бы я не пленилась прелестными глазами принца… Этой бочкой, ха, ха, ха!..

Принц, на самом деле, блистал не деликатностью черт и изяществом черт. Но зато ум кардинала был, столь же тонок, как толсто было его тело. Итальянец по рождению, он под тяжкой наружностью немца соединял хитрость лисицы с яростью кабана.
Он взошел тяжелым шагом в молельную, где находилась Империя, гордая и надменная, сидя на великолепном кресле черного дерева, под который спрятался клерк; он взошел с недовольным видом, потому что ему было затруднительно взойти на верх.
— Прекрасная из прекрасных, — проговорил он, вы теперь третируете и кардиналов как маленьких аббатиков?
— Монсеньор, — отвечала Империя тем же тоном, — вы уже начинаете убивать моих стражников, охраняющих меня, исполняющих свою обязанность, сопротивляющихся по моему приказанию не впускать ко мне посторонних когда я сплю.
— О! когда вы спите, моя миленькая! С каких пор вы стали ложиться в двенадцать часов как какая-нибудь прачка?..
— С каких пор мне не дозволено спать хоть бы в полдень, если мне это захочется, как девчонке?
— Ба! ба! моя дорогая, не горячитесь! Я был неправ. Но представьте себе, я должен завтра утром отправиться в замок Готенвиль, владетель которого, один из моих друзей, очень болен. И вот, чтобы быть совершенно готовым к рассвету я вознамерился, явиться к вам, чтобы поужинать.
— Дурная идея! У меня нечего есть.
— Я пошлю за провизией в город.
— Благодарю. Я не голодна.
— Ну, так мы выпьем.
— Я пью только лекарство. Я больна.
— О! больна с такими глазами, которые блестят как карбункулы! Империя, у меня в кошельке двести золотых экю. Вот они. Слышишь, как они звенят! Гостеприимство только до утра для хозяина и птички.
— Очень благодарна! Если бы у вас было даже сто тысяч, я не хочу их. Музыка золота на нынешнюю ночь мне не нравится. У меня на эту ночь есть нечто лучшее.
— Ба! что же такое?
— Сон… самый прелестный сон, какой я только когда-либо видала, и который вы имели грубость прервать.
— Ты полагаешь, что снова увидишь его, когда я уйду?
— Да. Я уверена… Он меня ждет!..
И говоря таким образом, Империя, опустила свою руку на плечо Филиппа. У влюбленных же нет благоразумия. Он посчитал своим долгом поцеловать эти розовые пальчики, которые ему протянули.
У принца был тонкий слух.
— Ба! ба! — вскричал он, приближаясь на два шага. — Под вами никак ваша левретка?
— Да, — сказала куртизанка.
— Как вы ее зовете теперь? Ромоно? Эй! мой друг, к чему ты прячешься? Поди сюда… Я также люблю скотов…
Проговорив эти слова, принц с силой ударил ногой под кресло.
Филипп и Империя в одно время вскрикнули: она от гнева, он от боли. Нога прелата попала ему в спину.
— О! о! — насмешливо заметил принц. — Собачка-то говорит!..
Филипп де Мала не мог больше сдерживаться, Пускай бы убили его перед его любовницей, но чтобы насмехались!.. Он вышел из своего убежища.
— А! — воскликнул кардинал, выражая удивление. — Так ваш Ромоно — молодой мальчик. — И пристально взглянув на клерка, добавил: — Да я его знаю! Это писец архиепископа Бордосского.
Филипп поклонился. Империя, бледная как саван вперила в принца гневный взгляд, который не произвел на него никакого впечатления.
— Хорошо! хорошо! теперь я понял. Ваш сон, и впрямь прелестный сон, прерванный мною. Действительно, этот малютка мил… Отличное зеркало для похабниц… я не о вас говорю, моя дорогая Империя, ясно же, вы приняли этого ребенка ради минутного рассеяния что же!.. для клерка неприлично отлучаться ночью от своего господина… хоть бы для того, чтобы поволочиться за дамой. Это совершенно противно канонам. Но я прощаю. Индульгенция достояние сильных. Как тебя зовут, друг?
— Филипп де Мала, монсеньор.
— Так слушай же, Филипп Мала, потому что я повторять не стану: у меня двенадцать воинов у дверей этого дома и двести золотых экю в этом кармане, — те самые, которые, как ты знаешь, Империя не хотела от меня взять. Выбирай: или по удару кинжалом от каждого моего воина, или это золото.
— О, монсеньор! я не колеблясь, беру золото…
— И ты уйдешь отсюда и не возвратишься…
— Прощайте и благодарю вас, монсиньор.
Клерк, сжав кошелек в своих руках убежал, не сказав ни слова, не взглянув даже на свою возлюбленную.
Из бледной Империя стала желтой.
Принц злоехидно улыбнулся.
— Этот мальчуган, очень благоразумен, очень!.. Он тотчас же понял, что там, где кардинал не мог утолить своей жажды, клерку нечего и думать об этом. Итак, Империя…
— Итак, монсеньор, — сквозь зубы сказала Империя, — вы удалитесь, или так же верно, что Бог есть, хоть вы и кардинал — если вы еще одну минуту останетесь здесь я впущу вам в живот вот это.
И куртизанка показала кардиналу стилет.
Кардинал смотрел, то на кинжал, то на женщину.
— Не должно вызывать безумца делать безумства! — сказал он ласково. — До свиданья, моя милая! По возвращении из Готенвиля я явлюсь поцеловать ваши ручки!.. — Он поклонился ей и вышел.
— Пусть тысяча тысяч лихорадок сожгут и иссушат твой мозг, проклятый! — рычала Империя, как рассвирепевшая тигрица. — Филипп! моя любовь!.. мой Филипп!.. где ты? Ах, маленький негодяй, он поберег себя… о! я заставлю его растерзать на части… сварить живого в котле, в масле и растопленном олове, за то что ты так спасся. О! о! и он же говорил, что готов умереть за меня, а продал меня за двести экю….
— Империя!.. милая моя!..
Куртизанка вскочила. Этот голос слышавшийся из под ее кресла, этот голос… не обманывалась ли она?.. Это был голос Филиппа. Дрожащая, но дрожащая от радости и боязни, она наклонилась… Обожаемое лицо приблизилось к ее лицу.
Он! да, то был он! Он вышел из одной двери и вошел в другую.
— Херувим мой!.. но к чему?..
Он расхохотался и бросая на колена куртизанки кошелек кардинала, сказал:
— Ты не продаешь свои ночи дешевле ста экю. Так я даю тебе двести. Я плачу не так как барон, граф или герцог, — я плачу как принц.
* * *
Это — один из самых пикантных эпизодов из жизни Империи. К несчастью, начавшись водевилем, он кончился драмой.
Более серьезно влюбленная, чем можно бы было предполагать, Империя вследствие этой самой любви, потребовала, чтобы их отношения скрывались во мраке. Кардинал пробыл несколько дней в Готенвиле, и вернувшись он не мог не узнать, что какой-то клерк смеялся над ним и пренебрег его прощением.
* * *
Следуя соглашению между ним к Империей, молодой любовник являлся к ней только два раза в неделю: в понедельник и четверг, в полночь. И для того, чтобы избегнуть пагубной встречи он должен был удостовериться, что поле свободно, о чем ему давал знать белый платок.
Все шло отлично шесть недель. Двенадцать ночей было дозволено Филиппу Мала плавать в океане наслаждений. Но как пройдет тринадцатая ночь?.,.
Как все куртизанки, Империя была суеверна… О! Если бы она могла перескочить через эту тринадцатую ночь!..
Филипп смеялся над предчувствиями своей любовницы. Он не верил роковым влияниям, особенно с тех пор, как любил и был любим.
— Не бойся! — говорил он ей. — Со мной не случится ничего. Что может со мной случиться? У моего счастья нет врагов, потому что оно неизвестно.
— Неизвестно? — прошептала Империя. — Кто тебя уверит в этом?
— Наконец кардинал принц, единственный человек, который мог бы иметь причину раздражиться против меня, не дальше как вчера обедал у моего господина и не сказал ни слова, по чему бы можно было предположить, что он кое-что знает.
— Верно, ни слова?
— Ни одного.
— А в его физиономии, в его взгляде не была ничего угрожающего?
— Напротив, я никогда не видывал его таким ласковым.
— Ласковым?.. Филипп, я знаю принца: чем он добрее; тем злее он готовится быть. Филипп, веришь ты мне, мы пропустим неделю или две и не станем видаться.
— О!.. две недели!
— Одну только!..
— Скажи же, что ты разлюбила меня, что я тебе наскучил!..
— О!.. Я желала бы быть с тобою с утра до вечера… Ах! эта тринадцатая ночь!.. Я бы отдала бог знает что, чтобы она прошла…
— Это легко… Легко, по крайней мере, ее приблизить. Нынче понедельник — вместо того, чтобы прийти в четверг, я приду завтра.
— Завтра? нет! завтра у меня ужинает Адольф герцог Клевский… Но в среду… Ты придешь в среду, слышишь, мой ангел?
— Хорошо!
— Да, в среду. Тебе пришла счастливая идея.
— Потому что мы скорей увидимся.
— И притом если, против тебя имеются недобрые замыслы, этим способом, мы отвратим их.
* * *
В эту тринадцатую ночь в среду с 22 на 23 сентября 1508 года в Констанце было темно и холодно. Улицы города были покрыты туманом, поднимавшимся из озера…
Выйдя через окно в двенадцатом часу, Филипп де Мала, при соприкосновении с этим сырым воздухом, против воли вздрогнул но чувство это было мимолетно.
«Туман!.. подумал он. — Тем лучше. На улицах никого не будет». И завернувшись в свой плащ, он пропал во мраке.
Он шел прямо своей дорогой, руководимый инстинктом. Когда он проходил мимо францисканского монастыря, находившегося на выстрел от дома Империи, на монастырских часах пробило полночь. При звуке медного колокола, Филипп вздрогнул снова. А между тем он уже двенадцать раз слышал как били эти часы, и звук этот не порождал в нем иной мысли, кроме той, что он точен. В эту тринадцатую ночь ему казалось, что часы не говорили обыкновенно: «Счастливец!.. счастливец!..» Напротив они звучали, печально: «Бедный ребенок!.. бедный ребенок!..»
И он продолжал идти; он сделал еще десяток шагов… Как справа и слева бросились на него двое мужчин, и схватив железными руками, повели его на площадь. В тоже время третий тоже замаскированный человек глухим голосом проговорил эти слова:
«Requiem oeternam donna eis, Domine,
et lux perpetua luceat еis.»
Человек слева продолжал:
«In memoria oeterna erit justus;
ab auditione mala non timebit.»
Человек справа закончил:
«Absolve, Domine, animas omnium
fidelium defonctorum, ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurente mereantur
evadere judicium ultionis»…
Над ним читали надгробную молитву. Филипп не мог обманываться… Он был приговорен к смерти. Кем? что за дело! Кем бы то ни было, но он был должен умереть… Умереть, не увидав ее!..
«Империя!» Готовилась сорваться с его губ, но в эту великую минуту над человеком владычествовал христианин, и он произнес имя Господа.
— Боже! — проговорил он, — прости мне мои прегрешения!
В то же время он пал под тремя смертельными ударами.
* * *
С половины двенадцатого Империя была у окна, ожидая своего молодого любовника. Она тоже слышала как пробила полночь, и также нашла погребальным звук колокола.
Полночь… а его нет.
Но сквозь туман в нескольких шагах от ее дома она заметила тень. Она обезумела от беспокойства и вскричала:
— Это ты?
— Да, это он! — сказал незнакомый голос. — Вам несут его.
Несут!.. При этом ответе в Империи, как говорится, все перевернулось. Скорее, чем мы могли бы написать она была вне дома, сопровождаемая стражей, лакеями и служанками, несшими зажженные восковые свечи.
Трое замаскированных людей, исполнив свое дело, удалились; в самой середине улицы лежало тело клерка, еще теплое, но уже совершенно безжизненное. По божественной благости и как бы в награду за искренность его покаяния, он не страдал, ибо лицо его был также спокойно, как у спящего ребенка.
Коленопреклоненная у трупа, в грязи, не заботясь о своем богатом бархатном платье, Империя оставалась неподвижной, созерцая эту прелестную голову, на устах которой только для нее расцветала улыбка.
Она не испустила ни одного крика, не пролила ни одной слезы, она только сказала, опустив голову и целуя мертвеца:
— О, мой Филипп! я отдала тебе душу. Унеси ее в небо со своей. Я любила и больше не буду любить…
Тело клерка было отнесено к его господину, архиепископу Бордосскому, который был очень опечален этим приключением, потому что имел большую привязанность к своему писцу. Он приказал, чтобы его похоронили с великими почестями, в церкви св. Морица, и, чтобы почтить его, он сам со своими друзьями пожелал присутствовать на погребении. Трудно поверить, что кардинал принц Рагузский был одним из друзей, сопровождавших тело Филиппа.
Когда итальянский прелат выходил после церемонии из церкви, одна женщина, одетая вся в черное, с лицом закрытым вуалью, приблизилась к нему и тихо сказала:
— Вы убили его, монсеньор; хорошо; но к чему это для вас послужит? Вы не будете все таки любимы и в свою очередь скоро умрете, это я вам предсказываю!..
На самом деле с этого дня кардинал-принц не видал больше Империи, которая немедленно оставила Констанц. А через два месяца после смерти Филиппа он был убит в Мадриде в Испании, когда возвращался с ужина от одного из своих родственников… Убийц разыскивали, но в Испании в то время было столько бандитов! Их было очень трудно отыскать, зато справили великолепные похороны.
Когда Империи сказали о смерти кардинала-принца, она начала рыдать, что удивило присутствовавших. Зато как только она осталась одна, то рассматривая в зеркало свое лицо, покрасневшее от слез, она проговорила:
— Ах, это обстоятельство было необходимо для того, чтобы слезы оставшиеся в моем сердце, вышли наружу. — И прибавила, потирая свои руки: — Право, плакать очень хорошо. Слезы так успокаивают.
* * *
Империя торжественно держала свое обещание, данное Филиппу де Мала: она никого не любила в течение пятнадцати лет, что очень честно для куртизанки. Но прежде чем мы расскажем, каким образом осенью своей жизни она изменила своему обещанию, мы расскажем, как летом, не смотря на представившийся случай, она сумела остаться верной своему слову.
Мы уже сказали, что тотчас после смерти Филиппа они оставила Констанц, но не сказали, куда она отправилась. Она отправилась во Францию, не сопровождаемая, как бы это было возможно для великолепной куртизанки, огромной свитой, но самым скромным образом, взяв с собой двух конюхов, двух лакеев и одну горничную — Изабеллу; которую она особенно любила.
Около половины октября, через три по отъезде из Германии она приехала в Тур, первый французский город, который она хотела посетить, потому что в нем родился бедный Филипп.
В это время в Туре была труппа монахов-актеров, игравших бывшие тогда в ходу мистерии.
Империя, которая до двадцати пяти лет жила то в Германии, то в Италии, знала только по слухам о подобных представлениях. Ей представился случай посмотреть на одно из них и она не хотела отказаться от предстоявшего удовольствия.
Она дала приказание одному из своих лакеев купить два хороших места в театре. Случайно два места, оставленные для сестер мэра, во втором ряду трибуны, оказались свободны, — эти дамы внезапно заболели, за два серебряных экю Империя могла занять эти места с Изабелой. Чтоб не привлекать внимания, Империя надела самое простое платье, так что издали она казалась мещанкой. Даже герцог Туренн, который знал ее, сидя напротив нее в трибуне со своими приятелями бароном Мишо де Шаньи и графом де Орьен не узнали ее.
Когда зала наполнилась и наступило молчание, занавес раздвинули. Вышел актер, поклонился и проговорил пролог, предназначенный для того, чтобы привлечь внимание публики. Пьеса началась.
С первой сцены изысканный вкус Империи был шокирован тривиальностями и бесстыдством, которыми злоупотребляли действующие лица, и она пожалела о том, что явилась на подобное представление. Между тем то, что ее возмущало, несказанно нравилось остальным зрителям; при каждом грубом намеке, выходившем из уст актера, следовал взрыв хохота.
Одно слово одного из зрителей, пособило Империи освободиться от неприятных мыслей. Этот господин говорил о Филиппе, Филипп! при этом возлюбленном имени Империя, внезапно вернувшись в прошлое, увидела образ молодого любовника, царивший над всеми восхитительными картинами.
Первая часть мистерии длилась около двух часов. Империя не чувствовала ни места, ни времени; она была со своим Филиппом. Ухо ее ничего больше не слышало, глаза ничего не видели… Она была вся преисполнена своею любовью. Однако, вдруг, в то самое время, как какой то трепет пробежал по ее жилам, она в высшей степени изумилась…. В нескольких шагах стоял он… он… Филипп.
— Я грежу!.. — сказала она самой себе и закрыла глаза, чтобы лучше остановить свой ум на одном предмете. Так она оставалась две или три минуты, потом она раскрыла глаза, уверенная, что призрак исчез. Нет!.. он был на том же мест. Филипп пристально смотрел на нее.
Она испустила крик ужаса и упала в обморок.
В то время, как и теперь, публика не любила, чтобы нарушали ее удовольствие. Крик упавшей без чувств на плечо Изабеллы Империи произвел некоторый беспорядок; он помешал слышать актеров; со всех концах зала раздались сердитые восклицания, к которым, без всякого сожаления к молодой, женщине, присоединились угрозы соседей:
— Когда больна, так не ходила бы в спектакль!.. Оставалась бы дома. Кто она? — А кто ее знает! — Пусть уходит! — уведите ее!
В эту минуту молодой человек, при виде которого на этот раз и Изабелла испустила крик ужаса, бросился на трибуну, схватил Империю сильными руками и вскричал: — «Пропустите меня!..»
Быстрым шагом он направился к главному выходу, где одним скачком перемахнул все десять ступеней.
* * *
Когда Империя пришла в себя, она лежала на постели в скромно, но чисто меблированной комнате. Перед нею еще держа в руках склянку со спиртом, стоял молодой человек, который вынес ее из театра; При виде него Империя снова вздрогнула.
— Где я? кто вы? — прошептала она.
— Не бойтесь ничего, — отвечал он голосом, совершенно похожим, на голос Филиппа. — Вы у моей матери. Она, к несчастью в отсутствии, иначе она поспешила бы позаботиться о вас.
— Но ваше имя! ваше имя?..
— Меня зовут Альберт де Мала,
— Альберт де Мала!.. — вскричала куртизанка. — Альберт де Мала! Так вы без сомнения брат Филиппа де Мала секретаря у архиепископа Бордосского?..
— Двоюродный. Вы знаете Филиппа? Я полагаю, что он теперь в Констанце. Вероятно вы там и встречали его?
— Да… да… — бормотала Империя, — там… Вы удивительно похожи на него.
— Действительно. Когда мы были детьми, нас считали за близнецов. Но не нескромно ли будет спросить, кто вы? Вы вероятно не из этой страны?
— Почему?
— Потому что вы прелестнее всех турских дам, вместе взятых.
— Вы находите? Нет, я не отсюда. Я Итальянка, Что касается моего имени, к чему вам его знать. Через час я покидаю этот город.
— Так скоро! тем хуже! Если вы не знаете окрестностей этого города, я был бы счастлив служить вам проводником. Останьтесь на несколько дней, только на несколько дней, умоляю вас! Куда вам спешить?..
Альберт де Мала держал руку Империи, и, сжимая ее повторял: «Останьтесь, умоляю вас!..»
Она была тронута… В нем все напоминало Филиппа, Из любви к Филиппу она слушала Альберта и сладострастно впивала его дыхание… Но одно слово испортило все.
— А мой кузен был здоров, когда вы его видели, в Констанце? — спросил он.
Империя оттолкнула Альберта, и вставая, проговорила:
— Благодарю вас, за вашу заботливость. Благодарю и прощайте. Повторяю вам я должна покинуть этот город. В воспоминание обо мне благоволите взять этот перстень.
Она подала ему великолепный рубин, осыпанный жемчугом, который она сняла с пальца. Он оттолкнул этот подарок. Он надеялся на лучшее.
— Вы отказываетесь от этой безделки… она для вашей матушки…. для вас же — поцелуй…
— Поцелуй? принимаю! — вскричал он.
Он взял перстень: она целомудренно поцеловала его в лоб и пошла к двери.
— Но ваше имя? — сказал Альберт.
— Мое имя? — переспросила она. — Ты хочешь знать его? Знай; для Филиппа оно было — Любовь, для тебя Дружба.
И она скрылась…

Ферроньера

С легендарной Ферроньеры Леонардо да Винчи
написал свою «Даму с горностаем»
История прекрасной Ферроньеры теряется во мраке древности, и по-видимому те, которые должны бы были разъяснить этот мрак, еще более его увеличивают. но мы расскажем истинную историю жизни этой куртизанки, и рассчитываем, что читатели останутся довольны.
Глава I,
рассказывающая о том, что Жак Феррон нашел
осенней ночью на углу улицы
Было 20 ноября 1536 года. Вечер был холодный и дождливый. Пробило девять часов на колокольнях, а колоколен в то время (в царствование Франциска I) церквей и монастырей в Париж было великое множество).
Закутанный в простое полукафтанье из черного сукна. Жак Феррон, адвокат в парламенте, шел по улице Tenauxle Fevre, направляясь к своему дому, находившемуся близ улицы Шартрон. Перед ним, освещая дорогу, шел его клерк Алэн Бриду, горбун самый замечательный, — горбун и спереди и сзади. Хозяин и клерк шли настолько поспешно, сколько это было возможно по тогдашним парижским улицам, на которых не было ничего трудного сломать себе шею или упасть в яму. Но и адвокат, и клерк знали свой квартал. Еще несколько шагов, и они были бы в улице Шартрон, как вдруг, справа от них, раздался шум, заставивший их остановиться.
Это была какая-то жалоба, какой-то плач, какое-то рыдание… Вернее сказать, это было всё вместе. И по роду занятий и по принципам Феррон не был чувствителен; прежде всего, на пустынной улице, ночью, не всегда было благоразумно беспокоиться о людях, плачущих на улице. В XVI веке, мошенники были похитрее, чем теперь.
Однако, не отдавая себе отчета о впечатлении, произведенном на него этими звуками, мэтр Феррон обратил свой взгляд в ту сторону, откуда слышался этот плач; в то же время, повинуясь тому же чувству, Алэн Бреду обратил свой фонарь на то же место.
Глазам адвоката и клерка представилось печальное зрелище.
На каменной скамье, у стены старого домика, неподвижно лежала женщина в рубище. Перед этой женщиной, в таком же рубище, на коленах, стояла маленькая девочка. Эта-то девочка и плакала, — плакала только ради плача, ибо вся погруженная в свое горе, она даже не слыхала как подошли к ней двое мужчин, которые стояли в трех или четырех шагах от нее и рассматривали ее. Окончив осмотр, Алэн Бриду выразился таким образом:
— Нищие цыганки, которых избили какие-нибудь распутники. Как только наш король вернулся из Испании, так в Париже их как песку на дне морском. Он не стоят даже и дров. Пойдемте, хозяин.
Клерк готовился уйти. Но когда он спустил фонарь, девочка повернула голову, и свет упал на ее лицо.
— Постой! — приказал Феррон, и подошел к ребенку. — О чем ты плачешь?
— Матушка моя умерла.
— Ты уверена, что она умерла?
— Уверена. Я ее целую, а она меня — нет. У нее и сердце не бьется. Дайте вашу руку, господин. Неправда ли, что у нее сердце не бьется?.. О! она мне еще сегодня утром сказала: «я чувствую себя дурно, Зара». Если бы у нас были, деньги, мы зашли бы в гостиницу… она бы выпила несколько капель вина, чтобы отогреться… она всегда холодела… но у нас не было ни гроша! Когда болен, негде достать денег. О, моя бедная матушка! Да, ты умерла, потому что не слышишь, как я плачу.
Феррон, как мы уже сказали, вовсе не был нежен по природе; но должно думать, что и в самых черствых душах бывают минуты умиления. И должно быть такая минута наступила для адвоката.
Рыдания девочки заставили его задрожать; он без всякого отвращения позволил ребенку взять руку и приложить ее к похолодевшей уже груди матери, и пока девочка говорила, он не переставал смотреть на нее и слушать, с особенным вниманием. Чтобы это значило? Нарождающаяся любовь? Полноте! Любовь около трупа! Разве любовь может родиться рядом со смертью?.. И притом Зара была не такого возраста, чтобы могла внушить любовь. Ей едва ли было четырнадцать лет. Нет, то была симпатия. В первый раз во всю свою жизнь, — а ему было уже пятьдесят лет, — Феррон, наслаждавшийся только звоном золота, ощутил в себе нечто человеческое. В первый раз во всю свою жизнь, глядя на плачущую девочку, он пролил несколько слезинок.
Обращаясь к клерку, не только изумленному, но даже испуганному этой сценой, Феррон сказал ему:
— Ступай вперед и скажи Жаборне, чтоб она сняла матрац со своей постели и положила бы в нижнюю залу да развела бы огонь.
Горбун удалился без всякого возражения. Адвокат наклонился к трупу нищей.
— Что вы хотите делать, мессир? — живо спросила Зара.
— Если, дитя мое, мать ваша не умерла, я хочу попробовать возвратить ее к жизни. Если этого невозможно будет сделать, пока ее схоронят, не лучше ли будет для вас пробыть это время у меня, чем на улице.
— Да. О да, мессир!.. Благодарю вас! — бормотала девочка.
Феррон был силен, а тело цыганки легко и притом жилище адвоката находилось по близости; через несколько минут, сопровождаемый девочкой он дошел до дому. Старая служанка уже приготовила матрац и развела огонь.
Феррон немного знал медицину, но он тщетно употреблял все усилия, чтобы оживить мать Зары. Напрасно он разжал ножом зубы и влил ей в рот несколько капель крепкого спирта для того, чтобы возбудить кровообращение он прикладывал ей на живот горячие салфетки, — но она умерла… умерла совершенно.
На другой день по просьбе г-на адвоката, бывшего в отличнейших отношениях с аббатом церкви св. Антуана, она была погребена в углу кладбища св. Иоанна…
В сопровождении Жиборны маленькая Зара провожала прах матери на кладбище; когда она вернулась в дом адвоката, тот сидел в той же самой комнате, в которую накануне он перенес тело цыганки. Ребенок прямо подошел к нему и стал перед ним на колени.
— Благодаря вам, мессир, у моей матушки есть гробница… я этого никогда не забуду… У вас одна только служанка, — хотите другую? С этого дня я принадлежу вам.
— Хорошо, малютка, — ответил Феррон, быть может, и подозревавший это предложение. — Хорошо! Я принимаю твое предложение. У меня нет семейства и мало друзей… Ты будешь жить здесь не как служанка, а как мое дитя. Но привыкнув к свободе, ты, быть может, соскучишься в четырех стенах.
Зара печально улыбнулась.
— Что я буду делать со своей свободой, когда нет матушки?.. возразила она. — Хорошо было рядом с ней пробегать леса и поляны… Одна я заблудилась бы.
— Но из какой ты страны? где твоя родина?
Зара не знала где родилась; она знала только одно, что они пришли во Францию из Кастилии, в 1526 году, с матерью и отцом, вместе с толпой бродячих цыган. Ей было четыре годика. Ее отец делал деревянные ложки; но весьма вероятно, что в настоящее время он занимался каким-нибудь другим более легким промыслом, потому что остановленный в Орлеане, он был… повешен. С этого времени мать Зары пела и плясала на площадях, чтобы прокормить себя и ребенка… Но климат Франции не годился для цыганки; она постоянно жалела о своей Испании, и особенно грустила о своем муже. А когда она грустила, она плакала и не имела сил ни петь, ни плясать.
И вот, в один из подобных дней она упала, чтобы больше не вставать, без сомнения прося последним вздохом, чтоб Провидение позаботилось о ее дочери, и Провидение услыхало просьбу матери: с этого времени у Зары было не только убежище, но еще и тот, который так великодушно сказал ей: «я буду твоим отцом!» Мы увидим, что то был странный отец…
* * *
Глава II,
повествующая о том, каким образом Зара
вышла замуж за адвоката Феррона
В течение двух лет Зара или скорее Жанна, потому что по весьма уважительной причине адвокат вместо языческого дал ей христианское имя, — могла, только поздравлять себя с переменой существования. С течением времени она утешилась в потери матери: по природе она была резва и сметлива… Феррон даже радовался ее веселью…
Однажды утром она пела, тогда как адвокат занимался делами, и Жиборна хотела заставить ее замолчать.
— К чему вы вмешиваетесь не в свое дело! — сурово сказал ей Феррон, потому что он никогда не работал так охотно, как в то время, когда слышал голос молодой девушки.
При этом она была умна. Феррон выучил ее читать и писать и был в восхищении от успехов своей ученицы. То был луч солнца, который проник в его мрачное жилище. Луч этот осветил не только жилище, но и его самого: Феррон не походил на самого себя.
Алэн Бриду не мог опамятоваться от изумления. «Моего хозяина переменила колдунья, говорил он самому себе, и зло улыбаясь, потому что горбун был зол, он прибавлял, искоса поглядывая на Жанну: «Его околдовала девчонка… и не удивительно!.. ведь она цыганка!.. Но ей пятнадцать лет, а ему пятьдесят два года… неужели он захочет?.. Э!.. э!.. цыпленок которого поджаривают на вертеле и которого съедят с жадностью, когда он будет готов…»
Алэн Бриду рассчитывал не совсем верно. Феррон действительно старательно поджаривал цыпленка на вертеле, но не ему пришлось им полакомиться.
Между тем доброе дело как будто принесло ему счастье: дела адвоката преуспевали. В начале 1539 года у него было столько занятий, что он был вынужден взять для Алэна помощника. Второй клерк был сыном золотых дел мастера, давно уже соединенного узами дружбы с Жаном Ферроном. Его звали Рене Гитар. То был семнадцатилетний мальчуган, белокурый как созревший колос, нежный как агнец, прекрасный как амур и скромный как девушка. Феррон видел, как он родился, почему ему и не пришло в голову, что он поступает неблагоразумно, беря юношу к себе в дом.
Рене был давно уже прелестным юношей, способным внушить страсть, а Феррон все еще считал его за молокососа, у которого как говорится, материнское молоко на губах не обсохло. И в течение первых трех месяцев Рене вел себя так, что вполне оправдывал воззрение Феррона. Постоянно занятый работой, Рене даже и за столом открывал рот только для того, чтобы есть и пить, так что Феррон иногда его спрашивал уж не онемел ли он. — что заставляло краснеть до ушей мальчугана и сильно смеяться Жанну. «У Рене совсем глупое лицо!» шептала она на ухо адвокату. И тот был совершенно с этим согласен. В том убеждении, что Рене не выдумает пороха, а потому не опасен, он охотно дозволял ему по вечерам делить компанию с Жанной.
Феррон сделал ошибку, предоставив Жанне образовать Рене, потому что действуя, таким образом, он лишал себя возможности привести в исполнение одну из самых дорогих своих грез. Та симпатия, которую он почувствовал при виде дочери цыганки, не замедлила перейти в любовь, и в любовь тем более пламенную, что чувствуя стыд, он самым заботливым образом скрывал ее. Не сознаваясь самому себе, Феррон понимал все безумие своей любви к девочке; он понимал, что если бы для обладания ею, он не колеблясь решился принять адские муки, добровольно она не согласилась бы соединить свои младые лета с его зрелостью.
Он понимал всё это, и вот почему не осмеливался сказать Жанне: «Я люблю тебя!» А между тем он любил, — любил с каждым днём всё с большею яростью. Вдали от нее, часы казались ему веками, — вблизи — секундами. Днем он желал, чтобы она постоянно находилась с ним и продолжал заниматься ее образованием. Ночью часто, на цыпочках он подходил к ее двери, чтобы подслушать ее спящее дыхание.
Кто передаст мысли, кипевшие тогда в его мозгу! В одну ночь он не выдержал. Доверчивая как ребенок. Жанна оставила дверь своей спальни не запертою… Дрожащей рукой адвокат отворил дверь и проник в комнату. Луна, проникая сквозь ставни, освещала постель девочки, которая покоилась в самом обольстительном беспорядке, закинув свои белые ручки за голову, с полуобнаженной грудью.
Феррон приближался, задыхаясь. Но она сделала движение… с ее губ сорвался какой то лепет… Он бежал как вор, застигнутый на месте преступления. На другой день после нескольких часов тревожного сна, Жак Феррон сказал самому себе: «Нужно кончить! Я слишком люблю ее! Она должна быть моею, а для того, чтобы быть моею, она будет моей женой!..»
Но когда, по обыкновению, каждое утро, видя его входящим в комнату, где она приготовляла завтрак, Жанна говорила ему: «Здравствуйте, отец!» адвокат чувствовал, что намерение его изменялось.
Месяца два, три прошли, ничего не изменив в их отношениях. И если бы не случай, о котором мы расскажем, Феррон, быть может, долго бы еще не сделал объяснения. Этот случай доказывает что на самом деле: «Несчастье иногда ведет к добру!»
Несчастье в этом обстоятельстве явилось для Феррона под видом Рене Гитара… Но как иногда бывают различны взгляды! В этом несчастии Жанна была совершенно расположена видеть счастье.
Это случилось весной, в воскресенье, после полудня; Феррон отправился из дому по важному делу; Алэн Бриду также был в городе, Жиборна на кухне готовила обед, Жанна, сидя у окна в нижней зале вышивала.
Напротив нее, сидя на скамье, Рене читал вслух историю добродетельных первосвященников и благородных князей, именуемых Маккавеями, переведенную с латинского на французский Шарлем Сен-Желей, архиепископом Ангулемским.
Чтение было самое нравственное, а потому, без сомнения, всего менее способное внушить игривые мыли, но в таком, конечно, случае когда его слушают. Но Жанна не слушала в эту минуту чтения, она слушала и особенно смотрела на чтеца.
Жанна, на самом деле, была невинна, но во-первых у ней в жилах текла кастильская кровь, а во вторых, каким образом допустить, чтобы девочка, которая до четырнадцати лет странствовала по свету то там, то сям, не видала некоторых вещей, о которых, быть может против ее воли, она должна была вспомнить и испытать в лишь шестнадцать.
И вот, останавливая клерка на самой середине похождений Маккавеев, Жанна быстро сказала ему:
— Как вы далеко сидите от меня, Рене!.. Почему это?
Рене с изумлением взглянул на вопросительницу.
— Но я там, — возразил он, — где имею привычку сидеть….
— Привычку! привычку! Подойдите же! К тому же эта книга не занимает меня. А вас она занимает, или вы предпочитаете поговорить?
— Поговорить?.. о чем же?
— О чем, о чем! Который вам год, Рене?
— На Рождестве будет семнадцать.
— Вы шестью месяцами старше меня. Вы уж мужчина и скоро задумаете жениться?
— Жениться?.. Что вы!..
— Вы не хотите жениться!?
— Я еще очень молод для этого.
— Ну, а если бы вы кого-нибудь любили?.. Вы кого-нибудь любите?..
— Я… да… только… право…
Клерк не понимал более где он… тем более, что спрашивая таким образом, Жанна рассматривала его как то особенно странно. Он приблизился к ней настолько, что стулья их соприкасались; Жанна уронила свое вышиванье, Рене — книгу.
— Ну же? — прошептала она, прислоняя свою голову к плечу Рене. — Вы не хотите мне сказать, кого вы любите? Вы отказываетесь взять меня в свои наперсницы.
— О нет!.. Я не… Только…
Рене не кончил; когда он бормотал эти слова, его белокурые волосы смешались с черными кудрями Жанны; вдруг дверь залы отворилась и в ней показался человек с бледным лицом и дрожащими членами… Это был мэтр Феррон.
Войдя таким образом, что дети его не слыхали и удивленный тем, что не слышит чтения, за которым он их оставил, адвокат ощутил подозрение и приложил ухо к двери. Но он и тут не услыхал ничего больше, так как ни Жанна, ни Рене не считали нужным кричать…
Но безмолвие тоже бывает красноречиво. Это-то красноречие заставило побледнеть Феррона, в своем собственном интересе не желавшего продолжения немого разговора между молодыми людьми.
Рене, дрожа, встал при внезапном появлении жестокого хозяина. Стараясь казаться спокойной, Жанна подняла свою работу и спросила:
— Это вы, папенька?
Отец не отвечал дочери; он пальцем показал клерку на отворенную дверь и сказал ему хриплым голосом:
— Уходи! уходи скорее! Я тебя выгоняю! И если ты дорожишь своей шкурой запомни, — никогда, никогда не переступай порог этого дома!..
Жанна в свою очередь испугалась. Согнувшись вдвое, как собака под плетью хозяина, бедняжка Рене убежал, не сказав ни слова.
— Но как же… — воскликнула молодая девушка.
Феррон бросился к ней и тем же глухим голосом, подобным отдаленному грохотанью грозы, сказал:
— Жанна, ты хочешь, чтобы я убил этого мальчика?
— Убить?.. О, Боже! но за что же вы убьете его?
— За то, что ты его любишь.
— Я его люблю? вы ошибаетесь! Я не люблю его.
— Любишь:
— Нет!..
— Поклянись!
— Я… Ну, а если бы я любила его, что бы в том было дурного?
— Что бы было? Ах! Ты не предвидела, что я тоже люблю тебя, Жанна! Люблю всею силою моей души..: Я думаю только о тебе! Я живу только для одной тебя!.. К чему ты бежишь?.. Моя любовь тебя ужасает!.. Но подумай, мое дитя, что эта любовь для тебя настоящее и будущее… счастье… богатство!.. Вместе с сердцем я предлагаю тебе мою руку. Скажи, ты не надеялась на такую блестящую будущность? Ты будешь моей женой, Жанна, — моей женой: я так решил. Ты будешь носить мое имя, будешь обладать всем, что я имею. О! если бы ты знала, как я тебя люблю. Я полюбил тебя с первой минуты, как тебя увидел. Правда, я уже не молод; у меня уже седые волосы; но что за дело если моему телу пятьдесят лет, когда моей душе только двадцать. А около тебя, слышишь ли, мне только двадцать. Ты моя первая и последняя любовь. Отвечай. Ты согласна? Без меня, где бы ты была теперь? Ты переходила бы из города в город, без пристанища и хлеба, и притом не моя вина, что мать твоя умерла. Я сделал все, чтобы сохранить ее… И если бы ты спросила у своей матери должна ли бы ты сделаться моей женой, я уверен, она ответила бы «да!» Жена адвоката, богатого адвоката, — ты будешь завидовать своей участи, Жанна! Неправда ли, ты согласна? Я сейчас рассердился, когда застал тебя и Рене… Я был неправ. Разве ты можешь любить этого ребенка? Ты смеялась, ты шутила с ним… вот и все, и я радуюсь, что он доставил мне случай высказаться. Твою руку, дай мне твою руку, моя Жанна, как доказательство твоей благодарности. О, будь спокойна? если ты еще не любишь меня как мужа, я буду терпелив, пока ты будешь приказывать, и останусь твоим отцом, твоим другом. Но подумай, по крайней мере, когда мы женимся, не буду больше бояться, что нас разлучать. Моя прелестная, моя возлюбленная, Жанна, что ты ответишь мне? — в третий раз спросил он.
— А что если я не соглашусь? — спросила она.
Он вздрогнул.
— Я начну с того, что убью Рене, — ответил он, — потому что ты доказала бы мне, что ты его любишь, доказала бы, что ты солгала мне…
Она пожала плечами.
— Нет, я не солгала.
— Почему же ты отказала бы мне?
— Не знаю. Вы говорите, что предлагаете мне счастье, но если я сделаюсь вашей женой, я захочу выходить на прогулку чаще, чем теперь.
— Ты будешь выходить каждый день. Мы будем каждый день прогуливаться.
— Потом, вы также обещаете мне, что дадите мне время полюбить вас как мужа?.. быть может это будет продолжаться не долго, но привыкнув видеть в вас только отца…
— Обещаю тебе это еще раз, Жанна! Я дам тебе время, сколько ты хочешь, чтобы полюбить меня как мужа.
— Вы клянетесь?
— Клянусь.
— Так покупайте мне подвенечное платье.
Через неделю Жанна стала мадам Феррон.
* * *
Глава III,
доказывающая, что адвокат Феррон сделал бы лучше,
если бы не женился на Жанне
Увы! женясь на Жанне, Феррон не подозревал к каким мукам приговорил он самого себя. Желать того, чего не иметь, быть может страдание, но страдание, ослабляемое надеждой иметь то, чего желаешь, но обладать и не обладать, быть властелином сокровища и не иметь права коснуться его, — о, какое наказание! И это-то наказание было уделом Феррона с тех пор, когда он женился на Жанне.
Свадьба происходила без шума и великолепия, в той самой церкви, аббат которой был приятелем адвокату. Церемония завершилась обедом, на котором присутствовал сказанный аббат, двое старых коллег Феррона и Аллен Бриду, его клерк.
За десертом Аллен попробовал оживить праздник, пропев песню, которую он сочинил но этому поводу. Но певец пел так фальшиво и песня была так печальна, что Жанна оборвала ее на втором куплете.
— Довольно! — сказала она. — Мне кажется, я слышу de profundis.
Алэн улыбнулся своей злой улыбкой.
— Делают, что могут, — возразил он. — Я ведь не поэт.
— Вам не было нужды и объяснять этого, — заметила Жанна.
За эти слова горбун возненавидел жену своего хозяина. Маленькие причины порождают, как известно, великие следствия. Свидетели и аббат простились; Аллэн Бреду отправился на свой чердак… Наконец Феррон остался один со своей женой. Жанна сидела задумчивая, облокотившись на стол.
— О чем вы думаете, мой друг? — сказал Феррон. Она вскочила, как будто кто-нибудь ее нечаянно разбудил ото сна.
— Я?.. — возразила она. — Ни о чем.
— Вы быть может устали?
— Немного, да.
— Если бы вы успокоились?..
— Вы правы; я пойду ложиться спать.
Она хотела взять светильник; муж предупредил ее.
— Не позволите ли вы, чтобы я проводил вас в вашу спальню?
Она сделала утвердительный знак.
Спальня Жанны была настолько изящна, на сколько могла быть изящна в XVI веке спальня горожанки; и особенно в последние восемь дней Феррон старался украсить ее, наполняя ее дорогими вещицами, венецианскими зеркалами, статуэтками и картинами.
Когда адвокат вошел в эту комнату, он испустил вздох удовольствия: храм был достоин своего идола. Он поставил свечу на стол и сел; Жанна стояла неподвижно.
— Не разденетесь ли вы? — сказал он.
На этот раз Жанна отрицательно покачала головой. Он продолжал, смягчая свой голос:
— Муж, моя Жанна, имеет право присутствовать при ночном туалете своей жены,
— Муж — это возможно. Но вы дали мне обещание остаться моим отцом столько времени, сколько я пожелаю.
Феррон нахмурился. Он не рассчитывал, чтобы ему напомнили так скоро о его обещании. Однако он встал.
— Пусть так! — ответил он. — Я вас оставляю. Но отцу позволительно поцеловать своего ребенка.
Она подставила ему лоб.
— О. Жанна, Жанна! — прошептал он. И в то же время, прижав ее к своей груди, своими жадными губами он отыскивал губы молодой девушки… Но она с силой оттолкнула его.
— Ах! — вскричала она. — Не заставьте меня уже раскаиваться в том, что я согласилась выйти за вас замуж…
Феррон с минуту мрачно смотрел на свою жену. На молодом лице женщины выразилось все внутреннее чувство, и это чувство было не что иное, как отвращение. Несчастный бежал в свою комнату, где целую ночь чей то голос повторял ему: «Она не полюбит тебя никогда. Ужас со временем проходит но отвращение никогда! никогда!»
Но кто склонится даже перед доказательством если это доказательство находится в противоречии с его желаниями? На другой день адвокат говорил самому себе: «я буду так добр к ней, что заставлю ее полюбить меня.»
Мэтр Феррон опять-таки обманывался. Сердце не покоряется благодеяниями. Любовь — маленький, неблагодарный божок, который двадцать девять раз из тридцати повернется спиной к тому, кто посвятил свое золото и кровь для равнодушного эгоиста. Жанна наружно выказывала благодарность к своему мужу, но в сущности не питала к нему ничего. Когда через месяц терпения и преданности, Феррон умолял свою жену наградить его нежностью, она оттолкнула его.
Это было уже слишком; на этот раз мужчина возмутился.
Был тоже вечер, в той же самой комнате, в которой он в первую ночь брака пробовал умолять ее, Феррон сказал жене:
— Я люблю тебя, Жанна, больше чем когда либо: хочешь любить меня?
— Как отца, — всегда, отвечала она.
— А! как отца! — повторил он. — Слушай же Жанна: я устал повиноваться… я приказываю в свою очередь… Ты все хочешь обращаться со мной, как с отцом… Здесь нет отца…. здесь любовник… здесь муж… Сегодня, ночью, ты будешь вся принадлежать мне…
Говоря таким образом, с наполненными кровью глазами, со свистящим дыханием, он готовился броситься на Жанну.
Она быстро наклонилась, и подняв юбку, выхватила из-за своего пояса стилет который она носила как все дамы и даже испанские крестьянки того времени. Потом, открывая свою грудь, она сказала:
— Вы возьмете меня, только мертвую. Потому что, клянусь вам душой матери, от которой я получила этот кинжал в наследство, если вы сделаете ещё шаг, я убью себя!..
Феррон сделал три шага… только назад.
— Ах, так ты очень меня ненавидишь! — простонал он.
— Нет! — возразила она, — я вас не ненавижу. Напротив, я питаю к вам глубокую дружбу… Но то, чего вы хотите… это сильнее меня… мысль принадлежать вам — меня ужасает! Мне кажется, что мое тело похолодеет от ваших поцелуев. Погодите… погодите еще! Быть может это чувство отвращения, о котором я сама сожалею, исчезнет…
Феррон плакал, плакал как ребенок.
— Я проклят! — воскликнул он и удалился.
* * *
Между тем как ни тайно совершился брак Феррона и Жанны, о нем много говорили в Париже. Только один двор не знал еще об этом приключении. Заслуга занять короля Франциска I прекрасной Фероньеркой или Фероншети, как уже начинали звать жену Феррона, — принадлежит человеку великого таланта Клеману Маро, переведшему французскими стихами Псалмы Давида. Кроме того на его обязанности лежало отыскивание каждый день женщин, способных оживить несколько пресыщенный аппетит его высокого покровителя. Это была печальная обязанность, но и Франциск I был печальный король. Хотя он и украсился титулом Возродителя наук и искусств.
Известно также, что Франциск I дал привилегию проституткам под надзором Сесилии де Вьефвилль следовать за двором повсюду. А потому нечего удивляться, что поэт, не слишком-то наполненный принципами нравственности, для того, чтобы понравиться своему повелителю, отыскивает для него в других местах менее пошлые развлечения.
* * *
Клеман Маро ненавидел судейских, которые очень сурово поступили с ним во время процесса с Сорбонной, и против которых в тюрьме он написал кровавую сатиру под названием «Ад». Быть может эта ненависть поэта к классу подьячих немало содействовала тому, чтобы бросить прекрасную Ферроньерку в объятия Франциска I. Клеман Маро встретил Феррона и его жену на прогулке в Пре-о-Клерк, и с первого же взгляда решился занять ею короля, хотя Феррон поспешил увести Жанну…
Через два дня, зная что адвокат в отсутствии, поэт на всякий случай, переодевшись крестьянином, отправился в улицу Шартрон. Встреченный Жиборной, от которой он потребовал поговорить с ее господином, он был уведомлен, что самого господина нет дома, а остался клерк.
— Так проводите меня к клерку! — сказал Маро после некоторого колебания.
Алэн Бриду даже не привстал при виде этого мужика с глуповатой физиономией, с тяжелой поступью, но едва удалилась Жаборна, затворив за собой дверь, как мужик заставил клерка принять во внимание свое посещение. Подойдя к нему, с кошельком в одной и с кинжалом в другой руке, Маро сказал:
— Выбирай: или это в твой карман, или вот эту штуку в твое горло.
Горбун, хотя и испуганный, не потерял однако рассудительности.
— Чтобы не надо было других объяснений, дорогой господин, я выбираю вот это… — И он указал на кошелек.
— В добрый час! — одобрил Маро. — Отвечай же мне: мэтр Феррон в суде?
— Да.
— А жена его — дома?
— Да.
— Ты меня к ней проводишь.
— Провожу.
— И пока я буду говорить с ней, ты будешь наблюдать, чтобы колдунья, которая отперла мне, не помешала нам.
— Я буду наблюдать…
— И ты устроишь так, что если мэтр Феррон возвратится ранее обыкновенного…
— Я предупрежу вас.
— Отлично! Вот кошелек. Да! еще два слова. Ты запомни, что если я преуспею в своем намерении, ты получишь от меня еще двадцать турских ливров в будущем.
— Итого сорок. Хорошо.
— Но успею ли я, или нет, ты припомнишь также….
— Что если и открою рот для хозяина о вашем посещении, кинжал пойдет в дело. Напрасное предупреждение, монсеньор. Что я выиграю от этого, разве только то, что мэтр Феррон убьет меня прежде вашего?..
— Отлично сказано! Право, мой милый, ты мальчик с чувством. Я полагаю, что ты получишь свои сорок ливров.
— Поверьте, что я сделаю все для этого.
— Без сомнения!
— Без малейшего.
— Так ты не любишь своего хозяина?
— Гм! кто любит своих господ? Но я особенно не люблю госпожу Феррон.
— Почему?..
— Потому что она очень хороша…
— А ты уродлив. Понимаю: история жабы и розы. Не имея возможности вдыхать ее ароматы, жаба не может выносить общества розы.
Алэн Бриду сделал гримасу. Метафора, хотя она и была верна, не очень-то ему понравилась.
— Но все таки, — снова заговорил Моро, — я доволен, что имею дело с умным бездельником. Проводи же меня, мой друг.
— Я вас жду.
* * *
Жанна была в своей комнате. Со времени своего замужества, она взяла привычку оставаться в ней; ей было лучше там со своими мыслями. Сидя у окна, она занималась тем же вышиванием, которым занималась во время чтения Рене Гитара.
Входя в сопровождении горбуна в комнату Жанны, Маро скинул с себя прическу крестьянина. В 1539 году Маро был привлекательным кавалером. И если Жанна ощутила некоторое смущение при внезапном появлении незнакомца, по крайней мере в этом смущении не было ничего неприятного. При том же поэт не дал жене адвоката ни минуты на размышление.
— Мадам, — сказал он, — меня зовут Клеман Маро; я первый камердинер нашего государя, короля Франции и прислан к вам Его Императорским Величеством, чтобы сказать вам, что он вас видел, заметил и находит неудобным для вас, такой прелестной, принадлежать человеку таких зрелых лет, как мэтр Феррон.
Жанна покраснела. Король ее видел… Король заметил ее!.. Это было лестно… Но чего хотел достигнуть король?
— А дальше? — спросила она.
— Дальше? — переспросил Маро. — Но это очень просто, а что просто, то и объясняется просто. Вы не можете любить вашего мужа.
Жанна испустила очень красноречивый вздох.
— Следовательно, — продолжал поэт, — для вас не будет трудно разлучиться с ним.
Последовал новый вздох, на этот раз сопровождаемый такими словами:
— Но что станется со мной, когда я разлучусь с мужем?
— Вы станете подругой самого прекрасного и любезного из королей.
Жанна склонила голову.
— Самого прекрасного… говорят, это правда, — заметила она. — Но самого любезного?
— Он вас уже любит, почему бы и вам не полюбить его?
Жанна опустила глаза.
— Сердцу нельзя приказать. Если бы я сама уже любила всеми силами души другого?
Маро никогда нельзя было застать врасплох.
— Так что же? — весело ответил он. — Вы любили бы и другого всеми силами души, немножко любя и короля. Ничего больше! Короли также мараются в грязи, как и прочие смертные; достаточно, чтобы они верили тому, во что желают верить, и они довольны. Рассмотрим случай со всех сторон: вы только можете выиграть, оставив этот дом, — я обо всем осведомился, мэтр Феррон ревнив как тигр и держит вас в заключении… Наконец поспорим, что принадлежа королю для вас будет гораздо легче принадлежать и другому, чем оставаясь с мужем.
— Правда; Феррон убил бы его, если бы застал его здесь.
— Но даже застав его у вас, король только засмеется.
— У меня? — повторила Жанна.
— Да, у вас, — с особенным ударением сказал Маро; — у вас, где вы будете королева и повелительница, куда никто не проникнет без вашего позволения. Его Величество уже озаботился о жилище, которое предназначается для вас.
— И я буду в безопасности?..
— От всего. Когда король Франции подает вам руку, сударыня, неужели вы сомневаетесь, что эта рука не сможет защитить вас ото всего?.. Я возвращаюсь к Его Величеству. Скажу ли я ему, что вы согласны исполнить его желание?
— Но…
— Но вы спрашиваете, как мы возьмемся за это дело, чтобы избавить вас от вашего старикашки? Это уже наша забота; вы об этом не беспокойтесь. Согласимся только в наших действиях. Два раза в неделю, — я также знаю и это, — вы моетесь у Доброй Самарятянки в улице Женских бань?
— Да. Но муж провожает меня в них и приходит за мной.
— Хорошо! хорошо! Какой теперь день? понедельник? Итак в будущую пятницу мэтр Феррон может, по своему обыкновению, проводить вас в баню, но что касается обратных проводов, это я ему запрещаю.
— Однако!
— Однако, когда пройдет час, то как в нашем интересах, так и в интересах господина Феррона, — ясно что он рассердится и заставит меня рассердиться в свою очередь, — лучше ему там не показываться. Я прошу от вас окончательного решения: да или нет? — В пятницу угодно ли вам будет оставить старого и дурного мужа, ради прекрасного и молодого любовника? Бедного адвоката ради для великого короля?
Жанна склонила голову. В ней началась жестокая борьба. Действительно ее муж был и стар и дурен, но он был муж и так любил ее! Быть может, он умрет, если она оставит его?
— Полноте! — продолжал лукавый Маро. — Припомните, что я вам сказал: Его Величество не из тех сердитых любовников, которые налагают цепи и окружают предмет своей нежности цепями. Ему пятница… суббота, если хотите для другого. Сначала удовольствие и богатство, потом счастье. Потеряет только ваш муж.
Прекрасная Ферроньша задрожала от страсти. Ей представился улыбающийся образ Рене.
— Делайте, как знаете, мессир, — пробормотала она.
— Хорошо. В пятницу, в полдень. Один за господина, другой за себя!.. — и проговорив эти слова Маро два раза поцеловал руку Ферроньеры; потом он удалился.
* * *
Римляне первые ввели в Галлии обычай принятия паровых бань. При королях второй расы обычай этот почти вышел из употребления, но возродился во время крестовых походов с такой пышностью, которая продолжалась до половины XVII века. В это время бани в Париже существовали в таком множестве, что их можно было встретить на каждой улице. Любовь, проституция и распутство привлекали в бани всего сильнее, находившиеся в самых глухих переулках; мужская и женская прислуга этих святилищ посредствовала в свиданиях и удовольствиях; часто секретный проход соединял мужские бани с женскими… Одним словом, бани служили притонами разврата.
Но бани Доброй Самаритянки, находившиеся на небольшой улице, около Тампля, и носившей то же название, из всех подобных заведений в Париже пользовались особенно доброй славой, и в них безопасно для своей чести могла зайти каждая добропорядочная женщина. Вот почему Феррон избрал их для своей жены. Одни только женщины мылись в этих банях, содержимых старым брадобреем Гагеленом и его женой.
Уверяли, что ни за какие деньги г-н и г-жа Гагелены не согласились бы впутаться в интригу. Чтобы наложить на их репутацию пятно, потребовалось ядовитое воображение поэта и всемогущество развратного короля.
Пробил полдень, когда верная назначенному свиданию Жанна, под руку с мужем подошла к Доброй Самаритянке. С самого своего разговора с Маро Жанна была смущенной и беспокойной. Даже в это самое утро Жанна чувствовала себя не в расположении.
Но когда она еще боролась сама с собой, Феррон, движимый какой-то роковой случайностью, бросил на нее такой взгляд безнадежной любви, который был для нее ужаснее всех угроз. С этой минуты, она не колебалась. Лучше угрызеня совести, чем долее жить с этим мрачным обожателем.
Г-н и г-жа Гакелены встретили г-на и г-жу Ферронов на пороге. Входя, Жанна невольно оглянулась кругом, тайно рассчитывая на какой-нибудь необыкновенный случай. Но всё у «Доброй Самаритянки» было точно также — и люди и вещи, всё имело свою обычную физиономию.
— Если вам угодно зайти, — сказала г-жа Гакелен, — всё готово.
— Я следую за вами, — ответила Жанна, которая подумала: «король, где-нибудь здесь; меня к нему проводят».
Феррон удалился, сказав «до свиданья!» своей жене. Идя впереди, г-жа Гакелен переступала ступени, не произнося слова, и наконец вошла в особенную залу в которой обыкновенно мылась Жанна. Рядом с этой залой был маленький кабинет, в котором мывшиеся женщины оставляли свою одежду.
— Когда я понадоблюсь вам, вы меня позовете, — сказала г-жа Гакелен и затем исчезла.
Жанна была изумлена. Что это значило? Клеман Маро, первый камердинер короля не посмеялся ли над нею? К чему эта насмешка?.. А! быть может, когда она будет в бане!.. По стыдливому движению она заперла дверь, выходившую на лестницу. Потом она начала раздаваться. Еще нисколько секунд, и совершенно голая, но целомудренная в своей наготе, как девственница (какой она и была, если не душой, так телом), она вступила в баню. Эту залу слабо освещало из круглого отверстия, сделанного в потолке; напротив шара раскаленного до бела находилась ниша, устроенная в стене, куда садились моющиеся.
Прошло минут сорок, как Жанна покоилась в бане, отдавшись полусну, произведенному в ней и сладостью бани и ее собственными грезами, как вдруг к ней постучались.
— Кто там? — вскрикнула она.
— Я, — отвечала г-жа Гакелен. — Время вам отправляться. Вас ждут.
Время отправляться!.. Обыкновенно Жанна проводила в бане два часа; хотя вовсе не заботясь о том, чтоб рассчитывать время, она была уверена, что двух часов в бане она не провела… Но стук раздался снова и стук почти повелительный. Какой то свет блеснул перед Жанной.
— Кто же меня ждет? — спросила она, направляясь к двери,
— Вы увидите внизу, был ответ.
Для Жанны было ясно только одно, что муж не мог так скоро вернуться за нею. И притом же вместо того, чтобы сказать: «вас ждут» г-жа Гакелен ответила бы: «вас ждет мэтр Феррон.»
Когда ее в баню не сопровождала Жиборна, которая была страшно неловка, сама г-жа Гакелен помогала Жанне вытереться, одеться, и причесаться, и в этот раз банщица явилась к ней на помощь; она даже с большей роскошью и совершенством окончила своя занятия, чего не могла не заметить Жанна,
Между тем, отдавшись попечениям банщицы, прекрасная Ферроньера, которую пожирало любопытство и нетерпение, непрестанно повторяла первой, пристально смотря на нее: «Кто же меня ожидает? Кто ожидает?»
Но та оставалась немой и слепой.
Наконец, туалет Жанны был окончен. Предшествуемая г-жей Гакелен, она вошла в переднюю, в которой обыкновенно дожидались мывшихся женщин их отцы, мужья или братья. Обыкновенно эта комната была переполнена народом, но на этот раз в ней сидело только двое: Франциск I и Маро.
Жанна никогда не видала короля, но она слышала как говорили о нем. Она ни на минуту не усомнилась в его личности. И отдадим справедливость Франциску, он за всеми недостатками был очень красив собой, известно, что он был колоссального роста, благородной и грациозной наружности. Голова его была, по истине, прекрасна.

Франциск I Французской. С картины Жана Клюэ
Небольшие, но хорошо прорезанные глаза, были живы и полны ума; на его свежих и полных губах играла улыбка, напоминавшая улыбку фавнов и сатиров, и именно подобная улыбка осветила его лицо при виде Жанны. Он был одет подобно Клеману Маро в костюм стрелка, простота которого, ни сколько не отнимая у него величия, напротив, казалось; придавала ему его еще более. Он снял свой ток, и приветствуя прекрасную Ферроньерку, проговорил звучным голосом:
— Слово дворянина, испанская пословица права: А unque io sia mоriса no say de menos preciar! Никогда во всю мою жизнь я не видал такой восхитительно прелестной особы, как вы. Поверьте, мне нужна была сила характера, чтобы не сказать этого раньше.
Хотя и не уловив скрытного смысла комплемента, Жанна опустила глаза. Франциск I продолжал, обращаясь к Маро:
— Теперь я понимаю внезапную страсть, которую вид Вирсавии в купальне зажег в сердце царя Давида.
Вирсавия… Давид… Жанна, как мы знаем, читывала священную историю; из красной, она стала огненной: она поняла наконец.
— Государь!.. пробормотала она.
— Полноте, прекрасная дама! прервал король, подавая ей руку. — Неугодно ли, мы проводим вас до вашего отеля.
Носилки, везомые двумя разукрашенными мулами, и оберегаемые четырьмя служителями, стояли у дверей Доброй Самаритянки, куда толпа стрелков загораживала вид. Сопровождаемая королем, еще дрожащая от стыда, Жанна готовилась занять место, когда ее слуха коснулся душераздирающий крик. Этот крик вылетел из груди Феррона.
Он раньше обыкновенного шел за женой в бани и еще с тампльского перекрестка заметил стрелков, расставленных у заведения Гакелена. Что тут делали эти стрелки? Феррон ничего не подозревал, но машинально ускорил свой шаг. Он был не больше как во ста шагах, когда увидал Жанну под руку с королем. О! адвокат очень хорошо знал короля и сразу узнал его, когда тот выходил из бани и приближался к носилкам. Проклятье! У него забирали его Жанну!.. Он не мог сомневаться!.. Опьянелый от ярости, Феррон бросился вперед.
Но Маро видел Феррона и сделал знак. Начальник стрелков отдал приказ. Двадцать человек в два ряда окружили королевские носилки. Феррон не отдавал себе отчета в этом передвижении. Он находился в таком расположении ума, когда не признают возможности препятствия. Если бы целая армия стояла перед Ферроном, он бросился бы и на армию… Так же он бросился, наклонив голову, на воинов короля, и с такой силою, что удивленные, трое из них отскочили. Но сама сила нападения была гибельна для нападающего. Правда, он пробил брешь в стене, но к несчастью ударившись о бригандины, — железные латы, которыми были покрыты стрелки, — Феррон остался на месте, качаясь и в беспамятстве. В то же время один из солдат, которого он должен был свалить, ударил его по затылку рукояткой своего меча.
Бедный адвокат покатился, обливаясь кровью.
* * *
Глава IV,
в которой вследствие печали, что не имеет другого,
Жанна начинает иметь других.
Жанна была любовницей короля, но, между нами, этот дьявол-Маро подложил несколько сенца перед быками, сказав ей, что его величество влюблен в нее. Всего вернее то, что он, когда явился в улицу Шартрон, без сомнения, уже говорил королю о жене адвоката, как о достойной его победе, но его величество, — и не занялся этим предложением галантного ловца. Во первых потому, что по возвращении из Испании он бросил графиню Шатобриан, которая была брюнеткой, и взял герцогиню д’Этамп, тогда еще мадемуазель д’Элки, бывшую блондинкой, потому что он выказывал глубокое отвращение к брюнеткам.
* * *
Между прочим, Брантом по поводу этих двух любовниц рассказывает следующей анекдот:
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
