
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Жизнь прожить — не поле перейти
Художественное оформление Р. Зюзина
Предисловие Г. В. Забиняковой
Редактор Ф. Зюзина-Шнайдер
В книге использованы фотографии
из семейного альбома автора
Воспоминания Василия Зюзина — свидетельство о времени и себе. Первый том связан с жизнью автора в Казахстане. Цель его книги: сохранить память о малой родине, о своих предках и земляках, о былом, а значит — сохранить свою душу.
Публикуется в авторской редакции
Посвящаю родителям
Екатерине Ивановне и
Никите Ивановичу Зюзиным,
преждевременно ушедшим
из жизни в годы Великой
Отечественной войны
Книга «о времени и о себе»
Человек —
сродни дереву:
без корней жить он
не может.
Корни эти незримы, ибо
таятся в глуби
родимой земли.
Роберт Вебер
Книга В. Н. Зюзина «Жизнь прожить — не поле перейти» — исповедь человека, в судьбе которого отразилась частица истории страны. Автор принадлежит к особому «гвардейскому» поколению, отличающемуся лучшими человеческими качествами: духовным богатством, принципиальностью, честностью, правдивостью, высоким профессионализмом, неравнодушием к судьбе своей Родины. Обычно в предисловии принято знакомить читателей с биографией автора. В данном случае это неуместно, потому что автор сам рассказал в книге «о времени и о себе» в таких подробностях, что невозможно не восхититься его исключительной памятью. Авторское повествование основано на абсолютно достоверных фактических событиях.
В своеобразной «летописи» В. Н. Зюзин поставил перед собой цель: рассказать не только о себе, но и о своём поколении, о тружениках земли; причем пишет автор о них с особой сердечной теплотой. В воспоминаниях автора использованы уникальные личные наблюдения, реальные случаи, богатый жизненный опыт — все это придает книге неповторимую индивидуальность. С одной стороны, интересны сведения автора о самом себе, с другой — его оценка событий и людей, с которыми сталкивала его судьба. Особый колорит придают повествованию интересные случаи, весёлые эпизоды, живые и яркие портреты родных и коллег. Главный редактор казахстанского журнала «Аграрный сектор» Н. Н. Латышев писал об опубликованных отрывках из воспоминаний В. Н. Зюзина: «Это живое восприятие начала великой эпопеи человеком, который всю жизнь посвятил работе с землёй, выращиванию хлеба…»
Книга состоит из двух томов. В первом томе воспоминаний, который состоит из шести отдельных частей, речь идёт о жизни автора в Казахстане, о становлении его личности, о выборе профессии, рассказывается об истории родного и других сёл, а также г. Кокшетау, где он трудился.
Ещё и о том, как В.Н.Зюзин постепенно пришёл к призванию своей жизни — агрономии. Ею он живёт и сегодня. Находясь в Германии, автор постоянно следит за ходом сельскохозяйственных работ в родном краю, регулярно публикуется в казахстанском журнале «Аграрный сектор».
Василий Никитович, работая двенадцать лет директором совхоза на моей родине, ввёл за этот период различные новшества, улучшающие условия жизни и труда сельчан. Самые значимые из них:
— после трёх лет его руководства совхозом показатели по механизации трудоёмких процессов в животноводстве вышли на первое место среди совхозов Володарского района, во всех отделениях совхоза была освоена двухсменная работа доярок, что позволило значительно сократить их рабочее время и улучшить условия труда;
— после первых пяти лет во всех сёлах отделений совхоза были построены котельные для центрального отопления школ, клубов и нескольких жилых домов, а также общественные бани, летние культурные дойки с закрытыми помещениями, душевые для животноводов;
— по его инициативе в хозяйстве были изготовлены высокоэффективные автоматы по изготовлению резиновых скребков для кормораздатчиков, а также для поделки гвоздей и заклёпок; в животноводстве стали использоваться мобильные запарники концентрированных кормов новой конструкции и клетки для содержания телят;
— показатели по урожайности зерновых культур и кукурузы на силос за несколько лет работы В. Зюзина вышли на первое место среди совхозов Володарского района;
— на центральной усадьбе совхоза, в селе Казанка, построены первая в районе вальцовая мельница и спортзал для рабочей молодёжи;
— в третьем отделении, в селе Всеволодовка, построен двухэтажный клуб на 200 мест, который по оценке областных руководителей стал лучшим в области среди отделенческих домов культуры;
— во всех четырёх сёлах совхоза строились жилые дома по проектам, предназначенным для молодожёнов и многодетных семей, проезжие части большинства улиц были спрофилированы и засыпаны щебёнкой;
— в центре Казанки на тротуарах были уложены бетонные плитки и смонтированы светильники для ночного освещения, а также на части улиц уложен асфальт;
— администрация совхоза постоянно поддерживала инициативу учительского коллектива Казанской средней школы в развитии художественной самодеятельности; благодаря энтузиастам коллектив в районных смотрах неоднократно занимал первые места.
Автор также рассказывает о новом способе снегозадержания методом «ловушек», разработанном и внедрённом им лично. Этот способ заметно увеличивал урожайность сельхозкультур в совхозе и за его пределами.
Разработанный автором метод широко освещался в прессе того времени: было опубликовано множество статей в республиканских, областных и районных изданиях. Например, статья Н. Четвергова о методе эффективного снегозадержания под заголовком «Снег и хлеб» была издана в «Казахстанской правде» 30 декабря 1977 года.
Этой теме была посвящена и главная всесоюзная сельскохозяйственная передача «Сельский час», транслировавшаяся по центральному телевидению СССР.
Об этом событии в истории сельского хозяйства Казахстана писал Н. Н. Латышев, высоко оценивая его значимость: «В середине 70-х годов прошлого века известный казахстанский агроном и руководитель сельхозпроизводства Василий Зюзин предложил новый метод снегозадержания, который позволил получить существенную прибавку урожайности зерновых культур».
Профессиональную деятельность В. Н. Зюзина высоко оценивали в районе, о чем свидетельствуют многочисленные статьи в газетах того времени. Редактор районной газеты «Айыртау» В. Васильев вспоминал: «Его помнят коллеги как грамотного, принципиального агронома и руководителя, сделавшего много для развития сельского хозяйства нашего района».
Один из разделов книги повествует о работе В.Н.Зюзина в Кокшетауском областном управлении сельского хозяйства в должности главного специалиста, а затем начальника отдела земледелия. Особенностью этого периода жизни автора книги было то, что он совмещал исполнение своих служебных обязанностей с исследовательской деятельностью. На основе многолетних наблюдений им было сделаны две разработки, которые впоследствии засвидетельствованы Министерством юстиции Казахстана как его интеллектуальная собственность и признаны научными произведениями.
Научный сотрудник ТОО «Заречный» Акмолинской области Александр Макаров в своей статье «Загадки климата Северного Казахстана» так написал об этом в журнале «Аграрный сектор»: «…При этом В. Н. Зюзину надо отдать должное. Обладающий пытливым умом, рассудительностью и способностями к неординарному анализу, он впервые среди исследователей климата Северного Казахстана установил периодичность и динамику изменения урожайности зерновых культур в зависимости от колебаний климата.
Заслуга Василия Никитовича и в том, что он первым проанализировал обширный материал нескольких районов и областей, интересно и убедительно его интерпретировал для широкой общественности. Безусловно, результат исследований Василия Зюзина пополнит копилку знаний о климате и послужит в будущем для окончательной расшифровки «климатического кода».
Еще можно сказать об авторе этой книги, что он замечательный отец и дед, отличный семьянин, надежный друг. Обо всем этом читатель может узнать, прочитав книгу В.Н.Зюзина «Жизнь прожить — не поле перейти».
Но главную значимость книги определил А.И.Макаров в письме к автору после ознакомления с некоторыми её частями: «… особая благодарность за возможность прочитать Ваши уникальные воспоминания. Уже два дня хожу под впечатлением от прочитанного. В Вашем рассказе заметен философский посыл очень гуманного человека, который пережил нелёгкую, но интересную жизнь и который хорошо знает тяжёлый труд селянина, особенно в периоды исторических перемен.
…Василий Никитович, Ваш писательский труд обязательно должен приобрести форму полноценной книги. И эта книга должна быть в школьной библиотеке села Комаровки, в районной библиотеке этого района, в библиотечном фонде Краеведческого музея в Кокчетаве. Это стоит того! Для меня тоже было честью в своей скромной библиотеке иметь такую книгу.
Должна быть не только преемственность поколений, но и преемственность исторической информации. Вы являетесь прямым потомком первых переселенцев и хранителем памяти той поры, со временем цена Ваших воспоминаний будет только расти».
Г. Забинякова (Леонова)
Родное мое село
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой…
Иван Суриков
Комаровке уже более 100 лет, так как она образовалась в 1908 году. Мой дед по матери, Иван Иванович Фролов, был одним из первых поселенцев села. По его неоднократным рассказам, их переселение произошло в результате реформ Столыпина, который возглавил Российское правительство после революции и повсеместных крестьянских бунтов 1905 года. Пётр Аркадьевич Столыпин организовал на государственном уровне активную агитацию о переселении малоземельных крестьян на льготных условиях из европейской части страны на свободные чернозёмные земли Сибири, которые были богаты ещё и сенокосами, лесами, дичью и так далее. Для проверки достоверности такой агитации в те края предварительно выезжали делегации из авторитетных крестьян. Тем более что ещё до названной реформы самые отчаянные крестьяне самостоятельно переселялись в далёкую Сибирь.
Первое крестьянское село с 1861 года на Кокчетавщине было Кривозёрное (Володарское, затем Саумалколь). Несколько позже заселялись Антоновка, Кирилловка, Казанка (с 1895г.), Всеволодовка (с 1898 г.) и другие. Но ранее, ещё до крестьянских сёл, здесь были из сибирских казаков образованы станицы. Первая военная крепость Кокшетауская была учреждена в 1828 г., затем станицы Щучинская, Зеренда, Арыкбалык, Челкар, Аиртав (с 1848г.) и так далее. Так вот, в одну из делегаций пензенских крестьян в 1906 году входил и мой прадед Иван Денисович Фролов, который, вернувшись из теперешних мест Северного Казахстана, подтвердил на сельском сходе, что те места действительно богаты чернозёмными землями, сенокосными угодьями, строительными лесами и прочей благодатью.
Многие семьи, в том числе и мой дед, решили распродать своё имущество и в 1907 году навсегда переселиться в Западную Сибирь. Надо сказать, что мои предки были не совсем бедные люди, так как у них в частной собственности имелась ветряная мельница, которая приносила, по словам деда, некий доход. Но всё-таки возобладал соблазн заиметь больше земли. Для переезда по железной дороге до Петропавловска за счёт льгот правительства бесплатно выделялся один товарный («телячий») вагон на две семьи переселенцев. Разрешалось взять c собой одну лошадь с телегой, корову с телёнком, свиноматку, трёх овец, неограниченное количество птицы, домашний скарб и необходимые на первый случай в хозяйстве средства. Из Петропавловска переселенцы обозом поехали на юг до села Кирилловка, где ранее уже проживали их родственники, у которых они и пережили зиму 1907—1908 годов.
Получив к весне от властей официальное разрешение на поселение, они прибыли на землю, где теперь находится Комаровка. Расположившись стоянкой конкретно в том месте, где автодорожный въезд со стороны Саумалколя, они построили балаганы и стали ждать землеустроителей от омского генерал-губернатора. Через несколько суток ежедневно к их стоянке стали наезжать верховые казахи и требовать уехать с этого места, так как эти земли принадлежат им. С каждым днём верховых становилось больше, а их требование всё грознее. Землеустроители прибыли только через месяц и, показывая губернаторские документы с гербовой печатью, стали через толмача-переводчика убеждать местных людей в решении заселить крестьянами эту местность. Спор продолжался в течение недели, и с каждым днём казахов становилось меньше. В конце недели спор прекратился, и землеустроители приступили нарезать на приехавших усадьбы и сельские улицы.
Первым поставили символический крест с указанием будущего кладбища, где уже были похоронены два ребёнка, умерших в течение месяца. Затем определили центр села и поставили крест с назначением строительства будущей церкви. Последним делом землеустроители обозначили границы землепользования сельской общины с указанием полей пашни, сенокосов и выгона для скота. Пашню, сенокос и лесные участки наделяли по долям только в соответствии с числом мужских душ в семье. Местоположение наделов определяли по жребию, который повторялся через каждые 5 лет. До сих пор помню, где были некоторые дедовские наделы, и где в лесу находилась его картяжка для изготовления дёгтя. Переселенцы срочно стали заготавливать деловой лес и строить капитальные избы и другие постройки, чтобы к зиме заиметь жильё. Самые расторопные семьи успели ещё и вспахать целинную пашню.
Административные переселенческие органы в те времена, надо признать, грамотно подходили к расположению населённых пунктов. Так, крупные сёла для удобства сообщения между ними и планированию строительства будущих дорожных магистралей располагали относительно по одной линии. К примеру, Комаровку расположили по линии Кокчетав — Еленовка — Антоновка и затем Кривозёрное — Кирилловка — Андреевка, и так далее. Это стало потом большим благом для населения названных и других таких больших сёл. Дороги строили, так сказать, всем миром. В моё время на колхозы и самих колхозников возлагалась на год определённая дорожная повинность. Помнится, как на уроке физики преподаватель сказал, что есть такая новая техника — бульдозер, который один на строительстве дорог заменяет 1000 рабочих, и когда он появился в Комаровке для расширения грейдера, нас всем классам водили смотреть на его работу. По дороге на Саумалколь, несколько дальше кладбища, находится, можно сказать, в натуре музей-история этой дороги: направо сохранилась низкая и совсем заросшая узкая послевоенная, а налево — небольшой участок первоначальной асфальтированной дороги, обе по своему маршруту ещё обходили даже небольшие болота.
Благодаря автодороге сельчане имели возможность отвозить на базары в Володарское и в Кокчетав различную продукцию от своего домашнего хозяйства. На полученные деньги они там же приобретали необходимые промтовары.
Комаровка расположена, конечно же, на красивом месте среди берёзовых перелесков, небольших озерков и болот, заросших камышом и осоковыми травами. Село находится в такой глубокой низменности, что оно даже в ясную погоду не просматривается с самых высоких Аиртауских сопок, хотя все соседние сёла хорошо видны. Надо полагать, что здесь находилась глубокая впадина древнего моря, так как на небольшой глубине во многих местах в селе и её окрестностях расположены залежи белой глины с вкраплинами морских ракушек.

На моей памяти в те времена, когда в сельские магазины ещё не завозили известь, все комаровичи и население соседних сёл заготавливали у нас для побелки белую глину. Случались при этом большие трагедии, когда люди в погоне за качественной глиной сильно углублялись, и происходило обрушение карьера с их гибелью. Был случай, когда погиб мужчина из села Пятилетка, и его тело провозили на телеге мимо школы как раз во время большой перемены, и мы, школьники, в страхе и оцепенении смотрели на эту телегу.
Первые годы наше село называлось Толстовка, потому что на этих землях раньше жил очень толстый богатый казах-бай. Но после того как во время работы на сенокосе у одной молодой матери грудного ребёнка до смерти искусали комары, так как он остался без присмотра и распеленался, село стали называть Комаровка. Имя этого толстого бая мне неизвестно, но имена его трёх сыновей остались в названиях местностей: Баялла, Джиялла и Сиралла. Дед вспоминал, что якобы после смерти отца эти братья делили между собой его наследство следующим образом: коней — табунами, овец — отарами, а деньги — пудовыми мерами.
Комаровка быстро заселялась приезжими крестьянами со многих губерний России. Село особенно бурно развивалось до Гражданской войны, когда численность населения в нём достигала 500 человек. Это было связано ещё и с тем, что, кроме вышеперечисленных льгот, переселенцам уже на месте выделялся на постройку дома и двора бесплатный деловой лес в определённых лимитах, а также денежные средства на покупку коровы, для вспашки целинной пашни и приобретение семенного материала. Даже во время Первой мировой войны продолжалось переселение людей. Так, семья Зюзина Ивана Ивановича, нашего деда по отцовской линии, с моим 7-летним отцом прибыла в Комаровку из села Аршиновка Пензенской губернии уже в 1915 году. Случалось, что поселенцев не устраивали условия жизни в этих краях, и они возвращались на прежние места проживания. Но это была меньшая часть приехавших. Я как-то спросил своего деда, хотел бы он вернуться на родину. Он мне весьма корректно ответил: «Что я там ржаного хлеба не кушал».
По названиям комаровских улиц можно было определить, откуда приезжали переселенцы. Например, одна из улиц называлась Пермятская, надо полагать, что на ней компактно поселялись семьи из Пермской губернии, другая — Черниговская, с домами: Васильченко, Петренко, Кузьменко, Черненко, Герасименко и Романенко, понятно, что они были из Черниговщины. На моей памяти сразу после войны ещё было много улиц, но некоторые из них быстро исчезали, к примеру, Аршинская, Кенащинская и «оторвановка» на Пермятской. Некогда большая улица Черниговская, где жили мои родители, и где я родился, постепенно сокращалась по количеству домов до полного их исчезновения. Намного укоротились такие улицы, как Антоновская, Пермятская и Сельсоветская, на которой, к слову, были по соседству усадьбы моих обоих дедов.
На некоторых улицах стояли большие, высокие и красиво срубленные деревянные дома под тёсом. К примеру, на Черниговской улице находился такой дом бывшего главного сельского богача Свирида, у которого была самая высокая урожайность зерновых культур и, по словам моего деда, нередко достигала 200 пудов с десятины благодаря тому, что он строго придерживался трёхполки, тройки пара, своевременной и качественной обработки земли. Тогда как у других хлебопашцев 100 пудов считалось уже хорошим урожаем. К сожалению, этого прогрессивного земледельца и рачительного хозяина потом раскулачили и с семьёй выслали. Правильней надо квалифицировать такие действия тогдашней власти, в больших случаях, как разорение самых способных и трудолюбивых крестьян. И, более того, отрыв таких людей от земли и высылка их в отдалённые места было ничем иным, как уничтожением лучшего крестьянского генофонда России. Сама же коллективизация в форме колхозов и совхозов, выдуманная в тишине кабинетов большевистскими горе-теоретиками, привела к вековой отсталости в сельском хозяйстве той страны, которая в своё время своими богатейшими природными ресурсами кормила большую часть Европы.
В самом конце Пермятской, в так называемой «оторвановке», на моей памяти был уже пустующий громадный дом семьи Ронженых. На Аршинской стоял также крестовый дом великого сельского оригинала Дмитрия Акимова, по прозвищу «дед Аршинский». Он всё лето ходил в валенках и при ходьбе никогда не подымал ноги, а тащил их волоком по земле, при этом за ним зачастую тянулся шлейф пыли. Когда его спрашивали, почему не подымает ноги при ходьбе, он отвечал, что незачем тратить на это силы. Но в своё время он был весьма предприимчивым хозяином, так как имел собственную маслобойку.
Также стояло много больших домов-пятистенников, например: у Щербининых, Морозовых, Аксентия Петренко, Игната Акимова и других. Как правило, они были с высокими потолками, под которыми нередко подвешивались просторные полати, где хранилась сезонная одежда, а в многодетных семьях на них ночевали дети.
Восхищение вызывало мастерство плотницких артелей, которые могли срубить величественные церкви, высоченные ветряные мельницы и большие дома под осиновым тёсом. Наверное, в настоящее время непросто найти таких талантливых мастеров, которые могут вручную, только с помощью пил и топоров, построить подобные здания.
В каждом доме и даже в любой избе находилась русская печь с большим лежаком наверху, на котором отогревались дети после катания на снежных горках, или взрослые, озябшие на холоде в своей изношенной и многократно заплатанной одежде. Её горячие кирпичи являлись превосходной кварцевой ванной получше всяких песчаных пляжей. А какие в ней выпекались караваи, калачи, разнообразные сдобные каралики и варились незабываемые вкусные щи!
Русская печь заслуживает того, чтобы ей в каком-либо сибирском селе поставить если не бронзовый, то гранитный памятник за спасение бесчисленных людских жизней.
Среди традиционных деревянных домов в 1942 году были построены многочисленные землянки российских немцев, депортированных осенью 1941 года в наши края. Они были на зиму расквартированы в домах сельских старожилов. К нам в родительский дом тогда подселили семью Ивана, младшего Беннера, у которой моя сестра научилась готовить очень вкусные штрудли, и потом ими часто нас кормила.
К сожалению, впоследствии и на сохранившихся улицах среди домов появились многочисленные пустыри. Массовый отъезд людей из села произошёл в начале промышленного строительства, коллективизации, в голодные 1931—1933 годы и сразу после войны, когда молодёжь, в большинстве девушки, сбегали из колхоза в города. Отток населения несколько прекратился только с поднятием целины. На сокращение численности населения влияли бесконечные войны, частые жестокие засухи, приводившие к массовому голоду, и такие идеологические эксперименты властей, как насильственная коллективизация в форме колхозов. Была большая детская смертность. Так, в семье моего деда родилось 12 детей, а выжили только трое: это старший брат матери Степан, парнем мобилизованный в колчаковскую армию, в которой его убили под Курганом, и младший брат Иван, добровольцем ушедший на фронт и восемнадцатилетним юношей погибший во Второй мировой войне, вследствие этого к концу войны осталось у него всего нас трое внуков.
Двухлетним ребёнком не запомнил, как уходил в начале июля в 1941 году на войну мой отец Никита Иванович Зюзин, которого природа, по словам хорошо знавших его односельчан, наградила большим чувством юмора, ещё он был одним из первых трактористов на селе. На его тракторе с железными колёсами на шпорах в войну работала моя кузина Мария Зюзина, а после войны — зять Григорий Лягин. Также не помню моей 34-летней матери Екатерины Ивановны Зюзиной, простудившейся на колхозной работе, и маленькой сестрёнки Анечки, умерших весной 1942 года. В памяти не остался и случай, когда осенью 1942 года была получена так называемая в народе «похоронка», а именно: извещение на имя сестры Татьяны, в котором сообщалось о гибели нашего отца.
Первые жизненные события, сохранившиеся в моей памяти, — это насильственное изъятие остатков зерна и муки в нашей семье. В первой комнате дедовского дома в углу стоял ларь, внутри которого хранились хлебные запасы, и мы с братом ночевали на нём. Однажды ранним утром вошла в дом комиссия, нас, ещё сонных, подняли и стали для нужд фронта выгребать зерно, остатки ещё рекордного урожая 1938 года. Дед умолял этих людей, хотя бы немного оставить для военных сирот, но они забрали всё дочиста. Были случаи, когда у людей отбирали булки прямо из печки, якобы на сухари солдатам.
Помнятся разговоры женщин на посиделках, около которых мы, дети, любили крутиться и с любопытством слушать их воспоминания. Шёл разговор даже о Гражданской войне, когда им было по 14—16 лет. О том, что в нашем селе стоял небольшой колчаковский отряд, а в Кривозёрном (ныне Саумалколь) уже находились красноармейцы. В один день группа красных на конях подъехала к Комаровке и с пулемёта застрочила вверх над домами. Колчаковцы в панике уехали в Антоновку, где квартировал их основной штаб. Красноармейцы промчались по основным улицам и, убедившись в том, что выгнали белых, стали возвращаться к себе, но один хромой колчаковец спрятался во дворе Саженевых и потом из-за угла выстрелил из винтовки в спину командира отряда Володарскому, который по дороге в отряд скончался от раны.
Шёл разговор также о коллективизации, о ликбезе (мероприятии по ликвидации безграмотности) в Комаровке. Особенно много разговоров было о текущей войне, к примеру, что случится, если победит Гитлер. Женщины приходили к выводу, что в таком случае не будет колхозов. Хорошо запомнился митинг около сельсовета в честь победы. Только мне было тогда по-детски совсем непонятно, почему взрослые люди в такой долгожданный и радостный день сильно плакали.
Хорошо помню похороны в феврале 1945 года моей славной бабушки Агафьи Клементьевны Фроловой, когда сельские женщины за ту доброту, которую она сделала при своей жизни, не дали везти её в гробу на конских санях, а понесли на руках по сугробам на кладбище.
Надо признать, что жертвами войны стали не только те, кто в длинном списке фамилий высечены на памятнике в центре села. Они только меньшая часть, а большая — это преждевременно ушедшие из жизни люди, заболевшие в самом селе легко излечимыми болезнями, но умершие от отсутствия медицинской помощи, так как на фронт ушли большинство медработников и лекарственных средств. Наша семья за четыре года войны потеряла пять человек, из них трое раньше времени умерли дома. В других семьях ещё больше таких фактов, особенно у немцев, высланных в наши сёла.
Мы же, малолетние сироты войны, остались живыми, конечно же, благодаря труду дедовской семьи. В годы военного лихолетия, да и нескольких лет после окончания войны, население в сёлах выживало за счёт выращенных овощей и картофеля на своих больших огородах, площадь которых разрешали в тот период иметь для семьи до пятидесяти соток. Трудолюбивая семья моего деда, например, кроме большой площади картофеля, лука, чеснока, гороха, выращивала ещё на довольно-таки значительной части огорода коноплю. После специальной обработки её стеблей, как длительное вымачивание в болотной воде и затем их высушивания, необходимо было за счёт трудоёмкой работы выделить из них пеньку. Прядильное волокно конопли, в первую очередь, шло для изготовления на домашних станках холста и веровины, без которых тогда в сельской жизни нельзя было обойтись. Получая неплохие урожаи на своём огороде, мой 70-летний дед большую часть продукции с него увозил на попутных машинах для продажи на володарском и кокчетавском рынках.
После победы случалось, что многие демобилизованные с войны солдаты шли пешком от села к селу домой. Один из таких солдат попросился к нам в дом, чтобы испечь несколько своих картофелин, и я с большим любопытством наблюдал за ним, замечая, что он был очень голоден, так как не стал дожидаться полной готовности картошки и начал её есть полуиспечённую. Мой дед извинился, что не может предложить ему хлеба. На всю жизнь мне запомнились тогда слова солдата: «Ничего, ничего, скоро станет так много хлеба, что будет ешь — не хочу». Дед ещё долго иронизировал над его словами, приговаривая, что в России ещё не было такого времени, чтобы имелось хлеба «ешь — не хочу». Но, слава богу, вещие слова этого оптимиста-солдата после поднятия целины исполнились, и людям в деревне не приходилось больше есть лепёшки из горькой сурепки, а в городах занимать в хлебных магазинах очереди с двух часов ночи, как нам с сестрой в Караганде в 1954 -1955 годах за покупкой двух булок серого хлеба.
Особенно голодно становилось к весне, когда заканчивались продуктовые зимние запасы. Первым спасением являлся весенний сбор колосков на прошлогодних посевах пшеницы. При первых проталинах дети и женщины, как муравьи, разбегались по полю, зачастую для этого выжженному, и подбирали каждый колосок, потерянный при осенней уборке. Ещё приходилось весной специально перекапывать огороды, чтобы выискать оставшуюся в земле мёрзлую картошку, пюре из которой можно было проглотить только через силу. Потом здорово выручали дикорастущие лук, щавель, чеснок, дудки лесного борщевика. В пищу нередко шли листья лебеды и крапивы. Настоящим деликатесом были жареные на сковородке печерицы (шампиньоны обыкновенные), найденные на перегнойных почвах по пустырям.
Где-то в конце 40-годов колхоз выдавал на трудодни семена сорнополевой сурепки, полученных после очистки зерна, из которых выпекались абсолютно чёрные и сильно горькие лепёшки.
Известно, как тяжело было выполнять натуральные сельхозналоги, возложенные на семьи колхозников по многочисленным статьям. Мне неоднократно приходилось относить домашнее молоко в счёт налога на колхозную молоканку, которая находилась в начале Пермятской улицы. На всю жизнь запомнил случай, когда агент министерства заготовок Константин Спирин за недоимку по налогам конфисковал моего любимого коня. Плача горючими слезами, я бежал через всю Комаровку, умоляя этого жестокого человека, не забирать нашу рабочую лошадь.
В войну и несколько позже наш комаровский колхоз, называемый «им. Комминтерна», держался в основном на женщинах, а летом, в период школьных каникул, ещё и на учениках, в том числе малолетних с 11-12-летнего возраста. Буквально на следующий день после окончания занятий в школе, рано утром, в доме появлялся бригадир полеводческой бригады и требовал от школьника немедленно отправляться на колхозную работу. Так было и со мной в 11 лет, когда бригадир полеводческой бригады №3 Д…, который вначале меня отлупил черенком кнута по спине за то, что я, увидев издали его коня с ходком, спрятался по наказу сестры в бурьяне, где он нашёл меня и увёз в бригаду для безвыездной работы погонщиком на рабочих быках. По субботам нам не разрешали, хотя бы вечером, съездить домой в баню. Но!…Иногда бригадир потихоньку позволял ночью мальчишкам группой верхом на конях съездить в село и наворовать у людей в огородах овощей, в первую очередь, огурцов, луку, моркови и других.
Была и положительная сторона жизни в колхозной бригаде, это, хотя и совсем скромное, но постоянное трёхразовое питание по сравнению с домашним супом из лебеды. Запомнилась бригадная каша с непросеянной мукой из овса, которая с болью проходила в желудок и очень болезненно выходила из детского организма. Жили мы в бригаде в передвижных самодельных деревянных вагонах, вернее сказать, спали в них только ночью вместе со взрослыми парнями и девушками на двухъярусных нарах. Кто постарше — наверху, а мы, пацаны, снизу.
Парни любили над нами малыми частенько устраивать всяческие розыгрыши. Запомнился один самый свирепый, так называемый «велосипед», когда поздно вечером мы, уставшие от работы, крепко засыпали, кто-то из этих оболтусов вставлял клочки газеты между пальцами ног, которые зачастую свисали с нар, и спичкой поджигал газетки. Жертве спросонья только и оставалось по-велосипедному от боли махать ногами. Не помогало мальчишкам, если они ложились лицом к дверям, тогда спящему на голове «копали картошку». От такой жестокой затеи один мальчик на всю жизнь остался с больной головой. Доставалось по ночам от наглецов и девушкам, так что некоторым из них приходилось среди ночи убегать из будки и прятаться до утра в лесу.
Если днём работа была неизнурительная и раньше кончалась, то длинными летними вечерами мы устраивали вокруг костра, на котором в котле варилась каша, различные игры, чаще всего боролись между собой и на того, кто победит, выходил другой желающий. Таким образом, выявлялись между нами самые сильные и ловкие борцы. Помнится, что среди моих сверстников всегда выходил победителем Виктор Кайзер.
Дневная работа состояла из трёх «упряжек»: первая — самая ранняя, ещё до завтрака, вторая — до обеда и третья — после полудённой жары, до вечера. Если в обеденный зной работа затягивалась, то от укусов оводов у быков случался так называемый «бзык», после чего они неудержимо неслись вместе с погонщиками в первое попавшее болото по брюхо в воду. Вначале мне поручалось погонять верхом быков на вспашке паров, потом во время сенокоса подвозить волокушей сено к скирдующим. На следующее лето мне, уже 12-летнему, доверили домой на круглые сутки пару быков с бричкой, на которой я возил женщин и школьников на ручную прополку по зерновым полям, а позже — колхозниц на сенозаготовку. После возвращения поздно вечером домой должен быков выгнать на пастбище, а рано утром пригнать и запрячь в бричку.
Зарплата в колхозе начислялась в виде призрачных трудодней, за которые в ряде лет в конце года не выдавались ни деньги, ни зерно. Почему-то в нашем колхозе очень часто менялись председатели. На мой взгляд, самой колоритной личностью из них был неоднократно избираемый наш дальний родственник Андреан Петрович Колузаев. Говорили, что он и его сестра Анисия, моя крёстная, были одними из первых активных комсомольцев в 20—30 годах, которые вечерами группами ходили по улицам, распевая революционные песни.
Помнится ещё, как по вине семьи лесника Ефрема Лиморенко, горел наш родительский дом, в котором квартировала его семья. Мы, его юные хозяева, втроём прибежали на пожар и потом, обнявшись, неутешно плакали над остатками нашего дома. Впоследствии сельсовет обязал лесника восстановить его. В течение нескольких лет я потом дважды возвращался жить в отчий дом. Первый раз, когда мы отделились от деда, и юная, но самоотверженная 17-летняя сестра Татьяна, отказавшись отдать нас в Казгородской детдом, взяла на себя воспитание двух сорванцов: меня, 7-летнего, и 10-летнего брата. Потом вернулся ещё раз после проживания у дяди Николая Ивановича Зюзина и отъезда сестры и брата в Караганду, когда меня взяли на воспитание мать и сестра зятя Григория, квартировавшие в нём.
Надо заметить, что наша школа, в которой в 1947 году я стал восьмилетним первоклассником, построена ещё до войны и была очень хорошим и красивым зданием под жестяной крышей. Стояла она на высоком фундаменте с просторными и светлыми классами, а её широкий и длинный коридор долгие годы использовался ещё и для показа сельчанам привозного кино из-за отсутствия сельского клуба. Приезд киномехаников в село был большим событием, несмотря на то что послевоенные кинофильмы вначале были неозвученные. Взрослое население приходило в кино со своими скамейками или табуретками, а мы, дети, устраивались, сидя или лёжа перед экраном на полу. Громадный интерес у нас вызывал американский многосерийный фильм «Тарзан». Насмотревшись на Тарзана, я как-то на перемене забрался на высокую школьную крышу и прошёл по всей длине очень острого конька, за что попал в кабинет «на ковёр» к директору.

В 1951 году после окончания 4 класса было, на моё счастье, принято решение образовать в Комаровке семилетнию школу с условием, что к нам должны направляться с 5 по 7 класс все ученики из Кенащей, Пышного и Пятилетки. Директором семилетки стал Пётр Павлович Зикеев, предобрейшей души человек и замечательный педагог, он очень интересно вёл уроки по истории, мог по-отечески погладить по голове, чего нам многим не хватало, или строго и по-командирски сделать справедливое внушение. Ещё он был заядлый охотник. Его отец Павел Зикеев являлся первым в районе (тогда в волости) председателем ЧК и пострадал из-за своей доброты. В 1921 и 1922 годах в наших краях произошло крупное казачье восстание против Советской власти, которое было подавлено красноармейцами. Как мне рассказывали аиртавичи, когда я там агрономил, Павел Зикеев арестовал в Аиртаве большую группу казаков и стал их конвоировать в Кокчетав на военно-полевой суд. Арестованные представляли себе, чем может закончиться для них решение такого суда. По дороге на Челкар, среди сопок в бору, большинство казаков стали убеждать Павла Зикеева, что они якобы не участвовали в восстании, а тех, кто участвовал, они сами готовы здесь же на месте расстрелять, с условием, что он остальных отпустит домой. На свою беду он согласился с таким условием. Потом его же судили за этот самосуд.
За годы военного лихолетья многие ученики не могли ходить в школу, поэтому большинство моих одноклассников были гораздо старше меня. К примеру, Николай Приходченко на семь, Виктор Пфляум из Пятилетки на шесть лет. Так что было от кого нам, малым, получать на переменах пинки и подзатыльники.
Рядом со школой стояли стены разорённой в 30-е годы церкви, в которой мы, школьники, часто на большой перемене устраивали беготню друг за другом. Мой дед в своё время был на общественных началах церковным старостой и во время её разорения сберёг крест с одного из малых куполов, который бережно хранил дома, надеясь на возврат времени, когда в селе всё-таки вновь появится церковь, и собирался вернуть сохранённый крест. Впоследствии он понял, что при его жизни это не произойдёт, и завещал поставить этот крест после смерти на его могилу. Надо полагать, что это теперь единственная сохранившаяся до сего времени дореволюционная вещь в нашем селе.
Конечно же, печально, что с тех лет и до настоящего времени в Комаровке не было построено ни одного красивого и богатого дома, как в старину.
В восточной части села, на выгоне, стояли ещё работающие две ветряные мельницы. Нас, детей, они всегда завораживали своим вращением и шумом огромных крыльев на ветру, и для многих было гордостью, если мельник разрешал помогать ему толкать длинное бревно при изменении направления ветра, чтобы повернуть всю мельницу, которая крепилась на могучем центральном валу. Толстое дерево для него привозили из дальних макинских лесов. Интересно было изучать в ней внутренние вращающиеся механизмы, изготовленные только из дерева. Мне приходилось несколько раз там дежурить в очереди для помола своей пшеницы.
С удивлением вспоминаю, как много было в те времена воды в сельских водоёмах. К примеру, в озере Серкуль можно было тогда не только людям купаться, но и вплавь верхом купать лошадей. На его плёсах между камышами водилось множество водоплавающей дичи, где заядлые охотники за день настреливали до 25 уток.
И ещё, проходя летом мимо усадьбы деда Херсунова, мы подолгу любовались его ягодником: малиной, смородиной, крыжовником, земляникой и их обильным урожаем. К сожалению, это был единственный сад на всё село, но он придал мне ещё большую решимость стать в жизни агрономом.
Хорошо запомнилась весна 1954 года, когда через Комаровку целыми автоколоннами с песнями и красными знамёнами везли добровольцев на целину. Это были очень весёлые ребята, особенно после посещения некоторыми из них нашего сельского магазина. Водочное возлияние делало их ещё веселее. Нам, школьникам, было интересно узнать, кто такие целинники, и мы после занятий наблюдали около магазина, как они на кулаках выясняли между собой взаимоотношения.
Но главное, конечно, было в том, что вместе с целинниками в село пошёл большой поток новых тракторов, автомашин, комбайнов и прочей многочисленной сельскохозяйственной техники. Активно стало развиваться дорожное и сельское строительство. По направлению из институтов и техникумов со всех республик страны на целину посылались: инженеры, агрономы, зоотехники, врачи и учителя. Без преувеличения можно сказать, что с целиной началась в Комаровке новая жизнь.
Но мне пришлось в том же году после окончания семилетки уехать в Караганду, чтобы продолжить учёбу в восьмом классе. Все последующие годы жизни в Казахстане я часто приезжал в своё родное село, но уже только в качестве гостя.
В последних строках моих воспоминаний хочется от всего сердца пожелать моим нынешним землякам всех земных благ, а нашей маленькой, но милой родине Комаровке дальнейшего процветания!
Берлин, 2011 год
Воспоминания о моем детстве, юности и отрочестве
Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной,..
Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины?..
А. С. Пушкин.
Когда трава была высокой
Матушка природа и мои родители 12 июля 1939 года подарили мне главнейшее благо — ЖИЗНЬ на белом свете. Согласно моему свидетельству о рождении и рассказам старших родственников, родился я по церковному календарю в день Святых Петра и Павла, называемый в народе Петров день, а этот период лета ещё и «петровками».
Мать Екатерина Ивановна Зюзина, урождённая Фролова, родилась в Комаровке в 1908 году.
Отец Никита Иванович Зюзин родился в селе Аршиновка Пензенской губернии в 1908 году.
Бабушка по материнской линии, Агафья Климентьевна Фролова, 1875 года рождения.
Дед Иван Иванович Фролов родился 12 июля 1874 году, в селе Денисовка Пензенской губернии.
Бабушка по отцовской линии, Маланья Никитична, место и время рождения неизвестно, умерла в Комаровке в 20-х годах.
Дед Иван Иванович Зюзин родился в Пензенской губернии в селе Аршиновка, год рождения неизвестен, умер в Комаровке в начале 30-х годов.
Так как моё рождение было в Петров день, мать и бабушка дали мне имя Пётр, с чем был не согласен отец и настаивал назвать Василием. Вначале меня в семье звали Петей, но отец через месяц в сельсовете всё-таки зарегистрировал Василием, после чего все так и стали именовать.
Праздник моей жизни начался в красивом месте — в селе Комаровка Аиртауского района Северо-Казахстанской области (с августа 1944 по май 1997 годов Кокчетавская область), в семье трудолюбивых родителей-колхозников. Мать владела мастерством печника, к сожалению, ещё в детстве из-за простуды ушей она имела очень слабый слух. Отец был одним из первых в селе трактористом. Старшие рассказывали много юморных случаев, которые отец очень талантливо придумывал. До меня у родителей уже было двое живых детей — сестра Татьяна с 1929 года и брат Николай с 1936 года. Ещё была Аня с 1928 года, которая умерла ещё в младенчестве. Родительский деревянный дом находился в северной части села, на одной из дальних от центра Черниговской улице.

К сожалению, мой праздник жизни сразу омрачился тем, что правая рука с рождения оказалась нездоровой. Хуже того, когда мне ещё и двух лет не исполнилось, 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на СССР, и поэтому в начале июля отца мобилизовали на войну. Вскоре после этого события у нас родилась сестрёнка Аня. В первых числах ноября руководство колхоза обязало мать сложить на животноводческой ферме печь, на той работе она простудилась и заболела воспалением лёгких. Из-за отсутствия необходимых лекарств мать не смогла выздороветь и умерла 11 марта 1942 года. Нас четверых детей взяли на воспитание дед и бабушка по матери. К несчастью, полугодовалая Анечка вскоре тоже заболела и умерла, её хоронили на сороковой поминальный день матери.
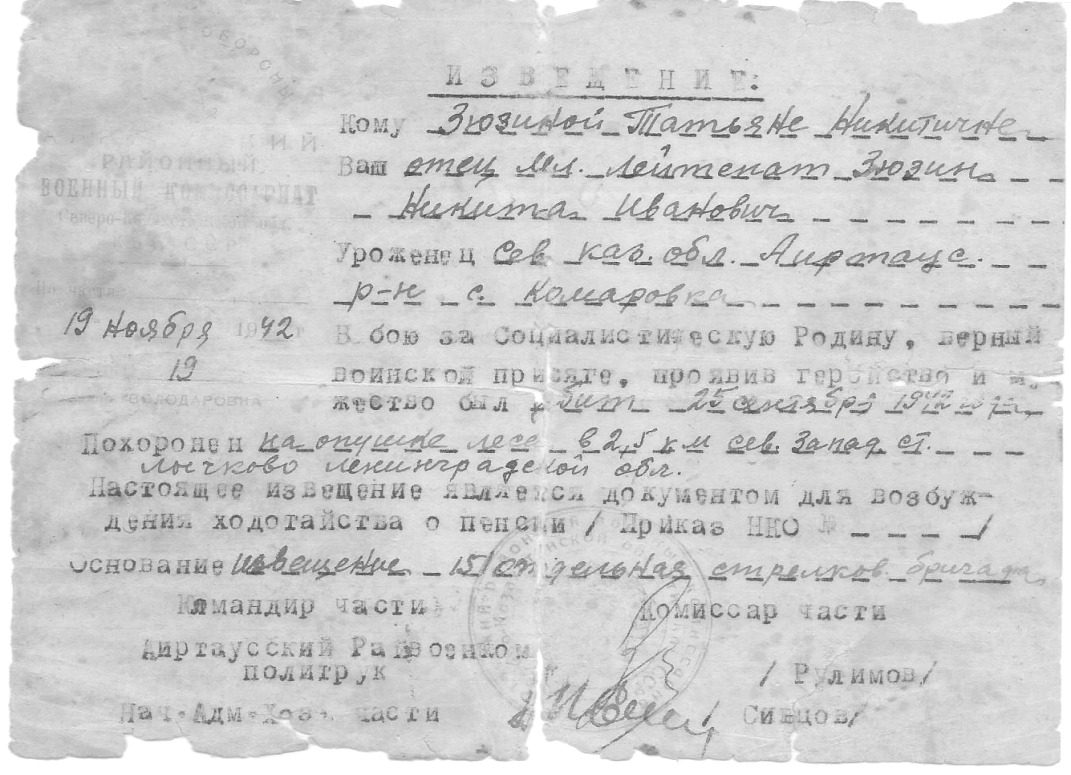
Осенью этого же 1942 года нас опять постигла ещё одна страшная беда: пришла так называемая в народе «похоронка», в которой сообщалось о гибели отца на войне. В извещении на имя сестры Татьяны, которое сохранилось до сего времени у нас, дословно сообщалось следующее: «Ваш отец мл. лейтенант Зюзин Никита Иванович… В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 25 сентября 1942 года. Похоронен на опушке леса в 2,5 км сев-запад. ст. Лычково Ленинградской обл.». Все эти события мне не запомнились, знал их только по рассказам родственников.
Один из первых эпизодов, который запечатлился в моей памяти — это болезнь бабушки, которая часто лежала на кровати. Она подзывала меня к себе, чтобы я с ней посидел, и очень ласково старалась со мной разговаривать. Я с большой охотой соглашался с таким приглашением, так как рядом с ней на табуретке стояла баночка с мёдом, купленным дедом на базаре за немалые деньги. Бабушка, вопреки указаниям деда, тайком от него баловала меня этой необыкновенной сладостью.
В связи с отсутствием зимней одежды и обуви нам, детям, приходилось целыми днями находиться на лежаке русской печи, чтобы не путаться под ногами у старших. Мы с большим нетерпением ждали первых весенних проталин, когда можно было босиком выбегать на долгожданную улицу. Один раз, не дождавшись весны, я поспорил с братом Колей, что босиком по снегу перебегу через улицу в дом родного дяди, где жили наши сверстники, двоюродные братья. Потом деду сказали, каким образом я оказался у родственников. Он с тулупом пришёл за мной и пока нёс на руках домой, всю дорогу очень больно теребил за уши.
Когда же, наконец, наступала весна, нас трудно было заманить в дом. Просто сейчас остаётся удивляться, как наши босые ноги выносили холодную землю, многочисленные болячки от травяных занозок и «цыпок». Запомнились колючие детские штаны и рубашки, сшитые из самотканого холста, изготовленного из волокна конопли, выращенной на своих огородах. Надо сказать, что огороды в военные и послевоенные годы власти разрешали иметь большие, площадью до полгектара. Поэтому трудолюбивые сельчане, к примеру, наш дед, у которого были ещё и коммерческие данные, садили помногу не только картофеля, но и лука, чеснока, подсолнечника, конопли и так далее, с расчётом продажи излишек на рынках Кокчетава и Володарского. Излишками можно только называть, так как многое, например, сливочное масло, яйца, свиное сало и прочее отрывалось от семьи ради покупок промтоваров,
Вокруг наших редких сельских домов и сразу за огородами росло высокое разнотравье, помнится, почти в мой детский рост. Мне приносило большое удовольствие прятаться от домашних в этой траве, выделяя среди неё самые красивые цветы. Утром, сидя или лёжа на земле, я наслаждался пением скворцов, после обеда — высоко в небе волнующими переливчатыми звуками жаворонков и вечером — чарующими трелями соловья. Часами наблюдал за проплывающими по небу облаками, за поведением бабочек, шмелей, жуков, муравьёв и прочими насекомыми. Случалось, что я там засыпал, и только голод или вечерняя прохлада меня могли разбудить. Когда закончилась война на Западе, то целыми эскадрильями боевые самолёты перегоняли на Восток, страна готовилась к войне с Японией. Эти самолёты с жутким рёвом пролетали по небу над моей головой.
Между комаровскими улицами находилось большое пространство, на котором кроме выгона нередко располагались ивовые и берёзовые пролески с кочковатыми болотами. С западной стороны села, близко к огородам, подходили берёзово-осиновые леса, где водилась разная дичь. На больших кустарниках и деревьях гнездились многочисленные сороки и вороны, в некоторых прошлогодних вороньих гнёздах встречались, к нашему удивлению, даже утиные яйца. На болотных кочках было большой удачей найти гнёзда диких уток. Старшие поощряли нас, когда мы добывали и приносили домой разнообразные яйца дичи.
Наверное, всем детям присуще с самого малого возраста познать высоту, стремясь залезть на дерево, как я потом наблюдал уже и за своими детьми. Но у нас в голодные годы это ещё было стимулом заиметь дополнительные продукты. Теперь бы меня никакой силой не заставить съесть сырое яйцо сороки или вороны, а в то военное детство, как только долезешь по дереву до гнезда, тут же начинаешь там наверху разбивать и есть птичьи яйца, кроме совиных, которые противно пахли мышами. На пасху мы любили ходить колядовать по домам и часто в некоторых семьях вместо кренделей или пирожков нам давали варёные яйца от диких птиц.
Слушая пение певчих птиц, я заодно выслеживал гнёзда таких малых пташек, как воробей, соловей, жаворонок, разных видов трясогузок и других. Впоследствии я услышал про себя разговоры на весь наш край села, что у меня, видите ли, имеется коллекция яиц всех видов птиц, обитающих на территории Комаровки. Как всегда слухи бывают преувеличенными, так было и со мной. Но всё-таки штук 6—7 яиц в наборе у меня насчитывалось.
Наш сосед Малыхин дружил с моим дедом и периодически приходил к нам в гости. Он часто брал меня на колени и учил молитвам. Я их быстро запоминал и, когда ему повторял, он мне за каждую молитву давал рубль. Но однажды я соблазнился сладкой репой, росшей на соседских грядках, как-то я тайком залез в их огород и только вырвал первую репу, как Малыхин схватил меня за ухо и повел к деду. После этого случая прекратились мои уроки с молитвами.
Для людей, особенно для детей, характерно стремление узнать, что находится за первым лесом, бугром, болотом и так далее. Вот и меня это очень сильно интриговало. Ближайший от нашего дома был Черепанов лес. Даже сбегать в него одному одолевал страх, так как по частым разговорам старших, за годы войны в лесах развелось много волков, которые каждый вечер или ночью действительно задирали в селе собак, овец, телят, жеребят или даже коров. Да ещё почти каждую ночь слышался за околицей села жутковатый вой сразу нескольких волков, от которого мы, дети, от страха прятались подальше под одеяла и затыкали уши. Вот и наша корова как-то поздно вечером примчалась домой со смертельным рёвом и с выеденным волками боком. Деду тут же пришлось её прирезать и, боясь заразиться бешенством, он на коне волоком отвёз тушу на скотомогильник, опять же на радость волкам.
Всё-таки преодолевая боязнь, мы с братом вначале обследовали соседний лес и посетили все гнёзда на деревьях, а затем уходили несколько дальше, доходя до Белоглинки или до Поликановой картяжки. На следующие годы я уже один, но только с нашей собакой, далеко обходя волчьи норы, облазил сосновый лес и доходил до Качилова болота. Однажды я пошёл за бугор по Лавровской дороге, вдруг моя собачка, по кличке Жулик, стала, повизгивая, настойчиво лезть между моих ног, не давая мне шагать. Удивляясь такому поведению Жулика, я обратил внимание на то, как прижав уши и хвост под себя, он смотрит в сторону соснового леса. Когда я глянул в том же направлении, то увидел, что на нас бежит во всю прыть серый волк. Не успел я испугаться, как волк, обнаружив нас, резко остановился, повернул влево и помчался в Котово болото. Через несколько минут двое охотников вышли из соснового леса от волчьих нор и стали смотреть вслед убегающему волку. После этого у меня пропало желание идти дальше, и я вернулся домой.
Но нашей собачке Жулику, к сожалению, после этого осталось недолго жить. Погубил его уже не волк, а другая собака. Один житель Кенащи имел огромного охотничьей породы волкодава, который якобы даже сам без хозяина убегал на охоту на лис и волков. Добычу домой он приносил на спине. Так вот, однажды этот кенащинский пёс на моих глазах трусцой бежал по нашей улице. Наш Жулик встретил его и стал, гавкая, преследовать. Пришелец несколько раз останавливался, рыча на моего малыша, но Жулик продолжал за ним бежать, стараясь укусить его за длинный хвост. И вот, в один момент волкодав схватил за шею мою собачку и бросил её через свою спину, продолжая потом не спеша бежать дальше по улице. Когда я подошёл к своему другу, он с разорванным горлом и в смертельных конвульсиях лежал на земле. Несколько позже я завёл щенка такой же небольшой породы и масти, назвал его опять же Жуликом, и он пережил в дедовском доме нескольких хозяев.
Моя первая в жизни сельская работа заключалась в сборе картошки, выкопанной сестрой штыковой лопатой. Мы с братом так старались наперегонки собирать клубни, что сестра не успевала выкапывать и всё приговаривала, что с такими братьями не пропадёт в жизни. Наверное, уже на следующий год мне поручали приводить домой телёнка, которого рано утром старшие на длинной верёвке отводили пасти на траву и привязывали к колу. Однажды со мной произошёл ужасный случай, когда я отвязал верёвку с кола, и чтобы уже большенький телёнок не вырвал её с моих рук, что он раньше несколько раз проделывал, я обвязал себя на животе и концом завязал на двойной простой узел. Получилась, конечно же, настоящая петля-удавка. Телёнок, наконец-то, почувствовал свободу и со всем своим телячьим восторгом рванулся бежать во всю свою прыть. Я же не смог удержаться на ногах, и он начал меня волочить по земле, затягивая всё сильнее на груди удавку. Хорошо, что недалеко находилась наша соседка Евдокия Поликанова, которая потом многим рассказывала, как увидела, что телёнок что-то тащит на верёвке, и, присмотревшись, обнаружила ребёнка. Якобы ей было непросто догнать его и освободить меня от удавки, в которой я уже был без сознания. Можно сказать, что эта добрая женщина спасла мою горемычную жизнь.
Некоторые воспоминания нынче вызывают улыбку и даже смех, но в детстве было довольно-таки обидно за некоторые слова про меня. Был случай, когда в Комаровке заработала новая мельница от двигателя внутреннего сгорания на нефти. В селе среди взрослых было много разговоров про эту новость. Поэтому мы с уличными ребятами побежали посмотреть на эту чудную мельницу. Во время этого осмотра один мужчина, показывая на меня рукой, спросил у другого рабочего: «Чей это пацан?» и тот ответил: «Да это беспризорник Никиты Зюзина». Мне стало так обидно за эти слова, что всю дорогу домой плакал. Дома же сквозь слёзы рассказал сестре Татьяне, что меня какой-то дядя обозвал беспризорником, но она, успокаивая меня, стала объяснять, что беспризорник вовсе не обидное слово, а обозначает сироту. Но и сирота для меня также было обидным словом.
Кроме того, из-за моей смуглости и сильного летнего загара, да ещё большой шустрости прилепили мне уличное прозвище Вася-бесёнок. Когда я уже стал школьником, меня частенько и в глаза, и за спиной продолжали дразнить бесом. Особенно до ярости доводило, когда назло мне читали стихи Пушкина:
«Бедный бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился…»
По отцовской линии у нас имелась многочисленная родня. Мой отец в семье был младший. Самый старший — дядя Николай с женой Еленой Никитичной, у которых в живых были дети: Мария с 1925 года, Анна с 1928, Валентина с 1934 и Александр с 1936 года. Мне помнится ещё их сын, тоже Вася, который, по рассказам старших, был не только мой тёзка, но и родились мы с ним в один день, он утром, а я в обед, и роженицам якобы приготовили баню сразу на двоих. Но мой кузен-тёзка, к сожалению, умер на четвёртом году жизни. Дальше по старшинству была тётя Степанида с сыном Николаем с 1929 года. А вот тётю Марфу я первый раз увидел, когда уже учился в шестом классе, после её приезда с мужем Михаилом Федотовичем Ситниковым в отпуск из Самарканда. Они вручили мне незабываемый гостинец: в маленьком мешочке было килограмма два очень вкусного кишмиша. Тётя была в Комаровке первый раз замужем за Александром Крутовым, который в конце 20-годов, работая мельником на ветряной мельнице, простудился и в молодом возрасте умер. У них были две дочери, старшая — Матрёна с 1926 года и младшая — Валентина с 1928 года. После смерти мужа в голодные 1931—1933 годы тётя с дочерьми уехала в Среднию Азию и там второй раз вышла замуж за Ситникова, и от него родила Аллу, мою ровесницу. Если у меня хватит времени и терпения, то я позже напишу наше генеалогическое древо с указанием моих многочисленных племянников.
Запомнился один приятный случай, когда кто-то из сельских парней по весне подарил мне целый выводок из 5 или 6 диких гусят. Я с большой любовью за ними ухаживал, поил водой из своего рта, нарывал самую нежную травку из спорыша, в народе называемой травой-муравой, дед мне ещё выделил из домашних запасов семян гороха, которые надо было замачивать и затем разминать. Целыми днями я занимался только гусятами, и они настолько ко мне привыкли, что постоянно гуськом ходили за мной. Если я ложился на траву, то залезали ко мне на живот и кучкой укладывались на нём. Позже мне приходилось водить их поплавать в ближайшее болото, но по первому моему зову «гуль-гуль» они выплывали и бежали ко мне. Когда они подросли, то сильно стали отличаться от домашних гусят своими непривычно длинными ногами. Надо признать, что мне лестно было слышать, как соседи называли их «Васькины гусята».
Ближе к осени они так выросли, что стали пытаться летать, и сестре приходилось постоянно им подрезать крылья. Когда осенью стаи диких гусей с криками пролетали на юг над нашим домом, то мои гусята устремлялись бежать за ними, и тогда дед тайком от меня рано утром их перерубил. Мне ничего не оставалось, как горько поплакать и от жалости к моим питомцам отказаться в знак протеста есть гусятину. Почти такая же история повторилась с дикими гусятами, когда мы втроём с сестрой жили в родительском доме, только без прежней печальной концовки.
Безмерной благодарности заслуживает моя любимая сестра Татьяна. Когда наша мать тяжело заболела, сестре ещё и 13 лет не было. На её детские хрупкие плечи легли все заботы по уходу не только за больной матерью, но и за нами младшими: новорождённой Анечкой, мною двухлетним и пятилетним Колей, да ещё деревенское домашнее хозяйство со скотиной, птицей и так далее. После похорон матери в марте 1942 года, когда дед забрал нас к себе на воспитание, то при больных бабушке и Анечке ей добавился уход за дедом и его домашним хозяйством. Сейчас мне уже немыслимо, смотря на современных 13-летних девочек, представить себе, как могла всё вынести моя трудолюбивая и самоотверженная НЯНЯ, как я её называл до своего 50-летия.
На всю Комаровку славилась добротой моя бабушка Агафья Климентьевна Фролова. Когда её не стало, дед вскоре женился на матери нашего сельского лесника Ефрема Лиморенко. Новая бабушка Аксинья (между собой мы звали её бабкой Лиморенчихой) была родом из челкарских сибирских казаков, весьма требовательная, трудолюбивая и постоянно придерживалась во всём домашнего порядка и чистоты. Татьяне, конечно, стало легче по хозяйству, но, как часто бывает между двумя хозяйками в одном доме, у них пошли вначале мелкие, а затем и крупные конфликты. Дед постоянно становился на сторону своей новой жены, да ещё решил нас с Колей через сельсовет отправить на воспитание в Казгородской детдом. Уже подогнали к дому колхозную подводу, чтобы нас везти в детдом. Татьяна категорически возражала против этого и, помнится, грозилась лечь под ноги коня, но братьев не отдавать от себя. Дед согласился с ней, но решил отделить нас в наш родительский дом. Он выделил нам дойную корову, телёнка, кур и на первый случай часть от имеющихся у него в запасе необходимых нам продуктов. Это событие произошло летом 1946 года.
С той поры детства начались мои ежедневные трудовые обязанности по домашнему хозяйству. Брата забрали на круглые сутки в колхозную бригаду, а Татьяна рано утром и до позднего вечера уходила на колхозную работу и мне оставляла большой перечень всяческих дел по дому. В первую очередь, я должен был для себя готовить еду. Больше всего мне полагалось есть творог с молоком или варить куриные яйца. Но варить было сложнее, так как надо было разводить огонь в печи. Поэтому я стал совмещать с другими заданиями, и старался к приходу сестры испечь пресные лепёшки или сварить затируху. Один раз я решил провести опыт и приготовил себе совмещённое блюдо: добавил в творог с молоком два сырых яйца, размешал и стал эту мешанину есть. Но, увы, блюдо оказалось совсем несъедобным.
Самой сложной для меня работой, помнится, было достать на верёвке ведро с водой из колодца. Несмотря на то что Комаровка находится в большой низменности, воды во всех сельских колодцах набиралось очень мало. Поэтому колодцы копались глубокими и, чтобы достать воду ведром, надо было иметь длинную верёвку. Вот моим семилетним детским рукам и пришлось много помучиться с полным ведром. Воды же в хозяйстве надо было иметь немало, и я на коромысле с двумя вёдрами всё-таки напрактиковался приносить её в достаточном количестве. Ещё было одно неприятное для меня задание — это периодически мазать земляной пол на кухне глинистым раствором со свежим коровяком. К такой работе я никогда не мог нормально относиться.
Самым весёлым и приятным заданием было встречать вечером корову из стада. Мальчишки и девчонки со всего нашего края села приходили заранее до прихода животных, чтобы затевать всяческие игры или просто устраивать беготню друг за другом, особенно мальчишки за девчонками. Самой интересной являлась затея, когда мы в ближайшем перелеске играли в войну и делились на красных и белых или русских и фашистов. Коров же надо было обязательно встретить и пригнать домой, так как практически у всех сельчан огороды были не огорожены, и та скотина, которая не встречалась, тут же устремлялась в ближайшие подсолнухи или капусту. Такое случилось однажды и с моей Жданкой, когда я оставил её около дома, а сам заигрался с друзьями. Корова и была рада пощипать морковь и капусту у соседей. Татьяне они устроили скандал, а мне от сестры было такое наказание, что мало не показалось.
В нашем доме отсутствовал замок для двери, и когда мне надо было надолго уходить из дома, то я входную дверь запирал на внутренний крючок, а сам вылезал через нижнюю часть окна, осторожно выставляя и затем вставляя стекло. Конечно же, вся наша улица знала эту мою детскую хитрость. Доброжелательные деревенские парни часто по ночам, открывая это стекло, накладывали нам на подоконник наворованных в чужих огородах огурцов. Но был случай, когда мой потайной ход использовал другой пацан, Колька Ледяев. Он подкараулил момент, когда я надолго убежал из дома, воровски залез к нам и съел из крынки половину сметаны, которую сестра запрещала мне есть. Вернувшись с работы, Татьяна обнаружила значительную утрату и, не поверив в мою невиновность, хорошенько мне наподдавала. Потом нашлись свидетели, которые видели уличного воришку, когда он вылезал из нашего окна. Впоследствии мы с братом как-то перехватили за огородами любителя чужих продуктов и своими кулаками, да пинками расcчитались с ним за нашу сметану.
Однажды во время хлебоуборки на поле, недалеко от нашей улицы, куда я прибегал покататься на мостике комбайна, комбайнёр подарил мне пойманного им зайчонка. Не жалея моркови с грядки и листьев капусты, я растил его в доме. Зайчонок любил сидеть на подоконнике, наблюдая за улицей. Как-то он выбежал из дома, и я его долго не мог найти, потом мне друзья подсказали, что его поймал наш сосед Петя Морозов и унёс к себе домой. На все мои просьбы о возвращении моего зайчонка Морозов не реагировал. Татьяна была вынуждена обратиться к его матери, после чего мне зайца вернули, но с протёртой до мяса ногой от верёвки, которой сосед его привязывал. Впоследствии заяц всё-таки навсегда убежал от меня. Но зимой один знакомый охотник застрелил в леске за нашим огородом зайца, у которого по кругу на ноге просматривалось место без шерсти, и он догадался, что это был мой воспитанник. Охотник принёс свою добычу нам в подарок, но мы отказались её взять.
Одно время в Комаровке работал медфельдшером мужчина с болезнью лунатика, он часто по ночам ходил в белом нательном белье по улицам. Однажды ночью Татьяна в страхе прибежала в нашу с братом кровать и шёпотом сообщила, что в ворота ломится человек весь в белом. Немного погодя я набрался храбрости, залез на подоконник в сторону наших ворот и застучал своим кулачком по оконной раме, стараясь кричать басом и бранными словами с природной своей картавостью: «Едлит твою мать, уходи отсюда!». Повторяя несколько раз это, я в то же время оглядывался на сестру, которая строго запрещала нам браниться. И этот больной, посматривая на окно, всё-таки ушёл к соседнему дому. Потом сестра с братом долго меня хвалили за храбрость и смеялись, как я с тревогой смотрел на Татьяну, боясь за своё ругательство.
Запомнился ещё следующий случай из детсва. Среди лета надо было припасывать нашу корову в табуне после отёла. Однажды, перегоняя животных через кенащинскую дорогу, пастух заметил, что одна корова провалилась в какой-то старый и заросший густой травой колодец. Когда мы с ним подошли до этой коровы, то она задними ногами и половиной своего туловища находилась в полуобвалившемся колодце и только передними ногами удерживалась от дальнейшего падения вниз. Пастух послал меня на стан ближайшей колхозной бригады, чтобы просить срочную помошь. Бригадир направил со мной мужчину с парой быков, запряжённых в ярмо и с длинной верёвкой. Пострадавшую корову обмотали этой верёвкой и с помощью быков выволокли из колодца.
Впоследсвии, когда из Академии наук Казахстана приезжала комиссия в Кенащи, чтобы выяснить у местных аксакалов, где находился родник, из которого Акан-Серэ поил своего легендарного коня Кулагера, ему показали именно этот заброшенный степной колодец. А ещё несколько позже, когда встал вопрос о переселении кенащинцев на новое место, то выбрали вариант строительсва нового аула рядом с этим колодцем.
Большой материальной поддержкой в нашей жизни являлась выдаваемая государством пенсия за погибшего на войне отца в звании офицера. Пенсия такой категории погибших начислялась в системе военкоматов несколько повышенной и выдавалась в отделениях госбанка. Когда Татьяне ещё не исполнилось 18 лет, пенсию получал дед, который числился нашим опекуном. В связи с тем что сестра после 16 лет не училась в школе, на неё выдавать пенсию прекратили, но нам с братом несколько увеличили размер выплаты на каждого. После того как мы от деда отделились, и сестра стала совершеннолетней, она стала для нас с братом опекуном и сама ежемесячно ездила в Володарское получать в госбанке нашу пенсию.
Первого сентября 1947 года мне надо было пойти в первый класс Комаровской школы. Татьяна для этого события купила первой необходимости школьные принадлежности, сама сшила мне из сатина новые штаны, а из холста рубашку и школьную сумку с длинной лямкой, приготовила в чернильницу-непроливашку из печной чёрной сажи чернила. С радостным настроением мы с братом в сопровождении сестры пришли в школу. Моим первым учителем стал Василий Петрович Шурин, заведующий нашей начальной школы.
C большим любопытством я наблюдал не только за учителем, но и за своими одноклассниками, особенно с других дальних улиц, которых раньше ещё не встречал в селе. В основном это были ученики с Антоновской улицы. Конечно же, интереснее всего было во время перемен, когда можно было побегать и ещё узнавать незнакомых старшеклассников, которых мне показывал брат. Вокруг школы было большое пространство, заросшее высокой зелёной травой, а рядом находился лесок, в котором стояли в ряд очень большие вербы. По всем приметам их когда-то посадили добрые люди, несмотря на то что рядом не было жилых домов. На больших переменах мы любили постоянно залезать на эти деревья одновременно по несколько человек на каждое дерево.
Часто на переменах происходили стычки между мальчишками с разных улиц. Всегда во время драки каждый считал нужным защищать драчуна со своей улицы. Здесь ещё сказывалось деление колхоза на бригады по улицам. Помнится, что к первой полеводческой бригаде относилась Антоновская улица, ко второй — Пермятская и Верхняя, и к третьей — Сельсоветская, Черниговская и совсем маленькие Аршинская и Кенащинская.
Поначалу мне с большим трудом давались чтение и особенно письмо, так как по правилу установлено писать слева направо, и школьные тетради выпускали с расчётом на людей, которые будут писать только правой рукой. Мне же надо было писать левой, и мой кулачок постоянно закрывал место для написания буквы или цифры.
Татьяна очень много помогала мне при выполнении домашних заданий. Скорее всего, благодаря ей мне не пришлось оставаться когда-либо второгодником, что было не редкостью в наше время. С окончанием каждого учебного года несколько моих одноклассников оставались на второй год, а с началом учёбы к нам присоединялись второгодники из старшего класса. Кроме этого, некоторые школьники из-за отсутствия зимней одежды и обуви пропускали годы учёбы. Так было и с моим братом, поэтому я его догнал в третьем классе. В результате таких причин нас с первого класса дошло до выпуска семилетки всего четверо: кроме меня ещё Маруся Буянова, Настя Волобуева и Николай Горбунов. Двоих последних, к большому сожалению, уже нет в живых.
Постоянной проблемой становился голод. Татьяна при получении отцовской пенсии выдавала нам на руки несколько рублей на расходы по нашему усмотрению. Конечно же, мы тогда бежали в наш сельский магазин и покупали пряники или конфеты. Помнится, что на один рубль продавец отсчитывал своими голыми пальцами десять конфет-подушечек, покрытых ржаной мукой, или несколько пряников. По пути из школы домой жили троюродные сёстры моей матери, Колузаевы Анисия, моя крёстная и Евдокия. Это были из-за войны старые девы. Так вот, они часто встречали меня на улице и звали к себе в избу поесть горячих щей или вручали что-либо из своей домашней стряпни. Мне навсегда запомнились их необыкновенно вкусные бублики. Впоследствии я перепробовал много домашней выпечки и магазинных бубликов, но по вкусу они все намного уступали тем, чем угощали меня милая крёстная и её славная сестра тётя Дуняша. Кроме этого, они к каждой зиме вязали мне шерстяные носки и варежки. Большое чувство благодарности к этим добрейшим женщинам всегда остаётся в моей памяти.
Череда моих пристанищ
Семейная жизнь у нас круто изменилась после замужества Татьяны. Наш сосед Григорий Карпович Лягин, года через два после войны с Японией, вернулся домой и вскоре предложил сестре выйти за него замуж. Я хорошо помню их свадьбу. Потом сестра решила уехать в Караганду, а нас с братом оставила жить на зиму у нашего дяди Николая Ивановича Зюзина. Следом за Татьяной уехал в Караганду и Григорий. Мы с братом в тот год учились вместе в третьем классе. Случилось, что к этой зиме у меня не оказалось валенок. Помнится, что до середины декабря я ходил в школу в шахтёрских глубоких галошах из толстой резины. Потом мне из-за них запретили посещать занятия, но я в этих галошах почти каждый день бегал к пимокату, который работал в доме Волобуевых, и умолял его быстрее скатать мне валенки. Когда они были готовы, этот день казался для меня самым счастливым в детстве. Мои одноклассники возвращались в тот момент из школы, когда я с радостью бежал с готовыми валенками. Они с криками: «Ура! Ура!» побежали мне навстречу и начали поздравлять с этим событием.
Весной после учёбы Коля уехал к сестре в Караганду, а мне надо было перейти жить в наш родительский дом, в котором квартировали Мария и Елена, мать и сестра моего зятя Григория.
Последующих два лета я работал в колхозе. В то же время мои сватьи получили разрешение сельсовета переделать свиридовский саманный амбар для своего жилья и забрали меня на зиму с собой. Такого холодного и голодного жилья у меня в жизни потом никогда не было. Но в любом случае я благодарен этим женщинам за то, что они меня содержали.
Первая моя детская любовь к однокласснице возникла скорее всего ещё в третьем классе. Надо признать, что это была многолетняя пламенная, но безответная любовь. Помнится, что на школьных переменах я старался находиться рядом с ней, если она оставалась в классе, выходила в коридор или на улицу, то и мне хотелось следовать за ней. Где-то в шестом классе на уроке литературы было сочинение на тему: «Моя мечта», и я со своей наивностью, стараясь стихами, сочинил следующий эпиграф к нему: «Моя мечта — любить одну, кого любил я много лет…». После проверки тетрадей преподаватель в своём заключении написала, что мне ещё рано про это мечтать. Но, как говорят, сердцу не прикажешь, и эта девчонка мне часто снилась ещё долгие годы.
Однажды, когда я учился в пятом классе и возвращался из школы, дед встретил меня на улице и предложил неделю пожить у него, так как его супруга уехала в гости к сыну в Аиртав. Конечно же, я с радостью согласился. После возвращения бабушки я продолжал жить у них, с тревогой ожидая дальнейших распоряжений. Слава богу, как-то после школы дед даёт мне санки и посылает привезти от Лягиных мои личные вещи. В тот день я стал самым счастливым человеком на свете. Я вихрем мчался до этого амбара и потом назад со своим ветхим барахлом, опять же по той самой дороге, по которой когда-то пришлось мне радостно бежать с новыми валенками.
С того времени почти три года у меня была очень сытая и уютная жизнь. Надо полагать, что благодаря этому я в росте обогнал своих старших братьев и почти всех сверстников. Но за такую обеспеченную жизнь надо было расплачиваться трудом на летних каникулах. Каждую весну дед на Володарском базаре покупал трёхгодовалого бычка, которого я с друзьями обучал работать в рыдванке. После наступления каникул мы с дедом ежедневно, за исключением воскресений, вначале ездили по нашим лесам, заготавливая из сухостойных деревьев дрова на зиму, а потом косили траву на сено. Вот в такие поездки дед мне подолгу рассказывал свои многочисленные жизненные истории, а также про то, что происходило в Комаровке за время её существования.
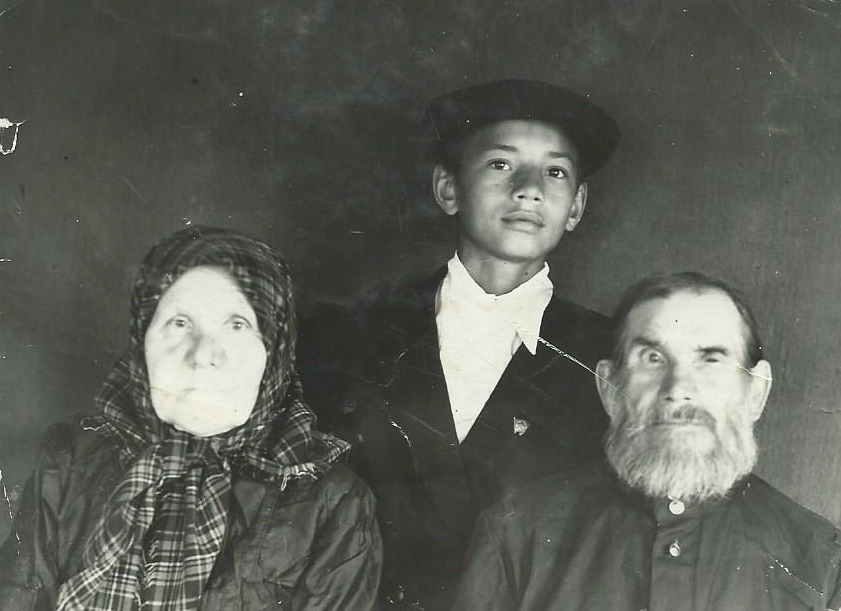
Он много учил меня во время поездок уму-разуму, да ещё через поговорки народным мудростям. Сейчас я бы сказал, что его девизом в жизни было: «Терпенье и труд всё перетрут». Для меня, между прочим, это тоже стало жизненной установкой. Точно так же, как и следующие поговорки: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», или «Жизнь прожить — не поле перейти».
Каждое лето по воскресеньям к деду приезжал в гости из села Навстречу (Прекрасное) его племянник Павел Обухов. Во время застолья они много времени посвящали воспоминаниям из своей прошлой жизни. Мой дед много раз повторял в конце своего рассказа для меня, откровенно сказать, шокирующий вывод: «Если бы не Империалистическая война, то большевики бы не победили в Гражданскую войну». И таким заключением он завершал почти каждое своё воспоминание.
Однажды преподаватель русского языка принёс в класс книгу писателя Короленко «Без языка» и предложил мне её прочитать. Это была первая книга, прочитанная мною в жизни. После неё я стал систематически и помногу читать художественную литературу. Дед считал, что такие книги меня отвлекают от основной учёбы, и категорически запрещал их читать, особенно после того как однажды, читая книгу «Алитет уходит в горы», я зачитался до того, что упал с табуретки в обморок. Но и после этого я находил всякие уловки и продолжал помногу читать.
Перед Рождеством и Пасхой вечерами в наш дом собирались старики и старухи послушать библию, которую читал наш грамотный сосед Малыхин. В периоды между чтением собравшиеся очень красиво пели молитвы. К сожалению, Малыхин вскоре умер, и некому стало читать библию, тогда дед заставил это делать меня. Содержание библии мне показалось интересным, и я стал её читать с большим удовольствием, хотя текст был напечатан староцерковными буквами. В такие вечера друзья обратили внимание на моё отсутствие на уличных играх и подсмотрели через занавески в окно нашего дома, что я в окружении стариков читаю им библию. На следующий день вся школа уже знала про мои вечерние занятия и мне прилепили ещё одну кличку: «Малыхин».
Запомнились тревожные и затем траурные дни в первых числах марта 1953 года, когда тяжело заболел и умер наш вождь И. В. Сталин. В то время на всю Комаровку был только единственный радиоприёмник на батарейках в красном уголке библиотеки в доме сельсовета. После сообщения о болезни Сталина директор школы П.П.Зикеев каждое утро прослушивал по радио бюллетень о состоянии здоровья Сталина, информировал потом учителей, которые на уроках доводили данные сведения всем школьникам, а мы должны были пересказывать это у себя дома. Пятого марта Пётр Павлович пришёл из сельсовета очень расстроенный. Заходя в каждый класс, он со слезами на глазах сообщал о смерти Сталина, его печальная новость и очень взволнованный голос передавался нам, и мы вместе с ним плакали. Но именно в этот момент в заднем ряду раздался смешок Ивана Зимина, которого рассмешил всеобщий плач. Директор повёл его тут же в свой кабинет «на ковёр». После разоблачения культа личности Сталина оставалось только оценить дальновидность Ивана Зимина.
Для печного отопления нашей школы ежегодно в лесу выделялась деляна для заготовки дров, и нам, старшеклассникам, с преподавателями надлежало с выездом на неделю в первые дни каникул заниматься этой работой. На колхозной машине нас отвозили в лес, где в первый день мы строили себе балаганы для ночёвок и обустраивали другие хозяйственные дела. Вечерами после работы занимались разнообразными играми, хором пели песни или слушали рассказы преподавателей. Для меня эти ежегодные выезды в лес остались незабываемо интересными на всю жизнь.
Большое удовольствие приносили летом походы, вначале со взрослыми, а потом уже только со сверстниками, за дикорастущей ягодой, так называли в Комаровке полевую клубнику, и несколько позже — за лесной вишней. Несмотря на то что такие походы были по указанию старших, так как сахар постоянно был редкостью в торговле, эти ягоды становились в питании источником углеводов, поэтому мы такие распоряжения исполняли с большой готовностью. На многих опушках комаровских лесов полевая клубника встречалась часто, а в некоторые годы её было очень много и нередко она вырастала крупной и сочной. В таких случаях даже дети могли её насобирать полное ведро и оставалось проблемой для нас донести этот урожай домой. А вот расторопные девушки и женщины собирали за один поход даже по два ведра.
Многие комаровские леса богаты дикой вишней. Когда мы были маленькими, нас старшие брали с собой в ближайшие вишнёвые леса, например, в «сосновый», «голошенков» и «баяллинский», а позже, когда сами стали постарше, наши походы были уже в леса за «джияллинским» и «священным» болотами. Нередко мы собирали вишню даже в лесах правее «волчьих ворот», в сторону Аиртава. Большинство принесённых нами ягод хозяйки умело сушили на воздухе и затем хранили в тканевых мешочках до зимы. Позже, в основном по праздникам, готовили из них очень вкусные кисели, компоты и пекли пирожки с ягодной начинкой.
Запомнился приём меня в ряды комсомола. В школьном коридоре в таких случаях выстраивали линейку из всех старшеклассников, и каждый кандидат должен был выйти на два шага вперёд и заслушать мнение о себе. Когда меня назвали, и я с трепетом вышел, то услышал от своего одноклассника из Пятилетки, что из-за своего озорного поведения не могу стать комсомольцем. Я стоял в шоке и ждал, что будет дальше, но меня выручила одноклассница Валя Ющенко, которая стала перечислять мои положительные стороны в поведении. В конечном итоге большинство всё-таки проголосовало за приём меня в ряды комсомола. Забегая вперёд, вспоминаю, когда я стал работать главным агрономом в Комаровском совхозе, а мой критически настроенный одноклассник трудился комбайнёром в Пятилетке, то мне казалось, что он при нашей встрече всегда вёл себя несколько смущённо.
Интересным событием была районная комсомольская конференция зимой 1953—1954 года, на которую меня единственного от школьной организации избрали делегатом. Конференция проходила два дня. Её главным моментом стало избрание первого секретаря райкома комсомола. Ранее возглавляла райком молодая женщина Безгубченко, а некий Петренко рекомендовался обкомом комсомола в качестве нового. Часть местного комсомольского и партийного актива были против присланного из области и смело отстаивали Безгубченко. Помнится, что защиту местной кандидатуры возглавил заврайоно Иван Антонович Трофимов, который потом многие годы работал в этой должности. Дискуссия продолжалась почти целый день. Конечно же, избрали обкомовского кандидата и ничего хорошего из этого не вышло. Позже я узнал, что Петренко вскоре проштрафился, и его с треском освободили от работы.

Добрых слов заслуживает коллектив преподавателей нашей Комаровской школы и вообще методика обучения в те времена учащихся. Много внимания уделялось литературе, за семь лет учёбы мы были ознакомлены с основными классиками русской литературы. Нам систематически давали задания заучивать наизусть многочисленные стихотворения, которые мы должны были пересказывать не только на уроках, но и декламировать на литературных вечерах. Некоторые стихи или отрывки запомнились на всю жизнь. Из всех предметов мне больше всего нравилась география, по которой у меня всегда были самые высокие оценки. Хуже всего обстояли дела с написанием диктантов, и только в восьмом классе оценки по ним несколько улучшились.
Под конец учёбы в семилетней школе семья моего деда увеличилась в связи с приездом на постоянное место жительство в Комаровку старшей дочери бабушки и её внучки. Дед мне твёрдо заявил, что после окончания седьмого класса мне надо самому решать своё будущее. Я написал письмо сестре с вопросом, как мне теперь дальше поступить. Пока ждал ответа, стал работать в полеводческой бригаде колхоза на сенокосе. Татьяна быстро ответила, что они с Григорием согласны, чтобы я к ним приехал и учился в восьмом классе. Вот так окончилась моя постоянная жизнь в Комаровке. В это время из Караганды гостила у родителей двоюродная сестра Анна с дочерью, и когда она стала уезжать, я с ней поехал к Татьяне.
Эта поездка в Караганду оказалась для меня дорогой в абсолютно другой мир. За пятнадцать лет своей жизни я ещё не видел вообще города, и в частности, Кокчетава, первый раз увидел железнодорожный вокзал и поезда. Дорога от Кокчетава до Караганды, с остановкой поезда во всех попутных городах, стала для меня самым интересным практическим уроком по географии.
Шахтёрская и промышленная Караганда встретила нас своими многочисленными терриконами, заводскими трубами и сплошной задымлённостью воздуха внутри города. Тогда мне пришлось первый раз проехать на знаменитом городском трамвае. У Татьяны с Григорием уже подрастали две дочурки — мои племянницы Люда с 1951 года и Валя с 1952 года. С ними ещё проживал мой брат Николай, и выходит, что я стал шестым членом семьи. Мы жили в большом шахтёрском бараке в двухкомнатной квартире, включая сюда и кухню, с общим длинным коридором. У меня вызывало восхищение электрическое освещение в квартире, а также работа радиоприёмника, и вообще многое вокруг сильно удивляло.

Николай к тому времени уже окончил курсы ФЗО (фабрично-заводское обучение) и работал электриком-монтёром где-то за городом, а мне разрешил пользоваться его велосипедом. Наш барак находился на крайней улице города, в так называемом Втором руднике Караганды. Так что я быстро изучил ближайшую городскую территорию и её окрестности, тем более что мне сразу вменили в обязанность добывать дрова для топки летней кухни, где сестра готовила пищу.
Первой возможностью взять дрова были склоны терриконов, на которые из шахт вагонетками вывозили вместе с породой и обломки деревянных креплений. Но здесь находилось много желающих охотников на дрова. Мне подсказали, что можно проникать через дыры в ограждениях лесных складов и там брать мелкие деревянные обрезки, но не попадаться на глаза сторожам. Было много и других мест, где я ухитрялся находить и возить на велосипеде «дровишки… вестимо». Ещё моей задачей было приносить воду на коромысле с двумя вёдрами из уличной колонки. Вода выдавалась по талонам, которые продавались в помещении самой колонки, буквально за одну копейку ведро. Коли вода была покупная, то я старался вёдра набирать совсем полные и доносить домой, не проливая ни одной капли, чем удивлял Татьяну.
Из-за дефицита в снабжении населения хлебом мне надлежало, если не каждые сутки, то через день ходить в два часа ночи к хлебному магазину и занимать очередь. Территорию перед магазином освещала единственная электролампочка, поэтому возникала проблема в том, чтобы запомнить свою очередь, а именно, за кем занимаешь, и кто за тобой будет стоять в очереди. Потому что после этого все расходились досыпать свои такие вот беспокойные ночи. К восьми часам утра мы уже вместе с Татьяной приходили к магазину, я должен был найти свою ночную очередь, что становилось не так-то просто. Сейчас удивляешься тому, что опоздавшим людям в магазине оставался только белый хлеб — и это по причине его дороговизны. Большинству населения есть белый хлеб было не по карману. Белые булки или батоны приобретали, в лучшем случае, только к праздникам или для воскресенья к чаю. Мясо покупали в магазинах редко и то самое дешёвое, в большем случае баранину или даже козье.

Благодаря велосипеду я объездил всю околицу нашего края. Чаще всего ездили мы с ребятами нашего барака купаться на пруд, называемый Узинка. Также нравилось кататься по небольшим горкам в сторону Темиртау. Потом осмелели и стали доезжать до пляжей реки Нура, возле города Темиртау. В общем здорово доставалось велосипеду брата от меня. Это было единственное время в моей жизни, когда я имел время и удовольствие в полной мере наслаждаться ездой на велосипеде. В это лето мне первый раз в жизни пришлось побывать в большом зоопарке, где содержались невиданные ранее для меня многочисленные звери и птицы.
К первому сентября 1954 года Татьяна оформила мои документы в школу №20, недалеко от нашего барака. Типовое двухэтажное здание этой школы было современным, с большими и специализированными по каждому предмету классами. Вот так началась моя непростая городская учёба в восьмом классе. Конечно же, уровень подготовки семиклассников в сельской школе намного отличался от городской. Мне пришлось поначалу до поздней ночи кропотливо готовить домашние задания, так что на первых порах было не до художественной литературы. Запомнились очень хорошие преподавательницы по географии, а также по литературе и русскому языку. Дружеские отношения у меня сложились с соседом по бараку Николаем Пащенко, который также приехал к старшему брату учиться в восьмом классе из Северо-Казахстанской области, и с которым мы весь учебный год сидели за одной партой. Моим однокласником также стал земляк из Аиртава Александр Кайгародов, который в период моей работы агрономом и управляющим приезжал к матери в отпуск
Количество моих ошибок в диктантах стали на всю школу притчей во языцех. Чтобы как-то помочь моему, в прямом смысле, горю, за мной закрепили шефа-одноклассника Анатолия Дика, который отличался весьма грамотным русским языком. Он согласился со мной через день заниматься у себя дома. Его помощь очень хорошо сказалась, и уже к весне мне по диктантам ставили четвёрки. До сих пор я благодарно вспоминаю своего доброжелательного шефа. В положительную сторону мне удалось отличиться тем, что был единственным в классе, кто выполнил задание по литературе: за одну неделю выучить наизусть первую главу поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Между прочим, и за вторую неделю в классе ещё никто не смог заучить такой объём.
Преподавательница по географии была родом из Белоруссии, где в детстве во время войны ей пришлось быть под оккупацией фашистов. Она была первым человеком в моей жизни, кто мог рассказать, что происходило на занятых врагом территориях. На своих уроках она вспоминала жуткие случаи, а именно, какими методами истреблялись евреи, особенно ужасно было слушать об умерщвлении еврейских школьников. Многое мы узнали от неё и про партизанские дела в белорусских лесах.

В Караганде после массовой амнистии 1953 года свирепствовали уголовники, особенно поздними вечерами и ночами. С этим столкнулся и я, когда возвращался с читательской конференции из городской библиотеки. Мне было удобно идти домой через территории нескольких шахт, и когда я проходил мимо неосвещённого здания, то из-за тёмного угла появились три человека и крикнули мне: «Стой!». Но я задал такого стрекача, что этим самым доказал бандитам, что не напрасно занял второе место в своей школе при марш-броске на юбилейный день Победы — девятого мая 1955 года. Ещё был случай, когда у моей племянницы после сладкого арбуза разболелся ночью животик. Сестра послала меня среди ночи в ближайшую круглосуточную поликлинику за врачом. С большим страхом я добежал до неё и потом, когда пришедшая женщина помогла больной и категорически отказалась возвращаться одна, мне пришлось ещё раз повторить этот путь с большой боязнью.
Однако в карагандинских тюрьмах оставалось ещё много заключённых. Недалеко от нашего барака находился их большой рабочий объект — деревообрабатывающий комбинат под усиленной охраной. По нашей улице ежедневно утром и вечером колонной специальных автомашин провозили заключённых под охранной солдат с автоматами. Были случаи, когда их вели пешком в сопровождении многочисленных солдат с автоматами и служебных собак. На объект завозили целыми железнодорожными составами лесоматериал, который сотни заключённых разгружали, и в это время они нам на вагонах хорошо были видны. Во время рабочих пауз люди, сидя на брёвнах, нередко многочисленным хором пели свои грустные песни, да так громко и очень красиво, что люди выходили из своих жилищ на улицу, чтобы послушать эту пленительную многоголосицу. В будущем мне не приходилось больше слышать такой многолюдный мужской хор, да ещё с весьма печальными народными песнями.
После окончания восьмого класса мне стало ясно, что дальше обременять шахтёрскую семью сестры будет неправильно, поэтому мне пришлось забрать свои школьные документы и вернуться на родину. Несколько раньше уехал брат Николай работать на целину. На время каникул я проживал у своей крёстной, помогая ей заготовить на зиму дрова и сено. Постоянно мучила мысль, куда дальше пойти учиться. Большое желание было поступить в техникум и выучиться на агронома. Но тогда возникала проблема, как сложится в техникуме моё материальное положение. Были такие близкие родственники, которые не только не советовали, но и категорически предупреждали, чтобы я не ждал от них какой-либо помощи. А вот крёстная поддерживала моё желание стать агрономом. Про мои проблемы узнала учительница Мария Степановна Каменева, которая учила меня в третьем и четвёртом классах, она специально пришла до крёстной, чтобы убедить меня не бояться жизни в техникуме. На своём примере доказывала мне, когда она училась в Щучинском педучилище, ей несколько раз материально помогала профсоюзная организация. Вместе с крёстной они убеждали, что «мир не без добрых людей». Потом я в жизни часто получал подтверждения в правильности этой народной мудрости.
Брат Николай не баловал нас своими письмами, и мы не знали, где он находится в это лето. Последнее его письмо мы получили ещё зимой, когда он учился на тракториста в Лобановском училище механизации. У меня было большое желание разыскать его через это училище и встретиться с ним. В те времена все поездки из сёл осуществлялись только на попутных машинах. Вот и мне надо было ехать в Лобаново с пересадкой в Еленовке. Когда я приехал в училище, то узнал в учебной части, что Николай после учёбы был направлен в Тахтабродскую МТС (машинно-тракторная станциия). На вопрос: могут ли меня принять учиться на тракториста в связи с состоянием моей правой руки, мне ответили, что это возможно. В этот же день с пересадкой в Арыкбалыке и Константиновке мне удалось приехать в Тахтаброд. В конторе МТС мне сказали, что Николай работает в тракторно-полеводческой бригаде колхоза села Сокологоровки. Мне пришлось переночевать на стульях в этой конторе и утром добраться до брата. Он работал и жил на стане бригады, где и мне пришлось у него гостить двое суток. Всё это время брат убеждал меня, что надо идти учиться только в техникум.
После возвращения от Николая уже полностью созрело решение учиться в сельхозтехникуме. Мне стало известно, что четверо комаровичей собрались ехать поступать в Ленинский техникум Северо-Казахстанской области. Вот и я присоединился к ним пятым и срочно почтой отправил свои документы. От нашего родительского имущества в Комаровке оставались только старинный сундук и тулуп. Скорее всего, из-за сочувствия ко мне эти довольно-таки старые вещи купила моя тётя Стеша. Таким образом, я обзавёлся деньгами на дорогу и другие первоначальные расходы. К первому августу через Кокчетав и Петропавловск мы доехали до желанного техникума.
Надо заметить, что после массовой агитации в 1954 году на государственном уровне о поднятии целинных и залежных земель, много молодёжи в последующие годы пожелало учиться в сельскохозяйственных учебных заведениях. Вот и на агрономическое отделение в Ленинском техникуме в 1955 году образовался конкурс — девять человек на одно место. По результатам вступительных экзаменов из пяти нас, комаровичей, только меня зачислили на учёбу. Моей радости не было предела, радовалась и сестра Татьяна, которая в это время гостила с дочерьми в Комаровке и ждала моего возвращения с экзаменов,
К первому сентябрю я вернулся в техникум, где должны были начаться занятия. Но нашу группу в составе тридцати первокурсников сразу отправили на уборку урожая в село Ильинку, в полеводческую бригаду колхоза «им. Ильича». Жили мы на полевом стане всей группой в большом балагане, где девушки спали в одной его стороне, а парни в другой. Две однокурсницы стали нашими поварами, они готовили еду в большом котле сразу на всю группу, в основном обеды с борщами или супами, а на ужин какие-либо каши. На завтраки нам привозили свежее молоко с хлебом домашней выпечки. Работали мы в основном на зернотоке. В те времена ещё не было никаких механизмов для работ с зерном на токах, всё выполнялось вручную.
Самая трудоёмкая работа была разгружать зерно лопатами с бортовых автомашин из-под комбайнов, так как не было ещё и самосвалов. Особенно тяжело было разгружать влажное зерно. Нелегко было и загружать его центнеровыми ящиками в кузов машины. Зерно очищалось на самодельных веялках, которые приводились в действие вручную или, в лучшем случае, приводом широкого и длинного ремня от вала отбора мощности колёсного трактора.
Произошёл тогда один случай при такой механической веялке, когда я спас от большой беды свою однокурсницу. Металлический вал, вращающий решётный стан веялки, значительно выходил за пределы деревянного подшипника и имел на конце большие острые заусенции. При работе веялки две девушки лопатами отгребали от неё очищенное зерно, а я на другой стороне откидывал зерноотходы. Вдруг услышал громкий девичий визг и заметил, что все столпились около одной девочки. Когда я быстро подбежал к ним, то увидел, что этим вращающим валом захватило и закручивало её платье. Многие наши ухватились за девушку и старались оттянуть её от вала, что мало ей помогало. У меня моментально возникло решение сорвать приводной ремень с вала трактора и он быстро снялся с него, после чего работа веялки сразу остановилась. Эту девушку в срочном порядке на машине отправили с большой травмой в нижней части живота в районную больницу. Потом нам сказали, если бы веялка продолжала ещё 2—3 минуты работать, то спасти жизнь пострадавшей стало бы невозможно. Она больше месяца находилась в больнице и вернулась, когда у нас уже начались занятия в техникуме, и очень искренне меня благодарила за тот поступок.
Запомнился мне разговор между пожилыми местными колхозниками во время перекуров в работе на току на тему предстоящего выхода на пенсию. Такие разговоры мне приходилось много раз слышать ещё в Комаровке. Оказалось, что в этом ильичёвском колхозе так же, как и в комаровском, пенсия старикам выдавалась не государственная деньгами, а по Уставу колхоза в объёме всего лишь одного пуда муки в месяц. И такую пенсию в народе называли пресловутым «петушиным пайком», так как шестнадцать килограммов муки могло хватить на хлеб на один месяц только одному человеку. Но всем остальным, как говорили представители власти, должны помогать дети. Но люди тогда задавались вопросом, что делать тем, у кого в семье нет детей. В таком случае выходило, как в крылатом выражении: «У матросов есть вопросы, у советов нет ответов».
Приходилось мне ещё трудиться на соломокопнителе прицепного комбайна С-6 у одного передового комбайнёра, который соревновался с другим человеком, чтобы получить орден Ленина. Поэтому они старались друг перед другом, у кого будет больше намолочено зерна. Для этого старались дольше молотить ночью. Нам же, прицепщикам, из-за ночной росы было очень трудно работать вилами с влажной соломой, которая ещё к тому же часто не соскальзывала с днища копнителя. Приходилось часто прыгать в него, чтобы ногами и спиной самому выпихнуть солому и вместе с ней оказаться на ночном поле, после чего надо было догнать комбайн и по крутым ступенькам взбежать на своё рабочее место.
Когда я глубокой ночью возвращался с работы, все мои однокурсники уже давно спали. Наши повара на ужин и завтрак оставляли мне на дне котла кашу, которую приходилось быстро съесть и укладываться спать. Рано утром, когда в балагане опять же все ещё спали, мой комбайнёр уже будил на работу. Так что спать приходилось не более 4—5 часов в сутки. Ещё случалось мне быть экспедитором на грузовой машине при сдаче зерна на Петропавловский элеватор. Эта работа, конечно же, была лёгкой и сама по себе ещё интересной и познавательной. В конечном счёте за работу в колхозе мне нормально заплатили и у меня образовался даже некоторый денежный резерв.
Надо полагать, что с осени 1955 года фактически началась моя долголетняя непростая, но вместе с тем весьма интересная агрономическая жизнь, за что я премного благодарен своей судьбе.
Берлин, 2011 год
Начало агрономии в моей жизни
Орлята учатся летать…
Н. Добронравов
Ленинский техникум является старейшим учебным сельскохозяйственным заведением на территории Северного Казахстана. Ещё до Октябрьской революции здесь была школа агростарост, которая готовила специалистов для крупных землевладений. После революции её переименовали в школу полеводов. В 1923 году здесь образовали сельскохозяйственный техникум и в 1924 году его назвали в честь Ленина. Несколько наших преподавателей в конце 20-годов закончили сами этот техникум, и затем были направлены на учёбу в московскую Тимирязевскую сельхозакадемию. Посёлок техникума расположен на крутом берегу реки Ишим (Есиль) и находится рядом с автотрассой Петропавловск-Сергеевка, вблизи большого села Покровки и восемь километров от Явленки — ранее райцентра Ленинского, а ныне Есильского района Северо-Казахстанской области.
На территории техникума находился старинный парк с тенистыми аллеями из тополя, по словам наших преподавателей, посаженными ими здесь в годы их учёбы. Кроме тополей ещё были многочисленные ряды сирени и другие виды деревьев. В центре парка располагалась летняя танцевальная площадка, на которой каждую субботу вечерами организовывались самими студентами многолюдные танцы, где первокурсники при желании имели возможность научиться танцевать.
В 1955 году в техникуме существовали агрономическое и зоотехническое отделения с четырёхлетним обучением, а несколько позже ещё открыли ускоренный трёхгодичный курс веттехников, набираемый из десятиклассников. Учебный корпус и двухэтажный клуб были деревянными, ещё довоенной постройки. В клубе находилась весьма богатая библиотека и просторный читальный зал. В большом зрительным зале еженедельно ставили платное кино, а в зимний период организовывались танцы. Для студентов имелись общежития: два мужских и одно для девушек. Столовая работала все дни недели и обеспечивала трёхразовое питание. В обед, чтобы поесть, надо было выстоять длинную очередь, нередко более часа. Блюда стоили недорого, достаточно сказать, что отцовской пенсии в размере 180 рублей (курсом до 1961 года, а после — это 18 рублей) мне вначале учёбы хватало, конечно же, только на скромное месячное пропитание. Воистину были для нас: «щи да каша — пища наша». По группам составлялся график дежурств на кухне, в основном для чистки картофеля, вот тогда-то мы там бесплатно хорошенько наедались.
Первокурсникам выплачивали стипендию в размере 140 рублей и с каждым последующим курсом её увеличивали на 20 рублей. Однако из размера стипендии высчитывали ежемесячно 12 рублей за баню и стирку постельного белья. По пенсионному законодательству того времени студентам моей категории полагалось получать или стипендию, или пенсию за погибшего отца. Мне же выгодней стало получать отцовскую пенсию.
Преподаватели в техникуме были с большим трудовым стажем, многие из них долгие годы проработали непосредственно в сельском хозяйстве. Занятия проводили очень интересно, и поэтому их богатые знания, которые они добросовестно передавали нам, с большой пользой пригодились мне в будущем. Многие годы директором техникума работал Гладков Сергей Васильевич, но он ещё в годы моей учёбы ушёл на пенсию. Его сменил на этой должности ранее неизвестный преподавательскому коллективу Будко Яков Яковлевич, якобы вначале направленный на целину.

Классным руководителем в нашей группе все четыре курса была Валентина Андреевна, жена директора техникума. Они с мужем в своё время сами учились в этом техникуме. Валентина Андреевна преподавала у нас на курсе ботанику, почвоведение и земледелие. Она прекрасно знала многое о морфологии и физиологии тех растений, которые произрастали в нашем регионе. На практических уроках по ботанике старалась всю нашу группу водить по территории учебного хозяйства, причём не только по полям с сельскохозяйственными культурами, но и по другим видам земельных угодий. Непосредственно на месте определяла название растения, в том числе и по латыни, и сообщала, к какому семейству, роду и виду они относятся по системе Линнея. Кроме того, называла, какого вида у него корневая система, стебель и цветок. Если это был сорняк, то она сообщала об агротехнических мерах борьбы с ним. Учила нас, как правильно оформлять гербарий, и мы должны были собрать за первый курс не менее 50 растений, с их кратким ботаническим описанием.
В качестве классного руководителя Валентина Андреевна стремилась рассказывать поучительные жизненные истории из своей личной биографии, буквально по-матерински учила нас правильным взаимоотношениям между девушками и парнями. Эта высокообразованная, уважительная и внимательная женщина внесла в наши юные души очень много самого доброго и хорошего.
Первые три семестра, кроме специальных дисциплин, мы продолжали изучать ещё такие основные общеобразовательные предметы, как история СССР, математика, литература, русский и английский языки. Иммигрант из Манчжурии Николай Степанович Лукашкин преподавал нам английский язык, очень хорошо им владевший. Он был потомок белогвардейцев, которые в Гражданскую войну бежали в Китай. Николай Степанович был весьма начитанным человеком и имел богатую домашнюю библиотеку. Когда он узнал, что я увлекаюсь художественной литературой, то стал приглашать по воскресеньям к себе домой, где я мог пользоваться его личными книгами. Его супруга, тоже из иммигрантов, работала секретарём-машинисткой у директора техникума. Это были исключительно гостеприимные люди. Они каждый раз угощали меня кофе с молоком и сахаром, тогда ещё для меня экзотическим напитком. Мы подолгу обсуждали содержание прочитанных мною книг. Общение с такими высококультурными людьми принесло мне впоследствии в жизни большую пользу.
Жили мы в общежитии, как правило, по пять человек в комнате. В состав нашей комнаты вошли мои одногодки, земляки из Кокчетавской области Ерсаин Каршалов и Владимир Антолевский, с которыми у меня сложилась в дальнейшем долголетняя дружба, но, к большому сожалению, их уже нет в живых, затем Аркадий Иванча и детдомовец из Белоруссии Тимур Ковалёв. Ещё в нашу комнату на первом курсе поселили шестым Бориса Царика, которого зачислили вне конкурса уже после нашего возвращения с уборки. Он сам потом хвалился нам, что его старшая сестра, которая работала главным редактором местной районной газеты, договорилась по блату принять его на учёбу. Тимур и Борис спали на одной кровати. Впоследствии Борис Царик оказался редким наглецом — и это ещё мягко сказано.
После размещения по комнатам нам выдавали постельные принадлежности, в том числе пустые матрасовки, которые следовало набить соломой, заранее подвезенной к общежитию. От соломенных матрасов вначале шёл по ночам звонкий хруст на всю комнату, когда мы поворачивались с боку на бок, а позже выбивалась пыль. В комнате было самообслуживание. Старший по комнате составлял график дежурств по неделям, когда нам надлежало подметать и мыть пол, а в зимний период топить печь.
Нередко случалось, что при преждевременном закрытии печной заслонки жильцы такой комнаты сильно угорали, так что медикам техникумовской поликлиники приходилось спасать пострадавших. Так однажды произошло и в нашей комнате. Помнится, рано утром я первый решил подняться с кровати, и только стоило мне встать на ноги, как в голову ударила такая сильная боль, что тут же, вскрикнув, я упал на пол. Потом с большим усилием поднялся и дошёл до двери, открыл её и уже в коридоре проходящим ребятам сообщил о том, что мы угорели. Моих товарищей подняли с постели и вывели из комнаты, открыли дверь и форточки в окнах, после чего вызвали врача, который заставил нас нюхать, если не ошибаюсь, нашатырный спирт. Нам дали освобождение от занятий на один день, но голова сильно болела ещё несколько суток.
Занятия проходили в учебном корпусе старинной постройки. За каждой группой на всё время учёбы закреплялся просторный и светлый класс, в который согласно расписанию приходили преподаватели соответствующих дисциплин. Кабинеты по химии и механизации, а также спортзал находились в другом здании.
Старостой нашей группы назначили весьма простодушного гагауза Костю Лефтерова, который был намного старше всех нас. Его семья, как кулацкая, была депортирована в 1940 году из западной Молдавии в Казахстан. До поступления в техникум он уже несколько лет проработал в подземных золотых рудниках в Акмолинской области, где заболел неизлечимой профессиональной силикозной болезнью. Костя прекрасно играл на баяне, который привёз с собой в техникум. Вот он и стал безотказно зимой и летом играть нам на танцах, за это мы его так зауважали, что постоянно разрешали не стоять в каких-либо очередях.
В обязанность старосты входило следить за посещением однокурсниками занятий и писать в учебную часть рапортички с указанием прогульщиков, а также составлять различные графики, в том числе и дежурство в классе. Забегая вперёд, напишу о том, что приехав на свадьбу старшей дочери в Чимкентскую область в 1981 году, я узнал от родителей моего зятя, что они являлись близкими родственниками Лефтерова. Сваты мне сообщили, что Константин, к моёму большому сожалению, уже умер от силикоза у себя на родине, в Молдавии.
Запомнились многие наши преподаватели. К примеру, большой знаток химии — уже совсем пожилая Евдокия Филиппьевна, по прозвищу «Коробочка». Она с великим уважением отзывалась о Менделееве и его полное имя произносила с большой нежностью в интонации голоса: « Дми..и..трий Ива..а..нович Менде..е.. ле..ев». И это являлось предметом для её пародирования нашими техникумовскими остряками. Также ещё была Татьяна Николаевна Волкова, прекрасный преподаватель по математике. Она стала для меня первой русской женщиной, которая курила. Раньше я встречал только курящих цыганок. На первый взгляд она выглядела грубоватой женщиной, но фактически была добрым и внимательным человеком.
Хорошо запомнился Дымов Владимир Фёдорович, преподаватель по животноводству, что нам, как будущим агрономам, тоже давали кратким курсом. Это был одинокий пожилой мужчина, закончивший сельскохозяйственный ВУЗ ещё до войны, и который являлся большим специалистом в коневодстве. Он участвовал в войне и дослужился до звания полковника, но после кто-то донёс в органы, что его отец был в Гражданскую войну активным уральским белоказаком. Дымова лишили всех военных наград и званий за укрывательство в личных анкетах своего прошлого, да ещё жена сразу развелась с ним. После этого он стал явным женоненавистником, и вообще чувствовалось, что озлобился на всё и на всех. Примером этому могло служить то, что он по любому случаю никогда и никого не впускал в свою холостяцскую квартиру.
Хорошей традицией в те добрые времена было повсеместное увлечение художественной самодеятельностью. В составе нашей группы находился целинник из Украины, вышеназванный Аркадий Иванча, которого можно было считать за доморощенного артиста. Он с собой привёз аккордеон, на котором очень хорошо играл, мог одновременно петь и дирижировать хором. Иванча с большим энтузиазмом стал организовывать в клубе силами нашей группы самодеятельность.

Благодаря его таланту и инициативе мы заняли к Новому 1956 году первое место на техникумовском смотре по художественной самодеятельности. В моём домашнем альбоме сохранилась фотография части нашей группы первокурсников на крыльце клуба перед репетицией.
Администрация техникума имела финансовую возможность ежегодно обновлять в библиотеке книжный фонд и оформлять подписку на многочисленные газеты и журналы. В читальном зале находились не только сельскохозяйственные, но также различные молодёжные и общесоюзные политические издания. С газетами и периодическими журналами я раньше не имел возможности постоянно знакомиться. Для меня они стали новым источником знаний. Несмотря на большой по размеру зал, здесь не всегда можно было найти свободное место. Только преподавателям разрешалось брать на дом журналы. Если в них печатались интересные материалы с продолжением, то мы с нетерпением ждали, когда тот или другой журнал вернётся в зал. Все газеты находились в долголетних подшивках, так что можно было при желании прочитать статьи прошлых лет.
Наш преподаватель по экономике и организации сельскохозяйственного производства Степан Дмитриевич Зиновьев, весьма опытный производственник, давал нам такие наставления, которые стали очень полезные и в жизни, и в будущей работе, поэтому они мне запомнились навсегда. К примеру, он говорил, что поначалу не обязательно читать полностью ту или иную статью, надо постараться приучить себя ежедневно просматривать хотя бы только газетные заголовки. Затем, когда это войдёт в систему, можно будет выборочно читать полностью интересующие статьи. То же самое касалось и периодических журналов. Он много давал нам буквально отеческих советов для будущей работы, а именно, как строить уважительные взаимоотношения со своими будущими подчинёнными и коллегами по работе.
Для культурного отдыха техникумовцев в клубе организовывались, особенно в зимний период, различные мероприятия. Большая заслуга в этом принадлежала заведующему клубом, немцу Фёдору Фёдоровичу. Он был не только прекрасным музыкантом, владевшим многими музыкальными инструментами, но ещё и замечательным культмассовиком. Под его руководством организовывались вечерами в субботу танцы с интересными играми и давались уроки современных танцев, а в воскресенье днём — многочисленные викторины с учётом возрастных групп населения техникума.
Вместе с тем для меня было тревожным ожиданием предстоящая сдача экзаменов за первый семестр. Многие преподаватели предупреждали нас, что после первого учебного полугодия нередко отчисляют студентов из техникума за неуспеваемость. Поэтому мне приходилось после занятий в своей комнате, жертвуя личным отдыхом, усиленно готовиться к занятиям. Но это не всегда получалось, так как Аркадий Иванча привёз с собой швейную машинку и по заказам студентов шил в нашей комнате дефицитные вещи. В основном это были модные в то время шестиклинные кепки. Стрекотня его машинки буквально мешала заниматься с учебниками. Мы долгое время терпели это, учитывая его авторитет как человека намного старше всех нас в комнате и ещё за его артистические способности. Однако при приближении экзаменационной сессии стали его просить не мешать нам с подготовкой. Иванча абсолютно не реагировал на наши просьбы и продолжал своё многочасовое шитьё. Тогда я заявил, что вынужден пойти к коменданту техникума за помощью. Когда я стал со всей решимостью одеваться, чтобы пойти и выполнить своё предупреждение, он схватил меня, повалил на кровать, и у нас завязалась драка. После этого он всё-таки больше без нашего разрешения не работал в комнате со своей швейной машинкой.
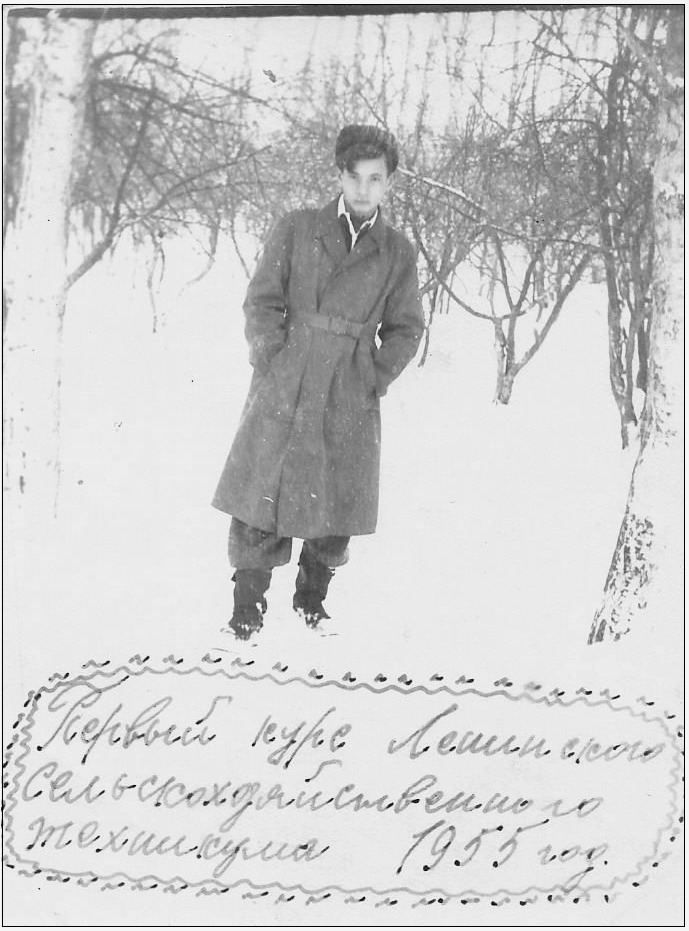
Все экзамены за первый семестр мною были сданы успешно, но на зимние каникулы мне фактически ехать было не к кому и не на что, поэтому пришлось остаться на три недели жить с детдомовцем Тимуром Ковалевым вдвоём на всё общежитие. Большое огорчение от таких каникул надолго осталось в памяти.
Ранней весной 1956 года первокурсников техникума направили на посевную в целинные хозяйства области. Нас привезли в дальний степной совхоз «Интернациональный», это почти на границе с Кустанайской областью. Часть нашей группы разместили по вагонам в тракторно-полеводческой бригаде вместе с первоцелинниками. До начала посева зерновых культур мы работали прицепщиками у трактористов, которые занимались ранневесенним боронованием или на весновспашке. Вот там-то мы увидели бескрайнюю казахстанскую поднятую целину. И только холмики с многочисленными сурками, да редкие степные болота с журавлиными гнёздами остались нетронутыми тракторными плугами. Даже на третий год после начала пахоты целинных полей на некоторых из них ещё оставались неразработанные дерновые пласты, и все весенние агротехнические мероприятия, включая посев, производили по пластам.
Нас удивляли своим поведением сурки. Они совсем не боялись работающих тракторов и продолжали поедать зелёную траву, или группой стоять столбиками на своих холмиках с многочисленными норами, быстро вертя головами по всем сторонам. Но только стоило нам выскочить из трактора и бежать к ним, вот тогда-то они моментально устремлялись в свои норы. Однако не успеет трактор отъехать на сто метров, как они всей своей семьёй опять уже находились на холмике.
Некоторые целинники с помощью капканов охотились на этих травоядных зверьков. В нашем вагоне в отдельной комнате жил бригадный сторож, который систематически ставил капканы у нор сурков. Однажды рано утром, прогуливаясь вокруг бригадного стана, я обнаружил пойманного в капкане сурка. Вернувшись в вагон, тут же сообщил сторожу о его добыче, а вечером он меня пригласил в свою комнату и угостил со сковородки жареным ароматным мясом. Когда я наелся, он мне сообщил, что такое вкусное мясо было от того сурка, который мною был обнаружен в капкане. В дальнейшем мне никогда больше не приходилось есть сурчатину.
Самой полезной деятельностью в ту весну для будущих агрономов являлась работа сеяльщиками на тракторных агрегатах. Мне пришлось трудиться старшим сеяльщиком на пятисеялочном агрегате с трактором С-80. Мы не только наблюдали, но и помогали агроному совхоза регулировать сеялки на норму высева и глубину заделки семян. Запомнилась большая тряска на сеялке, когда тракторист-первоцелинник в погоне за количеством засеянных гектаров не сбавлял скорость на участках, где были ещё не разработаны дерновые пласты. Надо было очень крепко держаться за поручни, чтобы не сорваться с сеялки. Мне казалось, что при таком качестве сева не вырастет хороший урожай. Но благоприятные весенне-летние дожди в 1956 году, да целинная земля поправили все недоработки хлеборобов и позволили вырастить небывалый рекордный урожай в Казахстане, да ещё, наверное, и по всей стране. Начиная с 1956 года, наконец-то, в нашей стране прекратился дефицит зерна, и люди перестали стоять в магазинах за хлебом в многочасовых очередях.
Сохранился в памяти первомайский праздник в совхозе, вернее сказать, в его полевых бригадах. Первого и второго мая были объявлены нерабочими днями. Нас, студентов техникума, на Первое мая всех свезли в одну из бригад, где на торжественном собрании сделали доклад. Но, главное, накормили бесплатным праздничным обедом с обильным мясом. Потом организовали силами художественной самодеятельности совхоза праздничный концерт, а затем танцы и всяческие викторины. Поздно вечером мы вернулись в свою бригаду, где наши целинники, которым к празднику выдали зарплату, почти всю ночь ещё «гудели». Второго мая мы стали свидетелями их жестокой драки между собой. Мы так и не поняли тогда причины, почему целинники с большой мужской яростью избивали друг друга.
Ещё запомнились два случая лично со мною. Первый, это когда меня обманул наш бригадир. Дело было связано с одним одичавшим конём, которого он не мог долго поймать и объявил, кто его поймает и приведёт на стан, тот получит 100 рублей. Вот мне и захотелось заполучить такие деньги. Много я всяких подходов сделал к этому вредному коню: и верхом на другой лошади, и пешим, но всё было напрасно. Потом придумал ловушку с ведром овса между телегами и со сдвоенными вожжами. Только конь начал жевать овёс, я подошёл и быстро поднял вожжи. Вначале он стал метаться в моей ловушке, а потом, когда успокоился, я осторожно, поглаживая по спине и шее, надел на него уздечку и привёл к вагонам. Но бригадир, к моёму большому огорчению, «забыл» про своё обещание.
Второй случай, когда мне при работе на сеялке могло оторвать ступню ноги. На вспаханном поле встречались неразбитые большие комья с корнями ракиты. Вот такой ком во время работы попал между двумя дисками моей сеялки и стал волочь перед собой почву. Я решил его правой ногой выдавить — и он выдавился, но прихватил с собой ногу и начал отрывать мою ступню. Хорошо, что тракторист быстро остановился и помог освободить ногу, которая на глазах стала сильно опухать. Меня на машине увезли к бригадному медику, который сделал крепкую перевязку на ноге. После чего я несколько дней не мог работать и отлёживался в своём вагоне, читая художественные книги.
Всю посевную погода стояла без дождей, и весенние работы были завершены в нормальные сроки. С нами рассчитались за работу таким образом, что после вычета за питание совсем мало денег попало в наши карманы. Зато мы вернулись в техникум с богатыми впечатлениями, с сильно загоревшими лицами и с некоторым приобретённым производственным опытом.
Жизнь в техникуме в эту весенне-летнюю пору была довольно-таки интересной. Почти ежедневное купание в Ишиме и прогулки по большим зелёным речным зарослям вдоль берега, да ещё вечерние танцы в парке или занятия в читальном зале с молодёжными журналами и газетами приносили незабываемое удовольствие. Однако подходило время сдачи экзаменов за первый курс, и надо было заставить себя усиленно готовиться к ним. Наверное, благодаря этому мне удалось экзамены сдать на пятёрки, за исключением четвёрки за сочинение по литературе. В результате этого я стал второкурсником в техникуме.
Перед отъездом на каникулы, зная, что осенью нас снова отправят на уборку, я зашёл в кабинет завуча техникума, добрейшего по своему характеру, Иосифу Фёдоровичу Белоглядову, и попросил разрешения остаться осенью работать на родине с последующим представлением подтверждающей справки. Он согласился, но с условием, что при первой телеграмме я должен немедленно вернуться в техникум.
С радостным настроением я приехал в родное село к своей крёстной. К этому времени брат Николай тоже вернулся в Комаровку и жил у деда. Вначале я помогал крёстной по хозяйству, а после начала уборочных работ уехал жить в тракторно-полеводческую бригаду. Мы вместе с братом стали работать на агрегате прицепного комбайна С-6. Он — трактористом на гусеничном тракторе, который буксировал комбайн, а я — прицепщиком на соломокопнителе.
В настоящее время уже трудно поверить, что один комбайн обслуживали в те времена 5—6 человек. Но это так и было. На тракторе работали два сменных тракториста и комбайнёр со штурвальным, также надлежало быть ещё двум прицепщикам на соломокопнителе, но из-за отсутствия рабочих часто трудился только один. Комбайнёром у нас работал Ащеулов Василий с многолетним механизаторским стажем. Он являлся мужем родной тёти моего зятя Григория. Два его сына, Николай и Владимир, учились на агрофаке Новосибирского сельхозинститута, с которыми позже мне приходилось по агрономической работе встречаться.
Хлебоуборку 1956 года можно считать исторической по нескольким причинам. Во-первых, как выше писалось, благодаря поднятию целинных и залежных земель, да ещё благодатным летним дождям она была с рекордным урожаем в Казахстане. За такой большой урожай многие хлеборобы из числа рядовых механизаторов и руководителей бригад, хозяйств, районов и областей были награждены самыми высокими государственными наградами. Кто был награждён Орденом Ленина и Звездой Героя социалистического труда, получили в порядке премии от ВДНХа ещё легковой автомобиль «Победа».

Во-вторых, начиная с 1956 года директивно правительством, скорее всего, по инициативе Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва внедрялась технология раздельной уборки зерновых культур. Она заключалась в том, что сначала необходимо скосить зерновые в восковой спелости в валки, и после надлежащей их просушки с подборщиками обмолотить. Однако директива-то была, но необходимой техники для такой технологии, кроме небольшого количества подборщиков, фактически не поступало в хозяйства. Вот и пошла настоящая чехарда с указаниями для комбайнёров: то для косовицы в валки убрать приёмный стол перед барабаном комбайна, то восстановить его и смонтировать на жатку подборщик, или же вернуться к прямой уборке. Пришлось нам при хорошей погоде, да ещё и в разгар уборки, терять много драгоценного времени с этими переоборудованиями, и от комбайнёров наслушаться справедливой критики в адрес начальства, да ещё с крутыми матерками.
Всё-таки пришла телеграмма, чтобы я срочно прибыл в техникум для выезда вместе со своей группой на уборку. По прибытию в техникум оказалось, что моя группа второкурсников уже работает в дальней тракторно-полеводческой бригаде местного покровского колхоза. Да ещё из-за моего опоздания меня поселили в свободное место в комнату со старшекурсниками. Попутными машинами мне быстро удалось доехать к своей группе, которая работала на зерновом току и жила в вагонах на бригадном стане. До конца хлебоуборки мы работали только на току.
В начале учёбы на втором курсе произошло несколько значительных событий. Сразу после возвращения из колхоза меня пригласил к себе в кабинет завуч Иосиф Фёдорович Белоглядов и сообщил на условиях секретности, что мне будет выдаваться стипендия одновременно с отцовской пенсией. И при этом ещё будет представляться справка в госбанк, что мне якобы стипендия не выдаётся. Такого счастья мне в самом розовом сне не виделось. Потому что даже сыновьям директоров совхозов ежемесячно высылали не более 100 рублей. Конечно, надо иметь в виду, что их ещё полностью родители одевали, да ещё частыми посылками подкармливали, а у меня было полное самообеспечение. В любом случае я получил хорошее подтверждение народной мудрости, что «мир не без добрых людей».
Однажды нам объявили, что в клубе состоится открытое комсомольское собрание, на котором явка всех студентов должна быть обязательной. Когда мы собрались в зрительном зале, за кафедру вышел директор техникума С. В. Гладков и в порядке доклада зачитал Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Мы все сидели в полном шоке и не верили своим ушам. Если бы доклад сделал другой человек, можно было нам как-то сомневаться, но всё услышанное исходило из уст нашего всеми уважаемого и очень авторитетного директора. В конце выступления он сказал, что это постановление надо принять к сведению и вопросы задавать не полагается. Мы в полном молчании вышли из клуба и в своих комнатах боялись между собой обсуждать услышанное. Только после того, как во всех газетах стали печатать статьи на эту тему, мы тоже смелее заговорили о культе личности Сталина. Для нас это событие стало как повторной смертью нашего вождя, к которому нам прививали любовь с младых ногтей.
Несколько позже этих событий наш классный руководитель Валентина Андреевна объявила, что Константин Лефтеров отказался быть старостой в группе, поэтому она поручает мне стать им. Это бремя я вынужден был нести до самого выпуска из техникума. Представляется однако, что такое поручение стало определённым первоначальным опытом быть шефом в коллективе.
На втором курсе я продолжал почти каждый вечер ходить в читальный зал и читать всё, что было для меня интересного в периодических изданиях. Вот с той поры я стал увлекаться международными событиями. Наш преподаватель по истории СССР заметил моё новое увлечение и стал мне поручать на своих уроках в группе делать сообщения о международном положении. Наверное, такой навык мне в будущем помог стать лектором в обществе «Знания». Все эти события придали мне уверенность в жизни, и я в свои семнадцать лет стал систематически посещать кино и танцы, а также внимательно приглядываться к симпатичным, на мой взгляд, девочкам. Одна из них, всегда улыбающаяся первокурсница, более всего привлекала моё внимание своим хорошеньким лицом и добрым взглядом. Мы, парни, не стеснялись после занятий со всех ног мчаться наперегонки в столовую, чтобы как можно скорее занять очередь на обед. Получив свои блюда из раздаточного окна кухни, можно было, расслабившись и не спеша есть, одновременно наблюдая за теми, кто стоит в длинной очереди.
Конечно же, в большем случае, за девушками, так как всем известно, что в семнадцатилетнем возрасте соответствующие гормоны уже сильно сказывались. Так вот, эта приглянувшаяся мне первокурсница была бедненько одета в длинное мешковатое пальтишко, скорее всего с чужого плеча, в старых подшитых валенках и в остальном тоже всё весьма скромное. Но меня её бедность не тревожила, а, наоборот, вызывало трогательное уважение. Дальше — больше. По осторожным расспросам я узнал её имя — Саша Смагина, приехала из города Красноярска и что она лучшая по успеваемости в своей группе.
Время быстро подошло к Новому году. Вечером 31 декабря 1956 года в зрительном зале клуба был организован праздничный новогодний студенческий бал-маскарад, на который мы пришли в своей лучшей одежде и многие в масках. На сцене нарядного зала была установлена ёлка, которая была богато украшена многочисленными красивейшими игрушками. На весь клуб и за его пределами звучала музыка духового оркестра. Всё это создавало праздничный и радостный настрой в наших сердцах. Директор техникума Сергей Васильевич торжественно поздравил всех присутствующих с наступающим Новым 1957 годом и объявил о начале новогоднего бал-маскарада. Танцы начались с вальса.
Надо сказать, что в то время в число танцев входили, кроме распространённых до сего времени вальса, фокстрота и танго, ещё несколько таких старинных бальных, как полька, тустеп и падеграс. Мы уже знали о существовании новейшего американского твиста и рок-н-ролла, но они тогда были строго запрещены властями. Несмотря на это, наши стиляги тайком в общежитии их танцевали.
Перед танцами парни выстраивались вдоль одной стенки зала, а девушки на противоположной стороне. На первых курсах учёбы, как правило, ребята приглашали своих однокурсниц, но при объявлении белого или так называемого дамского вальса, девушки осмеливались подойти и протянуть руку старшекурснику. Так случилось и в тот бал-маскарад. Меня неожиданно на дамский вальс пригласила Саша Смагина, я поначалу даже растерялся. Но во время вальса набрался смелости и спросил разрешения приглашать её на последующие танцы, и она, к моей радости, согласилась.

Так что для меня тот бал оказался знаковым. После этого знакомства мы с Сашей стали при встрече, улыбаясь, здороваться и на каждых танцах приглашать друг друга. Дальше — больше. Я предложил ей за мой счёт ходить в кино. Входной билет для студентов стоил два рубля. После сеанса мы подолгу вдвоём гуляли по зимнему парку, болтая о чём попало. Потом стали каждый вечер встречаться в пустых классах учебного корпуса для занятий к урокам или в читальном зале, после чего я её провожал до общежития. Таким образом, возникла наша тесная дружба, а потом и…
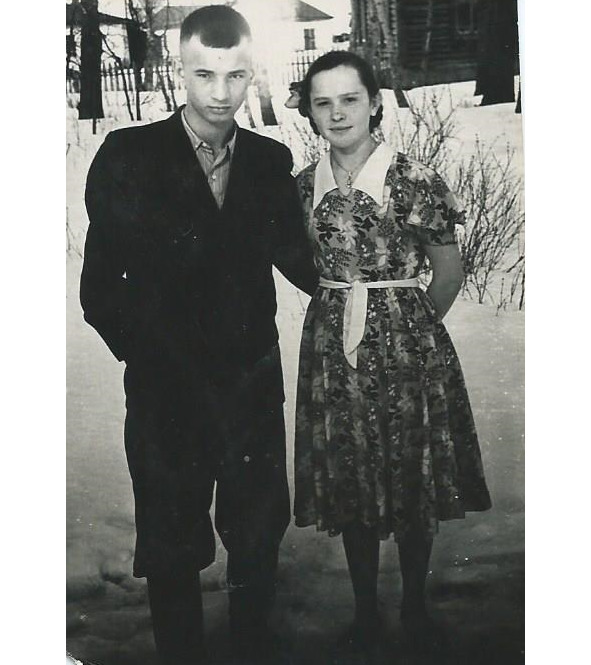
В конце третьего семестра закончились общеобразовательные предметы, и добавилось много таких важных специальных дисциплин, как растениеводство, овощеводство, земледелие, механизация сельского хозяйства, животноводство и другие. Учебное хозяйство техникума являлось многоотраслевым, кроме полеводства с посевными площадями зерновых, кормовых и овощных культур и большим садом, ещё было животноводство с крупнорогатым скотом, коневодством, свиноводством, овцеводством и птицеводством. Практические занятия по животноводству студенты агрономического отделения проходили только в зимний период, а с весны практика была на огороде или в полеводческой бригаде. Практика в животноводстве для парней заключалась в непосредственной работе скотниками и для девушек быть помощницами доярок, свинарок или телятниц. В полеводстве же все мы становились сеяльщиками, прицепщиками или на огороде и в саду рядовыми рабочими. Лично для меня все эти работы были знакомы с самого раннего детства, но моим городским однокурсникам многое в такой практике не нравилось. Некоторые из них путали веялку с сеялкой, а на работе в животноводстве по очистке навоза брезгливо отворачивали нос.
Весной и осенью 1957 года наша группа проходила практику только в учхозе. Для меня особенно интересно сложилась осенняя практика. Классный руководитель, зная мой прошлый опыт, предложила работать штурвальным на зерновом комбайне, и я охотно согласился, так как там хорошо платили. Механик учхоза через некоторое время предложил мне самостоятельно работать на переоборудованном зерновом комбайне при косовице подсолнечника на силос. С большой гордостью перед своими однокурсниками я трудился комбайнёром. По окончанию осенней практики в кассе техникума мне была выдана значительная сумма денег. Но в это время случилось печальное событие. Несколько раньше из-за своей тяжёлый болезни дед попросил Татьяну переехать с семьёй жить к нему в Комаровку, так как бабка Лиморенчиха собралась уехать жить к сыну в Аиртав. Сестра с Григорием согласились вернуться жить в Комаровку и через некоторое время прислали мне письмо с печальным известием о смерти нашего деда.


С однокурсником Анатолием Шейкиным у меня сложились хорошие дружеские отношения. На осенних каникулах он со своей невестой сговорились провести свадьбу у своих родителей в Ленинградской области, и он предложил мне быть на ней дружкой. Надо было ехать через Москву, Ленинград и дальше на Волхов. О таком путешествии я раньше даже и мечтать не мог. Отрадно было, что заработанных денег мне хватало совершить такое турне.
В начале октября мы поездом приехали в Москву. Так как жить в гостинице было нам не по карману, мы решили по ночам перебиваться на Октябрьском вокзале. Днём осматривали основные достопримечательности: Красную площадь, Кремль, Мавзолей Ленина, тогда ещё рядом с Лениным лежал и Сталин, затем полуразрушенный собор Василия Блаженного, где по каменным ступенькам подымались на самый его верх, ВДНХ и другие. Несмотря на то что летом здесь был Всемирный фестиваль молодёжи, нас удивило, как выглядело в Александрийском парке вдоль Кремлёвской стены: из-за отсутствия общественного туалета все укромные места и зелёные кусты были там в неприглядном состоянии. Это, конечно же, несколько разочаровывало нашу патриотическую любовь к столице, воспитанную учителями и русской литературой, в частности, поэзией Лермонтова:
«Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!»
В эти дни по радио было объявлено о том, что в Советском Союзе запущен впервые в мире искусственный спутник земли, и его сигналы передавали всегда при передачах новостей. Ночи на вокзале для нас были почти бессонные, потому что дежурные милиционеры постоянно ходили по вокзалу и с большим служебным рвением будили спящих людей со словами: «Гражданин, не проспите свой поезд!». Уставшие от такой московской жизни мы уже в самом Ленинграде не стали задерживаться и сразу пересели на поезд, чтобы быстрее доехать до родителей Анатолия. Они жили в рабочем посёлке, где осуществлялась промышленная разработка торфа для знаменитой Волховской теплоэлектростанции. Сразу после свадьбы я впервые очень сильно заболел вирусным гриппом, который якобы завезли в Союз участники фестиваля из азиатских стран. Как мне потом рассказывали, что я иногда даже бредил в бессознательном состоянии с очень высокой температурой.
Как только я начал выздоравливать, тут же засобирался возвращаться назад. Мне ещё хотелось посмотреть Ленинград. В нём удалось пробыть два дня и увидеть: Зимний дворец, Медного всадника, крейсер «Аврору», Петропавловскую крепость, набережную Невы. А также проехать несколько раз на трамвае по кольцевому маршруту и посмотреть даже ночной город, в том числе случилось пройтись и пешком. Мой поезд на Москву должен отходить рано утром и, зная по опыту, что милиционеры мне не дадут на вокзале уснуть, я решил коротать ночь, колеся на трамвае по ночному городу.
Но оказывается, мне не удалось попасть на дежурный ночной трамвай, а на обычный, который работал только до двух часов ночи. Когда я уже один находился в вагоне и посматривал в окно на пустые улицы, кондуктор сообщила мне, что трамвай прекращает свою работу и заезжает уже в свой парк. Таким образом, я оказался среди ночи в неизвестном месте Ленинграда. Буквально пришлось бежать по более освещённой улице. На своё счастье, догнал двух мужчин, и они мне показали, в каком направлении находится вокзал, немного погодя я встретил такси, на котором за немалые деньги доехал до железнодорожной станции. В Москве без промедления купил билет на поезд Москва-Караганда и благополучно доехал до Кокчетава, а затем попутными машинами до родного моего села.
Татьяна с семьёй жила в доме деда, который был завещан нам троим внукам, но мы с Николаем сразу отказались от части своего наследства в пользу сестры. Григорий попросил меня съездить с ним в Караганду, чтобы привезти оставшееся там домашнее имущество. Так что моё осеннее турне дополнилось ещё одним большим казахстанским городом, где всё напоминало мне об очень интересно прожитом недавно годе.
Вернувшись в Комаровку, я до конца каникул вёл праздный образ жизни. Каждый вечер ходил в сельский клуб или в кино, или на танцы с деревенскими плясками. Надо заметить, что пляски в то время были не только модными, но и являли собой определённое сельское творчество. Некоторые сельчане могли мастерски выбивать такие дроби, да ежели ещё с партнёром, так что нельзя было отвести глаза от движения их ног. Чаще всего пляски переходили в состязания, кто кого перепляшет, да ещё сопровождались пением с многочисленными частушками, и потом соревнующиеся стремились перепеть соперника. Помнится, что в тот год в клубе были самыми заядлыми плясунами Вера Журавлёва и её почти постоянный партнёр Иван Очереднюк. Частушки были настолько остроумными и к месту, что нередко вызывали громкий смех всех присутствующих. Некоторые из них мне надолго запомнились, например:
«Сидит Ваня на крыльце,
С выраженьем на лице.
Выражает на лице,
что сидит он на крыльце».
После чего начинали азартно и продолжительно выбивать ногами дробь. Потом снова частушка:
«Дроби бей, дроби бей, чтобы выходило,
Ты такого завлеки, чтоб сердечко ныло».
Гармонистом на таких вечерах, в больших случаях, был сельский молотобоец Александр Миллер. Ещё случилось в ту осень, что мы, четыре брата Зюзиных, оказались в селе все холостяками: самый старший из нас Николай Яковлевич, затем по старшинству — Александр Николаевич, Николай Никитович и самый младший из них я — уже восемнадцатилетний. Что нас было вечером в клубе четверо — это уже делало нам авторитет. К сожалению, первые два двоюродных брата преждевременно ушли из жизни.
После таких насыщенных интересными событиями каникул я вернулся в родной техникум учиться на третьем курсе. Сразу же по прибытию меня ждал весьма приятный сюрприз: в учебной части выдали письмо из отделения Госбанка, где сообщалось, что согласно новому закону о пенсиях за погибшего отца на войне, мне она значительно увеличивается. И ещё не менее приятная новость о том, что по этому закону разрешается студентам получать одновременно с пенсией и стипендию. Всё произошедшее сделало меня самым денежным студентом в нашем техникуме, так что мне даже самому не верилось, и случившееся приходилось строго держать от всех в тайне. Но в период перед получением стипендии с каждым месяцем ко мне всё больше товарищей обращались с просьбой дать в долг какую-либо сумму. Мне пришлось в сберкассе завести сберегательную книжку и ежемесячно вносить в неё определённый вклад. Эти сбережения здорово помогли, когда началась семейная жизнь.
На третьем курсе у меня была прошлогодняя комната в общежитии с теми же старшекурсниками: Иваном Петровым, из агрономического отделения, и Владимиром Шемелёвым, Виктором Краусом и Францем Бузиновским, из зоотехнического отделения. По общему признанию, наша комната считалась самой чистой по сравнению с другими в общежитии. Более дружеские отношения у меня сложились с Володей Шемелёвым, который был из Северо-Казахстанской области. После окончания техникума мы с ним не переписывались, но через несколько лет неожиданно встретились в Москве в подземном переходе к ВДНХ.
Иван Петров был членом профкома и ответственный за бытовые условия студентов. Произошёл тогда случай, который запомнился на всю жизнь. В наше общежитие повадились приходить хулиганы из техникумского посёлка и всячески безобразничать в нём. Однажды Ваня не выдержал и решил их выгнать из общежития, но они стали его всячески оскорблять, после чего я вступился за своего товарища. Тогда хулиганы переключились на меня и предупредили, что они со мной разделаются в парке. Долго не пришлось ждать, во время танцев один из них меня позвал в тёмные кусты, и только мы с ним стали вести разборки, другой по-подлому за спиной сильно ударил меня в ухо, так что я отлетел в сторону, но удержался на ногах и тут же подлетел к своему неприятелю для ответного удара. Но здесь уже другие студенты встали между нами и развели нас. Однако потом мне удалось другим способом отомстить своему обидчику. Надо заметить, что это мужское рукоприкладство в отношении меня было последним в моей, теперь можно сказать, долголетней жизни.

Ещё запомнилось, что в период моей учёбы в техникуме впервые проводилось асфальтирование автодороги из Петропавловска, а также началось и завершилось строительство огромного автодорожного моста через Ишим. Мы с друзьями сгруппировались и в свободное от занятий время прирабатывали на этой стройке.
С начала третьего курса нам стали давать уроки по механизации сельского хозяйства. Первые занятия были по устройству таких сельхозорудий, как бороны, катки, культиваторы, лущильники и тому подобное. Для меня они были не новинками, а когда дело дошло до изучения тракторов, комбайнов и автомобилей, вот тогда-то стало совсем интересно. Особенно меня интриговало устройство двигателей внутреннего сгорания, да и коробка передач или муфта сцепления были загадкой. Преподавателем по механизации была женщина с высшим инженерным образованием, весьма спокойная и необычайно внимательная к нам, молодым. Со временем мне стало известно, в чём отличие дизельных двигателей от других. В кабинете механизации находились основные узлы трактора, а макет дизельного двигателя представлялся в разрезе, кроме того, на стенах кабинета висели многочисленные плакаты. Преподаватель давала объяснения непосредственно у таких наглядных пособий, и мы ей там же отвечали на вопросы. Она систематически водила нас на машинный двор учебного хозяйства, где сельхозмашины и трактора стояли в ровных рядах и по всем правилам их хранения. Там мы знакомились со всем имеющим набором техники и с новейшими марками тех машин, которые в первую очередь получал техникумовский учхоз.
При наступлении весны мы проходили практику по заводке гусеничных и колесных тракторов на поле рядом с машдвором, а также учились управлять ими в присутствии инструкторов-трактористов. Весеннюю трёхнедельную практику мы проходили в учхозе, в основном она была связана с работой на различной технике. В конце практики сдавали экзамены по механизации и отдельно по тракторам для получения «Удостоверения тракториста». Такое удостоверение я с большой гордостью хранил у себя долгие годы.
Весной и летом, по воскресеньям, мы с Сашей Смагиной гуляли вдоль берега Ишима или уходили в ближайшие леса. У нас всегда хватало тем для разговоров и обсуждения многочисленных планов на будущее. Саша была из категории хохотушек и рассказывала мне, что подружки, слушая нас со стороны, удивлялись тому, чем я мог её постоянно смешить. Мне ещё повезло в том, что ночным сторожем в общежитии девушек был дядя Карл, отец Ивана Шоля из нашей группы. Он в порядке исключения разрешал мне вечерами, особенно зимой, надолго заходить в коридор этого общежития, и моё общение с подругой почти ежедневно продолжалось до позднего вечера. Вместе с Сашей в комнате проживали её близкие подруги с их же группы: Света Шемякина, с которой дружил Юлиан Скотынянский и Кира Рамкова, с ней дружил Эрих Миллер. Оба они были из нашей Кокчетавской области. Выходит, что мы трое были, так сказать, «зятья» для этой девичьей комнаты. Фактически так в дальнейшем и случилось, мы поженились на них и создали три семьи, и на всю последующую жизнь остались хорошими друзьями. К большому сожалению, Кира и Юлиан преждевременно ушли из жизни.
За время нашей дружбы Саша рассказала мне, что родилась первого мая 1941 года в селе Покровка. Её отец Михаил Иванович Смагин, как высококлассный рабочий по броне директора машинно-тракторной станции, не был мобилизован на фронт, так как владел несколькими такими важными профессиями, как токарь, сварщик, слесарь, медник и так далее. Во время войны его мастерство спасало семью от голода тем, что он за продукты питания людям на всю округу ремонтировал мебель, сепараторы, часы, запаивал прохудившиеся вёдра, кастрюли и другое.
Однако уже после войны в их семье случилась большая беда. В одно время из детских домов стали раздавать часть детей по семьям сельчан. Помнится, что в Комаровке и в нашу семью с Татьяной сельсовет обязал взять на проживание девочку из Казгородского детдома. Так вот, в семью Смагиных поселили детдомовца, который вскоре с друзьями ночью обворовал сельский магазин, и часть товаров принёс к ним в дом. Когда утром Михаил Иванович на работе узнал об ограблении, то догадался, чьих рук это дело и срочно вернулся домой, требуя от квартиранта немедленно наворованное вернуть в магазин. Но пока он его убеждал, в дом явилась милиция и арестовала их обоих. Отцу присудили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, якобы за сокрытие преступления.
После чего мать с Сашей и младшей сестрёнкой Любой сначала переехали жить к родственникам в Петропавловск, а затем в Красноярск, куда после освобождения вернулся отец. Но за год до поступления в техникум у Саши из-за продолжительной тяжёлой болезни сердца умерла мать. Ещё она мне призналась, что у неё самой врождённый порок митрального клапана сердца, и ей врачи советуют не рожать. Со слезами на глазах говорила, что с такой болезнью люди живут не более двадцати восьми лет. Однако я этому по её виду и состоянию не совсем верил или просто не придавал тогда большого значения.
После сдачи экзаменов за третий курс нас распределили по передовым совхозам области для прохождения производственной практики. Меня направили в третье отделение совхоза Чистовский Булаевского района. В то время директором этого совхоза работал Козлов Алексей Иванович, бывший министр сельского хозяйства СССР. Его якобы разжаловал с министра Хрущёв Н.С. за негативное отношение к массовому внедрению кукурузы во всех зонах страны. Козлов А.И. являлся прекрасным руководителем хозяйства. Мне приходилось быть на вечерних планёрках в отделении совхоза, где Алексей Иванович считал незазорным ежедневно присутствовать, потому что управляющим недавно начал работать молодой специалист. Директор буквально конкретно вникал во все отделенческие дела и своим спокойным и доброжелательным отношением наставлял нового руководителя отделения.
Агрономом отделения работал замечательный специалист с довоенным стажем, депортированный из Крыма немец Фель Иван Готлибович. Считаю, что мне крупно повезло с производственной практикой именно в Чистовском совхозе и ещё, что я практиковался два месяца именно у Феля. Забегая несколько вперёд, напишу, что волею судьбы мы с Иваном Готлибовичем оказались потом однокурсниками по заочному обучению на агрофаке Целиноградского сельхозинститута. Все шесть курсов мы были с ним в одной группе и во время экзаменационных сессий часто квартировали в одной комнате. Так вот, Фель был настоящим трудоголиком, действительно работал от зари до зари, и, несмотря на свой сороколетний возраст, он всегда не ходил, а бегал по территории отделения. Главным агрономом совхоза работал Темирбаев, депутат Верховного Совета СССР, опытный специалист и очень доброжелательный человек.
В начале своей практики я был помощником агронома отделения и с утра до вечера сопровождал его по рабочим объектам. Однако потом попросил направить меня трудиться где-нибудь на технике, чтобы можно было заработать деньги. После чего стал прицепщиком на культивации кукурузы. Надо сказать, что кукурузу в Северном Казахстане начали возделывать буквально года три назад, и Чистовский совхоз был самым передовым хозяйством в области по урожайности этой новой сельскохозяйственной культуры. Кроме систематической междурядной обработки в хозяйстве за каждой семьёй, включая директорскую, закреплялась определённая делянка для ручной прополки. Для меня стало большой новостью в этом хозяйстве, что кукурузу здесь возделывали монокультурой, или проще сказать, ежегодно сеяли на одном и том же поле как выводной клин в севообороте. Впоследствии я стал рьяным сторонником этого метода и везде, где потом пришлось работать, настойчиво внедрял в севообороты кукурузу монокультурой.
Запомнились несколько моментов из моей жизни в том совхозе. Одновременно с началом моей практики в отделение привезли на период хлебоуборки группу студентов Московского института стали (МИС). Так вот, студентки из этой группы стали ходить по посёлку в прежде невиданных здесь шортах, что вызвало большое возмущение сельчанок. Но московские девушки смело отвечали на замечание критиков, что вам, мол, самим нечего показывать, вот вы и завидуете нам.
Другой запомнившийся случай связан со студентами из Китая, которые были в числе этих москвичей. Однажды утром Иван Готлибович послал четырёх китайцев на стройку коровника и поручил вручную выкопать траншею для водопровода глубиной не менее 2,5 метров, а вечером предложил мне сходить с ним на этот объект и проверить, что успели они выкопать. Когда мы стали подходить к коровнику, то не видно было людей. Мой шеф поспешил сказать, что и эти студенты где-то бездельничают, но оказалось всё наоборот. Китайцы за день настолько углубились, что мы их увидели только тогда, когда подошли вплотную к траншее. Нам осталось сделать вывод, что наши, советские студенты, скорее всего такой объём работы могли бы выполнить только за несколько дней.
После начала хлебоуборки мне предложили работать при косовице на свал зерновых лафетчиком на прицепной жатке ЖР-4,9 в агрегате с трактором «Беларусь». Моим трактористом был Константин Харламов, который оказался весьма дошлым человеком. Например, был такой случай, когда к нам подъехал главный агроном совхоза, и Харламов, зная о том, что тот получает за своё депутатство хорошие деньги, стал жаловаться на бедственное положение. Темирбаев его выслушал и дал ему 25 рублей. Как только наступил вечер, Константин дал мне команду отцепить жатку и сесть к нему в трактор. Недалеко от нашей работы находилась маленькая деревня с магазином в доме продавщицы. Мой тракторист с большой радостью покупает на депутатские деньги бутылку водки и булку хлеба, после чего заезжает в ближайший лес для распития приобретённого. Конечно же, он настойчиво предлагал мне составить ему компанию. Так что и я тогда маленько «причастился» на деньги большого депутата.
Хлебоуборка в 1958 году проходила в очень сложных условиях из-за систематических дождей. Да ещё где-то семнадцатого сентября выпал обильный снег, которого даже местные старожилы не помнили за свою жизнь. Снег на полях пролежал более трёх дней. Затем с начала октября пошли систематические дожди, которые практически весь месяц не давали проводить уборку сельхозкультур. Среди преподавателей нашего техникума потом даже были разговоры, что такое положение с погодой, скорее всего, вызвано метеорологической войной США против Советского Союза. В общем-то урожайность зерновых культур по области была высокой. Во время непогоды я принимал участие в работе на зернотоку, в основном по очистке семян. Но когда хорошая погода устанавливалась, мы опять с Харламовым работали на косовице пшеницы в валки.
Однажды в поле он остановил трактор и позвал меня зачем-то подойти к нему сзади трактора, я подошёл и встал на вал отбора мощности, который он оказывается рычагом не выключил, а только держал ногу на педале муфты сцепления и, скорее всего забывшись, отпустил педаль. Вал тут же завращался, ухватив своим шплинтом мою правую штанину комбинезона, и за несколько секунд я остался только в одних трусах. Конечно же, тракторист быстро схватился и опять выключил вал. Но было уже поздно. Моя правая нога была несколько травмирована. Константин раскрутил мои брюки, помог одеться, а также залезть в трактор и срочно привёз в поселковый медпункт.
На моей правой ноге остался на всю жизнь шрам от той травмы, однако могло бы быть гораздо хуже. Впоследствии мне встречался молодой человек, которому в результате аналогичного несчастного случая даже ампутировали часть ноги. Так что мне второй раз посчастливилось остаться с целой правой ногой. Дни по больничному листу я использовал для оформления своего дневника и начал составлять отчёт о производственной практике. В конце сентября завершил все бумажные дела, а с первого октября уже начались осенние каникулы, на которые я уехал в Комаровку.
На четвёртом курсе мы являлись старшекурсниками и это, кроме всего прочего, сделало нас явно повзрослевшими. К нам заметно изменилось и общее отношение всех. Да мы и сами стали вести себя более сдержанно в своих эмоциях и поступках. В моей комнате, вместо уже закончивших техникум, поселились ребята из нашей группы. Один из них совсем новый, Александр Попов, только что демобилизованный из армии, был моим земляком из Володарского района. Он в армии служил в военно-десантных войсках и прекрасно владел приёмами самбо. Мы от него научились некоторым приёмам, например, как выбивать нож из руки нападающего, да и другим, очень нужным в жизни способам. Между прочим, эти навыки мне придавали в будущем уверенность в случаях, когда надо было призвать нарушителей общественной жизни к порядку.

Валентина Андреевна Гладкова
Рутинная жизнь и учёба проходили на последнем курсе своим чередом. Так сказать, с высоты уже нынешнего возраста становится совсем непонятно, почему тогда надо было радоваться от предчувствия скорого окончания учёбы в техникуме. Только сейчас стало ясно, что те четыре года были самыми беззаботными, интересными и счастливыми в моей жизни. Наверное потому, что это были годы самого расцвета человеческой молодости. Со всеми её юношескими радостями, «души прекрасными порывами», с фантазиями, несбыточными мечтами, вожделенными целями и, конечно же, с пылкой любовью к «юной деве». Однако впереди были ещё весенняя производственная практика и выпускные государственные экзамены.
С двадцатого апреля меня направили на практику вместе с однокурсником Олегом Плакущим в совхоз Явленский Ленинского района. Практиковались мы и жили на одной квартире в селе Ясновка. Вначале работали прицепщиками в тракторной бригаде у трактористов на весновспашке. Первое и второе мая были объявленны выходными днями, на которые я поехал в техникум на День рождение Саши. Она училась на третьем курсе и стала уже авторитетным человекам, так как её избрали комсоргом техникума. Третьего мая я уже вернулся на работу в Ясновку.
Через некоторое время бригадир предложил мне работать сменным трактористом в дневное время на почти новом гусеничном тракторе ДТ-54А. Для меня это стало тогда и в последующее время, где бы я потом не работал, большой гордостью. Однако во время работы на тракторе произошёл случай, который сейчас кажется смешным, но в тот момент мне было не до гордости и не до смеха. Во время одной остановки в поле, не заглушая двигатель, обошёл вокруг трактора, чтобы проверить его техническое состояние, и обнаружил, что из-под штуцера масляной трубки высокого давления сочится масло. Я взял нужный рожковый ключ и хотел потуже затянуть гайку этого штуцера, но по своей неопытности крутанул не в ту сторону, и тут же мощная струя горячего нефтяного масла сфонтанировала мне в лицо и на грудь. Хорошо, что я успел зажмурить глаза, но всё моё лицо стало чернее, чем у любого негра. Всё-таки при всём при этом, мне удалось быстро заглушить двигатель и влажной землёй очистить, и соляркой отмыть от масла себя любимого. После чего надёжно соединил все узлы масляной системы, затем из канистры долил в двигатель масла и продолжал пахать. Однако после смены пришлось просить свою хозяйку квартиры за дополнительную плату выстирать пострадавшую рабочую одежду.
Группу, в которой училась Саша, в начале мая также направили на весенние работы в колхоз «Искра» местного района. Впоследствии она мне рассказала, что одно время в том колхозе работала прицепщиком в ночную смену с местным трактористом. Такая работа в те времена была обычной для девушек, вместе с тем даже шла активная агитация на высоком уровне, чтобы женщины работали профессиональными трактористами.
У меня уже нарастала внутренняя тревога за сдачу предстоящих выпускных госэкзаменов, поэтому пришлось заставить себя садиться за подготовку к ним и меньше времени оставлять для разных молодёжных развлечений. В результате все экзамены мне посчастливилось сдать на отлично, и за это получить от профкома бесплатную путёвку в дом отдыха «Ишимский» в Тюменской области. 25 июля 1959 года нам торжественно вручили дипломы по специальности «Младший агроном».
Мне дали направление работать в Северо-Казахстанскую область, но очень хотелось устроиться в своей области. Перед отъездом домой мы по старой студенческой традиции организовали группой проведение выпускного праздничного обеда.
С дипломом агронома в кармане и радостным настроением поехал в Комаровку. Сестра Татьяна не меньше меня была рада моему диплому и по этому случаю созвала гостей, чтобы отметить такое важное в моей жизни событие. На моё счастье, в этот момент из Володарского на велосипеде приехал с визитом вышеупомянутый двоюродный брат моего зятя Григория, Ащеулов Николай. Во время застолья он рассказал, что работает главным агрономом района в Новосибирской области и в данное время находится в отпуске у родителей.
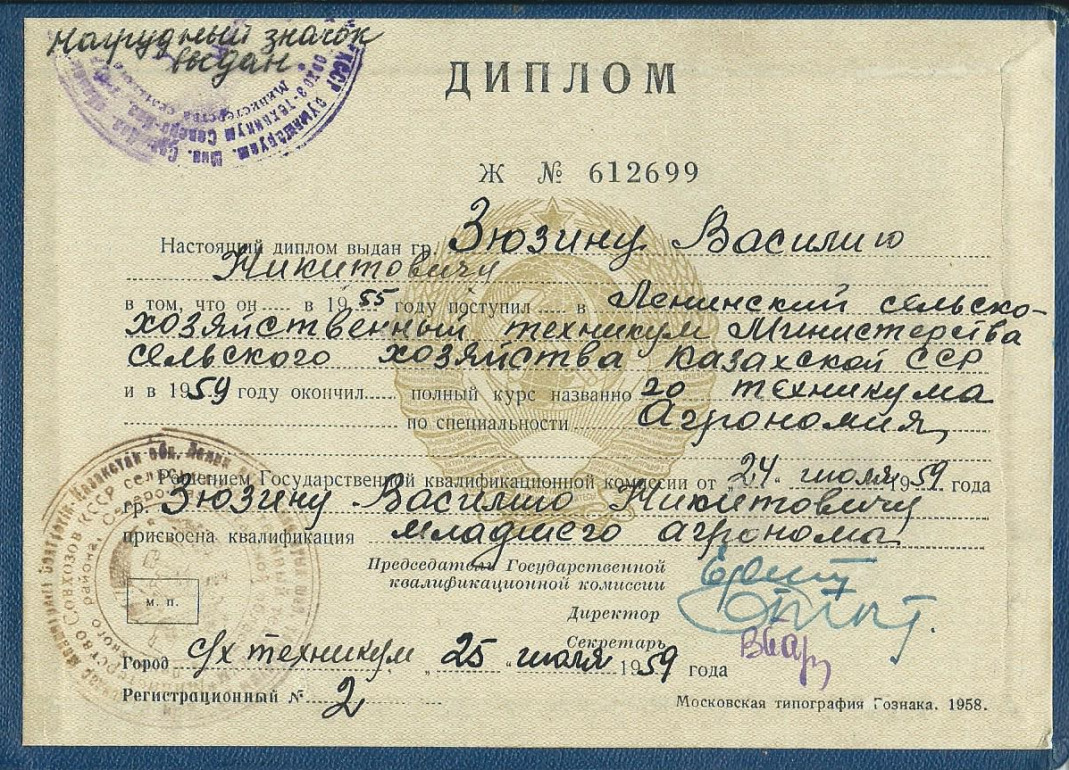
Он подал идею, чтобы мы с ним сейчас же поехали в райсельхозинспекцию и узнали там о наличии агрономических вакансий в Аиртавском районе. После такого заманчивого предложения мы сели на велосипеды и приехали в Володарское к главному агроному района Есенжанову Николаю Есенжановичу. Николай Ащеулов меня с очень положительной характеристикой представил ему, после чего мне было задано несколько несущественных вопросов. Вакансия оказалась в колхозе «Урожай» села Аиртав, где женщина работала агрономом и должна уйти в декретный отпуск, после чего не желала возвращаться на эту работу.
Лучшего места работы я и представить не мог, так как аиртавская сторона являлась самой живописной в районе. В этот день в райцентре проходила сессия райсовета, где присутствовал председатель колхоза «Урожай» Подкидышев Леонид Фёдорович, с которым Есенжанов должен был согласовать моё назначение. На перерыве сессии мы подошли к председателю, который пристально осмотрел меня, также о чём-то спросил и дал согласие на моё назначение. Это оказалось ещё одной удачей в моей начинающей самостоятельной жизни. Окрылённый сложившимися, такими весьма счастливыми обстоятельствами, я поехал через Петропавловск и тюменский город Ишим в одноимённый дом отдыха.

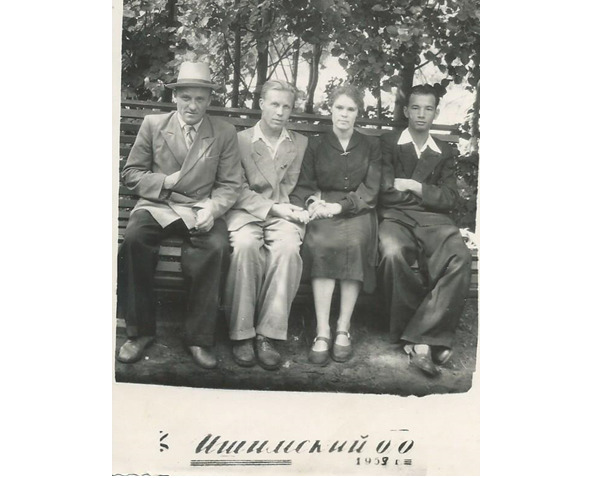
Несмотря на прекрасные условия отдыха, я не мог выдержать там находиться две недели и через десять дней уехал, для того чтобы немедленно приступить к долгожданной работе агронома.
Берлин, 2011 год
Айыртау
Выходил на поля молодой агроном,
Говорил, что земля вся в наряде цветном…
Он не спал до поздна, на рассвете вставал,
Чтобы больше зерна каждый колос давал
В. Быков
Итак, с середины августа 1959 года я стал работать агрономом в селе Аиртав в колхозе «Урожай» Аиртауского района Кокчетавской области. Главное, что меня весьма радовало, это всего двадцать километров от родного моего села и, во-вторых, среди красивейшей природы. В Казахстане немного таких чудесных природных мест, как вокруг Аиртава. Правильней надо сказать по-казахски — Айыртау, так как это слово означает следующее: айыр — вилы, а тау- гора, в переводе на русский язык — это Вилочные горы. Издали они главенствуют среди других сопок и состоят из двух «братьев», так и смотрятся, как двурожковые вилы. Ежели позволительно здесь пикантно заметить, так их ещё в молодёжной среде называют «девичьи груди». Во времена моей работы даже в документах записывалось на русский лад — Аиртав, и все производные от него слова также писались нередко по-русски. Только гораздо позже стали всё-таки писать и произносить правильно — по-казахски. Аиртав составляет только одну сторону в горно-озёрном природном комплексе между нынешними сёлами, а ранее между сибирскими казачьими станицами: Челкаром, Лобановом, Имантавом и Арыкбалыком. В исторической литературе указано, что станица Аиртав учреждена в 1848 году.
За период своей семилетний жизни в Аиртаве мне удалось побывать буквально во всех значимых местах этого заповедного края, где пешком, а где на коне или потом на автомашине. Весьма чудесно обозревается природа с любой из всех многочисленных сопочных вершин, начиная с самой маленькой — Колчака. Особенно, говоря откровенно, дух захватывало от поразительной красоты, когда взойдёшь на вершины самых высоких сопок. По терминологии аиртавичей: «Старшего брата» (одного из двух Айыртау), Малиновой, Лохматой, Острой и Пятой сопок. Первозданное зрелище представляют собой не только сопки и озёра, но и могучая зелень с её различными оттенками соснового бора вперемежку с лиственными породами деревьев.
И ещё добавляется к этой красоте невероятная таинственная тишина, которая может быть только лишь на большой высоте в безветренную погоду. Иногда здесь вспоминался разговор сельчан о самосуде первого председателя волостного ВЧК Павла Зикеева над казаками-мятежниками, где-то внизу среди этого бора. Ежели подъезжать из Аиртава к Лобанову, то около берега озера стоит обелиск на месте расстрела активистов Советской власти мятежными казаками зимой 1921—1922 годов. Для расстрела люди были собраны со многих сёл.
Помнится рассказ старой жещины о том, как она со своими подругами собирала в бору малину, ей было тогда лет двенадцать, и рядом обнаружили медведя, который также поедал эти сладкие ягоды. Девочки от страха побросали свои лукошки и убежали из бора. Выходит, что в конце девятнадцатого века здесь, среди сопок в лесах, ещё водились медведи. Эти места очень богаты грибами. Мне приходилось быть свидетелем, когда семья лесника целыми повозками привозила из бора грузди и потом их уже солёными в полных кадках отправляла на кокчетавский городской рынок.
Временами нам с друзьями удавалось после хлебоуборки с семьями подыматься на вершину Малиновой сопки, чтобы полюбоваться над огромным пространством очаровательными красками «золотой» осени. В те времена в областной список «Памятников природы» входил водопад на склоне Лохматой сопки.
Чаще всего приходилось быть на моей любимой вершине — Пятой сопке. Своё название она получила по числу сопок от Аиртава, так как расположена где-то в середине, вдоль берега Аиртавского озера (если по карте, то правильней сказать, озера Шалкар), между Аиртавом и Челкаром. Здесь изумительную красоту добавляет иссечённый берег озера с многочисленными заливами, бухтами, лиманами, с большими и малыми песчаными пляжами, со скалами и хаотично нагромождёнными в большие кучи отшлифованными, нередко огромными камнями.
Этот каменный хаос образовался в результате гуляющего по озеру из стороны в сторону по ветру весеннего льда. Сила ветра бывает такая, что большая масса льда огромным напором выползает далеко на берег и выносит с собой любых размеров камни. Однажды такой случай произошёл на берегу с нашим пикником на Первое мая, когда мы с друзьями увлеклись разговорами и сразу не заметили, как на нас стала надвигаться громадная масса льда. В какой-то момент мы рядом с собой услышали ледяной скрежет и грохот от быстро надвигающегося озёрного льда, так что пришлось нам спешно бросить на камне свою праздничную трапезу и быстро ретироваться как можно выше, на склон ближайшей сопки.
Незабываемые картины остались в памяти от красоты озера, когда рано утром в безветренную погоду выплываешь рыбачить, и на воде стоит полный штиль. Все соседние сопки, заросшие сосной и другими деревьями, сами по себе очень красивые, да ещё дают своё отражение в воде — и это являет великолепную картину, которую не описать даже художнику. Были случаи, когда стояла водная гладь, и ещё при солнечных лучах выпадали первые, но крупные капли дождя, которые при падении на воду вызывали многочисленные серебристые брызги — и это становилось завораживающим зрелищем. При случаях, когда рыбаку ранним утром с лодки надо что-то крикнуть кому-либо на берегу, то по всему заливу создаётся многоголосое чудесное эхо. Или, когда некоторые рыбаки, владеющие красивым голосом, пели песни в лодке, то их пение разносилось по всему побережью. Тогда все люди на берегу зачарованно слушали такую пленительную песню.
Озеро бывает нередко и весьма коварным. Это когда начинает штормить и образуются такие высокие волны, от которых появляется на их вершинах белая пена, называемая в народе «беляками». Все опытные рыбаки при виде вдали «беляков» спешат как можно быстрее выплыть на берег. Но было немало случаев, когда люди тонули, оставшись на озере при таких опасных условиях.
В редкие свободные от работы воскресенья мне приносило незабываемое удовольствие прогуливаться вдоль берега нашего озера и доходить до большого лимана. В первые годы моей жизни в Аиртаве это были абсолютно дикие берега. Только иногда можно было встретить одиночного рыбака с удочкой.
Находясь в ясную погоду на вершине Пятой сопки, можно увидеть близкие и дальние следующие сёла: Аиртав, Политотдел, Маданьят, Сартубек, Орловку, Володаровское, Пятилетку, некоторые здания Лавровкского ХПП, Антоновку, Пахарь, Челкар и Лобаново. Самое дальнее из них село Лавровка находится где-то ориентировочно на расстоянии сорока километров. Кроме того, мне нравилось любоваться каждой из многочисленных вершин. Однажды мой взгляд остановился на ближайших от меня двух близких друг от друга сопок, вершины которых были похожи на спину двухгорбового верблюда и которых мысленно решил назвать «верблюдом». К сожалению, не просматривалась только голова этого животного. Мне пришло желание пойти и подняться на «спину» этого самого «верблюда». Когда побывал на каждом «горбу» и стал только с последнего спускаться к берегу озера, то обнаружил среди высоких сосен большую каменную скалу, очень похожую на голову верблюда. Несколько лет позже при одном из наших посещений озера дочь Лиля попросила сводить её на моего «верблюда». Когда мы поднялись на эти две вершины, то нам удалось опять же найти эту весьма оригинальную скалу. Только Лиля решила, что она больше похожа на гигантскую голову муравья.
Собственно сами сопки Айыртау господствуют над огромной территорией. Мне приходилось увидеть их при выезде из Лавровки и по дороге из Кокчетава от Горбатого моста. Поэтому один из древних казахских родов, кочующих по этим местам, именовался айыртауские Атыгеи. Со временем и административные территории были названы соответсвенно: до революции и сразу после неё — Аиртавская волость, затем в 1928 году учредили Аиртавский район, с небольшим перерывом переименовали в Володарский. Единственный в районе новый целинный совхоз также первоначально назывался Аиртавский, хотя находился в другом краю района от Аиртава.
Казачьи станицы заселялись не только на красивых и удобных местах, но ещё на лучших чернозёмных землях. В книге казахстанского писателя, уроженца одной из главных сибирских станиц Пресновки, Ивана Шухова «Горькая линия», описываются некоторые конфликтные случаи, когда между казаками и местными казахами шла яростная кровополитная борьба за сенокосные угодья. С вершин многих аиртавских сопок просматривается пресновская дорога, которая находится между Аиртавом и Орловкой. По этой старинной дороге казаки вышеназванных станиц ездили в Пресновку проходить военную подготовку, а также и по другим своим делам. Большинство казаков в Гражданскую войну были на стороне Белой гвардии, и один из колчаковских отрядов стоял в Аиртаве за околицей станицы рядом с сопкой, которую потом увековечили местным названием «Колчак». Да и в последующих военных мятежах некоторые из казаков принимали активное участие. К месту сказать, когда жил в Аиртаве и со своим комсомольским убеждением как-то стал доказывать, что жить стало лучше при советской власти, то некоторые слушатели с явной иронией задавали мне вопрос: «Тебе-то откуда знать, когда нам здесь жилось хорошо, а когда плохо?».
В начале моей работы до 1963 года ещё не была проведена грейдерная дорога из райцентра в Аиртав. Летом сообщение на автомашинах и гужевом транспорте осуществлялось по грунтовой просёлочной дороге, а в зимний период — на санях по зимнику через Пятилетку, а затем по льду володарского озера, и на автомобилях только по льду нашего озера через Челкар, Пахарь и Еленовку. Были нередкие случаи, когда из Володарского на машине выедешь ещё в обед, а из-за ночных метелей и многократных буксовок в снегу доберёшься домой только утром. Висячие на стенах телефонные аппараты находились только в конторе колхоза, в сельсовете и в почтовом отделении. Чтобы дозвониться до райцентровского коммутатора, можно было заиметь мозоль на руках от продолжительного вращения телефонной рукоятки, да и слышимость желала лучшего.
Квартировать мне пришлось проситься в семью Ефрема Ивановича Лиморенко, где ещё жила его мать, бывшая жена моего деда, у которой я в своё время воспитывался. Ефрем Иванович работал объездчиком в лесхозе. Это был очень высокий человек с большими ногами, поэтому аиртавичи, играя в домино, всегда цифру 77 называли «лиморенковы ноги». Ещё он был наделён редким даром природного юмора, так что с ним бывало не соскучишься. Все присутствующие знали это его качество, и стоило ему только открыть рот, как мы уже начинали сначала улыбаться и после произнесённых им нескольких слов уже смеяться, случалось до слёз. При этом он сам даже не улыбался. Его жена Полина Ивановна рассказывала, что в голодные годы Ефрема спас юмор от смерти. Якобы во время скудной еды за столом он так смешил людей, что они от смеха не могли есть, а он в это время успевал поесть. Впоследствии мне в жизни встретился ещё только один такой одарённый от природы юморист — это Иван Васильевич Шупило, руководитель соседнего орловского колхоза.
На утренней планёрке Л. Ф. Подкидышев представил меня другим руководителям и специалистам колхоза и, в свою очередь, назвал по именам и должностям всех присутствующих. В конторе колхоза мне достался в наследство стол в комнате бухгалтерии. Моя предшественница Александра Агеева ознакомила с агрономической документацией, охарактеризовала в краткой форме текущие полеводческие дела и руководителей бригад, затем мы вместе объездили несколько семенных участков. В конюшне за мной закрепили очень хорошего коня Карьку с ходком. При надобности я мог запросить у конюха двухколёсную тачанку или седло. Таким образом, решилась моя проблема с транспортом. Надо сказать, что на полюбившемся мне Карьке я проездил более двух лет, пока работал там агрономом.
В тот период времени на полях полеводческих бригад должна начаться выборочная косовица жатками зерновых культур. Вот здесь и произошёл мой главный экзамен на знания агрономии, а именно, при какой фазе спелости зерновых надо начинать косовицу на свал. Это по положению решалось агрономом и за ним должно быть последнее слово. Но, увы…! Мне только что исполнилось двадцать лет, а все мои колхозные коллеги-руководители были, как минимум, в два раза старше меня. Многие из них к моим суждениям относились, на первых порах, осторожно или даже с пренебрежением, так что иногда приходилось показывать свой характер. Председатель колхоза потерял руку на войне и поэтому до этого всегда работал только бухгалтером. Бригадирами трёх тракторно-полеводческих бригад были опытные колхозники, но, в лучшем случае, с семиклассным образованием. Ещё надо заметить, что раздельная уборка внедрялась только последние четыре года, так что практического опыта по этой технологии у всех хлеборобов было недостаточно. Благодаря производственной практике в Чистовском совхозе под руководством опытного агронома, а также теоретическим и практическим занятиям с преподавателями в сельхозтехникуме, у меня уже были чёткие понятия по фазам спелости зерновых культур. Косить же на свал надлежало при достижении не менее 80—85% восковой спелости зерна в колосе на поле. При такой фазе зерно уже нельзя размять пальцами, оно должно резаться ногтем и разламываться пополам.
В самом начале моей агрономической работы произошёл серьёзный спор с руководством колхоза о начале косовицы жатками зерновых. В колхоз на уборку был направлен уполномоченный райкома партии, начальник райотдела милиции Внучков, который по приезду заявил, что районное руководство на совещании в райкоме партии дало указание: срочно начать массовую косовицу хлебов на свал. Председатель колхоза Леонид Фёдорович Подкидышев и райкомовский уполномоченный взяли меня в свою легковую машину, чтобы решать, с каких полей начинать косовицу. Куда только они меня не возили по полям, я категорически возражал начинать работу жатками из-за зелёного состояния хлебостоя. Тогда председатель с уполномоченным через мою голову дали команду бригадирам косить на их усмотрение. Комбайны вышли в поле, но комбайнёры сделали первые проходы и прекратили дальнейшию работу.
На моё счастье, в этот день проезжали из Антоновки через Аиртав в Арыкбалык первый секретарь обкома Клещёв и председатель облисполкома Рахманюк. Клещёв А. И. за партизанские дела в Белоруссии во время войны стал Героем Советского Союза и генералом. Когда они заехали на землю нашего колхоза «Урожай», то встретили на дороге группу комбайнов с жатками из третьей бригады, механизаторы же сидели на обочине и курили. Большое начальство решило выяснить, почему комбайны стоят на дороге. Комбайнеры сообщили о споре между молодым агрономом и председателем колхоза с уполномоченным райкома по поводу начала косовицы, и что сами они тоже считают такую работу преждевременной. Областные руководители зашли в поле для изучения обстановки и потом согласились с тем, что косить ещё рано, и отправили комбайны на полевой стан.
Мне же при расстроенных чувствах надо было в конторе вскоре после обеда завершать ещё составление рабочего плана хлебоуборки. Кто-то из бухгалтеров увидел в окно, что к конторе подъехал правительственный чёрный ЗИЛ, а затем к нам вошли два солидных человека, представились и попросили вызвать из домов председателя колхоза с секретарём парткома. Председателем сельского совета и неосвобождённым парторгом колхоза был Сивцов Павел Павлович, подполковник гвардии в отставке, между прочим, сам по себе очень славный человек. Он жил рядом с конторой и быстро пришёл к начальству. Когда его спросили, почему начали косить зелёный хлеб, то он, стоя по-военному, чётко ответил, что так приказали в райкоме партии. Клещёв на это снова его спросил: «А что если райком прикажет вам прыгать вниз головой в колодец, вы тоже прыгнете?». Наш Пал Палыч молча ешё сильнее вытянулся перед Героем Советского Союза. Я же сидел за своим столом и боялся, что кто-то заявит о моём здесь присутствии, но обошлось. Областное начальство не стало ждать председателя колхоза, но наказали, чтобы он завтра явился в облисполком. После приезда из области председатель колхоза со своим бухгалтерским опытом в дальнейшем никогда не вмешивался в мои агрономические дела. Получилось так, что мой агрономический престиж спасли рядовые колхозники-комбайнеры и первые руководители области.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.