
Бесплатный фрагмент - Зависть и жалость: тени сравнения и дистанции
«Чужое счастье напоминает о наших желаниях. Чужая боль — о наших страхах. И всё для того, чтобы найти свои желания и свои страхи», — Автор
ОТ АВТОРА
Кто мы, когда завидуем и жалеем?
Внутренний мир человека — это не только пространство любви, страсти, сострадания и надежды. Он также населён эмоциями, о которых мы предпочитаем молчать: теми, что приносят дискомфорт, вызывают смущение, заставляют отводить глаза от собственного отражения.
Среди них — зависть и жалость. Эти чувства часто остаются вне поля зрения, спрятанные за маской осуждения или благопристойного равнодушия. Однако именно они могут стать мощными аналитическими инструментами, если к ним подступиться с вниманием и без поспешных морализаторских оценок.
Зависть и жалость — не просто проявления слабости или невротизма. Это аффективные образования, которые могут сигнализировать о внутреннем конфликте, травматическом опыте, дисбалансе между идеальным и реальным «Я», а также указывать на механизмы защиты, через которые личность строит своё отношение к миру и себе. Они работают как глубинные маркеры, которые, будучи прочитанными, открывают доступ к бессознательной динамике.
Что общего и различного между завистью и жалостью?
На первый взгляд, эти два чувства кажутся противоположными. Зависть — напряжённая, иногда даже разрушительная эмоция, связанная с желанием обладать тем, что принадлежит другому.
Жалость же выступает в роли мягкого, почти благородного, сочувствия — или так кажется на поверхности. Но при более пристальном взгляде оказывается, что оба этих переживания имеют общее происхождение: идеализацию объекта.
Идеализация — один из базовых защитных механизмов, который позволяет человеку компенсировать собственную уязвимость. Мы возводим других на пьедестал, чтобы скрыть страх перед сравнением, или, наоборот, чтобы создать опору для саможалости.
И тогда зависть и жалость начинают соседствовать, образуя причудливые эмоциональные матрицы: «Я хочу быть таким, как ты» — «Но я рад, что я не такой, как ты».
В чем различия?
Зависть — эмоциональный ответ на воспринимаемое преимущество другого, чаще всего сопровождающийся элементами агрессии. Жалость — это форма эмпатии, которая может быть искренней, но также может служить маской для брезгливости, отстранённости или даже власти. В некоторых случаях она становится способом установления иерархии: я выше, потому что я могу позволить себе смотреть вниз — с сочувствием.
Эти чувства не возникают спонтанно. Они формируются в контексте ранних объектных отношений, семейных сценариев, культурных установок. Они вплетаются в структуру нашего субъектного положения, становясь частью того, как мы видим себя и других.
Зачем разбираться в этих чувствах?
Мы редко говорим о зависти и жалости, потому что они тревожат нас. Они пробуждают в нас чувство вины, дискомфорта, иногда даже стыда. Но именно поэтому они заслуживают особого внимания. Эти эмоции содержат в себе важные следы бессознательного конфликта — тот самый материал, с которым работает психоанализ.
Когда мы начинаем исследовать зависть, мы сталкиваемся с вопросами желания, недостаточности, зависимости и страха быть маленьким. Когда мы рассматриваем жалость — мы встречаемся с проблемами власти, проекции, идентификации и разделения на «сильного» и «слабого».
Работа с этими чувствами — это не попытка их уничтожить или заменить чем-то «лучшим». Это процесс деконструкции, расшифровки, интерпретации. Это движение от реакции к осознанию, от защиты к принятию.
Если вы взяли эту книгу в руки, возможно, вы уже начали этот путь. Возможно, вас зацепило чувство, которое не даёт покоя. Или вы заметили, как кто-то рядом часто вызывает у вас эти эмоции.
Возможно, вы задумались: почему мне трудно быть рядом с этим человеком? Почему я то восхищаюсь им, то презираю? Почему меня тянет помочь, но одновременно хочется оттолкнуть? Или вы ловили себя на жалости к самому себе?
Ответы на эти вопросы нельзя найти в поверхностных объяснениях. Они требуют погружения в глубокие воды внутреннего мира — туда, где живут наши желания, страхи, травмы и защитные стратегии.
Как читать эту книгу?
Эта книга — не самоучитель и не сборник советов. Это попытка провести читателя по внутренним коридорам души, показать, как формируются эмоциональные реакции, как они маскируются под другие чувства, как становятся частью наших взаимоотношений.
Каждая глава — это шаг вглубь. Туда, где нет готовых ответов, но есть вопросы, которые стоит задать себе. В тексте вы найдёте не только теоретические рассуждения, но и клинические примеры, вопросы для саморефлексии, упражнения, помогающие перевести прочитанное в личный опыт.
Вы можете читать книгу последовательно, прослеживая логику развития темы, или выбирать главы, которые особенно резонируют с вашим текущим состоянием.
Главное — читать с открытостью, с готовностью встретиться со своими тенями, с желанием услышать то, что обычно остаётся за кадром.
Зависть и жалость — не враги, а проводники.
Они ведут нас к тому, что мы предпочитаем не замечать: к нашим идеалам, к нашему внутреннему разрыву, к отношениям, которые мы повторяем снова и снова. Через работу с этими чувствами можно начать менять не только своё отношение к другим, но и к себе.
Если вы готовы к этому путешествию — добро пожаловать внутрь. Здесь, за границей знакомого, начинается путь к себе настоящему.
ЗАВИСТЬ КАК ЭМОЦИЯ И ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Зависть — чувство, которое мы чаще всего стараемся отогнать как можно дальше. Мы стыдимся её, называем слабостью, даже «грязным» переживанием.
Но что если зависть — это не враг, а наш союзник? Не признак мелочности, а внутренний сигнал, который что-то пытается нам сказать?
В этой главе мы вместе сойдём с привычной колеи и посмотрим на зависть другими глазами — глазами психоаналитика, который знает: за каждым неприятным чувством скрывается глубокая бессознательная динамика.
Вы узнаете:
— чем зависть отличается от ревности и соревновательности, и почему важно это различие;
— какие бессознательные корни у зависти — и почему она часто прячется за другими эмоциями;
— когда зависть становится важным сигналом о внутреннем разрыве, который нельзя игнорировать.
Мы поговорим о том, как идеализация других людей становится первым шагом к зависти — и как этот механизм работает в наших отношениях, самооценке и стремлении быть лучше. Вы узнаете, почему мы возводим других на пьедестал, и как это влияет на наше восприятие себя.
Отдельно рассмотрим два типа зависти — проективную и нарциссическую, которые могут толкать нас не только к сравнению, но и к разрушению того, к чему испытываем желание.
Эти формы зависти тесно связаны с чувством собственной «неполноценности» и страхом зависимости — теми темами, которые редко поднимаются в открытых разговорах.
Вы найдёте ответы на вопросы, которые многих волнуют, но немногие готовы обсуждать:
— почему идеализация любимого человека может перерасти в скрытую зависть;
— как проявляется родительская зависть — и почему она особенно опасна для ребёнка;
— как формируется детская зависть и как она влияет на развитие личности.
И, конечно, вы получите практические инструменты: как работать с завистью, не осуждая себя, как начать исследовать свои идеалы, и как совершить важный переход — от постоянного сравнения к настоящему принятию себя.
Эта часть — ваш первый шаг к пониманию: зависть — это не то, от чего нужно избавляться.
Это то, что нужно услышать.
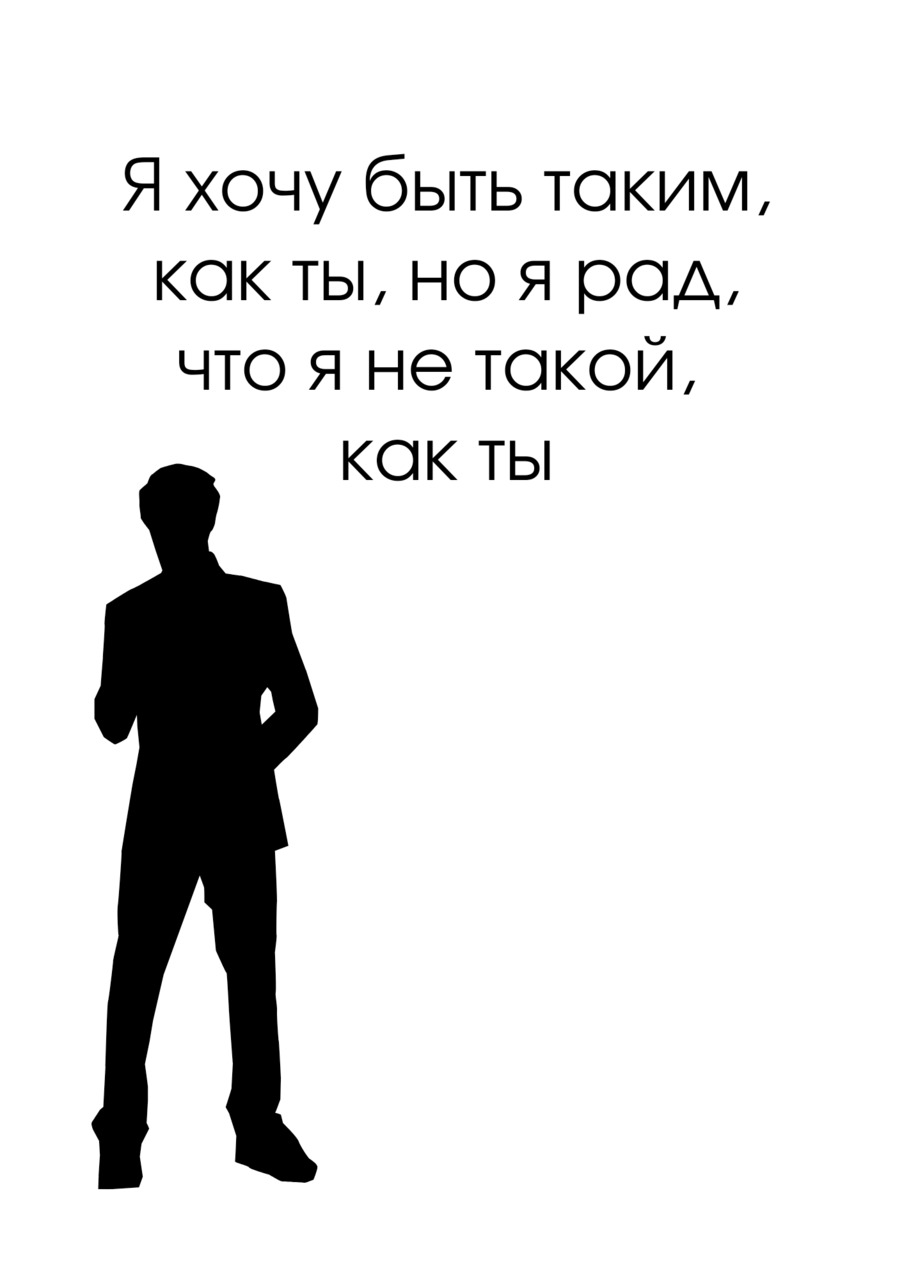
Что такое зависть на самом деле
Зависть — чувство, которое редко признают открыто, но которое почти каждый испытывал. Оно возникает внезапно, как тень в яркий день, и оставляет после себя смутный след тревоги, раздражения или даже боли.
Мы стараемся его подавить, замаскировать, иногда даже вытеснить. Но зависть упряма: она возвращается снова и снова, особенно там, где мы чувствуем разрыв между тем, чего хотим, и тем, чем обладаем.
В психоаналитическом понимании зависть — реакция на чужое преимущество. Это глубоко структурированный аффект, который может сигнализировать о внутреннем конфликте, травматических переживаниях, идеализации объекта и скрытых формах зависимости.
Она не появляется на пустом месте. За её фасадом часто скрываются желание, страх, искажённое восприятие собственной ценности и, иногда, бессознательная попытка компенсировать утрату.
Отличие от ревности и соревновательности
Иногда мы путаем зависть с другими эмоциями, близкими по тону, но различными по содержанию.
Например, ревность — это защита привязанности. Она говорит: «Это моё, и я боюсь потерять».
Соревновательность, напротив, содержит в себе элемент вызова и стремления к преодолению: «Я хочу быть лучше, чем ты».
А вот зависть — это прежде всего эмоциональный ответ на воспринимаемое несоответствие между собой и другим.
Она рождается из осознания: «Он имеет то, чего хочу я. И я не могу этого иметь». Это ощущение недостаточности, усиленное чувством разделения.
Если ревность может быть продуктивной (толкая нас к защите важных связей), а соревновательность — мотивирующей (подталкивая к развитию), то зависть чаще всего дестабилизирует.
Она создает внутреннее напряжение, которое либо остаётся неразрешённым, либо выходит наружу в форме критики, обесценивания или агрессии.
Три примера, иллюстрирующих отличие зависти от ревности и соревновательности
1. Ревность: защита привязанности
На вечеринке ваш партнёр много времени проводит с другим человеком — смеётся, обсуждает личное, кажется близким. Вы чувствуете тревогу, напряжение, раздражение.
Вы думаете: «Я не хочу его потерять. Почему он уделяет ему больше внимания, чем мне?».
Это ревность — реакция на угрозу связи, желание сохранить эмоциональную или физическую монополию.
2. Соревновательность: вызов самому себе
Вы работаете в одной команде с коллегой, который недавно получил повышение. Вы замечаете, что он хорошо организует процессы, умеет говорить перед аудиторией, его ценят руководители.
Вы думаете: «Хочу развить такие же навыки. Возможно, мне стоит пройти тренинг по публичным выступлениям».
Это соревновательность — стимул к развитию, движение вперёд через сравнение, но без ощущения собственной недостаточности.
3. Зависть: чувство внутреннего разрыва
Вы узнаёте, что ваш старый знакомый запустил успешный проект, о котором вы сами давно мечтали. Он получает признание, внимание, финансовый результат.
Вы думаете: «Он смог, а я нет. И даже если попробую — вряд ли получится. Всё равно всё будет хуже, чем у него».
Это зависть — болезненное осознание, что вы, возможно, никогда этого не достигнете. Это внутреннее разделение между «ему досталось, а мне — нет», и, что самое сложное, — «и не достанется».
Эти примеры показывают, как каждая из эмоций рождается из разных источников и ведёт к разным последствиям:
— ревность защищает связь;
— соревновательность толкает к развитию;
— зависть создаёт внутренний конфликт, который может остаться неразрешённым годами.
Эти примеры демонстрируют, что каждая из эмоций — ревность, соревновательность и зависть — берёт своё начало в разных внутренних импульсах и ведёт к различным психологическим последствиям.
Ревность возникает как защитная реакция, направленная на сохранение близкой связи, и даже если она сопровождается тревогой, она стремится к удержанию значимого контакта.
Соревновательность, напротив, носит активный и мобилизующий характер — она вдохновляет человека развиваться, ставить перед собой вызов и двигаться вперёд, используя чужой успех как стимул.
Зависть же, в отличие от них, чаще всего становится источником внутреннего разлада — она порождает чувство недостаточности, усиливает переживание разделённости и может годами оставаться неразрешённой, превращаясь в скрытую, но глубоко травмирующую часть личностной структуры.
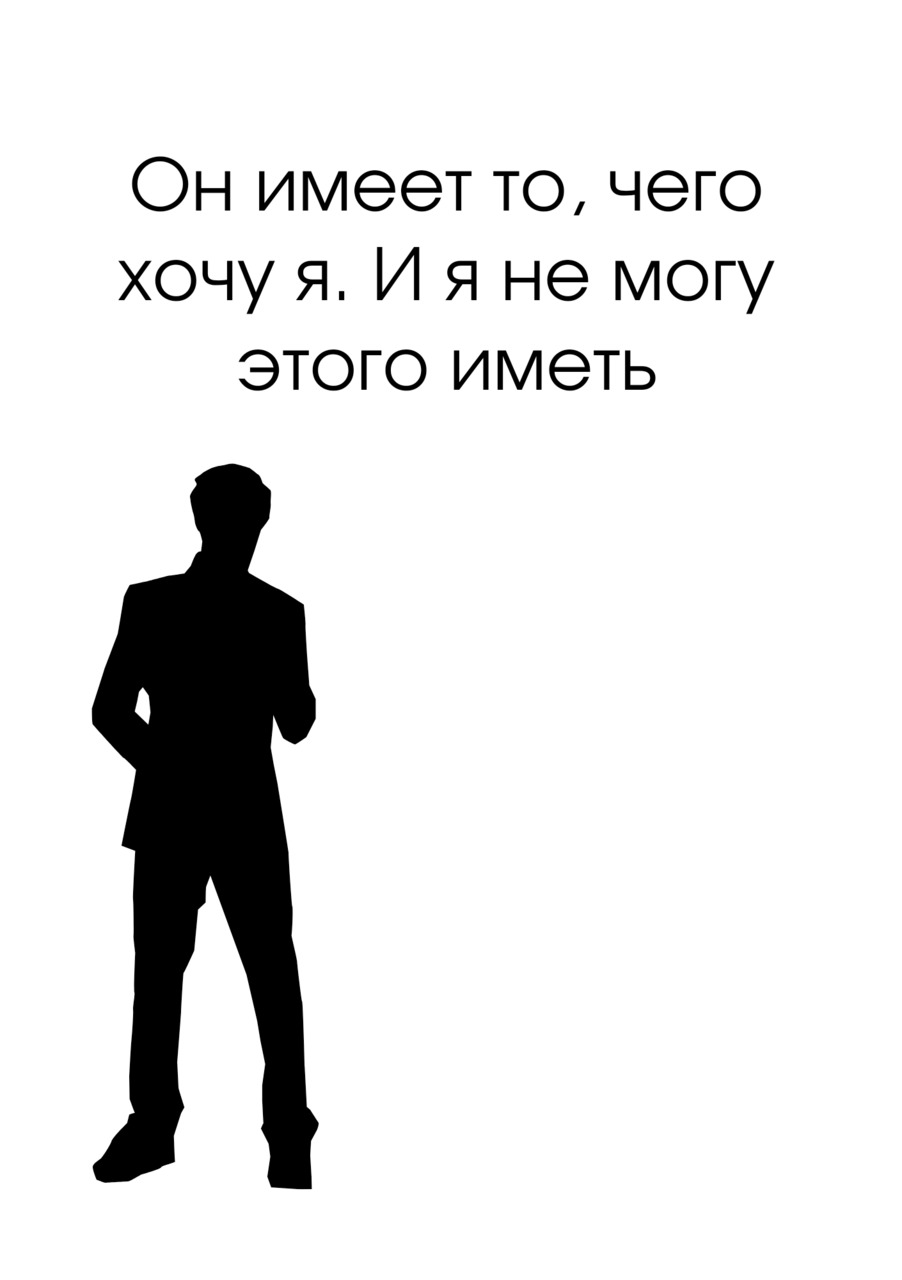
Бессознательные корни зависти
Чтобы понять, почему зависть так часто становится частью нашего эмоционального опыта, нужно заглянуть в те сферы психики, где формируются наши отношения с желанием, любовью и идентичностью.
Бессознательные корни зависти уходят в глубоко ранний опыт: в ситуации, где ребёнок учился воспринимать мир через призму недостатка и избытка.
Если в детстве ребёнку часто говорили: «Посмотри, как хорошо делает Вова», или если он наблюдал, как родители уделяли больше внимания другому ребёнку, в его психике могла сформироваться установка: «То, что есть у других, мне не принадлежит. Или принадлежит только тогда, когда я буду „достаточно хорош“/ идеален».
Такие сценарии могут стать основой для механизма проективной зависти: желания не только обладать тем, что есть у другого, но и лишить его этого. Потому что сам факт наличия у другого того, чего тебе хочется, становится невыносимым напоминанием о своей ограниченности.
Кроме того, зависть может быть формой защиты от зависимости.
Чем больше человек хочет быть таким же, как другой, тем сильнее он может начать его критиковать, чтобы сохранить психологическую дистанцию.
Это классический пример реактивного образования: вместо признания желания — его отрицание через противоположную эмоцию.
Пример 1. Сравнение в детстве
Маленькая девочка росла в семье, где постоянно звучали фразы: «Посмотри, как аккуратно рисует твоя одноклассница. А ты — размазня», «Твой брат уже читает, а ты до сих пор не выучил буквы» и подобные.
С годами у ребенка формируется внутренняя установка: «Я достойна любви только тогда, когда лучше других. А если я не лучшая — меня не ценят».
Во взрослом возрасте она начинает испытывать острую зависть к коллегам, которые получают похвалу от начальства. Но вместо признания этого чувства, она критикует их успехи, находя в них изъяны.
Её зависть маскируется под объективную оценку, но на самом деле — это защита от страха быть недостаточной.
Пример 2. Зависть как защита от зависимости
Мужчина работает в творческой сфере и всегда восхищался одним из своих коллег — человеком, который легко находит общий язык с людьми, умеет быть собой и получает признание без видимых усилий.
Глубоко внутри он хотел бы быть таким же, но осознать это — значит признать свою собственную уязвимость. Вместо этого он начинает критиковать этого человека: «Он просто громко говорит — и его считают мудрым», «Его успех — дело случая, а не заслуги» и подобное.
Это классический случай реактивного образования: вместо принятия желания быть похожим на другого, он отрицает его через критику.
Так он сохраняет психологическую дистанцию и защищает себя от страха зависимости и собственной недостаточности.
Эти примеры показывают, как ранние переживания и защитные механизмы формируют зависть не как простое чувство, а как психический процесс, связанный с желанием, страхом и самоидентификацией.
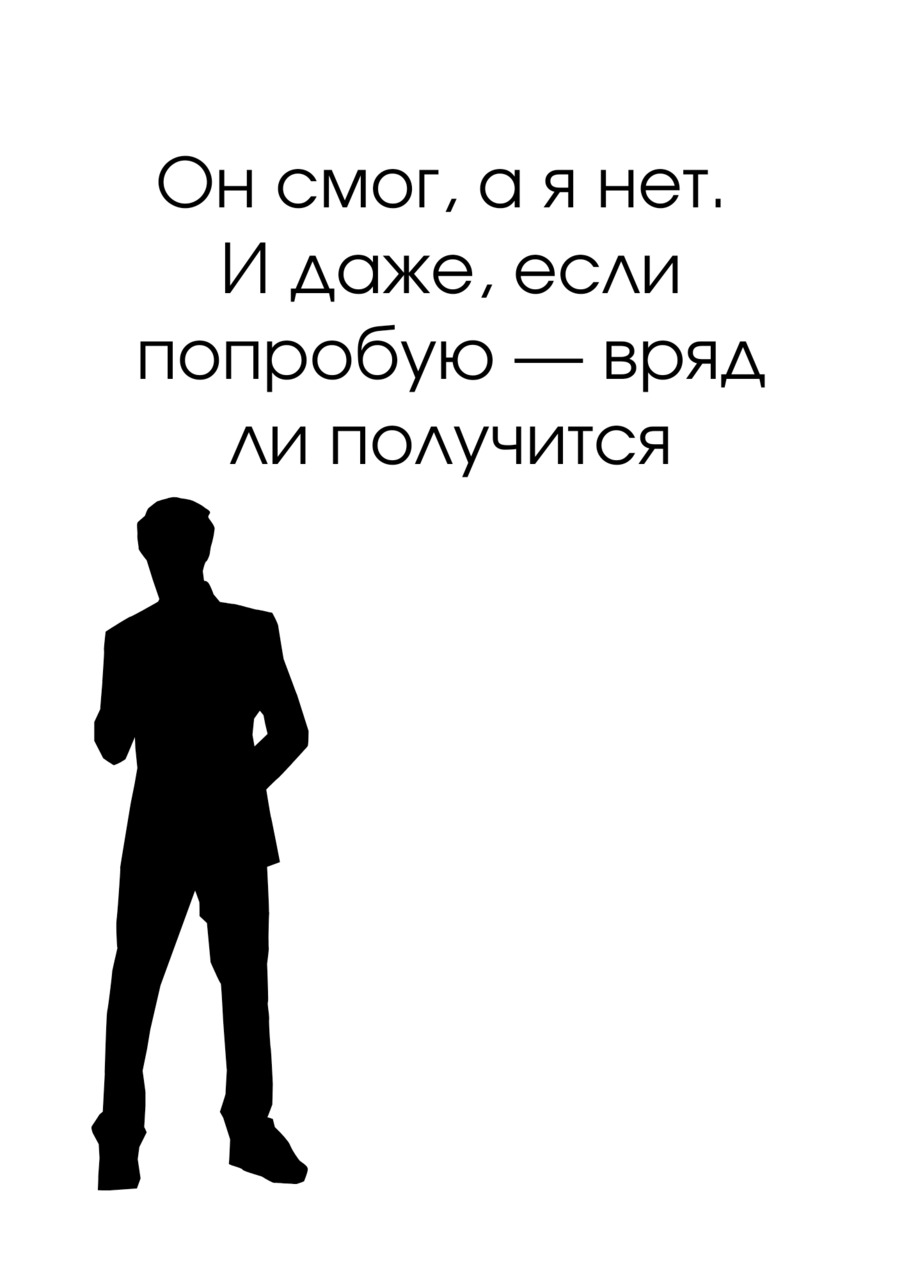
Когда зависть становится сигналом
Если зависть кажется нам врагом, значит, мы ещё не научились её слышать. А ведь именно в её болезненности — ключ к пониманию: что мы действительно хотим, что считаем недостижимым, и какие части себя мы до сих пор не приняли.
Зависть может быть симптомом, который указывает на:
— неосуществлённое желание;
— скрытую потребность в признании;
— недооценённые возможности;
— травму сравнения;
— отчуждение от собственного «Я».
Она работает как маяк, который светит на границе между реальным и идеальным. И хотя этот свет может быть режущим, он всё же позволяет нам увидеть контур нашей внутренней карты.
Когда мы начинаем рассматривать зависть не как слабость, а как информацию, мы получаем возможность перевести её из разряда разрушительных эмоций в инструмент личностного развития.
Зависть — это результат сложной динамики между желанием, страхом, идеализацией и защитой. Она может быть болезненной, но она не случайна.
Каждый раз, когда она появляется, она предлагает нам задать себе важные вопросы:
— чего я на самом деле хочу;
— почему мне кажется, что я не имею права на это;
— что во мне блокирует движение к моим желаниям.
В следующей главе мы рассмотрим один из самых мощных механизмов, которые ведут к зависти — идеализацию, и узнаем, как она влияет на наше восприятие себя и других.
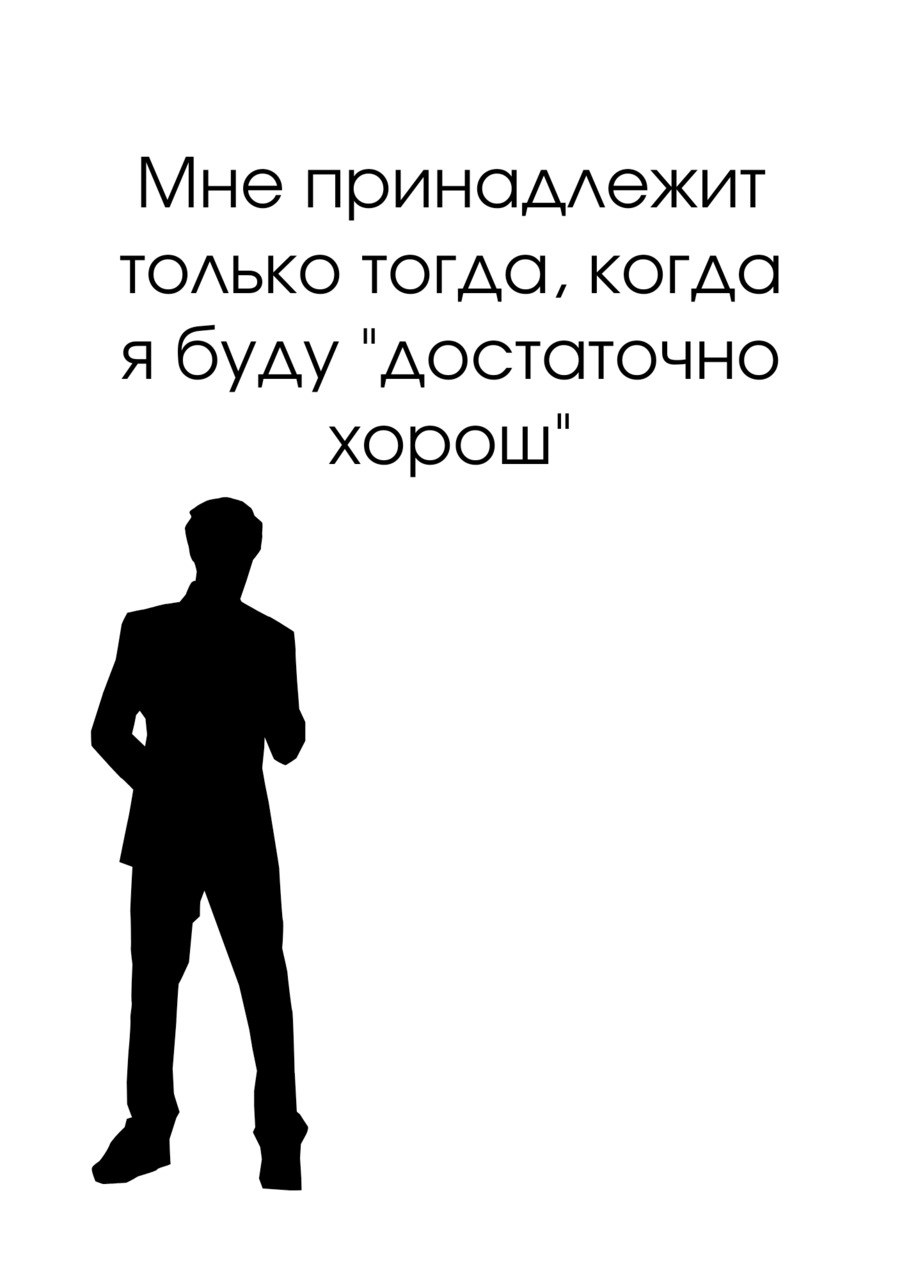
Идеализация: путь к зависти
Если зависть — это сигнал о внутреннем разрыве, то идеализация — её предшественник.
Это психологический механизм, который работает почти незаметно, но формирует почву для одного из самых болезненных переживаний — чувства собственной недостаточности.
Именно через идеализацию другой человек становится носителем желаемого, а его присутствие — источником дискомфорта.
Идеализация — это не то же самое, что восхищение. Это защитный процесс, при котором личность наделяет другого человека чертами совершенства, исключительности или даже всемогущества.
Она помогает компенсировать собственную уязвимость, страх зависимости или чувство внутренней нехватки. Но за этой защитой часто скрывается гораздо более глубокая динамика — стремление к недостижимому образцу и, как следствие, возникновение зависти.
Почему мы возводим других на пьедестал
Процесс идеализации начинается рано — в детстве, когда ребёнок воспринимает родителей как всевластных и непогрешимых существ.
Эта стадия развития необходима: она позволяет формировать первые представления о мире как о безопасном и предсказуемом. Однако если идеализация остаётся в структуре личности как постоянный шаблон, она продолжает влиять на выбор партнёров, отношений, карьерных целей.
Мы идеализируем:
— партнёров, создавая образ идеального любовника, заботливого спутника, мудрого наставника;
— друзей, наделяя их чертами безупречной лояльности и понимания;
— коллег, видя в них образец профессионализма и уверенности;
— знаменитостей, превращая их в символы успеха и реализованности.
Эти идеалы могут быть полезны — они дают ориентиры, вдохновляют, подталкивают к развитию.
Но в случае, когда идеализированный объект кажется недосягаемым, он может стать причиной внутреннего конфликта, потому что чем выше пьедестал, тем ниже собственная значимость.
Идеалы и их влияние на самооценку
В психоаналитической теории различают два основных уровня «Я» — реальное и идеальное.
Первое отражает то, кто мы есть. Второе — кем мы хотим быть. В здоровом функционировании эти уровни находятся в балансе.
Но когда идеал становится слишком высоким, а реальность — слишком далекой от него, возникает разрыв, который может порождать чувство тревоги, раздражения, и, в конечном счёте, зависти.
Когда мы идеализируем другого, мы делаем его носителем тех качеств, которых нам самим не хватает. Он становится метафорическим «хранителем благополучия», «обладателем дара».
А если мы не можем получить этот дар, в нас пробуждается зависть — неявная, отрицаемая, но мощно влияющая на поведение.
Интересно, что зависть редко возникает там, где нет идеализации.
Скорее, они существуют вместе, как две стороны одной и той же эмоциональной монеты. Чем выше мы поднимаем партнёра, друга, коллегу, тем сильнее ощущаем собственную малость, несостоятельность, нехватку.
И вот тогда-то и просыпается зависть — неявная, скрытая, но от этого не менее ядовитая.
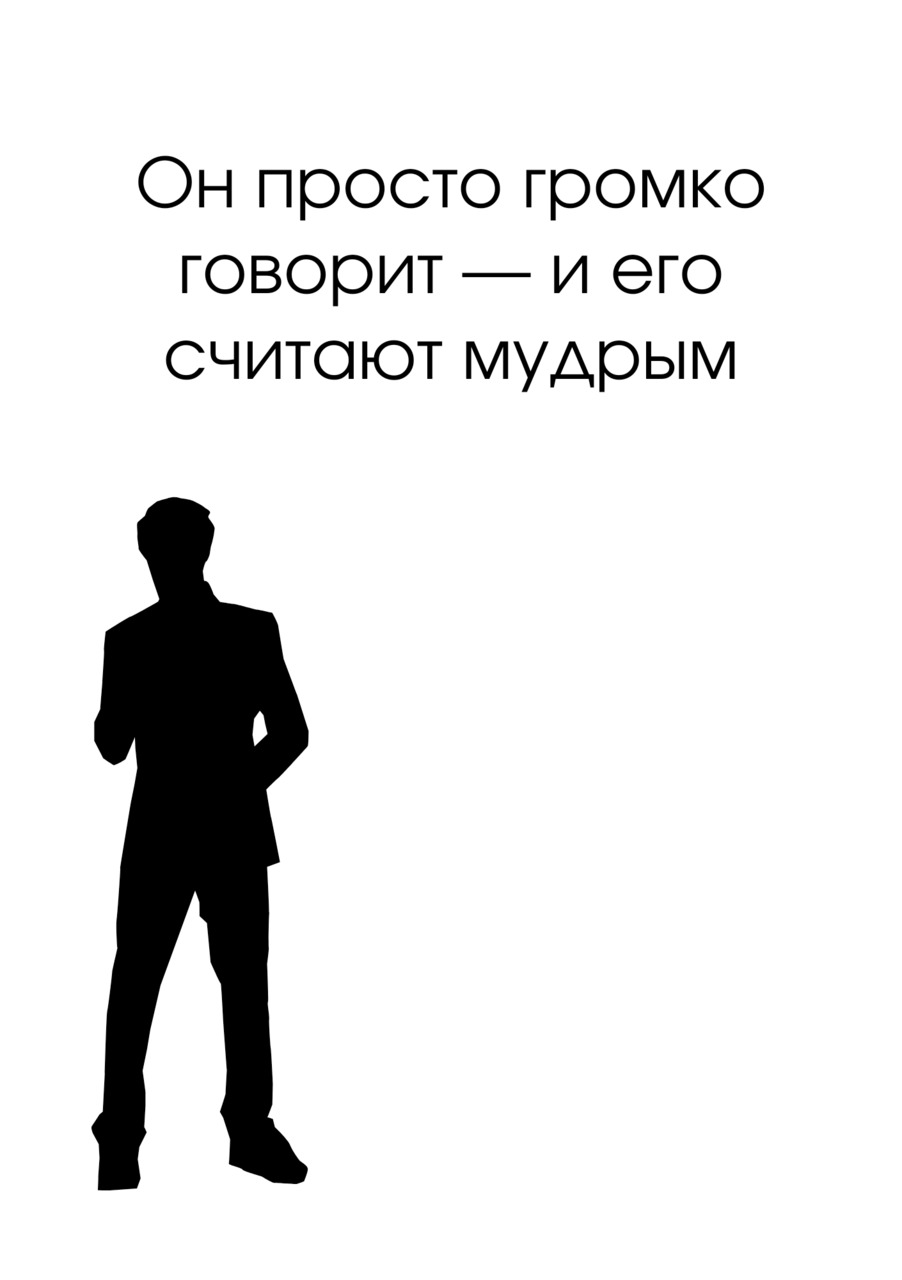
Пример 1. Партнёр как воплощение идеала
Женщина в отношениях воспринимает своего партнёра как человека, обладающего всем тем, чего ей самой не хватает: уверенности, умения быть собой, эмоциональной зрелости.
Со временем её восхищение перерастает в идеализацию — она начинает видеть в нём почти что совершенство. Однако чем выше она его ставит, тем сильнее разрыв между её реальным «Я» и внутренним образцом.
Она чувствует себя менее значимой, менее достойной любви.
Зависть появляется неосознанно — как лёгкое раздражение, критика мелких недостатков партнёра, чувство скрытого напряжения.
Пример 2. Идеал карьеры и внутренний конфликт
Мужчина всю жизнь стремился стать успешным бизнесменом — не потому, что это его настоящее призвание, а потому что так говорили родители, так требовала среда. Он построил карьеру, но внутри постоянно ощущает пустоту.
Его идеальное «Я» — это человек, который всё контролирует, всегда собран, эффективен, влиятелен. Но реальное «Я» часто устаёт, ранимо, нуждается в близости. Чем больше он старается соответствовать этому идеалу, тем сильнее осуждает себя за слабость.
Вместо работы над собой он начинает испытывать зависть к коллегам, которые, как ему кажется, «естественно» обладают тем, чего он вынужден добиваться ценой постоянного внутреннего напряжения.
Пример 3. Детская установка: быть «достаточно хорошим»
С самого детства девочка слышала от родителей: «Ты могла бы быть лучше», «Посмотри на твою подругу — она старательнее» и подобное. Она выросла с установкой: чтобы быть любимой, нужно быть идеальной.
Взрослой женщиной она продолжает сравнивать себя с другими — подругами, коллегами, даже незнакомками из социальных сетей. Каждый успех другого вызывает у неё не радость, а скрытое напряжение.
Она не осознаёт, что идеализирует этих людей, наделяя их чертами, которых ждёт от самой себя. И когда она не достигает этих высоких стандартов, просыпается зависть — болезненная, но легко маскируемая под объективную критику или равнодушие.
Эти примеры показывают, как идеалы, особенно недосягаемые, влияют на наше восприятие себя и других. Когда между реальным и идеальным «Я» возникает слишком большой разрыв, это порождает тревогу, чувство недостаточности и, в конечном итоге, зависть.
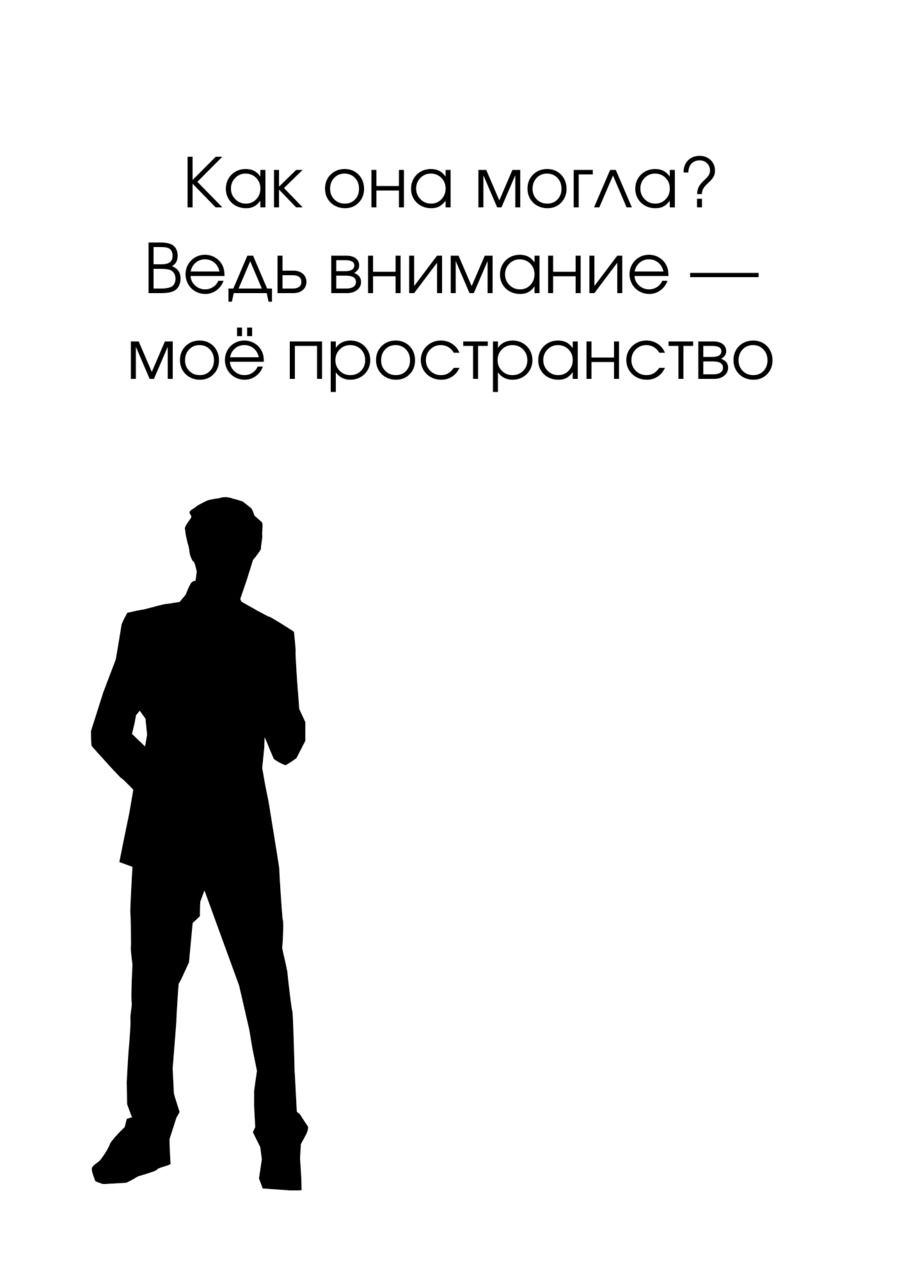
Внутренний конфликт между «тем, кто я есть», и «тем, кем хочу быть»
Один из самых болезненных моментов идеализации — разрыв между реальным и идеальным «Я». Этот конфликт рождает внутреннюю тревогу, чувство вины, раздражение, а порой и настоящую депрессию.
Вы можете идеализировать человека, потому что он умеет говорить перед большой аудиторией. Потому что он уверен в себе. Потому что он красив, богат, свободен.
Но если вы не позволяете себе принять, что вы сейчас — не он, то конфликт усиливается. И тогда зависть становится образом жизни.
Попробуйте сделать простое упражнение: закройте глаза и представьте того человека, которому вы завидуете. Задайте себе вопросы:
— какие именно качества или обстоятельства в этом человеке я особенно ценю или восхищаюсь ими;
— почему мне кажется, что эти качества недоступны или недостижимы для меня;
— какие внутренние страхи или ограничения могут мешать мне принять похожие черты как часть себя.
Часто ответы удивляют.
Например, оказывается, что вы не просто хотите быть успешным, как ваш коллега. Вы боитесь быть успешным, потому что тогда придётся отвечать за свою жизнь.
Вы боитесь быть уверенной, потому что тогда другие могут перестать вас жалеть.
Идеализация и зависть — это про страх измениться. Страх потерять контроль. Страх быть собой.
Идеализация — защитный механизм, который помогает нам компенсировать собственную неуверенность. Но в долгосрочной перспективе он становится источником зависти, боли и внутреннего разрыва.
Работа с идеализацией — это путь к принятию себя. К пониманию, что вы имеете право на развитие, на ошибки, на стремление быть лучше — без необходимости унижать себя ради кого-то другого.
А зависть — пусть и болезненная — может стать первым сигналом к тому, что внутри вас есть желание, которое вы до сих пор игнорировали.
В следующей главе мы поговорим о том, как зависть может не только ранить — она может разрушать. Как она превращается в проективную и нарциссическую зависть, и какие механизмы стоят за этими опасными формами.
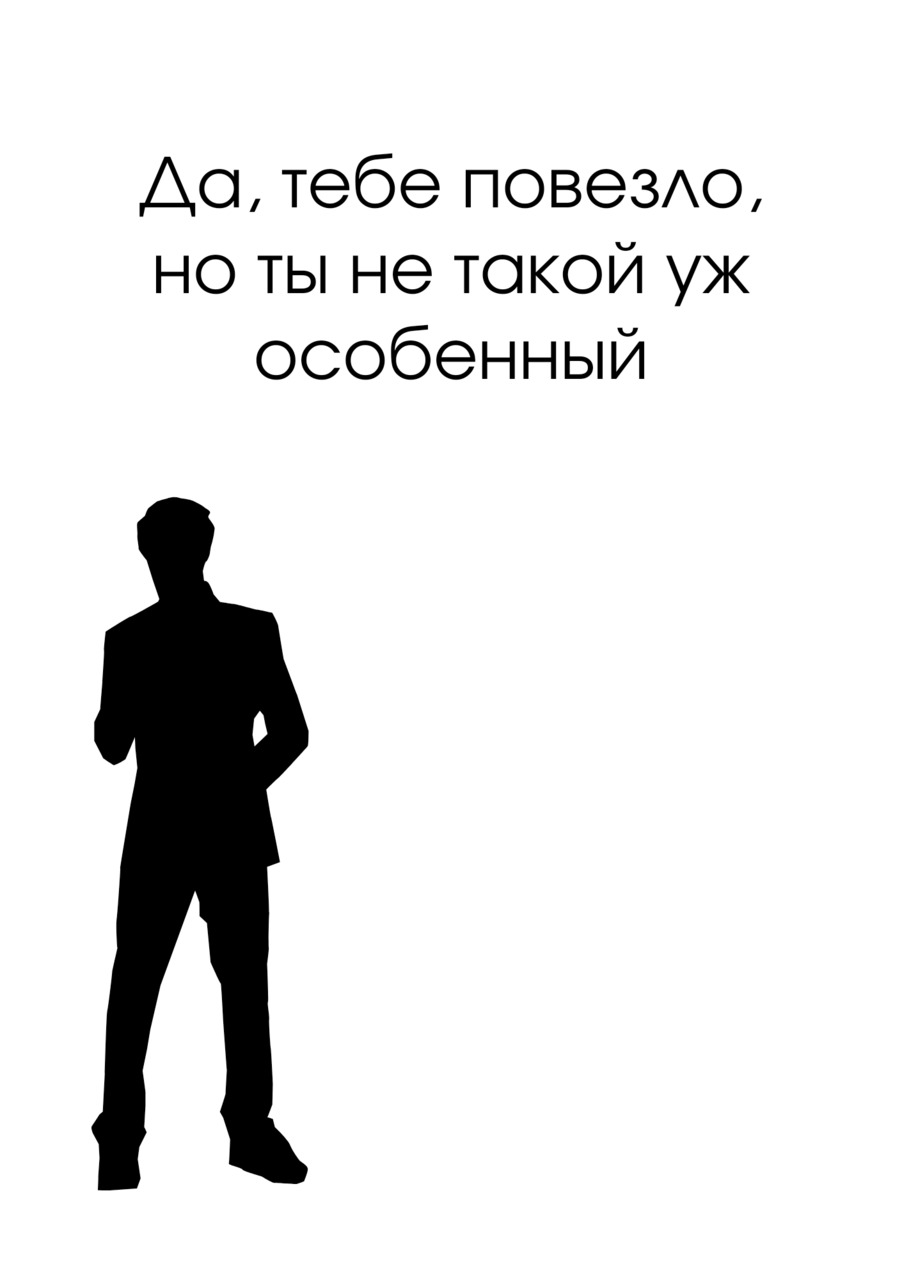
Проективная и нарциссическая зависть
Если зависть — это сигнал о внутреннем разрыве, то её наиболее острые формы — проективная и нарциссическая — указывают на глубокие трещины в структуре личности.
Эти виды зависти не ограничиваются простым желанием обладать тем, что принадлежит другому. Они содержат в себе элементы агрессии, отрицания, проекции и даже разрушительной потребности в уничтожении объекта желания.
В этих формах зависть перестаёт быть только эмоциональным состоянием. Она становится защитной стратегией, механизмом, через который человек компенсирует собственную уязвимость, страх зависимости или чувство недостаточности.
Как зависть может толкать к разрушению
Одна из самых известных концепций в этой области принадлежит Мелани Кляйн, которая выделила два фундаментальных положения психики — параноидно-шизоидное и депрессивное.
В рамках первого доминируют страхи, связанные с внешним миром, воспринимаемым как угрожающий. Именно здесь формируется основа для проективной зависти — чувства, при котором субъект хочет не только обладать чужим, но и лишить другого этого блага.
Такая зависть содержит в себе не только желание присвоить, но и импульс к разрушению.
Почему?
Потому что сам факт наличия у другого того, чего хочешь ты, становится невыносимым напоминанием о своей ограниченности. Чем выше идеализация объекта, тем сильнее болезненная реакция на него.
Это можно сравнить с ситуацией, когда человек голоден, а перед ним — обильно накрытый стол. Но он не может подойти к нему, не может взять еду.
И тогда вместо попытки достичь желаемого, он может испытать импульс опрокинуть стол, чтобы никто больше не имел того, чего лишен он сам.
Проективная зависть часто работает именно так: она стремится уничтожить то, к чему испытывается скрытое желание, потому что иначе невозможно справиться с болью разделения.
Пример 1. Уничтожение объекта желания
Женщина завидует подруге, которая вышла замуж за человека, которого она сама когда-то хотела. Она не признаёт своих чувств, но начинает шептать знакомым, что этот брак обречён, что мужчина — эгоист, а её подруга — глупышка.
В быту назвали бы «сплетнями». На самом деле — попытка разрушить то, чего она хочет.
Пример 2. Сожаление, перерастающее в разрушение
Молодой художник видит, как его сверстник получает первую выставку. Он искренне рад за него, но одновременно чувствует внутри пустоту: «Почему не я? Почему я ещё не там?». Со временем эта боль превращается в молчаливую агрессию.
Он начинает саботировать свои собственные проекты, отменять встречи с галеристами, говоря себе: «Зачем стараться, если всё равно будет хуже, чем у него?».
Пример 3. Разрушение связи с собой и другими
Женщина наблюдает, как её коллега получает повышение, которое она тоже хотела. Вместо того чтобы злиться или критиковать его, она начинает внутренне отстраняться — от работы, от коллектива, даже от себя. Она говорит: «Мне всё это не нужно. Я и так знаю, что я хорошая».
Но на деле — прекращает развиваться, отказывается от новых возможностей, словно наказывает себя за то, что не смогла получить желаемое.
Эти примеры показывают, как зависть может принимать разные формы в зависимости от внутренней психической организации человека.
В параноидно-шизоидном положении доминируют страх и агрессия, которые находят выход во внешнем мире — через критику, разрушительное поведение и проекцию собственной боли на других. Человек стремится уничтожить то, к чему испытывает скрытое желание, чтобы больше не сталкиваться с мучительным напоминанием о своей ограниченности.
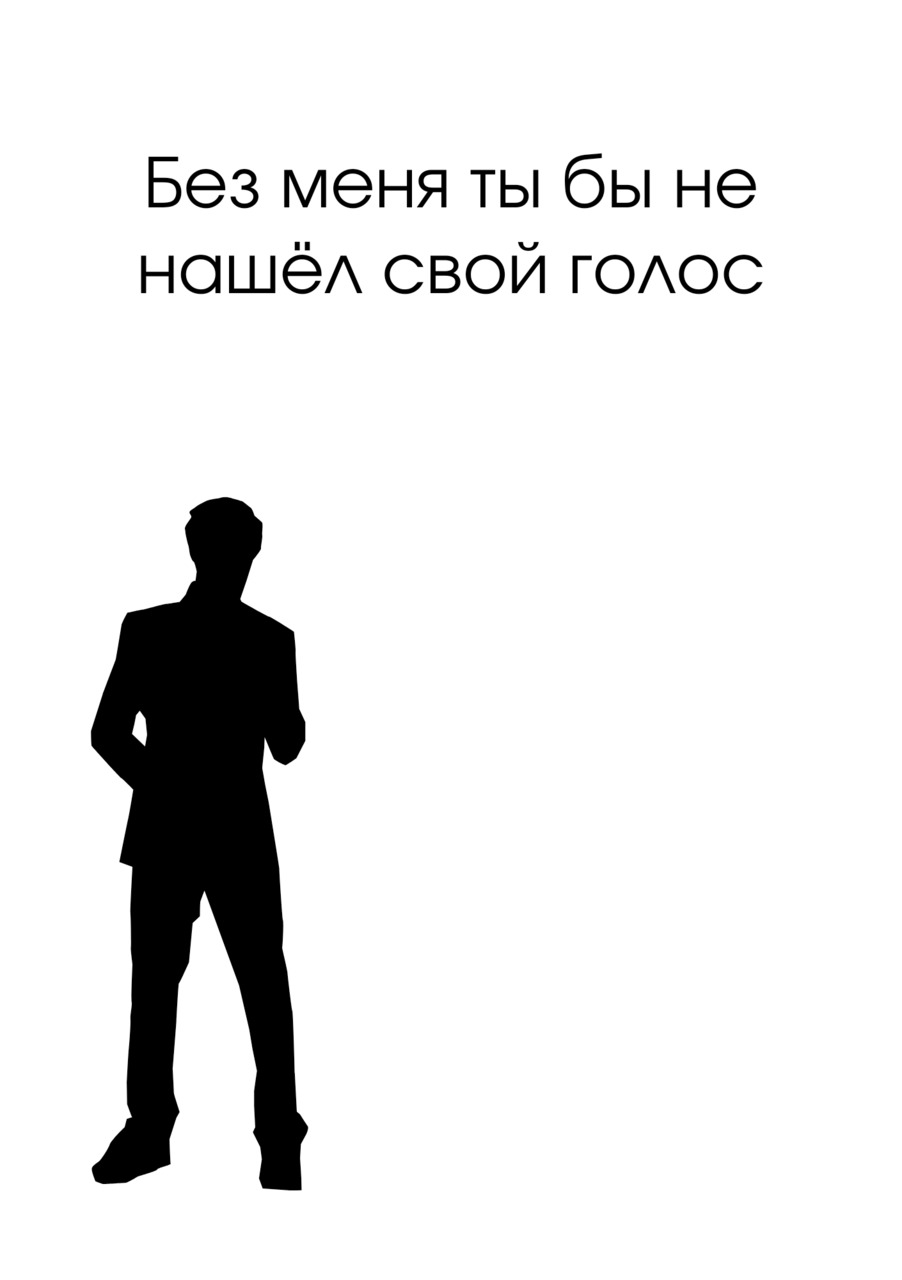
В депрессивном положении, напротив, эмоциональный опыт сосредоточен внутри — здесь преобладают переживания утраты (не путать с потерей чего-либо конкретного, здесь имеется в виду бессознательный опыт), чувство вины и бессилия. Такая зависть может привести к самосаботажу, отказу от возможностей, внутреннему отчуждению и глубокому ощущению собственной недостаточности.
И в том, и в другом случае — будь то направленная наружу агрессия или замкнутая в себе боль — речь идёт о защитных механизмах, возникающих в ответ на невыносимое ощущение разделённости между собой и тем, кто обладает благом, которое мы так хотим иметь, но не можем себе позволить.
Пожалуй, расскажу ещё об одном случае из своего опыта — на этот раз он касается не терапевтического пространства, а моих личных отношений
Когда-то у меня была приятельница, с которой мы общались довольно близко, хотя и не могли назвать наши отношения полноценной дружбой.
Она казалась мне той, которая нашла своё место в жизни: хорошая работа, любящий муж, четверо детей, стабильность и уверенность в себе.
Мы встречались то в ресторане, то дома, пили чай за длинными разговорами. Мне нравилось с ней общаться — она была образованной, остроумной, интересной собеседницей.
Со временем я начала замечать в её речи странности — такие вот небольшие фразы, которые звучали как шутки, но вызывали у меня внутреннее напряжение. Например, она говорила: «Ты так много успеваешь! Наверное, у тебя много свободного времени», «Мне показалось или мой муж как-то особенно к тебе относится», «Я вижу, что с моей младшей дочерью у вас есть свои секреты».
Здесь немного отступим в сторону от повествования, чтобы разобраться с оговорками приятельницы.
Реплики о «свободном времени» — первые признаки проективной идентификации
Это замечание, звучавшее почти шутливо, на самом деле было началом скрытого процесса. В нём чувствовалась и констатация факта, и акт проективной идентификации, один из самых тонких и опасных защитных механизмов.
Если человек не может принять в себе собственные желания, страхи или недостатки, он начинает передавать их другому — не словами, а через интонацию, поведение, повторяющиеся фразы. Он хочет, чтобы вы приняли его внутреннюю позицию. Чтобы стали тем, кем он боится быть сам. Или чтобы подтвердили её правильность.
Когда она говорила мне, что у меня должно быть много свободного времени, потому что я многое успеваю, она, возможно, пыталась отдать мне своё чувство беспокойства — чувство, что она сама не может этого делать, что у неё нет такой свободы, но при этом — где-то внутри — есть зависть. Зависть, которую она не могла назвать своим именем.
То был первый этап психологического сдвига, в котором она начинала строить образ, в который хотела, чтобы я вписалась: «Ты — та, у кого всё получается легко. Ты — та, кто имеет то, чего нет у меня».
Она начинала формировать бессознательный контракт: ты — успешная, самостоятельная, ты свободная, а я — та, кто «не может», кто «не такая», кто «зажата».
Замечание об «особом отношении» мужа — триангуляция и страх зависимости
Для меня никакой «интриги» не было. Муж приятельницы был так называемым «харизматиком», то есть у него со всеми были «особые отношения». Другой вопрос — почему она обнаружила особенность своего мужа только в отношениях в состояния триангуляции (тем, кого интересует тема отношений в состоянии триангуляции, рекомендую свою книгу «Триангуляция VS переходный объект», Ridero, 2024).
Возможно, это был страх потери контроля над ситуацией, страх того, что кто-то другой может быть более значим для её мужа, чем она сама. Или же, что важнее, — страх того, что я могу быть более свободной, более собой, чем она.
Триангуляция — это не всегда явная ситуация ревности или вовлечённости третьего лица.
Иногда это психологическая конструкция, в которую один партнёр вводит другого, чтобы смягчить свою собственную тревогу. Или, наоборот, чтобы проверить: «Ты действительно рядом со мной, или ты хочешь быть с кем-то другим?».
В данном случае эта фраза работала как проверка границ, как способ начать создавать напряжение там, где его, казалось бы, не должно быть.
Но также — и это особенно любопытно — как способ переложить на меня часть своей тревоги, связанной с её собственной зависимостью от мужа.
Если она могла представить, что он испытывает особое отношение ко мне, это позволяло ей частично освободиться от своей роли в браке. Словно: «Если он может быть таким с ней, значит, не только я не идеальна, но и он — тоже».
Это типичная проекция внутреннего конфликта. Она не говорила мне: «Мне не хватает уверенности в наших отношениях», «Иногда я чувствую себя менее значимой рядом с другими», или даже «Мне трудно чувствовать себя любимой, если я не лучшая во всём».
Нет. Она нашла более безопасный способ — спросить меня. И тем самым — сделать меня носителем её сомнений.
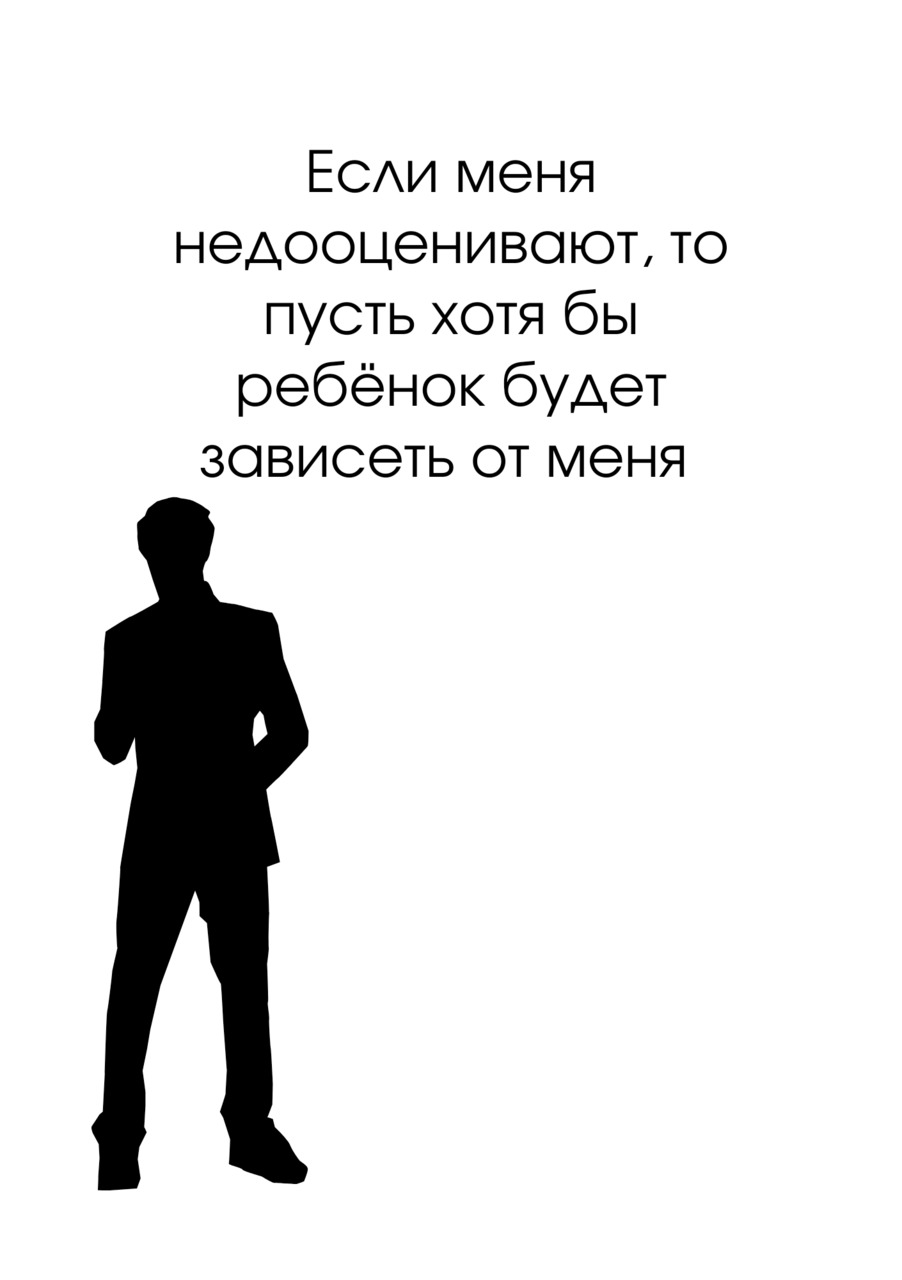
Реплики о «секретах с дочерью» — зависть к связи
Дочь училась рисовать, и я помогала ей — не как педагог, а как человек, который сам занимается творчеством и умеет находить язык с детьми.
Когда мать говорит: «Вы с моей дочерью общаетесь по-особенному… У вас свои секреты» — это замена одного чувства на другое.
Под маской вопроса скрывается зависть к живой, открытой связи, которую она сама, возможно, не имела с дочерью. Или ей казалось, что не имела.
Или — что ещё глубже — жалость к себе как к родительнице, которой не достаётся такого качества общения.
Она не могла сказать: «Мне жаль, что я не так близка со своей дочерью, как вы с ней». Не могла потому, что это потребовало бы признания: «Я не получаю достаточно тепла, я не реализую свои материнские желания, я не такая, какой хотела бы быть».
И вместо этого она начала использовать меня как зеркало, через которое можно было увидеть, что кто-то другой может быть лучше, чем она.
Это — классический путь: идеализация → зависть → обесценивание → проекция → попытка взять контроль обратно через критику или копирование.
Возвращаемся к истории…
На первый взгляд, всё это можно было списать на юмор или даже комплименты. Но я-то знала, что за этими словами может скрываться нечто большее. Просто тогда я не хотела этого видеть, продолжая ее идеализировать, «не веря глазам своим».
Какое-то время я ещё пыталась отвечать в том же духе, отшучивалась, надеясь, что это действительно просто игра. Я верила, что с ней всё в порядке, потому что хотела верить в это.
Однако вскоре ситуация стала приобретать более явный контур. Моя приятельница начала… подражать мне.
Сначала это были мелочи — украшения, которые выглядели идентично моим. Затем — стиль одежды, который она начала повторять. И если раньше я могла объяснить совпадение случайностью, то теперь стало очевидно: здесь присутствует намеренность.
Я спросила её напрямую: «Твои новые серьги очень похожи на мои. Ты специально их искала?». Она не ответила. Только ушла в сторону, перевела разговор, стала говорить о чём-то другом.
Когда я увидела, что она уходит от разговора, стала ясной дальнейшая динамика, — приятельница перешла к обесцениванию.
Она стала делать странные выпады, будто невзначай, например: «Посмотри, у меня новая сумка! Помнишь, ты носила ту? Мне твоя не понравилась, я купила лучше».
В такие моменты внутри меня просыпалось недоумение: «Вот это поворот!». И тогда я поняла, что ошиблась. Я слишком долго позволяла себе верить в то, что с ней всё хорошо, что её слова — просто особенность характера, способ быть, своего рода экстравагантность.
На самом деле, за всем этим стояло глубокое чувство зависти, которое она не осознавала, но которое активно выражалось через её поведение. Её комментарии, её подражание, её неожиданная агрессия — всё это было частью сложного защитного механизма.
Интересно, что я, как практикующий психоаналитик, не сразу распознала эту динамику. Возможно, потому, что мне хотелось сохранить иллюзию гармоничного общения, возможно — потому что мне не хотелось чувствовать себя объектом зависти.
Я выбрала путь минимального сопротивления: решила просто сбавить темп, перестать искать встреч, уйти мягко, без конфронтации. Это был мой выбор — не вступать в разбор отношений, не сталкиваться с ней лицом к лицу.
Сейчас, спустя годы, я понимаю: тот самый механизм проективной идентификации, о котором мы часто говорим в терапии, работал во всей полноте. Через эти замечания, через намёки, через её поведение она передавала мне часть своей тревоги, своих страхов, своего внутреннего разлада.
Но я не была ее психоаналитиком, я была ее приятельницей. Я не согласилась с этой ролью — «склада» для ее проекций. Не стала играть в это. Просто ушла.
Потому что поняла: если я хочу сохранить контакт с собой, с моей самооценкой, с моей реальностью — я не могу быть пространством для чужих проекций, особенно когда они маскируются под дружбу.
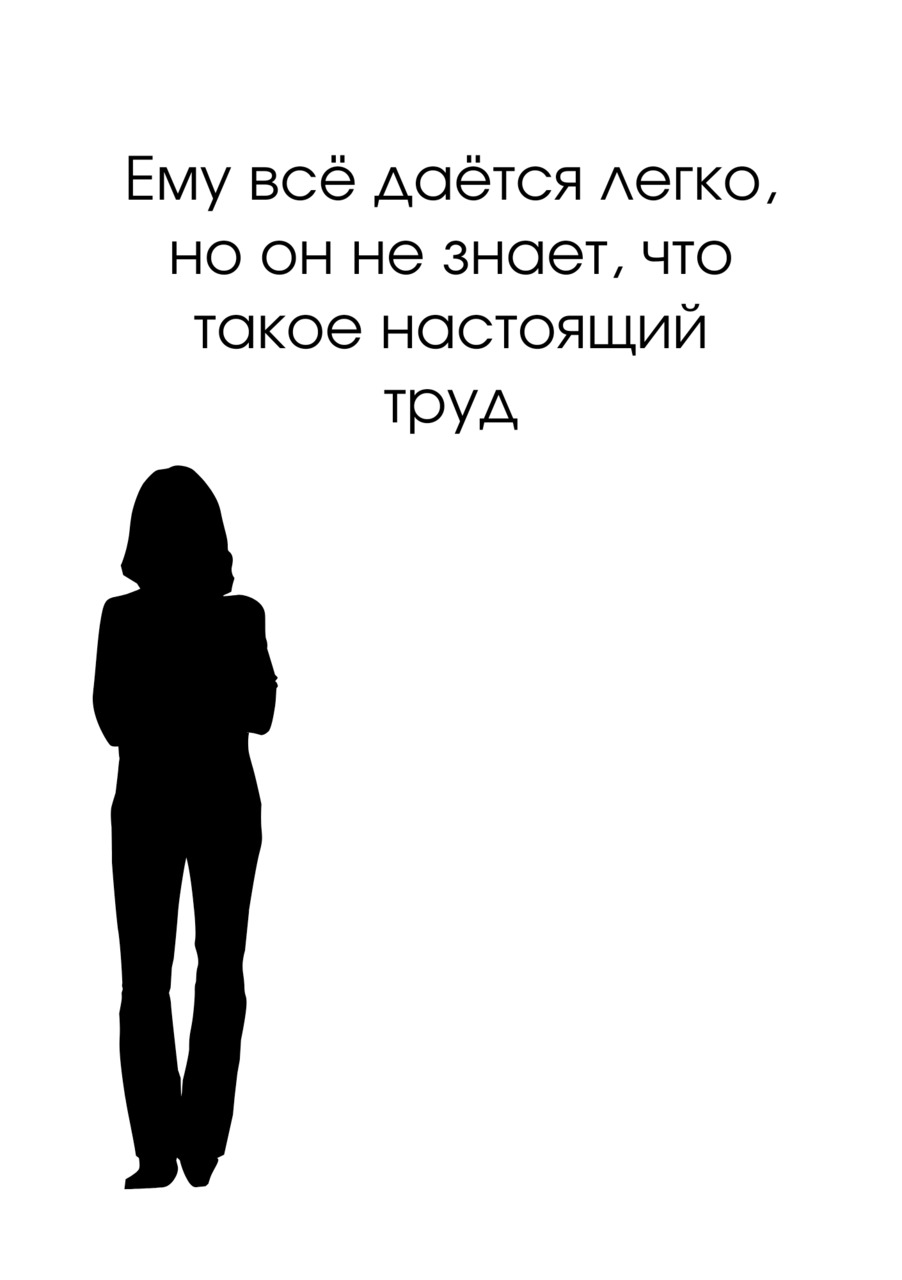
Чему научил такой опыт?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
