
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Записка на чеке
Газетно-сетевой сериал-расследование

Моим внукам Машеньке и Ярославчику посвящается
«Бог или природа, — я уж не знаю, кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего».
Александр Куприн.
1. СТРАННАЯ ПРИВЫЧКА
У меня есть странная привычка. Я понимаю, что она странная, если смотреть со стороны, хотя если изнутри меня — вовсе не странная, а очень полезная. Я не выбрасываю ни клочка писчей бумаги. Если осталась половина листа, делю её надвое, на четвертушки, если меньше — выкраиваю одну четвертушку. Эти четвертушки я складываю в стопку и использую их для пометок, составления списка покупок, записи номеров телефонов, номеров поездов и времени их прибытия и иной информации, если мне звонят и надо что-то записать для памяти. Стопка четвертушек, нижние из которых уже немного пожелтели, так как востребованы нечасто, лежит на моём секретере, рядом — ручка, так что я всегда во всеоружии.
Я думал всю жизнь (а странная привычка завелась у меня с незапамятных времён, чуть ли не с детства, со школьных лет уж точно, только тогда я сберегал не белые листы для принтеров, на которых все пишут сейчас, а тетрадные; четвертушки выходили поменьше, но служили своей цели исправно), что эта странность присуща только мне. Но однажды, сравнительно недавно, лет 15 назад (с возрастом время сжимается, как расстояние — по мере технического прогресса), случайно прочитал, что точно такую же странную для окружающих привычку имел Лев Толстой. Ну, если нас таких уже двое с Толстым, то это привычка не то чтобы странная, а скорее, редкая. Хотя я ведь не знаю интимные отношения остальных пишущих с инструментами письма — может она и не редкая вовсе, а просто не слишком распространённая (как и сама пишущая часть человечества).
Всё это я рассказываю только для того, чтобы поведать о ещё более странной привычке, свойственной моему знакомому Андрею Большакову. Он не может заставить себя выбросить ни один магазинный чек! Я не раз наблюдал, как он мучается, если это всё же приходится делать, когда чек оказывается измятым. Он долго не решается к нему прикоснуться, потом, переборов себя, мнёт ещё больше, а затем методично разрывает на микроскопические лоскутки — и только после этого выбрасывает бело-серую труху в мусорное ведро под раковиной на кухне. Ясное дело, это нелепо: у меня все чеки вечно помяты в карманах — если их, конечно, туда машинально сую, ибо вообще-то выбрасываю в магазине: мне ведь не перед кем отчитываться о расходах.
Андрею тоже не перед кем. Вернее, теоретически от него могли бы потребовать отчёта жена, но ей это и в голову не приходит, поскольку добытчик-то он, что очень и очень благоразумно. Тем не менее, выходя из магазина Андрей с особой тщательностью складывает полученный от кассирши чек, а дома первым делом бережно его извлекает, отрезает ножницами случайно измятые уголки, а затем аккуратно ставит стоймя в картонку, сделанную из молочной коробки давным-давно — я уж и молока такой марки сто лет в продаже не видел. На боковой стенке коробки висит шариковая ручка. Спросите, зачем? А с той же целью, что и моя лежит на секретере рядом со стопкой бумажных четвертушек.
Да-да, Андрей делает свои пометки и записи на обороте магазинных чеков! Ну, во-первых, по той причине, что писчая бумага у него в доме не водится — не письменный он человек, а во-вторых, ему представляется, что так много удобнее.
— И что же ты пишешь на своих чеках? — не раз спрашивал я насмешливо у него, получая один и тот же ответ:
— Что надо, то и пишу!
Да те же поди списки покупок, идя в магазин, или какие-нибудь нужные телефоны. Правда, однажды, много лет назад, я видел, как на обороте старого чека писал его сын-пятиклассник. И эта была записка отцу, что его вызывают в школу. Сам он поведать эту «радостную» весть папаше не решился, а предпочёл изложить её письменно на выдернутом из молочной коробки листке и ускользнуть из дому, от греха, одновременно со мной, когда я зашёл к ним за… нет, теперь уж не вспомню, но явно за чем-то важным.
А вот на сей раз я хорошо помню, чего ради к ним зашёл.
— Лена, — окликнул я жену Андрея, открывшего мне дверь, бросившего, глотая гласные, «проходи» и умчавшегося в гостиную, где в телике гремел футбол, — тебя можно использовать как женщину?
— Ну, давай, пробуй, — вышла она в прихожую из кухни, где жарила, судя по запаху, котлеты, и стала снимать фартук. — Этого достаточно, — уточнила, бросая его на стиральную машину, которая у них «припаркована» в коридоре, — или сразу и остальное?
Я промолчал, и она расстегнула верхнюю пуговицу домашнего платья-халата.
— А ничего, что Андрюха дома?
— Даже здорово! — показал я ей, как теперь говорят по-заморски, «лайк» вместо прежнего русопятского «на ять».
— Андрей! — протяжно крикнула она и расстегнула вторую пуговицу.
— Чего? — недовольно высунулся тот из двери в гостиную правой частью лица, продолжая левой следить за происходящем на телеэкране.
Лена тем временем расстегнула и третью пуговицу. Правый глаз Андрея расширился, а что там было с левым — зажмурился или захлопал ресницами, мне было не видно.
— Ты чего раздеваешься, мать?! С дуба рухнула?
— Да вот Саша сказал.
Они лет на 8 примерно младше меня, но тоже давно не молоденькие. Так что, с одной стороны, никакие шутки их уже не шокировали, но с другой — не всегда воспринимались как шутки.
— Хочу твою жену использовать как женщину, — пояснил я.
— А-а, это сколько угодно, — индифферентно махнул рукой Андрей. — Я-то уж думал.., — и стал втягивать правую половину лица на воссоединение с левой.
— Нет, постой уж! — тормознул я его. — Вы мне оба нужны. Вы люди молоденькие…
— Не понимаю, — перебила меня топтавшаяся в нерешительности Лена, — мне дальше-то снимать халат или можно сбегать посмотреть котлеты — ведь пригорят же?
Я втянул носом воздух: однако вкусные шельмы! Старый повар, я по запаху пищи могу точно сказать, насколько она вкусна — и при этом сам котлеты путёво жарить так и не научился.
— Давай!
— Так чего ты хотел? — спросил нетерпеливо Андрей. — А то наши играют…
— Поставь на паузу — потом досмотришь.
У них интернет-телевидение, так что всегда можно прерваться, а то и отмотать назад.
Андрей, глянув на меня досадливо, скрылся в гостиной, и через несколько секунд телевизор умолк. Потом мы с ним прошли на кухню. Лена заварила свежий «Ахмад» — у нас тут с ними вкусы одинаковы, хотя Лена всё же больше любит кофе. Достала пиалушки, поскольку мы одного, туркестанского происхождения, только я ташкентский рожак, а они из Ферганы.
2. ХРУСТ ФЕРГАНСКИЙ
Если вам вдруг показалось, что зачин моего нового публицистического сериала беллетризован, то вы ошибаетесь. Ну, может самую чуточку, ибо описываемые события происходили три года назад и не каждую фразу я помню в точности. Хотя их содержательная часть документальна.
Собственно, в Фергане мы некогда и познакомились, когда я служил в республиканской газете «Комсомолец Узбекистана». Причём, сперва я познакомился с Леной, которая работала в ферганском горкоме комсомола, а потом, когда она вышла за Андрея, работавшего в «Ферганке», как мы называли «Ферганскую правду», и с ним. Он застал ещё самого великого Валеру Антипина, ответсека, у которого подвизался метранпажем. Метранпаж это выпускающий, а кому и сие не понятно, то тот работник секретариата газетной редакции, который торчит в типографии и направляет работу верстальщиков номера, координирует её с секретариатом.
— Ты помнишь, старик, как покойный Валера чертил макет будущего номера? — спрашивал он меня временами, и от этого накатывало тепло.
Да как же не помнить! Работал он стоя. Не признавал специальных бланков для макетов. Брал гранки и свежий номер газеты. Отмерял строкомером прямо на остро пахнущих полосах пространство каждой будущей публикации и обводил его синим карандашом, а место фотографий — красным. Он видел завтрашний номер, как архитектор видит будущее здание, уже построенное в его воображении. Это феноменальное качество, и больше я ни у кого из даже прекрасных ответсеков его не встречал.
Валера отдавал расчерченный таким образом номер газеты дожидавшемуся тут же метранпажу и говорил:
— Я под «Нурхоном».
Кинотеатр «Нурхон» стоял прямо напротив редакции «Ферганки», которая сохраняла в 70-х свой интерьер чуть не с довоенных времён. Уставленная фикусами и пальмами, со старыми, но прочнее новых шкафами и прочей, как теперь бы сказали, винтажной мебелью, которой сносу не было, она была настолько всеми нами любима, что и не передать. «Нурхон», в отличие от неё, был модерновым, хотя я никогда в нём не был нигде, кроме буфета в цокольном этаже, где продавалось прекрасное пиво. Вот туда и шёл обычно Валера, а если засиживался с ташкентскими, как я, гостями, то туда же ему метранпажи приносили из типографии и оттиски свёрстанных тем временем полос завтрашнего номера. И Андрей, помнится, приносил. И принёс бы не только в «Нурхон», но даже и в Маргилан — настолько после виртуозного Валериного макетирования все тексты точно вставали на предназначенные места, что я не помню случаев их сокращения — пара-тройка строк на полосе не в счёт.
Любили мы «Ферганку» и за особый дух романтичных 20-х годов, витавший в ней и в моё время. Только там — в единственной на весь Узбекистан газете — платили гонорар авансом! Конечно, только проверенным авторам, но было именно так. Помню, как всё не верил в это мой приятель Вадик Носов из «Пионера Востока», ставший через полтора десятилетия, когда незабвенная Ольга Игоревна Грекова отошла от руководства «Пионерской правдой», многолетним редактором «Пионерки». И вот однажды, а именно летом 76-го, мы вместе с Вадиком, каждый от своей газеты, поехали на республиканский финал «Зарницы», проводившийся как раз в Фергане.
Сразу по приезде, едва кинув в гостинице свои вещи — Вадик сумку, а я — дежурный чемоданчик, который всегда стоял у меня наготове дома в прихожей, отправились в «Ферганку». Редактора Агеева я хорошо знал — дорожку в редакцию и к её шефу мне протоптал много раньше, когда мы ещё оба служили в газете ТуркВО «Фрунзевец», мой незабвенный учитель, лучший ташкентский репортёр той поры Лев Александрович Савельев, так что, захватив по пути Валеру Антипина, сразу отправились к нему. Рассказали, зачем приехали.
— Отлично! — обрадовался Агеев. — А то тема важная — военная патриотика, осветить обязательно надо, а у нас летом народу раз-два и обчёлся — полредакции в отпусках. Так что по пять материалов с вас, парни: сразу сколько успеете, а остальное из Ташкента дошлёте. Валера, — обратился, он к Антипину. — посчитай по хорошей ставке.
— Да что считать, — пожал плечами Валера. — За каждый материал по пятнадцать рублей: оператив, да и очерковость.
Агеев снял трубку и позвонил в бухгалтерию:
— Сейчас ташкентские журналисты подойдут — заплатите им по 75 рублей каждому. Да, паспорта у них, конечно, с собой — в командировку же приехали. За одно и печать им поставьте на командировочные удостоверения. А я приказ чуть позже подошлю.
У Вадика отвисла челюсть. Когда мы, вышли и Валера повёл нас в бухгалтерию, он изумлённо шепнул мне:
— Что, правда, что ли?
— Сейчас услышишь хруст ферганский.
Через десять минут у каждого из нас в кармане лежало по половине месячного оклада. Вадик, у которого только-только родилась дочка Вероничка и деньги были особенно нужны, никак не мог поверить в такое счастье. И мы с ним дружно отправились под «Нурхон», куда обещал позднее подтянуться и Валера, а потом пару раз забегал с новыми полосами и Андрей.
Разумеется, мы с Носовым отработали своё обязательство сполна, сдав последние материалы в день отъезда, так что из Ташкента и слать ничего не пришлось. Потом Вадик вот так же писал для «Ферганки» однажды уже без меня. А в сентябре 76-го уехал навсегда в Москву — в столь ему желанную «Пионерскую правду». А я, отлежав месяц в кардиологии больницы Узминздрава, которая по старинке в народе именовалась «шестнадцатой», с рецидивом ревмокардита, заработанного первокурсником на хлопке 69-го, вскоре опять потягивал с Валерой Антипиным пивко под «Нурхоном» на только что полученный в «Ферганке» очередной приятный аванс.
3. КОНЬЯК ПОД КОТЛЕТКИ
Чай в пиале это вовсе не то, что в чашке или, как теперь чаще его потребляют, в кружке. Посуда и есть посуда, скептически скажет кто-то, но мои земляки лишь усмехнутся. Чай в пиале — это чай, как сказали бы математики, по модулю, то есть величина абсолютная. В чашку с чаем кладут ещё сахар, лимон и варенье, кто-то даже плеснёт и коньяк — так ведь чашка это всего лишь сосуд, вместилище, ёмкость, всё стерпит. А вот пиала!..
Я уже 36 лет обитаю в России, куда уезжал в конце 83-го всего, как мыслилось, на пару лет, а оказалось, что, видимо, навсегда. Я оставляю это «видимо» как эфемерный крепёж мечты однажды вернуться в Ташкент и дожить там свой век. Вряд ли это удастся, но как сладко мечтать перед сном, в те мои самые любимые в сутках полчаса, когда я уже в постели, но ещё не уснул.
Вот я русский, в России живу с поздней молодости, а она так и осталась чужбиной. Тут всё не моё, не по мне, ко всему я приделываюсь искусственно, как к протезам, лишь в силу умений, сноровки, терпения, но органично прирасти не выходит. Я туркестанец, потомок так называемых «старых туркестанцев», кто пришли в Мавверранахр полтора столетия назад, завоевали его, чтобы не достался британцам, а потом, полюбив самозабвенно, навечно в нём растворились и носят в себе, где бы ни были.
За все эти годы я так и не «обрусел», сохраняя привычки, манеры, домашний обиход туркестанца. И только в одном — что касается чая — я отступил и смешался со здешними. У меня нет пиал, я пью чай из кружек, причём давно уже чёрный, кладу в него сахар, лимон и варенье, а изредка — даже коньяк. А вот в доме Большаковых и этому не поддались, за что я их очень ценю! Приходишь, и Лена заваривает «Ахмад» в чайнике из привезённого с родины сервиза «Пахта», который они не держат в серванте или как там это теперь называется, а пользуются им повседневно. Вот только одна пиалушка треснула, и её больше не трогают — а чегачи, чтобы починить, в Питере днём с огнём не найдёшь, не в Узбекистан же везти, да и там они выжили вряд ли…
А я ещё помню, как в 50-х на Алайском базаре Ташкента чегачи творили чудеса, скрепляя намертво черепки чашек и чайников медными скобами — и ни капельки не просачивалось. Да и не только на Алайском! А на Бешагаче какой был сказочный мастер, а? Ташкентский журналист уже совсем другого поколения — наших творческих «внуков» — Бахтиёр Насимов напомнил как-то в печати, что тот корпел над черепками в крохотной мастерской в одной из колонн монументальных ворот Бешагачского базара. Уточню — в правой, если смотреть снаружи, с улицы 9 Января, а дверь в мастерскую была изнутри базара. У папы среди чегачи водилось немало знакомцев, и мы заходили в их мастерские, как и в эту, конечно, на Бешагаче, когда там бывали; папа вёл разговор, а я восхищённо любовался их непревзойдённым мастерством.
Теперь треснутая пиала Большаковых стоит в кухонном шкафчике за какими-то банками, чтобы окончательно не доконать. А мы пьём чай из целых пиал, помнящих ещё Фергану. Как они только их оттуда вывезли, не разгрохав?! Они уезжали в Россию уже при Костине — был такой перекати-поле одно время редактором достославной «Ферганки», которую прежде любили и уважали все, а не только русские читатели — у неё и тираж потому был самый большой среди «областнух». А этот партийный засланец откуда-то из Воронежа, толком не разбираясь в тонкостях межнациональных отношений в Ферганской долине — естественно, очень запутанных, в период смуты в Кергули, когда в 89-м случились кровавые столкновения с турками-месхетинцами, повёл себя дуболомно, чем навлёк на редакцию гнев националистов. Большаковы рассказывали, что дело дошло до того, что «Ферганку» на долгие месяцы взяли в защитное кольцо военные…
Видя, что с таким редактором можно запросто загреметь под фанфары, Андрей с Леной, тоже, как и я, коренные туркестанцы, уехали в Ленинград, к родственникам — переждать смуту. Но обстановка вокруг редакции не улучшалась, а горкома комсомола попросту после чудного «мустакиллика» не стало, и они застряли в Питере накрепко. В их квартире в Фергане, которую им дали после женитьбы в ведомственном доме напротив редакции, у «Нурхона», жил всё это время брат Андрея, и потому там всё их имущество сохранилось. Уже после бегства Костина из Ферганы они съездили домой и несколькими контейнерами вывезли вещи, а квартиру оставили брату. А в Питере родные помогли им, ставшим к тому времени «челноками» и кое-что подзаработавшим на финском, польском и турецком барахле, купить затрапезную квартирёшку в Купчине. Там они и укоренились. Там и сын их родился по имени Коля — долгожданный, когда оба родителя уже и отчаялись обрести потомство. Там же, когда в 5-м году в Питере объявился и я, они рассказали мне о смерти Валеры Антипина — от сердечной, кажется, недостаточности.
— Ну, излагай, — присловьем моего незабвенного учителя Льва Савельева, которого мы с Андреем оба любили — да что там, его обожала вся творческая Фергана, поднял глаза тот от исходящей ароматным паром пиалы.
— Дело весьма щекотливого свойства…
Большаковы поставили разом пиалы, обозначая внимательную серьёзность. Лена даже застегнула верхнюю пуговицу платья-халата, до которой, за котлетами, так и не добралась. Котлеты, кстати, по её рецепту, уже томились после жарки в кастрюле, обмотанные пуховым платком.
Я встал и повернулся к ним спиной.
— Ну и? — спросил Андрей.
Я слегка наклонился. Ребята загоготали.
— И где это тебя угораздило? — спросила, прикрывая рот ладошкой, Лена.
— Да если бы дома, то ладно: переоделся б — и все дела. А то ж в вашей «Пятёрочке», когда едучи к вам забежал вот за этим, — я достал из пакета, который не выпускал из рук, бутылку 5-летнего грузинского коньяка «Галавани» и поставил на стол. — Там был и 8-летний, но уж больно дорогой — не для нас, пенсиков. А этот они, черти, выставили на второй полке снизу, поскольку нынче приличная скидка, чтобы в глаза лезли всякие дороженные «Метаксы» да «Хеннеси» с «Мартелем» — маркетинг у них такой, долбаный. Я нагнулся цену прочитать — и тут треск.
— Ну, хорошо, Лена зашьёт.., — Андрей осёкся и посмотрел на жену. Та кивнула. — Лена зашьёт, — сказал он теперь совершенно уверенно. — Но я-то тебе зачем? Смотрел бы себе футбол…
— А я сидел бы перед Леной без штанов?
— Экая невидаль, — повела головой Лена. — Дай ему свои джинсы, что вчера постирала, — велела она мужу. — Дуйте в гостиную, а эти потом принесёшь, — уже мне, — я машинку пока настрою.
— Коньяк под котлетки — это, брат, очень недурственно, — звенькнул, вставая, Андрей ногтем по принесённой мною бутылке. — Только редко ты к нам приезжаешь, как в своё Колпино смылся.
— Внучок, — развёл я руками.
— Понятно, — кивнул Андрей. — Мы вот теперь с Леной тоже у Кольки с женой в услужении.
Лена быстро восстановила целостность моих некстати лопнувших сзади по шву штанов, и мы снова сошлись на кухне.
— Развёрстывай, — как старший, велел я Андрею, откупорив коньяк.
— Я такого ещё не пробовал. Ничего? — он принюхался к горлышку, кивнул одобрительно и разлил золотистую жидкость по приземистым широкопузым бокалам. — Помянем Валеру?
— И Савельева тож, — добавил я.
— Ну, дядю Лёву — эсэс, — так в нашем кругу аббревиатурили выражение «само собой». — И всех.
«Всех» наших общих — а это не «все» мои! — тоже уже накопилось немало: старые больно мы стали.
Выпили. Закусили сумасшедше вкусной Лениной котлеткой. По локтям побежало тепло — признак хорошего коньяка.
— Вот чёрт, сейчас же Вовчика привезут! — спохватился Андрей. — Путём и не посидишь… Сегодня ж суббота, а Колька-Валька с друзьями намылились завтра по грибы. Слушай, что Вовчик чудит — всего-то три года, а туда же… Нет, сперва во второй!
Теперь уже чокнулись, и пошли бесконечные разговоры о внуках.
— Ну, дедов понесло! — иронично, но одобрительно сказала Лена и встала. — Пойду делом займусь, не то правда Коля с Валей вот-вот нарисуются.
— Тебе оставлять? — приобнял её за талию Андрей, покачав свой бокал, только что вновь наполненный на четверть коньяком.
— Вы оставите, как же!
Она хлопнула его по поредевшей седой макушке и вышла из кухни, прикрыв за собой дверь.
Она была всё такой же стройной, как в день нашего знакомства, но годы, конечно, подрихтовали и её по своему шаблону. Тогда, в 77-м, она только закончила «Низами», как у нас называют для краткости Ташкентский пединститут имени Низами, теперь уже, кажется, переименованный. Или нет? Похоже, нет, если в сквере перед ним убрали прекрасный конный памятник Фрунзе и поставили скульптуру азербайджанского поэта — её, помнится, открывали тогда ещё вполне живые Ислам Каримов и Гейдар Алиев. Ну, и хорошо, если нет — к «Низами» все за десятилетия привыкли.
Лена закончила дошкольный факультет, где была напропалую активисткой, и дома её сразу же взяли в горком комсомола, инструктором в школьный отдел, что дало знакомым повод для бесчисленных шуток: мол, экстерном, перескочила из детсадовской категории. Лена этим шуткам смеялась больше шутивших — она была свойской и весёлой. Когда я её увидел в коридоре горкома, заскочив туда во время одной из командировок за какой-то справкой — не той, что «не был» или «не состоял», а за обзором работы горкома по определенному направлению, то остолбенел!
— Ты как тут.., — начали говорить мои губы, а мозг уже сообразил, что я обознался — конечно, это не Оля Медведева.
— Вы что-то хотели? — остановилась, не поняв моего бормотания, Лена.
— Напомнили одну знакомую…
— А может это я и есть? — лукаво посмотрела она на меня.
— Может…
4. ОЛЯ. ЗАВЯЗКА
…В августе 72-го, по окончании третьего курса, у нас на истфаке Ташкентского университета, где я учился, была педагогическая практика в пионерском лагере. Педпрактик всего было три: эта вот, лагерная, потом, на четвёртом, пассивная, когда только тихо сиди на уроках, перенимай учительское мастерство, да делай пометочки в дневнике практики, и на пятом, в сентябре, активная — когда студенты уже сами вели уроки. Пятая у меня растянулась на целых два месяца, но сейчас разговор не о ней, а о первой — в пионерском лагере «Дорожник».
Лагерь этот, самый богатый в республике, поскольку принадлежал сочащемуся деньгами автодорожному министерству, располагался, да и теперь наверняка располагается, только называется не пионерским, а оздоровительным, в Акташе — красивейшем урочище в западных предгорьях Тянь-Шаня. Это примерно в 60 километрах от Ташкента, в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Меня назначили вожатым в 5-й отряд для ребят среднего школьного возраста. «Рулили» мы в нём вдвоём с воспитателем Милой Медведевой — логопедом одной из школ на Луначарском шоссе.
Жизнь в лагере была бурная и весёлая. Одновременно с нашими пионерскими делами там 35-летний тогда режиссёр «Узбекфильма» Дамир Салимов, умерший в начале этого года, снимал свою детскую драму «Горы зовут». Мой отряд тоже не раз снимался у него в массовках и передружился со всеми маленькими актёрами, герои которых нашли в окрестной пещере патроны и искали разгадку, как они там оказались. Не знаю, что придумали сценаристы — я фильма не видел, но именно по тем местам преследовали стащившего золото Туркреспублики её бывшего военного комиссара Константина Осипова, поднявшего в январе 1919-го в Ташкенте антисоветский мятеж и перебившего 14 туркестанских комиссаров.
А мы с Милой как-то сблизились с исполнявшей одну из главных ролей актрисой Светланой Стариковой — теперь уже прочно забытой, а тогда памятной всем своей ролью Зоси Синицкой в неувядаемом швейцеровском «Золотом телёнке». Фильм Салимова я, повторяю, не видел, так что ничего о нём сказать не могу, но Светлана, которая была не намного старше меня и с которой мы чуточку флиртовали, к чему располагали томные прохладные вечера благословенного Акташа, говорила, когда мы уходили подальше от актёрского стойбища, что «это, конечно, не Швейцер», но что «надо зарабатывать деньги». Позже, когда бестолковое «творчество» группы стало её уж совсем тяготить, она вечерами, вместо наших щекочущих нервы прогулок, напивалась до положения риз, причём шумно, и это в детском лагере было настолько не к месту, что я невольно стал её сторониться.
Вместо неё мы теперь нередко тихо беседовали подальше от людных мест (лагерь и ночью полностью не замирал) с оператором Мироном Пенсоном — сыном великого фотожурналиста Макса Захаровича Пенсона, у которого мы с папой не раз бывали дома, когда того, на волне борьбы с космополитизмом, беспардонно выбросили из «Правды Востока». Великий мастер остро переживал эту несправедливость старых товарищей, и папа, его одногодка, старался его по-возможности морально поддержать, зная с молодых лет. Он и Мирона, естественно, знал с его детства, поэтому нам было о чём с ним поговорить, вспоминая наших ушедших к тому времени отцов.
А потом случилось нечто умопомрачительное.
С самого начала нашей, третьей лагерной смены Мила, моя воспитательница, говорила, что к ней вот-вот должна приехать сестрёнка, и может быть даже с мамой. Она даже положенные нам поочерёдно выходные, которые я проводил в Ташкенте, рыская по заданиям «Вечернего Ташкента» в поисках новостей, не использовала, всякий раз ожидая, что сестрёнка объявится на сей раз. Меня это как-то трогало мало: ну, сестрёнка и сестрёнка — в моём представлении это была какая-то шмакодявка.
Уже прошёл мой день рождения, когда мне исполнилось 20 лет и мы с Игорем Флигельманом, моим бесценным университетским другом, Милой и ребятами из ташкентского ВИА, приехавшего в тот день поиграть на танцах старшеклассников, очень густо его отметили после отбоя, а её всё не было. И вдруг однажды утром, когда мы, по обыкновению, встали раньше отряда перед побудкой, Мила указала мне глазами на занавеску, за которой в углу отрядного застеклённого павильона стояла её кровать, и приложила палец к губам. Я понял, что это о сестрёнке, которая, видимо, приехала поздно вечером, когда я пропадал в расположении съемочной группы. Мы тихо подняли своих оглоедов и повели умываться перед самым горном, игравшим по утрам мелодию, которая у пионеров, как гимн страны, имела ещё и неофициальный текст: «Подъём, подъём! Кто спит, того убьём».
Потом был завтрак, затем — непременная утренняя линейка, на которой у меня на гульфике светлых брюк из популярной тогда плащевки разошлась, по закону подлости, молния, и я не знал как достоять до конца, чтобы это осталось никем незамеченным. Потом я, попросив Милу прикрыть, если что, долго ремонтировал молнию у лагерного электрика в его каморке под эстрадой и присоединился опять к своим, уже когда те шагали строем и речёвками на обед.
Отобедали, возвращаемся, поднимаясь по пологому склону к своему павильону, и Мила вдруг говорит:
— А это моя сестрёнка. Её зовут Оля.
Я шёл среди ребят, что-то с ними, как обычно, обсуждая, — мы были очень друг к другу привязаны, и я потом долго получал их письма, и не сразу обратил внимание на обольстительную девичью фигурку на скамейке не доходя павильона.
Она поднялась — и сердце моё упало.
Ничего себе — «шмакодявка»! Передо мной стояло настоящее шестнадцатилетнее чудо. Я превратился в соляной столб. Я не слышал, что говорила мне Мила, не видел, как она увела и уложила без меня отряд, ибо настал тихий час. Я даже не заметил, как мы с Олей сели на ту же скамейку.
Мы говорили, как мне потом сказала Мила, больше двенадцати часов кряду. Мила вывела меня явочным порядком за скобки насыщенной отрядной жизни, так что у меня и теперь, спустя 47 (!) лет полное ощущение, что я провёл те полсуток в коконе, который приоткрывался лишь дважды. После тихого часа мимо прошествовал с задорной улыбкой Игорь со своим отрядом и весёлым баском прокричал:
— Что, Саша, два билета на дневной сеанс?!
А вечером мимо прошли моя вечная университетская любовь-досада Надя Алешкова вместе со своей подругой, легкоатлеткой — она метала диск! — Таней Козловой, и на лице делано улыбавшейся (ей — не мне!) Нади я увидел слезу, а Таня оглянулась и повертела пальцем у виска. Как эта немая мизансцена пробилась через плотный кокон отсутствия времени, я не знаю, но она врезалась мне в память на всю жизнь.
Теперь, когда я уже стар, мне представляется, что это было самым сильным впечатлением всей моей жизни. Мы с Олей пошли спать только в третьем часу ночи, поддавшись обещанию Милы, что завтра весь день не расстанемся — она отдаёт мне свой выходной, а надо — и два, которые всё равно не потратила. Видимо, и она чувствовала что-то такое, что побудило её так поступить. Мы условились с Олей, что я сразу, как встанет, поведу её на речушку Акташ, протекавшую невдалеке. Ей этого очень хотелось, а я там всё уже исходил и излазил с отрядом за август, был изумлён красотой и предвкушал впечатления Оли.
5. ОЛЯ. РАЗВЯЗКА
Проснулся я поздно: раз выходной, так меня и не разбудили. Вскочил, бросился за занавеску к своей — ну, конечно, своей уже! — Оле; кровать была пуста. Я выскочил из павильона. Отряд возвращался с линейки. Мила отводила глаза.
— А Оля уехала, — быстро сказала она и стала особенно строго распоряжаться, готовя отряд к утренней репетиции конкурса строя и песни.
— Уехала?..
Это было даже более невероятно, чем её вчерашнее появление передо мной.
Потом пришёл Игорь и рассказал, но чтоб только не выдавал его: утром в наш павильон заходила Надя и рассказала только проснувшейся Оле, как пару недель назад я водил её глубокой ночью на Акташ и как там надо быть осторожной даже при свете дня. Ему это поведала Мила, когда он удивился, увидев, как Оля садится у столовой в хлебовозку, всякий день по утрам мотавшуюся за хлебом для лагеря в райцентр Газалкент, стоящий на пути к Ташкенту.
Надя не соврала ни слова. Всё так и было. Но тогда не было Оли. Жизнь остановилась.
Оля успела мне рассказать, что в том августе поступила в театральный институт — тот самый, знаменитый, которые закончили Броневой, Рецептер, Терехова, Ледогоров, Вержбицкий, Ткачук, Юнгвальд-Хилькевич и много ещё всяких талантов. Поэтому и приехала только после мандатной — хвастаться Миле. А после короткой побывки у старшей сестры они всем курсом едут куда-то на сбор винограда. К 1 сентября вернутся — а тут и я уже буду в Ташкенте. И тогда!..
У меня был выходной, Мила это помнила, ибо сама мне его отдала. Поэтому ни слова не сказала, когда я, как был, отправился к воротам. Попуток не подвернулось, и я пешком зашагал по изъезженной горной дороге вниз, в кишлак Хандайлык, откуда ходили автобусы в Газалкент. Ну, а там уж и до Ташкента несложно добраться.
Когда я сел в Хандайлыке в пропитанный пылью ПАЗик, на меня смотрели с недоумением. Только сойдя в Газалкенте, я сообразил, что еду, не чуя под собой и вокруг реальности, в пионерском галстуке, как положено ходить вожатому пионерлагеря. Но это всё ерунда по сравнению… По сравнению с чем, я не мог сформулировать. Наверное, со сменой магнитных полюсов внутри меня.
На Шелковичной, как все её по-прежнему называли, несмотря на переименование в Германа Лопатина, где располагался Ташкентский театрально-художественный институт им. А. Н. Островского, после завершения вступительных экзаменов было пустынно. Вахтёр пропустил меня внутрь здания, которое давно уже снесено, хотя его можно было обвешать, как новогоднюю ёлку, мемориальными досками. В приёмной комиссии, с облегчением узнав, что я не срезавшийся абитуриент пришедший качать права, сказали, что о судьбе поступивших не знают. На каком факультете, говорите, ваша знакомая? На режиссёрском? Поднимитесь по лестнице и направо: кажется, там ещё не ушла секретарь.
Секретарь знала всё: о существовании Оли Медведевой — вот списки, уже у неё; в какой она группе; что они едут на сбор винограда. Даже знала, что нынче в обед и уехали — сбор был у входа в институт. Не знала только главного — куда…
…Увидев меня на пороге отдела информации «Вечёрки», Лев Савельев удивился: был же вот только — и опять выходной? Ничего ему не объясняя, сел за стол Эли Адайкиной, которая гостила внизу у Зои Агзамходжаевой, сдав свои материалы, и набрал «09».
Господи, как всё тогда было не так, как теперь, и непросто! Нынче открыл бы в смартфоне Яндекс, нашёл телефоны минкульта — ему подчинялся наш театральный — и тотчас же позвонил. А мне пришлось ехать в редакцию, ибо какие смартфоны, какие яндексы! Без службы «09» не обойдёшься. Можно, конечно, и с автомата, но где же взять двушки? Одним словом, сплошная морока.
По телефону, который мне дали в справочном, долго не отвечали. А когда ответили, удивились, почему звоню не в институт, а сразу в министерство. Теряя терпение, объяснил — и о чудо! — мне сообщили, что театральный институт отправился всем своим новым составом в Янгиюльский район, даже назвали совхоз, убирать персики.
— Министерство поднял, молодец! — одобрил Савельев ход моих действий, ещё не зная побудительных причин. И только потом сказал: — Ну, старик, излагай. Просто так из министерства душу ведь не вынимают.
Мы долго сидели за бутылкой сухачика. Больше молчали. Прощаясь, Савельев спросил:
— Завтра поедешь?
— Как встану.
— Ну, удачи, старик! — он меня дружески обнял. — Ты заслужил.
Мамы дома не было — она ещё в начале лета уехала к бабушке в Саблино, под Ленинград, откуда в мои студенческие годы возвращалась только по осени, а в год смерти бабушки вернулась вообще в декабре, её похоронив. Это даже к лучшему: с мамой я своими душевными переживаниями никогда не делился, но и скрыть их сейчас не смог бы — и пошли бы расспросы. А так достал заложенные в морозильник нашего верного «Саратова II» перед отъездом в лагерь два пласта исландского филе трески, разморозил, поджарил, поужинал. И отрубился до утра.
Зная адрес, найти то, что нужно — лишь дело техники. К полудню я был уже в том отделении совхоза, где, как мне уточнили в его конторе, работали новоиспечённые студенты режиссёрского факультета. К полевому стану мы с ними подошли одновременно. Но где же Оля?
— Где Оля?! — выкрикнул я, как теперь кажется, надрывно.
— Я тут, — отозвалась девушка, которая стояла ко мне ближе всех. — Как ты меня нашёл?
Она спросила «как», а спрашивала — «зачем». Она наверное не хотела, чтобы я видел её такой. Это была не Оля. Да, черты явно её, но что черты, если нет умещённого в них человека.
Ребята-однокурсники с интересом рассматривали меня. Повариха, из них же, пригласила обедать. А Оля сказала:
— Пойдём я тебя провожу.
Нам всё было ясно: нас прежних нет, а нынешние мы друг другу чужие.
— Оля, ты вернёшься? — крикнул нам вслед кудрявый парень. В его вопросе тогда не было никакой особой заинтересованности. Но потом он стал её мужем.
У автобуса на Янгиюль Оля скользко поцеловала меня в щёку и сказала только одно:
— Нам не надо было ложиться спать. Или надо было ложиться вместе.
Практически это же самое сказал Александр Кочетов в «Балладе о прокуренном вагоне».
Потом мы не виделись и виделись. Когда припирало, то я находил её в жизни, то — она меня. Мила очень переживала и порой приглашала в их дом во дворе напротив главных ворот Туркменского базара — теперь нет уж и дома, и того Туркменского. Когда Оле исполнилось 18, мы даже решили жениться. Она позвонила в «Вечёрку», где я писал после университетских занятий очередной репортаж, что ждёт у института, я примчался — и мы решили завтра идти ей знакомиться с моей мамой. Мы решали и знали, что этого не случится.
Я больше никогда её не видел. Слышал, что она вышла замуж за того славного курчавого парня. Потом, через много-много лет, я тоже женился, но совсем на другой Оле, матери моих детей.
…Лена стояла передо мной посреди горкомовского коридора и словно смотрела кино про то, что я сейчас вам рассказывал. Был декабрь, предновогодье, в Фергане лежал снег.
— Вы завтра свободны под вечер? — спросила она. — Если да, приходите в драмтеатр — мы там готовим новогоднее действо.
Я, конечно, пришёл и потом написал репортаж «Дед Мороз надевает… брови». Лена была Снегурочкой. От каждой женщины у меня что-то да остаётся. От Лены репортаж, от Оли — вся моя долгая жизнь.
6. ЧУВСТВО ЮМОРА СУДЬБЫ
Мы с Андреем такие питохи, что на полбутылки остановились — Лена напрасно иронизировала, знает ведь нас. А вот чай — чай полился рекой, едва успевали заваривать новый, чай нам только давай!
Привезли Вовчика. Коля с Валей даже не проходили в квартиру: в прихожей сунули матери в руки две сумки — с одёжкой-обужкой на смену и сластями, чмокнули чадо, махнули из-за выступа коридора, не особо и вглядываясь: «Привет, дядя Саша!» — и были таковы. Оно и понятно: настало то долгожданное время, когда можно — и нужно! — безоглядно заняться друг другом. Его надо использовать максимально, несмотря на то, что с годами его станет лишь больше — ибо нужды в этом будет уж меньше.
Лена стала собираться во двор — гулять с Вовчиком. Она и сейчас походила на Олю — правда, с годами всё более отдалённо, но ведь и Оля уже не девчонка и тоже наверное мало похожа на ту прелесть, из 72-го. Сколько ей? Под 60? Бог мой — как раз 60! Я в день 30-летия моей старшей дочери в феврале поздравлял с 60-летием подружку детства Милу Сипко, а они с ней одногодки. Хм… А когда же у Оли ДР, подумал я по-современному. И понял, что вот не знаю. Никогда мы с Олей не говорили о днях рождений; она сказала при знакомстве, что ей 16 — от этого и шёл отсчёт.
Значит, ей 60. А Лене отмечали годом раньше. Но возраст Лены мне привычен — хоть мы и долго не виделись, с начала 80-х, лет 25, но опять уже многолетно в поле зрения друг у друга, и глаз попривык.
Интересно, а Оля-то помнит меня — если, конечно, жива. Думаю, помнит. Ведь то мгновение лета смяло безжалостно, селево обе наши с ней жизни — не на месяц, не на год, а навсегда, и мы живём — если живы оба, лишь с большей или меньшей степенью успеха расправляя то нерасправляемое гофрэ. Теперь я точно знаю, что именно тогда, спустя пятилетку с начала занятия журналистикой, окончательно мутировал в Homo scriptoris, когда всё, что способствует счастью сапиенсов, отскакивает, будто заряженное с тем же знаком. Счастье, конечно же, есть у меня — но оно совершенно другое, и сейчас мне не хочется углубляться в детали.
Мутация шла тяжело — как в фильме «Муха». Щетины, у меня, правда, не выросло, но это же только снаружи, а кто знает, что случилось внутри…
С Наденькой Алешковой с течением лет всё ушло в тихую фазу. Любви не вышло, дружбы — тоже. Но нас тянуло друг к другу, и я временами заглядывал к ней в Узсовпроф на углу «Правды Востока» и Кирова, где она служила после универа то ли инструктором, то ли инспектором. Мы вспоминали былое за дружеским флиртом, как за погасшим костром, приводя окружающих в недоумение типа того, что вот, мол, красивая пара, а мается дурью. Но я был давно уже не вполне человеком, а Надюша, тонкая умница, чувствовала это моё направление трансформации с первого курса и с тех пор инстинктивно душила себя.
В студенчестве я надрывался: она и не шла на сближение, и не давала свободы. Может надеялась, что «израстусь», не понимая исконной природы мутации. Она боролась со мной внутри меня за меня исчезающего против меня разрастающегося — и ничего не могла поделать, ибо это необратимо. Не знаю, правда ли чувствует женщина инстинктом своим соперницу, но что она чует соперничество — в моём случае, творчество, это точно, уж вы мне поверьте. Они видела, что творчество неуклонно заполняет меня своим веселящим газом, когда не особо нужны уже ни женщины, ни семья, ни искусство, ни даже любовь.
Порой она прибегала к диковинным средствам для изгнания бесов. Мы едем в маршрутке из универа до гостиницы «Ташкент» — Надя и наш «треугол»: Игорь, я, Саша Чуб. Мне дальше всего-то два шага в «Вечёрку», Игорю — пересадка, а им с Сашей до ЦУМа технически по пути. Она обнимает его и вульгарно, в обнимку, они шествуют, изумляя прохожих — год-то 73-й. Я не ревную, конечно; я же знаю, это вовсе не в стиле ни Нади, ни Саши. Ему может и трафит чуток, но больше он всё-таки Наде подыгрывает.
Я тоже бесился — изливался стихами, надеясь вывести Надю из равновесия, чтобы она поснимала затворы. Однажды выдал поэму «Героиновая эйфория», ни больше, ни меньше, которую ей посвятил, надписав посвящение на автографе, чем вызвал её мимолётный восторг. А потом та поэма, через Наташу, Надину сестру, в списках ходила по всему универу, доставив мне вовсе не славу, а массу напрягов от объяснений, как до такого, мол, докатился член комсомольского бюро факультета, да ещё и отличник. Хотя то был, конечно, лишь образ, как теперь говорят, изменённого сознания, особо воспринимающего картину тогдашнего мира. Но поди докажи… А главное, цели-то я не достиг, только сделал, пожалуй, хуже — показал ей невольно, что творчество уже почти победило во мне нужду в чувствах извне, само став их полноценным источником.
Но потом всё как-то затихло само по себе. Уже было ясно, что я стал приматом иного вида, а значит борьба ею проиграна, и незачем надрываться. И после конца Надиного рабочего дня мы чинно, чуть не по-пенсионерски шли с ней под ручку мимо театра Навои и фонтана за ЦУМ, где она жила с родителями и сестрой — их было три сестры, но самая старшая, Ольга, давно вышла замуж, причём в другом городе. Целовались в подъезде, не страстно, уютно, как очередь отводили, потом пили чай с её папой и мамой — и в сумерках я уходил — привечаемым другом дома, не более.
А чаще она приезжала на трамвае ко мне во «Фрунзевец», где её почти все уже знали и порою шипели по поводу свадьбы: «Ну скоро вы там?» А что скоро? Посидев-поболтав минут пять, мы шли не спеша по Сапёрной, опять же за ЦУМ, и всё повторялось в прескучном сценарии с привечаемым другом дома. Опять же — не более.
Мы даже вместе встречали новый 75-й год — первый для моих однокурсников целиком не студенческий. Правда, в узкой компании наших же, кто остался в Ташкенте, у той самой Тани Козловой, что метала диск, на Первушке. Но все понимали, что они это лишь антураж, и все весёлые разговоры с подначками только вокруг нас и вертелись; Надю это заметно раздражало, на меня наводило тоску. Грустнее Нового года не помню: было очень больно сознавать, что всё, что студенчество кончилось, и хотя оно было все годы для меня сугубо вторично — не учёба как таковая, а среда этих милых, прекрасных, но сапиенсов, среди которых я был, как взятая в дом шимпанзе, всё же последние сапиенсические кусочки меня, выходя точно камни из почек, доставляли нестерпимую боль.
Но однажды апрельским блаженным вечером я возвращался из Чирчика, куда гонял в танковое училище, и на крыльце редакции столкнулся с Галой Глушковой.
— Ты где пропадаешь? Иди, там Надя давно тебя ждёт. И, кажется, плачет. Разве можно так с девушкой, Жабский?
Я пулей взлетел на второй этаж. Надюша сидела за моим столом, приклонившись плечом к постеру-календарю с Андреем Мироновым, которым обожала любоваться Лариса Малюга из отдела писем. Вадим Журавлёв, наш начальник, гарцевал перед Надей, потчуя чаем и карамельками из своего арсенала дамских угодников.
— Ты что свою девушку бросил, старик? — накинулся он на меня, словно не сам отправлял на задание. — Ты только взгляни на её глаза — она же зальёт сейчас нам слезами весь пол и цензуру затопит, — он имел в виду кабинет военного цензора Цехмейструка, что был прямо под нами.
Мы вышли с Надей из кабинета, но не успели вообще из редакции: на лестнице Надя, не сдержавшись, припала к моему плечу и всхлипнула:
— Я тебя предала…
Я чмокнул её мокрый нос и быстренько протащил мимо предельно внимательной Алии Сулеймановны — нашей любимой вахтёрши, но очень уж бдительной. Я сразу понял, о чём это Надя: недавно вернулся из армии славный парень-грузин, кажется, её одноклассник и чуть даже не сосед, она мне рассказывала, как он клеится.
— Надюша, ну что же ты, как предала? — целовал я её глаза, ведя всё по той же Сапёрной и не обращая внимание на прохожих. — Ты же мне не давала зароков. И я с тебя слова не брал. Ну всё же естественно — это жизнь, и это когда-то должно было случиться. Раз уж у нас не случилось…
Тут она разревелась. Видимо, где-то на донце души она всё же дала этот самый зарок, просто мне не сказала. И теперь ей было от этого особенно больно.
Мы расстались не как обычно, не дома у них, а за целый квартал. Она уходила понуро.
А через месяц примерно, если не полтора, уже наступило лето, заявилась в редакцию чуть ли не утром, вся какая-то пришибленная, перепуганная, и пробыла у меня и со мной, под любыми предлогами, едва не весь день. Мы обедали вместе с Савельевым в ресторане гостиницы «Россия», где комплексные обеды, когда ещё их не звали бизнес-ланчами, стоили всего три рубля. Затем ездили вместе в ОДО по делам, а потом посидели с часок под чинарами в Сквере — как вроде не я и она, а — мы. Надя слегка ожила, читала на память какие-то мои стихи наших студенческих лет, которых я сам уж не помнил, дразнила, что вот это писалось не ей и вот это. Я чуточку млел, разумеется, но сознавал, что всё это ох неспроста, что она словно опасно склонилась над омутом, искушая судьбу. И как в воду глядел.
На следующий день у них с Юрой была свадьба. А там уж она родила ему прелестного, как потом говорили, кто видел, мальчоночку Валерьяна.
Но от меня никуда не делась. Знаете, как её фамилия по грузинскому мужу? Джабидзе. Оцените чувство юмора судьбы.
… — А мы уже пришли! — с порога весело сказалась Лена. — Дедуля, давай нам скорее ужинать, а то мы сильно голодные!
Вовчик влетел на кухню и взобрался к деду на колени, закрыв лицо обеими ладошками и как бы отгораживаясь от меня. Мы виделись редко, в его понимании — в разных эпохах, и он, как герой «Дня сурка», каждый раз знакомился со мной заново.
Андрей, как все восточные мужчины, готовил прекрасно и сам, и спустя короткое время Вовчик уже уминал нежное пюре с размятой в нём тёплой котлеткой. Я погладил его по головке и собрался домой. Андрей вопросительно поднял над столом бутылку недопитого коньяка — мол, на посошок? Но я отрицательно помотал головой, пьяный нахлынувшими воспоминаниями и пошёл обуваться.
И тут из гостиной вышла Лена. В руках у неё был чек — явно из мужниной «коллекции».
— Ребята, вы можете мне объяснить, что это?
Андрей взял чек и поднял на неё глаза:
— Не видно разве — мой список покупок на завтра: прикинул, пока помнил.
— Нет, ты его переверни!
— Зачем?!
— Хочу проверить, я одна сошла с ума или нет.
Он усмехнулся, однако перевернул. Потёр нос.
— Ну, старый чек…
— Да, старый, — кивнула Лена. — А дата?
Я сбросил кроссовки питерской фабрики спортивной обуви «Динамо», ибо хожу исключительно в них, раз в два года меняя сносившиеся, и тоже склонился над бумажкой, задевая щекой Андрея.
На чеке значилось: дата покупки — 20 августа 2072 года.
7. «ТРИ КАРТЫ»
На другой день с утра, а проснулся я рано, я думал, отчего нельзя оживить фотографии. Нет, я знаю, конечно, причину — это записи света, который давно отсветил на Земле и сейчас мчится куда-нибудь в нашей галактике дальше. Но всё-таки — почему?
У меня был знакомый по молодости, почти даже друг, который вот так же не мог понять, как письма попадают из почтового ящика к адресату. Он был весьма образованный человек — а не мог.
Наше знание не есть основа для понимания. Если бы всё было так просто, мы бы многое уже поняли. И может быть перестали бы жить. А так вот живём себе, ибо человечество, при всём его знании, бестолково — и только это, похоже, и держит его на Земле.
Увидев тот чек из грядущего года, я виду не подал и быстро, насколько возможно, откланялся. Друзья уговаривали, даже Лена сама предложила по чарочке накатить, ибо без этого явно не разберёшься. Но я напридумывал кучу причин и под их дружное «ну ты и сволочь!» вылетел на пустеющую Будапештскую. На остановке на той стороне Дунайского стояла маршрутка до Колпина — они вечно подолгу торчат вечерами на остановках, сгребая, как веником сор, измельчённый до атомов пассажиропоток. Я ринулся к ней, едва только на светофоре брызнул зелёный, но тут водитель завёл двигатель и стал выжимать сцепление.
— Тохта, тохта! — закричал я ему, и это, магическое для Питера, заклинание явило новым свидетелям локальное чудо: маршрутка опнулась, и передняя дверь разошлась надвое.
— Колпиногачами? — для очистки совести справился я, взбежав по ступенькам новенького ПАЗика в салон.
— Ха, борадимиз, — ответил с широкой улыбкой маршрутчик, судя по типу лица, уроженец Сурхандарьи. Тронулся и, принимая плату за проезд, подмигнул: дескать, свои, бобо, всё у нас схвачено.
Жить стало в Питере много проще, как все автобусы и маршрутки «оседлали» мои земляки. Прежде шиш вам вот так попросить подобрать, если водиле, что рожа варежкой, уже вздумалось ехать, а нынче ну прям благодать. Уже несколько лет я чувствую себя, как некогда в русской части Ташкента, где европейских лиц было хоть, конечно, и больше, но не так чтобы очень. И порой даже лучше: лепёшку, родной оби-нон, да ещё и горячий, можно купить без проблем — тандыры повсюду, так что есть и самса, но вот только не из баранины — не едят её местные, да и бог с ними — что б они понимали…
Так вот если б кому удалось оживить фотографии, я бы ту оживил по его технологии, где мы с Милой и Игорем в лагере. И спросил бы у Милы… А что бы спросил?
Едва глянув на чек, я, в отличие от старых ферганских друзей, с которыми мы вместе обалдели, сразу понял, что пуля эта выпущена в меня. Кто её выпустил и зачем, предстояло понять в одиночестве, без внешних эмоциональных помех. Потому-то я так поспешил, оставив в недоумении и растерянности славных ребят, начавших свою жизнь с чьей-то смерти.
…Мы познакомились с Леной перед новым 78-м годом, и зимой у нас что-то там, пока платонически — я бывал в Фергане лишь редкими наездами, намечалось А по весне её послали в «Ферганку» отнести горкомовский некролог на смерть какой-то заслуженной учительницы. Она долго бродила по редакционному коридору, пытаясь понять, к кому правильней обратиться. Её заметил Антипин и, в третий раз проходя мимо, позвал за собой. Пробежал глазами некролог, заверенный подписью первого секретаря горкома комсомола и печатью, и набрал на своём жёлтом рижском аппарате внутренний номер.
— Андрюха, воткни на четвёртую жмурика.
— Как вы так можете?! — вспыхнула Лена и дёрнула плечиком. — Это такой человек был, она же всех тут переучила! У нас горе…
— Да тут склеила ласты одна одуванка, — пропустив мимо ушей Ленину филиппику, продолжал Валера. — Куда-куда? Можешь грохнуть Ремстройтехнику — всё равно в каждом номере повторяют: сначала разгонят рабочих ишацкими расценками, а потом плачутся, мол, приходите.
Лена, как сама мне в мой следующий приезд рассказала, уже сидя не близко, не грея мягким бедром, а через стол, одурела. «Какие циники, я думала тогда, — говорила она, поглядывая на фото Андрея, с которым готовились к свадьбе, повернув его так, чтобы мне было видно. — Как только можно такими быть?!»
Эх, Леночка, это ж скрипторисы, помнится, мысленно усмехался я, слушая её излияния и с удивившим меня облегчением виртуально передавая её попутно Андрею. Хорошо, что ты ещё неандертальцев не застала — вот бы удивилась. Наш брат, высасывая информацию, всю тебя истощит и не ойкнет — как обедающий ланью лев: он же не изверг, а просто голодный. Ну самые может нестойкие проводят ещё до трамвая хоть в какую-то компенсацию, а то даже дадут на него 3 копейки. Но это что-то давно не случалось и теперь уж не верится, а было ль вообще. Сам я, с нашей платоникой, ясное дело, не в счёт.
Или вот, скажем, познакомился с девушкой, хоть вот как я с тобой. О чём думает юноша мужеска пола? Правильно, как бы девушку это… того… подвести к самому сладкому в их отношениях. А скрипторисы этого пола и об этом, конечно же, думают, но прежде всего — как бы славную девушку применить для работы. Мне не раз эти «полубогини», с которыми едва начинали сближаться, говорили, ты что — кадровик, из-за вопросов, не очень-то вписывающихся во флёр конфетнобукетности. Но так родились десятки моих репортажей из интереснейших мест, где работали, учились или просто имели знакомых мои незабвенные музы. Да хоть тот же мой репортаж «Дед Мороз надевает… брови», рождённый «от Лены».
Всё это Лене я тогда не сказал — ни к чему распахивать дверцы шкафов со скелетами перед свадьбой. Да и Андрей всё же не журналист — он скорее продукт брожения в среде матёрых скрипторисов, как яблоки или арбузы в квашеной капусте. Вот только что это за продукт на поверку семейной жизнью окажется, я сказать тогда точно не взялся бы. Слава богу, что всё обошлось.
Валера отправил Лену с некрологом прямо в типографский цех, тут же, на первом этаже, ибо Андрей никак не мог прибежать за ним сам: шла сложная вёрстка первой полосы, и он не успевал подносить верстальщикам досылы и правки. Там, во всей этой роскошной чумазости, лучше которой я и представить себе не могу ничего, не переваривая, хотя и боготворя современный процесс препринта, у них и случилась любовь. Андрей отдал некролог линотипистке, потом сам встал к талеру и, вооружившись острым гранёным шилом, заверстал на место объявы той незадачливой Ремстройтехники и покамест не забитого пространства, ждавшего досыл, эти полсотни ещё горячих серебристых гартовых строк. Так заверстал и обрамил линеечкой в цицеро, что премудрый Валера, взяв в руки оттиск, всё понял и спросил их обоих, когда уходили — «Валера, я скоро, только Леночку провожу!» — что им лучше на свадьбу дарить — пылесос или миксер.
Да, ну так к чеку… Я стал размышлять. Мандатка была в театральном 19-го. Почему не 20-го, как обычно бывало? А 20-е — воскресенье, и мандатную сдвинули. И тогда же вечером, после неё, приехала Оля — пока я ретроспектировал с Пенсоном, а потом помогал транспортировать пьяную Старикову в её комнату в блоке дирекции лагеря. В сцене, которую в ночи снимал Дамир, она не была занята — там разыгрывался, кажется, день рождения в фильмовом лагере главного героя — Димы, которого играл его 14-летний тёзка Дима Сосновский. Он уже мелькал прежде в детских фильмах, и потому лицо его узнавали. Снялся даже в знаменитой картине «Чудак из 5 „б“» Ильи Фрэза вместе с самими Татьяной Пельтцер и Евгением Весником, где играл, правда, роль лишь одноклассника того самого «чудака» Бори — Сашу Рябова. А после — только в совершенно никаком телефильме «Посылка от Светланы» — и куда-то пропал. Прожив всего 32 года, он умер ещё в 90-м — отчего-почему, я не знаю.
Но тогда все ещё были живы, и на весь спящий лагерь в горной прохладной тиши глухо разносилось с освещённого дигами пятачка детское нестройное застольное пение: «Ох и хитрый, наш Димитрий!». Оно с небольшими интервалами повторялось раз пять, когда Салимов, как я полагал, решал снять ещё один дубль, и оттого и теперь стоит у меня в ушах. Светлана, едва держась на ногах, при этом пении пьяно ухмылялась и пыталась что-то мне объяснить про основы искусства.
И вот тут-то как раз и приехала Оля. Но это ничего же не значило для меня, поскольку я об этом не подозревал — как и обо всём, что случится назавтра и дальше, да и вовсе не ждал самого приезда какой-то «сестрёнки». То есть, тот день — нулевой. Значило для меня лишь 20-е, когда засветился непроницаемый кокон, в котором мы провели с ней полсуток вне мира и времени. Но ещё больше — 21-е, когда сменились наши магнитные полюса. А ещё более — 22-е, когда окончательно рухнула жизнь.
«Три карты, три карты»… Что там секрет «Пиковой дамы»! 20-е, 21-е, 22-е — я должен понять сперва их синтетический смысл, чтобы выявить значимость в нём каждой даты. Секунда! Я вспомнил, что так папа учил меня отмерять самому вроде б неуловимую шестидесятую долю минуты: «Скажи спокойно: двадцать один, двадцать два, двадцать три — это и есть, Саночка, секунда». Папа звал меня Саночкой в детстве, а потом Искандером. Родители дали мне имя при рождении дружно, но по разным причинам: мама — в честь погибшего под питерским Красным Селом в январе 44-го своего младшего брата, дяди Саши, за которого я живу на Земле, как в тех стихах Рождественского, ставших песней; папа — в честь Александра Македонского, своего кумира, которого на Востоке звали Искандером. Поэтому для меня эти имена равнозначны: Александр и Искандер, зовите как угодно, я откликнусь.
А вот Надюша называла только Сашулей, даже когда и сердилась. Когда — я рассказывал это в другом сериале, «Лиловая кружка» — мой друг Вадик Носов наплёл по приколу в редакции университетской многотиражки, что якобы открыл на истфаке «самородка» (хотя я к тому времени уже лет пять писал, в отличие от журфаковских лоботрясов, во многие ташкентские газеты), и те прислали глазастую девочку Ларису с первого курса журфака взять у меня интервью, словно я человек ниоткуда, а я тотчас сделал ей — очень, надо сказать, соблазнительной, куда более интересное предложение, и мы дружно забили на то интервью, Надюшу, хоть и держалась она как собака на сене, задело чувствительно. «Это скотство, Сашуля!» — серьёзно сказала она мне наедине, вскоре узнав обо всём, и даже в маршрутку со мною в одну не садилась, чтоб ехать домой, пока наше с Ларисой весеннее приключение не испарилось, как всё в молодости, само собой уже к летней сессии.
И больше Сашулей никто меня в жизни не звал, да я бы и не позволил… Мне от этого и радостно, и горько — это только подчёркивает, что всё в жизни неповторимо.
А как же звала меня Оля? Она звала меня просто Ты. И я её — так же. В те двенадцать часов нам не было нужды в именах, коль даже ни поесть, ни в туалет, простите уж за низкие подробности, нам не было нужды. «Ты» было куда более интимно, ведь мы плавились в том коконе, сплавляясь в дубль-ты, и если бы Мила не убедила нас, на нашу беду, поспать, к утру, возможно, получился б самый прочный сплав во вселенной.
Но что уж теперь горевать, тем паче, что это не приближает меня к разгадке тайны чека из будущего. Я вполне трезвомыслящий человек и не верю ни в какие чудесные перемещения во времени. Я даже в собственное перемещение в нём из юности в старость не больно-то верю, ибо ощущаю себя всё тем же, что и тогда, в 72-м, а уж совсем точно таким, каким был, узнав о Надюшиной свадьбе. Я так же веду себя, говорю и пишу, а мой организм мне ни в чём не перечит. У меня нет ни медкарточки, ни страхового полиса, а через месяц, в конце октября 2019-го, когда пишутся эти строки, я отмечу 35 лет, как не был у медиков в качестве пациента. Ревмокардит, обретённый на хлопке в 69-м, я лечил в стационаре тогда же, в декабре, потом — в сентябре 76-го, откуда прощался с уезжающим в «Пионерку» Носовым по телефону — у него не было даже времени ко мне забежать, а завершил в октябре 84-го далеко от Ташкента — на Нижнем Дону. Тогда меня сняли с ревмо- и кардиоучёта — и всё.
Вы скажете, что-то не верится. А мама моя вылечила гипертонию уже после 70-и и прожила в полном здоровье до 95-и. Так что в перемещения во времени, тем более в обратном направлении, из будущего в прошлое, я нет, не верю. И появление чека оттуда, из дня ровно столетия чего-то такого, смогу объяснить, лишь разобравшись, столетия всё же чего.

8. «ОСТАВИТЬ В СИЛЬНОМ ПОДОЗРЕНИИ»
Ещё в школьные годы я вычитал в мамином журнале «Работница», который она выписывала много-много лет, что если ум заходит за разум или напал депресняк, пойди-ка и вымой голову. И я всегда так поступал — и неизменно со стопроцентным эффектом. Вот и теперь, зайдя в тупик с этими «тремя картами», влез под душ и намылил свою аксакальскую черепушку. Там и мыть-то особенно нечего: в парикмахерской, не без переспросов и уточнений на всякий пожарный, берут самую маленькую насадку, 3-й номер, и снимают всё, что наросло за месяц. Это в молодости я хипповал, да и после всегда носил длинные волосы, но в миллениум как отрезало — и в третье тысячелетие я вступил Искандером-бобо — под ту самую 3-ю насадку.
Мыть-то нечего, а как вымыл, так и мысли бойчее пошли. Всё нельзя раскумекать одновременно, рассудил я ещё под тёплыми струйками душа, такими желанными особенно в этот небольшой «сет» сентябрьский дней, когда уже засеверило, а отопление ещё не включили. Прежде этот промежуток порой занимал чуть не всю вторую половину месяца, а то и прихватывал кусок октября, если погода волтышилась, как говорила моя покойная тёща на свой тюменский манер. А теперь, слава богу, додумались до протапливания — это когда, не дожидаясь нормативных пяти дней подряд с 8-градусной температурой за окнами, подпускают чуть-чуть кипятка в отдохнувшие с мая радиаторы, и становится сразу уютно, как от глотка горячего чая с мороза. Тут уж, перефразируя моего папу, можно ждать полноценного отопления наравне с замерзающими.
Проблему надо разделить на части: сперва понять, чего добивается тот, кто создал этот чек и подбросил его Андрею, а потом уж искать и его самого — среди путешественников во времени, шутников, инопланетян, контактёров и т. д. и т. п. Придя к этому здравому, как мне тогда виделось, заключению, я через силу отпихнул, до поры, от себя любопытство, понимая, что его всё равно не удовлетворить, пока не постигну цели всей этой экстравагантной, прямо скажем, выходки.
Тут позвонил Андрей. Не хотелось брать трубку, но его лицо на смартфоновском аватаре было таким убедительным, что пришлось.
— Ты хоть что-нибудь понял? — спросил он с места в карьер.
— А нам с тобой часом не показалось? — с надеждой ответил я вопросом на вопрос.
Андрей промолчал, но вскоре смартфон издал звук, как-будто бросили алтын в пустой трамвайный автомат. Мало кто понял, что я сейчас написал, поэтому поясняю для вновь прибывших на планету. После ХХII съезда КПСС, состоявшегося как известно, в нарушение давней партийной традиции, не в феврале, а в октябре 1961 года и объявившего курс на построение в СССР коммунизма к 1980 году, признаки коммунизма начали появляться уже на другое утро. В том году, только как раз в феврале, мы получили квартиру на первом квартале «ташкентских Черёмушек» — массива Чиланзар, где было всё не похоже на мне родной с детства район Ассакинской-Пушкинской, куда входил и наш Первый Свердловский проезд, где родители снимали квартиру ещё до моего рождения и заплатили хозяевам Соловьёвым за прожитые в их угловой комнате годы, как помню из их разговоров, 40 тысяч рублей — естественно, «старыми». Это теперь жилмассивы обыденность; даже люди ненамного и младше меня именно так и воспринимают их с детских лет. Но тогда это была невидаль! Без улиц, переулков и проездов на месте полей и огородов, а в старину, видимо, и джидового сада (Чиланзар и означает в переводе с узбекского джидовый сад, а джида это такое колючее растение с терпко-сладкими плодами, схожими с финиками, вяжущими на вкус) стояли свободно четырех и пятиэтажные кирпичные дома, образуя дворы без заборов, ворот и калиток. Это было диковинно до невозможности, и мы — не только дети, но и взрослые новосёлы — ходили вечерами после работы по собственному кварталу на экскурсии, дивуясь, что и так, оказывается, можно жить. Это позже уже, в дальней части второго квартала, далеко за Гагарина, у самой Волгоградской, начали строить дома из панелей, привозимых с завода сразу с рамами в оконных проёмах и дверями балконов.
И вот едва мы успели хоть как-то освоиться с градостроительной новизной, нас ранним воскресным октябрьским утром разбудил пронзительно-сволочной звук клаксона. Все повыскакивали на лоджии, многие с намерениями, далёкими от добрых, и увидели на дорожке отражающий солнце никелированным фургоном мотороллер.
— Ты чего разгуделся? — набросились на его водителя и из нашего 47-го дома, и из соседнего — 48-го. — Посмотри, сколько время! Люди кто-то с ночной…
А водитель с улыбкой выключил намеренно заклиненный им клаксон, надел белый халат и открыл свой фургон.
— Прививки, что ли, делать? — стали гадать на лоджиях, перекрикиваясь. — Или дезинфекция? Это бы ладно, не то клопы, стервецы, одолели.
Клопов из ташкентских «шанхаев», обитателям коих и дали квартиры в наших домах, новосёлы навезли в самом деле немерено — несколько лет выводили всем «обчеством», конопатя все щели и дыры, оставленные строителями, предварительно засыпая их дустом и поливая дезинсекталем.
Но водитель скатил из фургона по приставленным сходням молочные фляги и, подняв литровый черпак-стакан на длинной ручке, выкрикнул:
— Граждане, молоко! А там у меня ещё и горячий хлеб.
Лоджии вмиг опустели. А через минуту к мотороллеру уже стояла огромная по-советски ругливая очередь с бидонами и баллонами, как у нас в Туркестане называют трёхлитровые стеклянные банки, и авоськами на плечах.
— Граждане, ну зачем же толпиться и нервничать: вон и к тем домам уже мотороллеры подъезжают — просто я к вам первым успел.
В нашем дворе, прозванном ребятнёй «пистолетом» за его характерную конфигурацию, было 8 домов — и у каждого вскоре стояли эти признаки наступавшего коммунизма. Люди и подумать того не могли, что отныне не надо бежать утром в булочную или в молочный — им это всё подвезут прямо к подъезду.
Другой приметой наступавшего уже почти осязаемо коммунизма стали кассы-автоматы в городском транспорте. Вдруг в тот же год на многих маршрутах исчезли кондукторы, а вместо них в начале салона и в конце, а если вагон длинный, то и в середине подвесили или поставили кассы, куда нужно было самим бросать монетки в соответствующем наборе и, покрутив ручку сбоку, выдавить из кассы билет — совсем как бельё из отжимки на стиральных машинах тех лет. Ничего автоматического в этом, конечно же, не было, но об этом никто не задумывался — восхищал автоматизм не механики, а поступка по совести: сам заплатил — сам оторвал билет. И сам себя уважаешь. Коммунизм!
И вот мой смартфон бренькнул именно так, как бренчала в пустой утробе кассы выехавшего из депо вагона брошенная в неё первая монетка. Услышал этот забытый уже звук, и что-то тёплое скользнуло по душе, словно котёнок. А это пришла ММС с фотографией чека.
Нет, мы с Большаковыми не ошиблись: год читался особенно чётко. Значит, или у нас с ними групповое помешательство для маленькой такой компании, или… Меня подмывало выйти во двор и спросить у соседей, какое число они видят на чеке, где указана дата. Я уж было оделся, но в дверях осознал: а если мы с ребятами всё же пока что не психи, то после моего вопроса о нас именно так и подумают. Так зачем же нам гнать лошадей? По пятому номеру мы всегда же успеем. Опять не понятно? В Ташкенте к психушке вёл пятый трамвайный маршрут.
Меня уже злило немного, что я, старый аналитик, — а аналитика это основа профессии журналиста, даже если он не обозреватель, не колумнист, как теперь говорят, а «бегун» -репортёр — упёрся в стену и не могу нащупать в ней даже щелочки. Отчего всё же этот неизвестный Некто словно призывал меня отметить столетие именно событий 20 августа 72-го? И всех ли событий? Ну что, скажите на милость, за «события» были до нашей встречи с Олей — сломавшаяся молния на моей ширинке, что ли? Тогда это да, мне казалось событием, да оно им и было — очень уж стрёмно мне было стоять с расстёгнутыми брюками на утренней линейке, когда ни отвернуться, ни прикрыться. Но эта засада — из тех событий, которые перестают ими быть, едва только минуют. Нет, ну что о том говорить…
Заварил чай, сделал хайтар, налил в кружку. Будь пиала, мне подумалось, это б меня подстегнуло, но пиалы не было, а моя старая белая, в своей основе, кружка с широкой, почти во всю её высоту «малахитовой» полосой посередине, которую мне подарили домашние, помнится, на 23 Февраля ещё когда жил на Дону, ничего мне шепнуть не могла — ни по-русски, ни по-узбекски…
А ведь шепнула! Из душистого облачка пара сначала на губы, а после и в мозг перескочила идея начать со второй части загадки — кто мог быть заинтересован в том, чтобы я сейчас ломал себе голову.
Пожалуй, и верно — идея. Итак, 20-е. Переберём всех, с кем контактировал и общался в тот воскресный августовский день. Первая, разумеется, Мила. Это была роскошная женщина! Даже на фотографии с пионерами видно, что это за секс-бомба. Она была старше меня на 4 года и воспринималась как зрелая женщина. Соблазна почему-то не вызывала, что было б естественно, кстати, в силу присутствия в общей спальне со мной такого сильного эротического заряда, но уж вот так. Отношения у нас сложились дружеские и ровные, и Мила никогда не слала никаких сигналов к более тесному сближению. Или я этого по молодости и неопытности не понимал? Может она их как раз посылала, да я не просекал, а потом этот кокон?..
Выходит, женская ревность к сестрёнке из-за мальчишки, который не ловит её феромонов? Что ж, в этом есть логика, хотя мне это кажется диким — в контексте того, что я помню про тот и про все наши дни.
Добавляю в чай коньяка — дома у меня любимый «красный» «Киновский», хотя как любимый — в том смысле, что он мне нравится, а так стоит откупоренный уже как бы ни третий год. Ну что, ладно, Мила. Вот она представляет мне Олю — явно наслаждаясь произведённым эффектом: ты, мол, думал «сестрёнка» — так вот, обломись!.. И зачем это, если флюиды и феромоны? Тогда уж скорее ей следовало прятать, а не выпячивать Олю, а то и вовсе не приглашать на вожатский мой медонос — что это за диковинный мазохизм советского логопеда, ну и что же что бёдра Вирсавии? Нет, на мазохистку Мила вовсе не походила. Она явно радовалась наконец-то приехавшей к ней в гости сестрёнке и делила со мной эту радость.
А дальше как она себя повела? Могла ведь, как Надя наутро, о чём-нибудь девочку упреждающе «просветить» ещё до нашей с ней встречи — если не с вечера 19-го, так пока я возился с молнией. Мол, у меня вожатый вполне себе симпатичный, а у него тут девушка — не спецом, а так, обрисовывая общую обстановочку. Но ведь не было этого, иначе б не засветился кокон — а что точно не засветился бы, подтвердит эта чёртова хлебовозка.
Положим, Мила почему-то не предвидела никакого соперничества — мальчишка тюфяк, за целую смену даже случайно не коснулся её вирсавиевых бёдер, хотя извинительных обстоятельств было сколько угодно: и пропавших ребят наискались, хватаясь в потёмках за воздух и чьи-то руки-ноги-уши, едва лишь хрустнула ветка, и в поход многодневный ходили, где грели друг друга, сбившись отрядом в тесную кучку и потухающего костра. Вон он, даже на фото целомудренно отгородился «перегородкой» из белобрысого пионерчика — кадр не снимавший придумал, а я сам так нам сесть предложил.
Но ревность могла закипеть и потом! А в чём же её проявление? В том, что убедила лечь спать почти в три ночи сестрёнку и этого тюфяка, ослеплённых друг другом? Но это нормально, она же не в коконе, а реальная жизнь того требовала.
Стоп! А если Мила тогда уже захотела тот кокон разгрохать? Для этого надо, конечно, спровадить сестрёнку. А предлог? И вот уже вижу картину, как Мила утром зачем-то зовёт проходившую Надю, знакомит с едва продравшей глазёнки сестрицей-соперницей, заводит разговор об обещанном ночью её со мной утреннем путешествии к бурливому Акташу. «Правда, Надя, оно того стоит? Вы же были там с Сашей?» — «Ещё бы! Только там столько колючек! Я в темноте укололась, отдёрнула руку и оступилась на мокром камне — и мы с Сашулей полетели в воду…»
Нет, это сущий бред. Надюша гордая и никогда бы не стала ничьим инструментом интриг. А главное, самое главное — она же красивая умница, именно так. Вот вы мне скажите, какая разница между красивой умницей и умной красавицей. Сдаётесь? Не видите разницы? Умная красавица — всего лишь ведь умненькая смазливка. А красивая умница — перл создания. Тут, как и всюду, управляющее слово — существительное, иначе и не бывает. Рядом со мной всегда были только такие имена существительные — начиная с моей мамы.
Нет, Надюша сама к нам пришла в павильон в то утро 21-го августа — инстинктивно, в каком-то родившемся, скорее всего, в зыбком предутреннем сне порыве и сама, вероятно, об этом жалела. Я помню её глаза, ставшие вдруг зеркалами, в которых отражался блудный сын, когда через два дня я вернулся в лагерь побитой собакой, и она, как-то отделавшись от конфидентки Козловой, повела меня за руку вверх по склону горы, на котором раскинулся лагерь, и за всё время нашей странной короткой прогулки сказала только однажды и только одно: «Сашуля…».
Значит, всё-таки Мила? Тогда чего она добилась, если столь изощрённо интриговала? Но ведь мы, интригуя, не всегда можем знать результат. Просчиталась. Ошиблась. Но это не значит ведь, что ни к чему не причастна. Нет, всё же, скорее всего, даже если она и желала в душе отъезда Оли, ей просто споспешествовал естественный ход вещей.
Пока что запишем так: оправдать, но оставить в сильном подозрении — была такая формула приговора в дореволюционном судопроизводстве.
9. ДИДЖИТАЛЬНЫЙ ВЕК!
Вот об этом бы я и хотел расспросить, да с пристрастием Милу, если бы кто оживил наше лагерное с ней и Игорем фото.
Желания следует утолять, пока они есть, а не когда появятся возможности. Но тут иной случай. И всё равно я снова и снова, как сейчас помню, переходил на компе к вьюеру изображений и вглядывался в её лицо на старом снимке, будто оно способно хоть что-то мне сообщить.
Вообще-то способно. Хотя бы напомнить, что год там 72-й и ей 24. Это по сегодняшнему «курсу» 71. Ну, допустим, Мила и есть главный интересант нашего с её сестричкой расставания. Даже без личной выгоды, а из спортивного интереса. Или, возьмём ракурс более прагматичный, старшая сестра, видя такое дело, испугалась, что Оля, едва поступив в институт, завихрится в возвышенных чувствах, а там уж, как водится, — свадьба-дети-не до учёбы. Могло такое быть? Вполне могло и аж со свистом! А тут ещё и «объект» этот, из кокона — ему самому учиться впереди целых два года, а там, скорее всего, как тогда было принято, в офицеры-двухгодичники загребут и запулят, куда Макар телят не гонял, а именно за Можай. И будет её нерасчётливая сестричка в пелёнках и без театров, которыми сызмальства грезила, влачить, и влачить, и влачить.
Очень реалистично. И ведь именно это бы, скорее всего, и случилось. С одной лишь поправкой, что после окончания универа я в армию не попал. Окончил, как положено, военную кафедру, принял на сборах в Туркмении летом 73-го года присягу, походив после этого пару месяцев в старших сержантах и командирах отделения, а весной 74-го мне присвоили звание лейтенанта. Перед защитой диплома нас собрали на военной кафедре и заместитель её начальника полковник Александр Максимович Чуб — отец моего однокурсника и нашего с Игорем друга Саши Чуба — продиктовал нам рапорт о призыве на военную службу на два года по военной специальности «командир мотострелкового взвода». Всё было в порядке вещей: выпускники на два года старше нас всей группой уехали в ГСВГ — Группу советских войск в Германии, а непосредственные предшественники загремели в Забайкальский военный округ. Подобное суждено было и нам. Однако уже после защиты, когда нас снова собрали на нашей «военке» — как мы думали, для объявления приказа, кому куда ехать служить, нам зачитали другой приказ — Министра обороны Маршала Советского Союза Гречко об отмене призыва в тот год двухгодичников в связи с избыточным выпуском военных училищ и отсутствием для нас в этой связи офицерских вакансий.
Так что Оле уж точно бы не пришлось, как и мне, куковать на затерянной «точке» и дуреть от идиотизма гарнизонной жизни. А там именно дурели, в пустынях, тайге и на северах, особенно считавшие дни двухгодичники. Помню, как в нашей кадрированной части в Иолотани под Мары, где было всего 36 офицеров да рота солдат, одинокий лейтенант Черноиванов из белорусских двухгодичников едва не угрохал себя, стреляя целыми днями со скуки в пустыне из пистолета по сусликам и так, и сяк, и через спину, и между ног; если бы камушек срекошетил немного точнее… А командир части, подполковник, фамилии коего память не удержала, человек, в отличие от балбеса Черноиванова, вроде бы основательный, живший с женой и дочерью в офицерском благоустроенном доме внутри части, выходил из него исключительно в полдень, причём уже весьма здорово набравшись чернильного «Геоктепе», продирался нетвёрдой иноходью через жидкий скверик на выжженный туркменским летним солнцем плац, где тотчас преображался и проходил его по периметру молодецким строевым шагом, потом отдавал честь профилям Маркса, Энгельса и Ленина на панно позади трибуны и лишь исполнив этот ежедневный идиотский ритуал отправлялся в свой кабинет в штабе части Родинке малёха послужить.
А в остальном всё в точности так, как мной задним числом сконструировано, и случилось бы с нами, тут даже к бабке не ходи. Это теперь я воображаю, что нет, мы же умные были с Олей, мы, конечно б, сперва доучились и стали работать, а потом уж и проза любви. Да шиш с маслом! А куда денешь, как говорил мой знакомый ташкентский архивист Жора Никитенко, давление в ушах («Да как женился на своей жене? Пришёл из армии, а тут давление в ушах…»)? Кокон лишь чуть-чуть не переделал нас в единое целое — со всеми вытекающими, увы, прозаическими последствиями.
Итак, повторяю, допустим, Мила и есть главный интересант нашего расставания с Олей — неважно из каких соображений. Но зачем ей, если жива, конечно, всё это ворошить в 71 год?! Трудно представить, чтобы старушка, даже если такая же шустренькая, как я, стала придумывать — и придумала! — экзотический способ напомнить, что в 2072 году, до которого мы все, конечно, не доживём, исполнится сто лет нашему с Олей кокону. Так ведь этот способ ещё мало придумать — надо осуществить! Изготовить чек, подбросить его Андрею, которого, кстати, я в том 72-м ещё и близко не знал, а она и поныне, сделать так, чтобы этот чек не скомкали и не швырнули в помойное ведро, а непременно показали мне. Нет, это какая-то чертовщина! Даже достаточно молодой и энергичный человек, причём хорошо знающий всех нас, не стал бы с этим затеваться, а тут почти призрак девушки из более чем сорокалетнего далека…
По тем же причинам отпали один за другим и все, кто был в лагере 20 августа 72-го: а) режиссёр Дамир Салимов, знакомый с Милой, но шапочно, а об Оле наверняка не ведавший ни сном ни духом; б) Игорь Флигельман, вряд ли придавший особое значение именно 20 августа, хотя он очень душой мне сочувствовал. Но даже если б и нет, даже если б вот так трансформировалась его саркастическая улыбка, когда он пробасил над нами: «Что, Саша, два билета на дневной сеанс?!» — всё равно это не в его стиле. Он добрый и простой: мог вышутить беззлобно, но и только; в) Надюша Алешкова, которая, конечно, была уязвлена, но ведь она тогда же воздала мне сполна — так зачем бы теперь?
Персонал лагеря вообще не имел к нам отношения и мало с нами общался. Таня Козлова… Вот Таня могла бы, в принципе, мстя за Надю, но опять же не в наши с ней тогдашние 64.
— Ну, значит, пришелец из будущего — больше некому! — хряснул я по столу. И тут опять позвонил Андрей.
— Старик, я тут подумал: может кто-то просто нынче подделал чек, а вовсе он не из будущего заслан, — сказал он, не здороваясь. Видно было, что они с Леной теперь только этим и живут. — Ты компьютерщик — скажи, это вообще-то возможно?
— Да без проблем! — испугал его я: я почувствовал, что он испугался, ибо до этого не очень, видимо, верил в возможность подделки, которая всё меняла. — И я уже думал об этом. Подделать-то можно, а вот кто б этим занялся: все участники той истории уже давно старики.
— Какой истории? — завопил он. — Час от часу не легче! Так ты что, как-то можешь объяснить смысл этой даты?
Я вздохнул.
— Могу.
И конспективно пересказал ему ту августовскую «опупею».
— Ёшкин кот! — тихо пробурчал Андрей, дослушав до конца. — И кто бы мог подумать… Хотя, зная тебя… Мне ведь известно про вас с Леной.
— Что тебе известно? — взвился я.
Нервы и так были страшно напряжены, а теперь на меня навешивали ещё и новых собак. И кто — Андрей, перед которым я уж точно чист.
— Да ладно, успокойся, — сказал он остужающе. — Я лишь хотел сказать, что вы с Леной и до меня были знакомы.
— А то это новость! — язвительно буркнул я.
— Знакомы как может быть будущие.., — он осёкся, не зная, как сформулировать мысль.
Так он что же, все эти годы жил вот с такими мыслями? И говоря со мной, и выпивая, всё время чувствовал, что рядом с ним неразорвавшаяся граната из его прошлого?
Я в изнеможении плюхнулся на диван и переложил смартфон в другую руку:
— Андрюха, ну вот ты нашёл время строить догадки… Ладно, давай прямо сейчас всё до конца проясним, не то у меня от двух твоих закидонов голова разорвётся.
— Моих? — засопел он. — Ты может быть думаешь, что всю эту дурость с чеком подстроил я? Да я ваших долбаных коконов не знал и знать не хочу!
Он бросил трубку, чего в наших с ним отношениях ещё никогда не случалось. Однако! А что если он думает, что эти закидоны мои? Что это я всё зачем-то подстроил с какими-то видами на его Лену? Такое может прийти в голову только здоровым старикам — какие мы с Андреем в общем-то были и есть.
Мне стало смешно, и я мысленно послал всех подальше, накинул ветровку, нахлобучил свою любимую зелёную бейсболку, которая и поныне жива, и отправился шляться по Колпину. Как и сегодня, когда я это пишу, был конец сентября и, как и сегодня, я вышел из подъезда под чёрный купол туч, в середине коего зияла большая дыра, в которую лили с изложницы солнце. В какой-то момент на меня посыпались капли воды, словно кто-то стряхнул надо мною мокрые руки. Я отпрянул и сам засмеялся: я шёл посреди бульвара Трудящихся, и от меня до окон, из которых могли запросто плеснуть опивки, очень далеко. Это стряхнуло руки небо. Я слизнул каплю с губы — она была чистая и холодная.
Но дождь так и не разошёлся. Постепенно дыра в куполе затянулась, а он сам посветлел, будто кто-то невидимый и огромный пальцем сделал растушевку. Стало просто насупленно хмуро, словно долго надрывно звонит телефон и хочется дать по башке неизвестному «звонарю». Я вернулся домой и, чтобы отвлечься немного, сделал фото собственного чека из «Пятёрочки», не отличимое от полученного от Андрея по телефону, а потом загнал его в старенький любимый фотошоп версии 5.5, которой уже давно ни у кого из дизайнеров не найдёшь. А я вот его люблю и берегу, поскольку мне с ним не хлеб зарабатывать. А для души он куда лучше всех новейших моделей с навороченным интерфейсом.
Сперва я убрал цвет, переведя изображение в ч/б — это логично, ибо текст чека выжжен до полной черноты на особой белой бумаге, и заложенная в графический файл цветовая палитра в данном случае не нужна, она только мешает. Затем поочерёдно скопировал нужные мне цифры с того же чека и «вклеил» их там, где указана современная дата. Всё заняло от силы 15 минут с отвлечениями, а подделку никакой эксперт не установит. Тот муляж трёхлетней давности, естественно, не сохранился: это было моё упражнение в доказательство того, что я Андрея не обманул. Но сегодня, отдыхая, я его повторил — можете потом посмотреть, когда дочитаете эту серию.
Однако вернёмся на три года назад. Закончив пробную подделку — так сказать следственный эксперимент, я ещё раз внимательно её осмотрел, убедившись, что дата точно такая же обликом, как на чеке Андрея. В ходе осмотра глаз наткнулся на список покупок, перечисленных в чеке. Ничего необычного: хлеб, молоко, картошка, лук, морковь… В этих чеках у меня никогда не бывает, например, колбасы, поскольку я её совсем не ем, зная её жульнические ингредиенты. Нет и яиц — давно от них отстал, прочитав как-то у покойного Похлёбкина, что они пожилым невместны, ибо способствуют росту клеток, а старикам это зачем? Один чёрт не омолодишься, зато яйца могут наддать пинка клеткам не только здоровым, но и злокачественным. Но это так, к слову, главное же, что мои чеки заунывны, как песни Грузии печальной, вне зависимости от количества товарных позиций. И, думаю, так и у всех: обиход не меняется, и в состав покупок, особенно пенсионерский, редко вклинивается что-нибудь экзотическое. Да и не торгуют в «Пятёрочках» экзотическим, не та у них целевая аудитория.
Тут у меня созрела мысль, и я позвонил Лене.
— Привет! Андрей дома?
— А что ему самому не звонишь?
— Мне нужна именно ты, но он тут недавно устроил мне сцену…
— С какого перепугу?
— Ну говорит, ты сорок лет назад соблазнил мою девчонку, а потом мне подбросил, натешившись.
У Лены что-то хрустнуло в горле.
— Алё, ты на связи? — встревоженно выкрикнул я.
— А где же ещё…
— Что у тебя там с горлом?
— Это не у меня с горлом, а у Андрюхи с черепом: врезала ему подзатыльник. А потом, когда мы с тобой закончим, у нас с ним ещё будет и содержательный разговор, — угрожающе добавила она и уже Андрею: — Старый ты дурень!
Слышу, он стал там оправдываться.
— Ленка, давай мы закончим, а то это ваше аутодафе затянется. А потом хоть его четвертуй.
— Да, прости, — сказала она, но, слышу, подозрительно шмыгнула носом. — Но лучше кастрировать.
— Нашла чем старикана напугать! Да он и сам оттяпает за ненадобностью.
Лена помолчала. Потом вдруг серьёзно сказала:
— Саш, ты этим, пожалуйста, не шути: нам всем и так мало осталось.
Бог мой, ещё и в свои семейно-сексуальные проблемы меня втянут!
— Чего ты хотел, Санёчек? — почувствовав, что переборщила, через пару мгновений ласково спросила она. «Санёчек» — её эксклюзив, больше тоже никто меня этак не кличет. Да и некому в общем-то звать меня нынче простецки — вокруг сплошное племя молодое, незнакомое. Какой уж я ему «Санёчек», если чаще обращается «отец»…
— Ты мне скажи, старушенция, — в тон ей мяукнул я, — ты почему заметила ту дату? Я вот сроду на даты в чеках внимания не обращал, даже не знаю, где их и искать. Если что надо вернуть в магазин, дату восстанавливаю по сообщению мобильного банка — там указывается не только день, но и точное время: в магазинах мухой находят копию чека. А если и стёр, всё одно находят — но подольше ищут. Диджитальный век!
Лена уже отошла и хмыкнула:
— Мы этих ваших заумных словечек не знаем, может и неприличное что, но не суть. А дату я вот зачем посмотрела — и тоже еле, кстати, нашла. Вижу, на столе лежит бумажка, опять, думаю, этот ангел кропал что-то и после себя не убрал. Нет, гляжу, список покупок — но только на странном клочке, сквозь который что-то просвечивает: я и не обращала внимания раньше, где он их пишет. Я сама вообще в телефоне пишу — у меня в Самсунге есть опция «Заметки».
— Заметь, слово «опция» более нецензурное, чем «дигитальный»! — вставил язвительно я. — Так что неча на зеркало пенять…
— Да ну тебя! — хихикнула она. — Ты слушай! Поворачиваю — а это чек. А там покупки-и: коньяк «Метакса», ты ж понимаешь…
— Ага, икра красная! — подхватил я, открыв чек на своём смартфоне — Причём, три банки! Недурно живут отставные ферганские метранпажи!
— Вот и я о том же, — стальным голосом отозвалась Лена. — Когда ж ты, думаю, голуба моя, покупал те деликатесики, да домой не донёс…
— Не донёс?! — воскликнул я. Это что-то новенькое для домовитого и верного Андрюхи.
— В том-то и дело… Ну, думаю, жить тебе осталась, мой дружочек, последний нонешний денёчек. Искала-искала, когда это куплено, а значит и день подлейшего предательства, пока не увидела: 20.08.72.
Я не выдержал, прыснул:
— И тут у тебя возобновились регулы!
— Сволочь! — сквозь смех ругнулась Лена.
— Да ладно — так и родить можно, не то что…
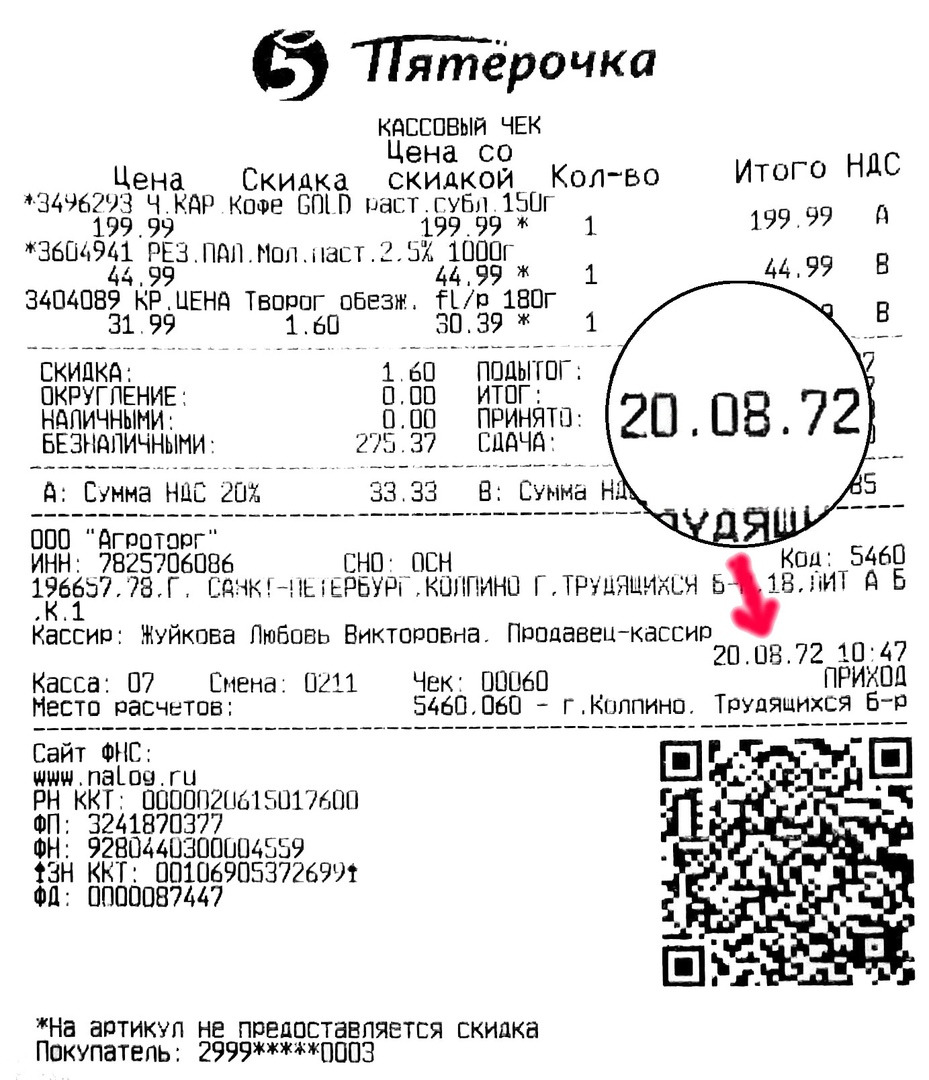
10. «ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ… ЧТО ОН НАМ НЕСЁТ…»
Кто-то в грядущем 2072-м году купил бутылку «Метаксы» и три жестянки красной икры в магазине «Пятёрочка». Коньяк греческий — вкусный, собака, помню с советских времён — теперь-то мне, пенсику, не по карману — оприходовал, икру — не исключено, что тоже: с яйцом вкрутую или на бутере с маслом, а может и в холодильник убрал до каких-то торжеств. А чек повертел-повертел да и бросил в корзину с мусором, как у меня: специально купил некогда в «Фикс-прайсе» конторскую, лёгкую, за 90 рублей, в кою вставляю пластиковые спецмешки. У меня ни разу ничего сквозь них не проваливалось, а у того, видишь ли, чек провалился, да не на пол под корзину, а на 56 лет назад — и прямо на Андрюхин стол.
Это я допущения такие делаю эзотерические, не более, чтобы хоть как-то связать концы с концами, пусть и в порядке идиотизма. Вот и ещё одно: оприходовал выпивку, зажевал икрой и, чуть подкосев, решил прогуляться во времени, а заодно напомнить мне через Андрея, что и через сто лет чтут наше с Олей полусуточное помрачение. Правнук чей-то из нас, не иначе. Но откуда он может хоть что-нибудь знать — в газетах же об этом не писали? Мой, Ярославчиков сын, точно не будет знать. Кстати, сколько ему может быть в 72-м, если родится, когда Ярушке стукнет 25? Так, составляем пример: 72 — (12+25) = 35. А что, самый возраст! Уже всё понимает по-взрослому, но ещё не потушен азарт. В 35 подобные кунштюки, главным образом, и вершатся — путешествия там во времени, полёты во сне и наяву и всё такое. Очень подходит, да одна закавыка — неоткуда ему взять исходную информацию. А вот Олин правнук может — от той же тётушки Милы мог узнать Олин сын и своему сыну рассказать, а тот — своему. Конструкция сложная и неустойчивая, со многими допущениями, но всё же концептуально правдоподобная. Впрочем, и мой правнук, пожалуй, может узнать, чисто теоретически, если где-то в пространстве пересекутся взрослыми Ярославчик и Олин внук и последний расскажет моему сию печальную повесть за рюмкой чая, как любил говорить подполковник Анатолий Белощук, начальник отдела боевой подготовки «Фрунзевца». А майор Николай Махно из его же отдела чай в рюмку демонстративно и наливал во время редакционных застолий, чем вызывал всеобщую оторопь и неврастению.
Что во всём этом неправдоподобно? На мой взгляд, только одно: что и в 2072 всё ещё будут существовать эти чуханские «Пятёрочки», а в них чеки продолжат печатать в точности так, как сегодня. В остальное с трудом, но готов поверить, даже в инопланетянское вмешательство, а вот в это — нет, хоть режьте. Стало быть, это всё же затея наших современников, и причём не самых изощрённых, если даже я прекрасно соорудил на компе чек из далёкого будущего.
Тогда схема такая. Кто-то отлично знает о событиях августа 1972-го в пионерлагере «Дорожник» под Ташкентом и его персонажей. Он наблюдает за нами с Андреем и Леной и в один прекрасный момент — не факт, что даже в этом году: чек мог лежать у Андрея в его молочной коробке давно, там уже полно пожухлых — подбрасывает этот чек, в расчёте, что однажды Андрей напишет что-нибудь на нём и изумится дате.
Хило. Написать-то напишет, но какого рожна станет датой старого чека интересоваться? Разве хоть раз он прежде в такое вникал? Нет, конечно. Чек стал работать по назначению лишь случайно. — а на случай в подобных затеях рассчитывать глупо. Если уж напоминать мне о давней боли таким хитроумным способом, то только наверняка.
Значит, к этому может оказаться причастна… Лена? Меня залихорадило от этой мысли, но она представлялась логичной: чтобы дата зазвучала в полный рост, кто-то должен был перевернуть этот чек «правой», как говорят портнихи, то есть лицевой стороной. Андрею это пофиг, а Лена перевернула. Я скажу больше: видимо, Лена и подсунула Андрею вчера именно этот чек — а больше некому. Только она знала, что я у них, да и никто, даже случайно, к ним в дом накануне не приходил.
Стоп, как же не приходил?! А Коля-Валя, этот человеческий тяни-толкай, которого Андрей не зря называл общим именем — они никуда друг без дружки. Они же привезли Вовчика. Да, но и дальше порога не проходили, так что, при всём желании, ни сын, ни невестка не могли извлечь из коробки-бювара Андрея этот явно подделанный чек и подсунуть папаше.
Тут вырисовались новые вопросы. Подделанный чек — это как? Какова то есть техника подделки? То, что я изготовил на компе, это, конечно, изящно и здорово. Но стоит это распечатать на принтере, и фуфло само запрыгает перед вами, издевательски делая нос. Чеки печатаются на специальной термобумаге, а не на принтерной. Хорошо, допустим, сообщник Лены — пока примем эту версию, что она закопёрщица или сообщница, как рабочую — достал, а то и сама Лена раздобыла рулон чековой бумаги. Впрочем, и доставать её нечего — она же где-то продаётся, ибо спрос наверняка огромен.
Я полез в интернет, забил в поисковике Яндекса «где купить бумагу для чеков» и тотчас узнал: в канцелярском интернет-гипермаркете «Комус» продаётся любая чековая лента из термобумаги, причём недорого и даже с доставкой — правда, при покупке внушительной партии. Ну вот и ответ: там и купили, если вообще покупали. В чём большие сомнения, ибо кто мне скажет, как на этой ленте сделать термопечать без кассового аппарата именно «Пятёрочки»? Ведь это не просто машинка, а фискальный регистратор, не позволяющий владельцу сделать ни вправо шаг, ни влево от Налогового кодекса. Все эти регистраторы сами регистрируются в налоговых органах. Так что так просто чек не подделаешь, даже если и лихо это задумал…
Упёршись в очередной тупик, я решил, что хватит одному заниматься мозголомством — пусть и Андрей свои извилины помучает. Тем более, он наверное их и мучает, да мне, надувшись как мышь на крупу, от обиды не сообщает. А обида-то и выеденного яйца не стоит! Что ж, если молчишь и не звонишь, то гора сама пойдёт к Магомету. Хотя мне больше нравится присловье одного моего коллеги периода юношества: «Если гора не идёт к Магомету, то идёт она к чёрту!»
Я нашёл в списке контактов смартфона Андрея и нажал на иконку телефонной трубки. Пошёл звонок. Он совершил полный оборот, запрограммированный оператором сотовой связи, и истощился. Я повторил. Результат был тот же. Ну, Андрей — видит, что я звоню и не берёт трубку. Это как называется? И из-за чего? Из-за этого дурацкого чека? Нет, конечно, не из-за него самого, а оттого, как от него сдетонировали его потаённые стариковские домыслы, которые он столько десятилетий удерживал в себе, как мечтающий отлить в безуспешных поисках сортира. Вот старый дурень! Есть сомнения, так спроси же — неужто мы вместе всё по винтикам не разберём, да по полочкам не разложим и не докопаемся до истины?
И тут меня словно кипятком окатило: а если это Андрей? Если он так мстит, выждав удобный момент, за свои многолетние зажимы? Но какой такой «удобный момент», отмёл я сперва и это предположение как безумное. Кокон светился и погас 44 года назад — столетие этого коллапса будет через 56 лет, так почему на вековой ленте времени удобный случай этим кольнуть или попрекнуть — кто знает, что он там горячечно выдумал в отместку за мнимые обиды — именно нынче, в сентябре 2016 года? А в прошлом году нельзя было? Или подождать до «круглого» 20-го?
А что — может и нельзя. Все мы с годами не становимся лучше. У кого мнительность разрастается, у кого злость на весь мир от страха приближения смерти: я умру, а все останутся, кто-то, прежде неуёмный живчик, превращается в пассивного микстуроголика, мечтая только о том, чтобы боль там или там отпустила хоть ненадолго. Я вот давно уже мизантроп, правда, вполне благодушный. Вот и Андрей мог копить и копить свою придуманную обиду, холить-лелеять её, пока она окончательно не созрела, как чирей — и садануть его скальпелем именно теперь, когда больше невмоготу.
Первоначальные вопросы кто и зачем дополнились вопросом — за что. Но можно ведь и иначе взглянуть на побудительные причины…
Тут я себя оборвал и, решив больше не дозваниваться, а отправиться к Большаковым без предупреждения и, если что — выломать им дверь. Но по пути мне нужно было проверить одну пришедшую на ум идею.
Сойдя с маршрутки на том же углу, с которого накануне уезжал, только на противоположной стороне, я зашёл тут же рядом в «Пятёрочку», где давеча покупал приятный грузинский коньяк. Покупателей почти не было, работало всего две кассы, а остальные продавщицы, которые в этой торговой сети, в отличие от гипермаркетов, ещё и кассирши, занимались выкладкой товаров. Подошёл к одной, которая как раз добила палет с молоком и стояла вроде как любуясь плодами рук своих, а на самом деле передыхая после долгого «фитнеса».
— Добрый вечер! Я хочу разыграть жену…
Она не дала договорить, окинув меня быстрым цепким взглядом:
— У вас нет жены.
— Что, настолько неухожен? — вдруг сробел я, обычно непробиваемо нахальный.
— Наоборот — слишком ухожены. Так выглядят мужчины, которые боятся, чтобы не подумали, что они опустились без женщины.
— Я ничего не боюсь, — улыбнулся я, удивляясь себе, что на мгновение позабыл: я же скрипторис, а не просто проветриться вышел. — Но я и верно живу без жены. Но разыграть хочу всё же женщину…
— Что, дурой выставить? — снова она меня перебила, скривившись, и продолжила истерично: — Хватит уж дур из нас делать!
Хм, явно сегодня спала одна. А может быть и всю последнюю неделю.
— Нет, дураком я хочу в этом розыгрыше выставить себя. А она чтобы посмеялась.
— Добрый такой, да? — скривилась она уже по-другому. — Говори, чё те нужно!
— Вы же пойдёте за кассу…
И опять был перебит:
— Чё я сегодня там не видела?! Пусть Светлана, раз умная такая, сама и сидит! — выкрикнула она в пустоту и затем уже мне: — Чё те надо-то?
Я уже не был уверен, что стоит сказать — вдруг ещё полицию позовет. Винтить меня, конечно, не станут, по возрасту, но все их немые укоры, этих пацанчиков в странной такой униформе, мне тоже не улыбаются. Однако, помедлив, решился:
— Могли бы вы выбить мне чек — вот, скажем, за молоко…
Я опрометчиво снял с полки бутылку из первого ряда, который она только что выровняла, и потому моментально получил по мозгам:
— А снизу нельзя было? Только что подровняла — и вот снова возиться… Сдохнуть мне, что ли, при этом молоке?!
— Да что вы слова мне не даёте сказать! — взорвался я. — Мне нужен чек. Но чтобы на нём стоял завтрашний день. Как будто я купил это молоко в будущем и доставил сюда.
— Так бы и сказал сразу, — пробурчала продавщица-кассирша. — А то морочит мне голову… Это и есть твоя добрая шутка — где ты дурак, а она смеётся? А мне кажется, ты как раз её дурой выставить хочешь — чтобы она поверила, что приволок молоко из понедельника.
— Какого понедельника? — я был уже совершенно дезориентирован.
— Так завтра ж понедельник. А ты припрёшься в воскресенье: смотри, моя милая, я гостинчик из понедельника притащил, — куражилась она и вдруг осеклась и сказала совершенно вменяемо и дельно: — Нет, невозможно. Аппарат автоматически выставляет дату, как и сумму — в процесс не вмешаешься, даже если сильно захочешь. — И опять продолжила дурашливо: — Так что неси, голубчик, в воскресенье молоко из воскресенья!
Я поставил взятую было бутылку на место и демонстративно подравнял бутылочный строй. Она оценила:
— Такому бы я подкрутила дату, чего уж… Но только не в моих силах, прости.
Очередной следственный эксперимент показал однозначно: идея с подделанным чеком — стопроцентно тухлая.
Я вышел из магазина, пересёк Будапештскую и поднялся в доме за «Бургер-кингом» к этим мне очень теперь подозрительным Большаковым.
11. ОБОНЯНИЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Ещё в лифте я учуял своим гипертрофированным обонянием самый вкусный запах на свете — жареной баранины. У меня правда обоняние ну если не как у героя телемыла «Нюхач» — тот всё же персонаж вымышленный и способности его природные тоже выдуманы, то всё равно доставляющие мне массу неудобств. Я, например, никогда не пользуюсь никакими одеколонами — именно в силу этого. Помнится, в детстве я очень любил ходить с папой в баню под номером 3 на Пушкинской улице Ташкента. Правда, мы в доме звали её баней Метрикова, так и говорили: «Завтра идём мыться к Метрикову», а что номер её, по-современному, третий, я прочитал на ней сам, а родители, похоже этого и не знали. Называли так с подачи, естественно, папы — старого ташкентца, мама-то ведь моя ленинградка, приезжая, но она восприняла папину манеру — у них в Ленинграде тоже так принято — по-старинному места и дома называть. Например, когда меня первый раз привезли в Ленинград летом 1960 года, по окончании первого класса, мы пошли от Московского вокзала по Лиговскому — мама хотела показать нам Ямские бани на Достоевского, где за месяц до этого мылся Гёргельсанч — и мама, сворачивая в Кузнечный, указала на обшарпанную громадину, которая всеми своими глазницами окон сурово взирала с Лиговского на переулок, просматривая его насквозь: «А это Перцев дом — самое прежде бандитское место. А может и теперь тоже…»
Столько всего наговорил вам непонятного, что, пожалуй, погожу, звонить в дверь к Большаковым, из-за которой и струился, естественно (местные баранину кушать не обожают), этот богоподобный аромат, и сделаю пояснения. Нас так учили смолоду: нечего умничать, писать надо так, чтобы даже уборщица тетя Клава всё понимала с полуслова. Ну вот, а тут поди не одна тётя Клава, а целый конклав тетейклав… тьфу, угораздило, теперь ещё и что такое «конклав» придётся объяснять. Ну я по-быстрому, копипастом из Википедии: «Церковное: совет кардиналов, собирающийся для избрания папы». Тёти Клавы, понятно, никаких пап не избирают, даже своих-то собственных не всегда знают, в силу нынешней стратификации (то бишь расслоения общества), так что это в переносном смысле сказано, мол, читают и судят-рядят, совсем автор чокнулся со своим чеком или только придуривается.
С чего начать-то мне? Начну по порядку — почему мылись в Ташкенте у Метрикова. Не все, разумеется, главным образом — с окрестной одноэтажной дореволюционной ещё селитьбы, но очень многие приезжали и с дальних концов города. По этой причине в бане всегда клубились умопомрачительные очереди в общее отделение по рубль шестьдесят — в номера по 8 целковых не ходили, но не из скаредности, а брезговали: не дай бог подцепить, как папа выражался, «дурную болезнь». В мужском общем отделении очередями рулил громадный лысый банщик Махмуд, который выпуская из раздевалки очередного розового поросёночка, благодушно, но строго басил: «Адын войдыте!». Нас с папой он считал за одного, поскольку папа знал ещё его дедушку, пострелёнка Саида, разносчика газет в редакции «Туркестанских ведомостей», где в начале прошлого века печатали папины первые стихи. Его приветил Николай Гурьевич Маллицкий, фигура в Ташкенте знаковая: любимый гимназистами учитель истории, привезённый из Петербурга Фёдором Керенским, потом, после казуса с военным министром Куропаткиным, о котором сейчас уж совсем неуместно рассказывать, иначе мы до ночи не разойдёмся, редактор газеты Туркестанского генерал-губернаторства, которая при нём набрала наибольшую популярность, а позже, после казуса, связанного уже с губернатором края Субботичем (но не по его вине, а из-за эмира Бухары), ташкентский городской голова вплоть до победы Великого Октября, когда власть перешла от городской думы к Ташсовету. Он и позже не затерялся, а став учёным-географом, профессорствовал в моём университете до самой своей смерти уже после войны. А приветил он папу после папиного триумфа, когда героиня его запутанности между двумя очаровательными созданиями (совсем как у меня через 70 лет — вот ведь, блин, семейка!), Лизонька Шорохова — поздняя дочь героя взятия Ташкента генерала Шорохова, товарища моего прадеда по черняевскому отряду, спела музыкальную балладу собственного сочинения на папины стихи в Военном собрании, на торжествах по поводу 40-летия победного штурма Ташкента. Как мне хочется прочитать вам эти замечательные стихи, но тема не та, да и время — не то…
А с папой мы и правда судьбами очень похожи. И потому я знаю, что умру, как и он и, кстати, как дед мой, Поликарп Семёнович, в 76. А на 61-й день после моего 67-го дня рождения меня должен, как папу в точности в такой день, разбить паралич — это будет 21 октября, уже скоро. Вот только за папой 9 оставшихся ему на божьем свете лет самоотверженно ухаживала его муза — мама, а за мной будет некому, и я довлачу свои жалкие дни в какой-нибудь зачуханной богадельне.
Впрочем, может я всё же и проскочу этот лазерный датчик фатума — я ведь не фаталист. Но при этом и не жизнелюб, признаться. Нет, если, конечно, нож к горлу приставят или там пистолет — к виску, наверное, даже скорее всего, завизжу. Но это от животного, а не осознанного страха — инстинкт же самосохранения искусственно не отменишь. А так вот, чтоб от ума — нет. Я давно уже чувствую себя экскурсантом в жизни. Прежде я был словно внутри неё, а нынче как бы взираю на жизнь извне. И эта история с чертовщинным чеком вполне подтверждает моё предощущение.
Покамест однако ничто инсульта не предвещает. Но ведь и папиного ещё даже утром 19 февраля 61-го ничто не предвещало. То было воскресенье, мама спозаранку уехала «в город» пройтись по мебельным, присмотреться — за 15 дней до этого мы переехали в полученную отдельную квартиру — как тогда там говорили, «секцию», навсегда покинув мой родной и любимый Первый Свердловский проезд, и надо же было обживаться — а мы с папой наладились делать пельмени.
Сперва мы послушали по ламповому приёмнику последние известия в 9 утра, а потом стали слушать новую юмористическую передачу «С добрым утром!» — помните, старичьё, её зачинную песенку: «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днём!»? Я перекрутил в мясорубке говядину с кусочком свинины, добавив, по ходу дела, зубчик чеснока и много лука. Потом посолил его, поперчил и долго вымешивал руками, цикая то и дело от боли — это лук покусывал незажившее место ожога раскалённой проволокой: накануне переезда, 3 февраля я сунул эту проволоку в розетку, обесточил весь дом и окрестные, кажется (наш сосед, генерал Норейка, герой гражданской войны в Туркестане, на другой день выговаривал, помнится, папе — но, конечно, по-дружески: они седло в седло крошили в капусту белоказаков Семиречья ещё в 19-м году), и от страха выдернул её голой правой рукой.
Папа замешивал тесто: в воду, обязательно ледяную, он разбил яйцо, добавил соль и хорошенько размешал. Потом прямо в чашку с этой болтушкой стал просеивать муку — он всё делал на глаз, и его руки, стоящие у меня перед глазами, с синеватой продолговатой точкой на правом среднем пальце — там ещё до меня застрял так и не извлечённый обломок простого карандаша, который папа ещё задолго до моего рождения опрометчиво сунул в карман пиджака грифелем вверх, — эти руки сами знали, когда надо остановиться.
Когда тесто подошло под холщовой салфеткой, а фарш, накрытый глубокой тарелкой, достаточно вызрел, папа стал раскатывать небольшие шарики теста в длинную «колбасу», которую потом нарезал на круглые пластики и посыпал просеянной мукой. А я своей маленькой скалочкой, которую папа, когда мне было ещё года три, собственноручно вырезал одним лишь ножом, приболев на три дня, что с ним редко бывало, простудой, стал раскатывать на одинаковые кружочки и дедовой вилочкой начинять фаршем, цепляя его из белой с зелёной наружей эмалированной чашки. Вилочкой этой, рассказывал папа, дедушка оперировал только с закусками перед обедом: «Надо б посолонцеваться», — говаривал старый царский полковник и перекладывал ею селедку, сбрызнутую уксусом и погребённую под луковой стружкой, на свою тарелку, а потом закусывал ею аперитив. Теперь она служила мне инструментом пельменного производства, транслируя в ходе процесса совокупную энергетику Жабских, которые были, как доносит предание, и под Полтавой, и в деле при Бородине, и покоряли Туркестан, и били басмачей ферганских и англичан в Закаспии. И даже последнего Жабского, сложившего голову за Отечество, дяди Вани, лежащего с 44-го на псковской земле. Ибо именно к нему перешла та вилочка после смерти деда в 34-м году, а уж от Понкиных — папиной младшей сестры, тёти Кати и её мужа, Мишки, как звал его папа, Понкина — тоже боевого товарища по гражданской, с которым породнились ещё в 18-м году, принявших её в наследство от вдовы дяди Вани — не очень путёвой Шуры, — к папе, ну и ко мне.
Папа начал лепить пельмени, расставляя готовые пельмешки-близнецы ровными рядами на большой натёртой (не посыпанной, иначе приклеятся!) мукой доске — тоже ещё из дедова дома, составленной из трёх тонких дубовых плах, схваченных на века врезанными с изнанки рейками. Что-то весело вещали Миров и Новицкий, мы смеялись. А потом папа вдруг сказал: «Что-то, Саночка, у меня левая рука как отсидел…» Мы поменялись: я стал лепить, а он раскатывать, но уже своей большой скалкой. Через некоторое время ему и это стало невмочь. «Полепи-ка пока сам, а я немного прилягу», — поцеловал он меня в макушку, лёг на их с мамой старую кровать с синими крашенными спинками и никелированными шишечками, которую мама так спешила поменять на современную, деревянную, потому и уехала к открытию магазинов (промтоварные работали по воскресеньям, в интересах трудящихся, а выходные в них были в понедельник) и стал растирать левую руку, как это обычно делают, если та затекла.
А потом папа заговорил, глядя в точку, где сходятся две стены и потолок… с Екатериной Великой. Хорошо, скоро вернулась мама, вызвали скорую, папе сделали, по тогдашней методе, кровопускание. Он ещё сам, правда уже нетвёрдо, придерживаемый доктором со скорой, сходил в туалет, но это было последний раз в его жизни. Ещё несколько дней он продолжал беседы с императрицей, удивляясь, что мы с мамой её упорно не видим, проявляя непохвальную непочтительность, а затем сознание папино прояснилось, став совсем прежним, но левые рука и нога больше никогда уже не шевельнулись.
Интересно, я тоже увижу Екатерину? Или может Петра? Мне и с ним интересно потолковать, пусть бы только та «ассамблея» продлилась подольше, ведь потом же мне уготовано пялиться лишь на унылые стены зачуханной богадельни, а то и на Путина на портрете или кто там в Кремле будет мерить ночью шапку Мономаха через 9 лет…
Кто о чём, говорят, а вшивый — о бане. А я, старый дурень — про то, что быльём поросло… Надо всё же равняться на вшивого и про баню закончить.
Так вот при мне то была баня №3, а в пору, когда мне, по всем правилам и следовало родиться — в годы папиной молодости, это были, цитирую рекламу в «Туркестанских ведомостях», «Дворянские Бани Метрикова, Ташкент, Пушкинская улица. Номера общие. Души. Ванны. Вода из Салара. Безукоризненная чистота. У подъезда бани станция трамвая». Остановка трамвая была там и при мне, называлась «Дархан-арык», но все кондукторы кричали: «Баня!» А вот вода уже использовалась артезианская, ибо чистейший некогда Салар — очень древнее, ещё согдийское оросительное сооружение, а не река, как даже многие ташкентцы считают, к тому времени был совершенно загажен, превратившись в прообраз будущей мировой экологической катастрофы.
Вот там мы и мылись, пока не переехали на первый ташкентский многоэтажный жилой массив Чиланзар, называвшийся ещё, как все тогда подобные массивы в стране, «ташкентскими Черёмушками» — в честь московских Черёмушек, первенца хрущёвского массового домостроения. А нравилось мне там бывать не из-за мытья, а потому, что в красивом вестибюле бани с фонтаном висел автомат: бросаешь 15-копеечную монету, и из розанчика наверху в тебя брызжет тройной одеколон. Правда, однажды от его концентрированности я едва не упал в обморок, сильно напугав папу, а потом и подошедшую из женского отделения маму.
Вы уж и забыли, что именно поэтому дело дошло до бани, петляя по всей моей жизни. Я начал рассказывать, что у меня гипертрофированное обоняние и хотел привести в пример этот случай с полуобмороком в банях Метрикова. Обоняние мне здорово докучало не только в детстве, но и всю жизнь. Я живу на шестом этаже, летом окна всегда нараспашку, и если мимо часа в четыре утра проходит запоздалая гулёна от своего сердечного дружка, то я сразу же посыпаюсь от её синтетического аромата греха и духов. Так что не удивительно, что ещё войдя в лифт в доме Большаковых, я изнутри весь обволокнулся сказочным запахом жареной баранины. Плов готовят, собаки, подумал я, да отвлёкся на все эти рассказы о прошлом — осталось, впрочем, только рассказать, чего это ради мама летом 60-го года повела нас с папой в Ямские бани в Ленинграде, и кто такой Гёргельсанч.
12. КТО ТАКОЙ ГЁРГЕЛЬСАНЧ
О это удивительная фигура! Если заглянуть в его паспорт, то там значится, коли всё ещё жив, Георгий Александрович Соловьёв, но все звали его исключительно Гёргельсанчем. Если бы не так, я бы вряд ли запомнил его ФИО. Помню, мама спросила меня как-то, как звали хозяина нашей комнаты.
— А я знаю?! — телеграфировал я, пробегая.
— Ну как же — не помнишь уже Гёргельсанча?!
Гёргельсанча я помнил, а вот, что он Георгий Александрович — нет. Да и мама ведь тоже, что было долго предметом наших смешных воспоминаний. Как и другое: когда мы однажды утром вернулись в то лето 60-го из Ленинграда, проведя у бабушки и у родни больше двух месяцев, не успели поставить чемоданы, над входной дверью с террасы в нашу комнату, не имевшую даже тамбура, раздребезжался звонок: у нас на калитке было две кнопки — к Соловьёвым и к нам.
— Кого там ещё принесло? — закатила глаза мама, уставшая от четырёхдневной поездки на поезде и не выспавшаяся, поскольку поезд пришёл в Ташкент очень рано. — Сходи, Саша, открой.
Оказалось, пришла соседка и проторчала у нас полдня, не давая маме ни прилечь, ни даже справиться с мигренью. Когда ушла, мама сказала мне не без досады:
— Надо было сказать ей, что мы ещё не приехали.
До нас дошло одновременно, и мы покатились со смеху. Мамина мигрень улетучилась, настроение поднялось, тут папа принёс арбуз, и мы стали его уписывать, а папа — вырезать из верхней части корки два сцепленных через дужки и свободно болтающихся висячих замка по дедову тайному алгоритму. По ходу мы ему рассказали, что отчубучила мама, он тоже залился смехом, но только никак не мог понять, кто это был.
А была учительница, как и мама, по фамилии Цыганкова — фамилию помню, а имя забыл, впрочем, тоже, кажется, Нина, как наша хозяйка. Да, Нина Петровна Цыганкова, вспомнилось по частям. А сперва фамилия, потому что позже, в нашем чиланзарском доме, даже в нашем подъезде на четвёртом этаже слева жили такие Цигановы — тётя Рая и дядя Петя, большой, кстати, друг и собутыльник великого ташкентского футболиста Геннадия Красницкого, царство ему небесное, «Красного», чуть ли даже не его родственник. С их дочкой Валей, на год меня младше, мы в детстве очень дружили, как и с нашей соседкой за стенкой Милой Сипко, и соседкой Вали через площадку — Аней Завадской, из-за чего мальчишки порой дразнили меня «девчачий пастух». Но сами ведь тоже дружили с ними во всю, только я больше, вот вся и разница. Так вот, вспоминая фамилию соседки по Первому Свердловскому проезду, которая сразу никогда не «выстреливает», я сперва вспоминаю симпатичных мне Цыгановых, а уж потом и Цыганкову. Затем, по аналогии с нашей хозяйкой Ниной Викторовной, что она тоже Нина. Ну а отчество уже подскакивает к имени само собой, как примагниченное или на резинке.
Но это не единственный, кстати, мой способ запоминания имён. Большинство людей, с коими я редко встречаюсь, но чьи имена-отчества следует не забыть, чтобы не прослыть невежей, помнятся мне по аналогиям. Ну как я вот Александр Васильевич, а если забыли, то Суворова-то скорее вспомните. Вот, скажем, Коля Черевач. начальник отдела комсомольской жизни во «Фрунзевце», лет на 5 меня старше, отчего я его первое время величал почтительно по отчеству, сразу и навсегда запомнился мне Некрасовым — разве я б и сейчас помнил его отчество, которое очень скоро вышло у нас с ним из употребления, если б не этот способ. А был ещё Гоголь — майор Махно в той же редакции, подписывавшийся «Н. Махно», что вызывало бесконечные шутки, а так же Подгорный. Или ФИО-антоним Некрасова — Косыгин. Очень, скажу вам, удобно! Идёт на тебя человек, которого ты не встречал уж лет сто, знакомый-то точно, но как зовут — чёрт, дьявол, как экспрессивно восклицал в подобных случаях редактор «Волгодонской правды», где я служил по приезду на Дон, Иван Макарович Пушкарный, не помню. Сворачивать с пути поздно, и тут выскакивает из оперативной памяти, точно чёртик из табакерки: Будённый! «А, здравствуйте, дражайший Семён Михайлович!» — «Неужто помните? А я вас, как по батюшке, позабыл, извините — прошло столько лет…».
Так вот Гёргельсанч. Он был военным строителем, прошедшим всю войну, от которой у него остались ноющие на погоду раны и трофейный мотоцикл с коляской, прихваченный где-то под Берлином. А ещё — хозяином дома, хотя и пришедшим туда после войны примаком, где мы снимали угловую комнату до переезда на Чиланзар. Этот дом получила то ли в приданное, то ли просто так от родителей, четы Труновых, которых я видел лишь пару раз за 8 лет жизни в том доме, его жена, художница Нина Викторовна. Она была необычной художницей — писала акварелью птиц, животных, насекомых и прочую живность для школьных наглядных пособий. Не скажу, чтобы она, в отличие от своего добрейшего супруга, очень меня привечала, но никогда не мешала мне сблизи любоваться её работой, когда она сидела на открытой террасе с шаткой и худой крышей, но зато тремя ступеньками из мраморной крошки, и тщательно выписывала оперения каких-нибудь какаду. Может потому и не мешала, что больше никто — ни муж, ни дети, Витька с Ксанкой, её творчеством, как я тогда уже понимал, не интересовались.
Худая крыша и мраморные ступени — это и было альфой и омегой личности Гёргельсанча. Он являл собой огонь и пламень, воду и камень, втиснутые в одну субтильную человеческую ёмкость. Чудачествами его превосходил, пожалуй, лишь Крылов, но Ивана Андреевича я видел лишь клодтовского, бронзового, а Гёргельсанча наблюдал живого. Он был, пока были живы мои родители, персонажем многих наших домашних побасенок, рассказывать которые не пересказать.
Скажем, решил однажды весной Гёргельсанч создать себе образцовый сад, чуть не парк на просторном своём участке. Подход к делу сразу был явлен основательный: на мотоцикле от поверженных немцев объезжен весь город, куплены лучшие лопаты, рабочая одежда и обувь, защитные средства — буквально по СНиПам, а что — военный строитель, построившей столько для Родины, у себя дома должен снижать планку? Под сарайным навесом, где давно пошёл трещинами от хронической невостребованности и хронических же протечек навеса массивный верстак, была сколочена огромная рама из лучших в городе досок, которая, если только где-нибудь уже не сгорела, всех нас переживёт и на которую была туго натянута блестящая оцинкованная сетка самого дорогого сорта.
И вот в указанный отцом семейства день вся его команда — отлучённая от кистей и красок супружница, растерянный от незнания чем заняться, поскольку отец отнял воздушку, Витька, парень ровно на 10 лет старше меня, и его старшая сестра Ксана, собиравшаяся вообще-то в парк Тельмана на воскресное рандеву, а не копаться в саду — выходит, одетая в новьё строго по СНиПу, в «сад» — в кавычках, ибо там росла какая-то дико-тугайная поросль, да несколько чуть не вековых деревьев, посаженных стариками Труновыми ещё в пору их молодости. В руках, одетых в новенькие рукавицы, у всех тоже сниповские лопаты. Гёргельсанч их строит и ставит боевую задачу: копать и просеивать землю. Сам он прилаживает упор к раме с сеткой, чтобы та нависала на горизонтом земли градусов на 60, и только что не командуя «делай, как я», показывает, что следует собственно делать.
Так они трудятся часов с 11-и до полудня, просеяв ведра, скажем, четыре, не больше, земли, ибо она не просеивается — вся в камнях, старых сучьях, а тут ещё червяки попадаются, и Нина Викторовна долго их изучает, чтобы когда-нибудь воспроизвести на учебных пособиях максимально близко к живому оригиналу.
В полдень начинает накрапывать дождь.
— Ладно, — с досадой втыкает Гёргельсанч в землю лопату на целый штык, — всё равно под дождём не работа — пойдёмте обедать.
После обеда все разомлели, да и дождик пуще разошёлся — весна же, куда без дождя.
…Оставленные в тот день в несостоявшемся саду лопаты с надетыми на их черенки рабочими перчатками — чтобы не перепутать, где чья, и проржавевшая сплошь, несмотря на заявленную оцинковку, сетка стояли на том же месте три года спустя, когда мы навсегда покидали их милый дом, переезжая на Чиланзар.
А ещё раньше Гёргельсанч решил строить туалет типа сортир «лучше, чем у генерала» — это было его мерило качества, как у других — международные стандарты. Генерал — это тот самый папин сослуживец в гражданскую, Норейка, с чьей поздней, как и я у папы сын, дочерью Лялькой мы были погодками и дружили. Главным образом потому, что наши мамы одновременно водили нас с пелёнок в парк Тельмана, как француз убогий водил Евгения Онегина в Летний сад, где мы и проводили все дни, кроме дневного сна. А ещё потому, что в доме у генерала было характерное для ташкентской колониальной архитектуры словно вдавленное внутрь дома, хотя частично и выступавшее за его красную линию, на котором было хорошо играть мелюзге — не жарко от солнца и не мокро от дождя. На генеральской парадной мы с Лялькой проводили большую часть времени, когда были не в парке. А в их доме, как и в саду я никогда не был, как ни звали Лялькины родители — по детской стеснительности, о которой писал в сериале «Лиловая кружка». Но Гёргельсанч явно бывал, потому что уборной замышлял переплюнуть соседа, жившего через улицу, а потом и сравняться с ним воротами, которые у генерала были сродни войсковым — с пиками наверху и звездой.
До ворот при мне дело ещё не дошло (оно, увы, не дошло, и намного позднее, в чём я убедился, когда, вдруг, отчего-то разнастальгировавшись, побывал там лет через 15 — в первый и последний раз после переезда на Чиланзар), но вот уборная своего часа таки дождалась. А иначе и быть не могло: старая деревянная, помнившая ещё Туркестанское генерал-губернаторство, давно превратилась в подобие сарая деда Мазая. Но у того хоть крыша была надёжная, а у сего же «строения» не менявшийся с довоенных лет толь, давно пройдя период полураспада, перешёл к полному и беспрестанно сыпался на головы испражняющимся. Да если бы только толь! Случались ведь и дожди…
Мои родители ходили в эту уборную под зонтами с широкими куполами, а меня сажали за круглой печкой, крашеной Кузбасс-лаком, на фаянсовый горшок, дошедший от моей бабушки Анны Николаевны, купленный ею в Верном ещё при Александре III. Как ходили, по папиному выражению, «на двор» в дождливые дни сами хозяева, я не видел, но однажды остервеневший от потопа при его поносе Гёргельсанч заявил, как рубанул, подсказав Станиславу Говорухину, которого может и знал — кто только не бывал в Ташкенте! — название его знаменитого публицистического фильма, снятого тридцать лет спустя:
— Так жить нельзя!
И творческая, а потом и производственная энергия закипела. Подняв стены будущего монументального, хотя уже и вышло постановление о борьбе с излишествами в архитектуре, которое, впрочем, на частные постройки не распространялось, сортира, чем-то походившего на сделанном Ниной Викторовной красочном рисунке по мужниным высокопрофессиональным чертежам на Павильон Росси в Михайловском саду Ленинграда; скромнее, конечно, и меньше по площади, да и без гранитного причала, ибо ни Мойка, ни даже Салар по участку Соловьёвых не протекали, — так вот едва подняв стены этого нужнейшего в жизни частного сектора строения на метр, Гёргельсанч развалил к чертям собачьим старую уборную. И место сровнял с землёй, вызвав прежде, разумеется, ассенизаторов для очистки выгребной ямы.
Что ж, пришлось ходить в уборную и дальше с зонтиком, но это же временные трудности, если верить Гёргельсанчу, в отличие от прежних, перманентных, что взрослых уже ободряло. Мужчины только, особенно приходившие к нам и к хозяевам в гости, были недовольны: часть своих надобностей мы ведь справляем стоя, а значит им приходилось это делать чуть ли не у всех на виду.
До возведения всей постройки в целом мы там не дожили, но хорошо ведь и то, что с годами над живописными рукотворными руинами виднелись уже только головы посещавших это, обещавшее стать роскошным, отхожее место. Но во всём есть ведь и свои плюсы: из окон дома зато видели, «занято» или «свободно». Сколько на одних только галошах сэкономили!
13. УЗНАВАНИЕ СЛОВ
И вот этот наш Гёргельсанч, покуривая однажды майским вечером папиросы «Казбек» на своём мраморном крылечке, сказал своему подсевшему к нему сыну Витьке:
— А что мы с тобой всё торчим и торчим тут, как бельмо на глазу? А давай-ка, сынок, съездим к твоей тётке в Ленинград!
Тут он немного попутал, ибо там жила тётка вовсе не Витькина, а его мамы, блокадница, присылавшая любимой племяннице с детками в слишком сытый в 50-х Ташкент каждый месяц большую посылку, полную пакетов «Геркулеса» — а что б не голодали. Я скажу вам, что, прожив в Ташкенте больше 30 лет, не только не видел сам, но даже и тех не видел, кто лично видел, как кто-то в нашем городе ест овсяные хлопья. Плов — это, да, это многие, а именно все. А вот «Геркулес»… Но дорог ведь, как говорится, не подарок — дорога твоя любовь. Тётушки Нины Викторовны, то есть. И решил Гёргельсанч её отблагодарить.
Купив билеты для себя и Витьки — почему только им, история умалчивает — вероятно, Нина Викторовна опаздывала со сдачей в издательство «Укитувчи» плакатика с крокодилами, а у Ксанки завёлся очередной ухажёр, который мог ведь, в её отсутствие, и переметнуться на сторону, Гёргельсанч натащил с Алайского чуть не возы всяких фруктов, верно рассудив, что блокадница даже и через 15 лет после войны нуждается в основных витаминах. В урочный день к воротам, которые пока были, мягко говоря, плоше, чем у генерала, подъехала ярко-зелёная «Победа» с жёлтыми шашечками от буфера до буфера, как тогда называли бамперы. В неё погрузились Гёргельсанч с Витькой, едва запихав в багажник гостинцы, и отправились на тогда ещё не снесённый вокзал, построенный архитектором Сваричевским — зятем Александра Фёдоровича Керенского — будущего правителя России.
Прошло не больше недели, как я, уже засыпавший, услышал на террасе сперва звонок от калитки, а потом нестройный шум возбуждённых голосов. Мне показалось, что вроде как и голос Витьки, но он же уехал, значит, ошибся, подумал я и провалился в сон. А утром родители, продолжая это с хохотом обсуждать, рассказали, что то был и правда Витька — они с Гёргельсанчем вернулись!
Оказывается, сойдя с поезда на Московском вокзале и загрузив до критического прогиба тележку носильщика, они взяли на площади такси, всё привезённое в него перегрузили и на вопрос таксиста: «Куда едем?» — солидно ответили: «Сейчас». Водитель включил таксометр, тот начал щёлкать, а адреса пассажиры не называли. Гёргельсанч перерыл все свои многочисленные карманы, планшетку, с которой отставной капитан инженерных войск не расставался с войны, потом попросил открыть багажник и стал потрошить чемоданы.
Когда таксометр накрутил им уже чуть не полсотни рублей — старыми, разумеется, но тогда это были вовсе не малые деньги, Гергельсанч был вынужден признать своё фиаско: он забыл взять тёткин адрес.
— А ты его вообще-то у матери спрашивал? — проницательно спросил Витька, и тут выяснилось, что и этого сделано не было.
Тогда Гёргельсанч плюнул в сердцах, растёр и подозвал уже другого носильщика, который как раз сдал своих клиентов с рук на руки таксисту и до следующего поезда освободился.
— Давай, грузи!
— А к какому поезду прикажете?
— Давай пока в камеру хранения…
Избавившись от багажа, они пошли с Витькой в кассу и купили обратные билеты. Поезд, пятьсот-весёлый, был только вечером, да и то хорошо — скорого пришлось бы ждать двое суток, кантуясь на Московском вокзале, забитом пассажирами битком.
— Что, Витя, пошли, что ли, хоть в баньке помоемся — а то все пропахли копотью.
Тогда поезда ходили на паровозной тяге, а это, кто ездил на них, как я, помнит, и дым, и искры в окно и во все щели, и гарь на зубах.
— Земляк, — окликнул он прохожего, снова выйдя на площадь Восстания, — у вас тут есть хоть какая-то баня?
На что получил по-питерски язвительный ответ:
— Чай не завшивели, моемся.
Гёргельсанч второй раз на ленинградской земле плюнул в сердцах и пошёл к постовому. Тот и объяснил, как пройти к ближайшим — Ямским — баням: по Лиговскому налево, в первый поворот не сворачивать — упирается в Пушкинскую, а только во второй и вниз по Кузнечному: будет Коломенская, потом — Марата, а следующая — Достоевского, на неё и свернуть.
— Направо, налево? — уточнил Гёргельсанч, не услышав этой детали.
— Там только налево, — сказал постовой и прибавил: — На каком фронте от пули бегал, деревня?
Говорят, с его, правда, слов, Гёргельсанч сдержался. Сказал вежливо: «Спасибо», — и зашагал в Витькой в баню.
Перед поездом они, чтобы обратно не тащить, раздали все свои фрукты маявшимся в зале ожидания, которые их чуть не превратили, от азарта, в оборванцев. Кое-как вырвавшись и стирая с лица плевки тех, которым досталось восточной халявы меньше других, они погрузились в поезд и покатили обратно.
Мама смеялась, отец улыбался, а мне было их жалко. Вечером я подсел к Гёргельсанчу на крылечко из мраморной крошки, нагретое солнышком позднего мая, и учтиво спросил:
— Гёргельсанч, как вам Ленинград? Я в нём не был пока, мы только через месяц поедем.
Он потушил только что зажжённую папиросу и бросил:
— Хороший город. Только жлобский!
И непривычно хмурый ушёл в дом.
Я уже писал где-то, что помню, от кого впервые услышал те или иные слова и выражения. Например, «кинозвезда» — от ташкентского кинорежиссёра, тогда заканчивавшей ВГИК, Камары Камаловой. А прилагательное «жлобский» — вот в тот раз от Гёргельсанча.
…Мягко провернулся ключ в дорогом замке, и дверь Большаковых открылась.
— О, лёгок на помине! — воскликнула Лена. Она несла пакет с мусором в мусоропровод. — Только сейчас собирались тебе позвонить: Андрей там плов направляет.
— И потому трубку не берёт? — спросил я недоверчиво.
Лена выбросила пакет, поднявшись на пол-этажа выше, в жерло мусоропровода и на обратном пути подцепила меня за руку.
— Не может быть — она у него всегда в кармане, когда готовит.
Заложив морковь и густо посыпав её растёртой ладонями зирой, Андрей прикрыл крышку казана — хорошего, наманганского, чугунного — у меня тоже такой, только меньше — на одного, достал из домашних брюк смартфон и открыл журнал звонков. Был он немного сконфужен, что вышла такая накладка после того нашего разговора, когда он бросил трубку.
— Не было звонков от тебя! — радостно воскликнул он. — Проверь свой.
Да, это был мой промах: набирал другого Андрея — питерского коллегу, ткнув по ошибке не туда в списке контактов.
— Что-то мы все с этим чеком ополоумели, — сказала Лена. — А может выбросить его и забыть?
14. ХРЕНОВАЯ ОТ ЗАСРАКА, ИЛИ ЛАДАН ВОСТОКА
Плов — такая институция, что и на секунду нельзя оставлять без внимания. Поэтому Андрюха выставил Лену из кухни, а меня усадил за столик:
— Бир минут!
Он тщательно перемешал правильной — из цельного куска нержавейки, тогда не сломается в шейке — шумовкой начавший побулькивать под морковной соломкой зервак, добавил в казан кипятка из только что свистевшего чайника, бросил щепотку сушёного барбариса, закрыл крышку и убавил огонь. Потом достал из холодильника шкалик, полный неуловимо отдававшей зеленью жидкости, в которой плавали белые хлопья, подсел ко мне, разлил жидкость по стопкам и придвинул уже порядком остывшие курдючные шкварки:
— Не будем нарушать традицию.
А традиция такова, что под горячие шкварки следует пропустить первую рюмочку. Можно её же и последнюю, но полное соблюдение традиции предусматривает и вторую — после достижения зерваком готовности или закладки риса — кому как больше нравится, а также третью — уже под плов. А вот больше пить не стоит — это неуважение к плову.
Под холодные шкварки мне пить покамест не приходилось, но принимая во внимание обстоятельства, привередничать неразумно.
— Прости меня, старик, нашло что-то тогда.., — сказал Андрей, взяв со стола свою стопку и выжидательно посмотрел на меня. Правильно сделал: как же чокаться, если между друзьями повисла обида.
Я ничего не ответил — просто поднял холодный стопарик, протянул руку и звонко с ним чокнулся. Андрей радостно выдохнул и махом опрокинул чарку в горло.
— Ах, хорошо пошла! — и следом бросил туда же жменьку шкварок.
Делать хреновую водку — а в шкалике кедровой «Зелёная марка», которая больше всего, на наш вкус, годится в качестве исходника хреновой, была именно она — Андрей научился у засрака Саши Дроздова, когда я ещё до пенсии работал в «Санкт-Петербургских ведомостях» и их познакомил. Вы не подумайте, я не диффамировал Сашу — это достойнейший человек, один из старейших на Неве фоторепортёров и на шесть лет совместной работы мой друг, заслуженный работник культуры России, а коротко по-питерски — засрак. Он угостил нас своей хреновой водкой по случаю знакомства с Андреем, и тот просто влюбился в неё с первой рюмки и скоро стал делать сам. Меня Саша тоже учил, и не раз, даже корни элитного хрена привозил со своей дачи на Карельском перешейке, но я пью так редко, что когда соберусь её всё же сварганить, уже не могу вспомнить рецепт. Нет, так-то всё просто: кедровая водка «Зелёная марка» в бутылке с завинчивающейся крышкой — так удобнее открывать-закрывать, да и транспортировать, если нужно, да наструганный хрен — вот и все ингредиенты. Но сколько этого хрена строгать и как долго настаивать, я вечно позабываю, поэтому и не затеваюсь, а только теперь угощаюсь раз в год по обещанию у Андрея, ибо как ушёл из редакции, с Сашей мы больше не виделись.
И она хорошо пошла, и холодные курдючные шкварки. Это сама по себе превкуснейшая штука — никакие свиные и прочие не сравнятся! Когда я приехал в Россию, была целая проблема — найти курдючный жир, а теперь его везут из Дагестана в Питер в изобилии, и он, да простят мне мои земляки, кажется мне качеством выше, чем наш, туркестанский. На нём-то и делается подлинный плов! Конечно, от бедности до революции, да и после неё варили на растительном масле — главным образом, самом дешёвом, кунжутном, отчего палава, как называл его папа словом, вошедшем в русский язык лишь старых туркестанцев — как например, у русских переселенцев в Америке и Канаде возникло название легковушки «кара» — сам не раз слышал, была почти чёрного цвета, да и пахла не очень. Потом пришло хлопковое, выжатое из семян «белого золота» Узбекистана, которое калили до белого дыма, и тот пропитал весь Ташкент, а в моё время особенно популярно было дезодорированное «Салатное», и многие приезжие, да и невдумчивые потомки даже старых туркестанцев считают, что так и надо. Нет — только курдючный жир! А вот морковь, как верно учит Сталик Ханкишиев, годится любая, а не только жёлтая, как мы привыкли в Ташкенте — жёлтая тоже ведь от былой скудости: она кормовая и оттого всегда продавалась дешевле оранжевой.
— Повторим? — гостеприимно спросил Андрей. Но я отказался — шкварки мы схряпали, а ничего другого перед пловом на закуску не хотелось.
Андрей убрал хреновую обратно в холодильник, отставил стопки и стал промывать рис. Девзиру мы не замачиваем и моем прямо перед закладкой — так нам кажется вкуснее. Девзира — великий рис, эндемик Ферганской долины, точнее — её восточного предгорного краешка, теперь тоже доступен в Питере. Хотя я несколько раз нарывался на подделки.
Чтобы не мешать ошпазу — ещё вновь, не приведи аллах, окрысится, если скажешь чего-то не то под руку, я тихо вышел из кухни. В открытую дверь спальни было видно, что Лена гладила там постельные принадлежности.
— Можно в святая святых? — спросил я, замерев на пороге. Она махнула рукой приглашая.
Я уселся в кресло у окна.
— Новости есть? — оторвала она взгляд от пододеяльника. — Или просто приехал — мириться с Андреем?
Я хмыкнул.
— Это ему следовало мириться со мной — он же состарился до того, что увидел в зеркале рога, хотя это вовсе не зеркало, а олений вольер. Впрочем, мы помирились — он попросил прощения.
— Это я поняла, — усмехнулась Лена, — по амбрэ хреновой, перебивающему даже пловный дух.
Лена принялась за наволочки, а я рассказал ей о своём визите по дороге к ним в «Пятёрочку», что виднелась из окна на той стороне Будапештской.
Ферганский горком комсомола не успел серьёзно попортить Леночкины мозги, и она после него и до самого отъезда в Ленинград успешно руководила детским садом на массиве Яссави. В Ленинграде ей тоже дали в управление детский сад — в Купчине, неподалёку от дома, коим она до пенсии и рулила. Так что ум у неё был административный, что значит — стратегический. Именно поэтому она, не размениваясь на частности, и предложила нам с Андреем попросту разрубить гордиев узел — выбросить этот чёртов чек и забыть.
— Ну вот, ещё одно подтверждение моей мысли, что с этим надо кончать, — сказала она, выслушав меня не перебивая, только однажды спросила, когда я описывал продавщицу: «Это какая — в кудельках?», — а когда я подтвердил, фыркнула: «Да вообще сто восьмая какая-то…»
Вот вы сейчас опять ничего не поймёте, поэтому снова придётся отвлечься. Сто восьмыми в Узбекистане называют ту самую публику, которую в Питере — бомжами. Бомж — это, как известно, ставшая существительным, от частого употребления, аббревиатура: «без определённого место жительства», а сто восьмой — осуждённый на статье 108 УК Узбекской ССР, причём далеко не в последней редакции, за бродяжничество. Понятное дело, что эти определения в повседневном, а не милицейском обиходе вышли далеко за пределы изначального смысла, и в Петербурге могут презрительно заклеймить в разговоре бомжом просто весьма неопрятного или донельзя испитого, опустившегося человека — в соответствии с его характерным отталкивающим обликом. Так и на моей родине сто восьмыми кого только не обзывали — и забубенных алкашей, и вокзальных потаскух, и всяких неприкаянных и непутёвых, почти сплошь обкуренных анашой людишек с уличными замашками из «шанхаев», коих было немало вдоль опустившегося, как и эти человеческие отбросы, Салара, кто, на взгляд обзывавшего, подпадал бы под 108-ю статью, — словом, отвратных при невольном с ними соприкосновении. Ту продавщицу из «Пятёрочки» моя мама-ленинградка в разговоре назвала б, к примеру, халдой, а Лена вот, как ей привычнее с детства — сто восьмой.
— Мы-то сперва думали, кто-то странно так подшутил, подделав чек на компьютере — вот как ты нынче, — между тем продолжала Лена. — А раз его нельзя подделать в принципе, то не думать же и правда, что к нам пробрался путешественник во времени, — она аж коротко хохотнула при этих словах.
— А что думать? — спросил я.
— Ну не знаю… По мне, так лучше ничего. Выбросить или сжечь и забыть. Мы столкнулись с чем-то необъяснимым — мало ли и другого необъяснимого кругом: человечество только жить начинает.
Нет, за Леночкой нашей — это я не в том смысле, что за нашей с Андреем; треугольника, как вы давно поняли, тут нет и не было — я честно передал вполне невинную Леночку Андрюхе сто лет назад и даже очень тому порадовался, ибо в Ташкенте тогда назревали свои немалые заморочки — не до ферганских, — так вот за Леночкой нашей записывать надо! Оцените, как сказано заведующей детсадом, а не профессором философии: «Человечество только жить начинает»!
Андрей оценил. Он как раз в этот момент вошёл в спальню, принеся на себе сказочный запах готового плова.
— Справедливо, но так можно от всего отмахнуться, — уважительно посмотрел он на супругу, хотя и стал ей возражать. — Мы, мол, младенцы, а вот дорастём — и законы мироздания постигнем, и телепортацию наладим, и телекинез возродим, которым, говорят, пользовались строители пирамид. А уж передача мыслей на расстояние станет рутиной и обрушит эту долбаную «Почту России» вместе с Ростелекомом.
— Не ёрничай — это тебе не идёт! — фыркнула Лена за неимением контраргументов. Типичный женский приём в семейном кругу, когда смотревшая в девушках в рот жениху матрона, прибрав к рукам власть в пещере, решает, что теперь его очередь. Но ведь Андрею-то как раз шло! Я во всяком случае с интересом смотрел, просто ли он положит её на лопатки или перейдёт к действию, логично из этого вытекающему.
Но он даже и на лопатки класть супружницу не стал. Когда Лена, перемолчав, сказала, что всё равно надо заканчивать эту трихомудрию, не то добром наше мозголомство не кончится, он произнёс поистине великую фразу, которую я бы сделал просто слоганом старости:
— Всё будет хорошо! На остальное у нас уже нет времени.
Зримым подтверждением его правоты стал вынесенный им из кухни лазурный ляган с горой плова, курившейся, как Толбачек. Андрей торжественно установил его в гостиной на столе: плов не едят по кухням, точно мюсли. Три головки чеснока сияли на самой вершине горы благородной масляной патиной, словно отлитые из бронзы — по головке на брата. Затем Андрей принёс в одной руке блюдо тончайшим образом наструганного «ферганского сала» — маргиланской зелёной редьки, а в другой — того же сервиза «Пахта» касушку аччик-чучука, салата, которым в раю гурии кормят шахидов, ибо в конце сентября в Туркестане кто-то ещё ест плов с салатом, а кто-то — уже с редькой, как в самые холода. Ещё бы тут очень бы к месту была вазочка с янтарной айвой, которая светится, точно нефрит, но где же в этом краю северных мамонтов взяться нашей айве — а та, что привозят из Краснодарского края, что кошкины слёзы.
Вот вы скажете, мол, и жил бы в своём Туркестане, а то хает и хает… Не хаю ничуть! Разве я сказал что-то против самых божественных пончиков в мире с Большой Конюшенной, подобных которым даже в Питере больше не сыщешь? Или кислой капусты — не той горькой жвачки, что сейчас продаётся в тех же «Пятёрочках», да и у бабок на рынках, а заквашенной при СССР из специальных (!) сортов, культивировавшихся под Ленинградом, нынче уже истреблённых ради многоурожайных скороспелок. А пироги и кулебяки в «Штолле», продолжающего славные традиции петербургских немецких кухмистерских, восхвалениями которых полна русская классическая литература!
Нет, я ничего не хаю, я лишь говорю, что зира для плова должна быть с узбекско-таджикских отрогов Тянь-Шаня, чёрная, как тот Кузбасс-лак, за печкой, окрашенной которым, меня сажали на фаянсовый горшок эпохи Царя-миротворца, а не эта иранская бледная немочь почти что без запаха, что только и торгуется в Петербурге. Понятно, зира не для всякого, спрос невелик, тем более для людей, наслаждающихся урюком, который в Туркестане не стали б лопать и хрюшки — а они понимают толк в урюке, сойдёт и иранская, чтобы сварить в эмалированной латке мясную кашу с морковью, засыпанную куркумой — плов же должен быть жёлтым, и хвастануть на работе, что, мол, вчера приготовила настоящий, как меня научили в Саратове.
С зирой, даже нашенской, чёрной, и в Ташкенте можно здорово обломаться, если не вырос там в четвёртым колене, а имея бабушкой раскулаченную где-нибудь на Рязанщине. Помню в последний ташкентский приезд иду по Алайскому, зачем-то так перетряхнутому изнасваенными хакимами, что по старому знанию ничего не найдёшь, в том числе и зиру — только по запаху.
— Бери давай, жуда яхши зира! — приглашает любезно старец вполне современного облика.
Как же, ещё как «яхши» — весь день, как и сотню других, этот мешочек открыт всем ветрам и носимой ими пыли! Подхожу, улыбаюсь, гляжу ему прямо в его плутовские глаза, качая укоризненно головой. Он выжидает минуту — вдруг не так понял, потом ныряет под прилавок, достаёт небольшой хурджум и пиалкой зачерпывает там божественное семя. Вот это зира — не то что та выветренная, с прилавка! Не зря аксакал, годящийся мне в племянники, поспешно снова затягивает удавку ремешка на хурджуме — чтобы не выдохлась. А я положу дома в старинную папину склянку с притёртой пробкой, чтобы когда зира окажется в старой папиной фарфоровой ступке, чтобы слегка порушенная готова была облагородить зервак, она всё ещё могла терпким своим ароматом поднять даже мёртвого.
Зира это ладан Востока!
— Мархамат сизга, джаним, — протягивает мне, взвесив, покупку и, пряча в складках кийикчи полученную плату, хитро улыбается аксакал: как же, мол, это свой своя не познаша, ай-яй-яй…
Ош мы съели со всем к нему уважением — молча и без выпивки. А когда Лена принесла чай, снова вернулись к анализу ситуации, которая даже за благословенным пловом не выходила ни у кого из нас из головы.
15. БАБА НА ЧАЙНИК
— Поскольку у нас тут филиал Туркестана, слушайте, братцы, старшего, — веско сказал я после того, как опорожнил вторую пиалу — первую мы выпили в полном молчании: чай, как и плов, следует уважать. Галдёж над только заваренным чайником, когда даже ещё хайтармы не свершили, считается в Туркестане таким дурным тоном, как если начать есть плов раньше самого в компании старшего.
Помнится, примерно через год после моего приезда в Петербург понадобилось мне встретиться с руководством местного общества соотечественников Узбекистана «Умид» — я вёл тогда в «Санкт-Петербургском курьере» смольнинскую грантовую полосу «Национальность — петербуржец», повествующую о жизни национальных диаспор. Кстати, обратите внимание, что в отличие землячеств выходцев из других бывших союзных республик, это объединяло не одних узбеков, а всех узбекистанцев — в него входили и русские, и корейцы, и украинцы, и представители многих среднеазиатских национальностей, для которых Узбекистан был и остаётся драгоценной родиной. Позже возникла ещё одна общественная организация земляков на Неве, и я несколько лет, пока она не распалась, входил в состав её руководства.
Но это к слову. А тогда, в 2006-м, земляки меня очень радушно встретили у себя на 17-й линии Васильевского острова, тут же затеяли плов, который оказался готов раньше, чем мы завершили деловые разговоры с создателем и лидером «Умида» Алиджаном Хайдаровым. Плов принесли в его кабинет, активисты расселись, а мы с Алиджаном Джахангировичем всё никак не закончим. И все сидят ждут, только слюнки глотают. Потом наконец кто-то робко:
— Искандер-ака.., — и глазами на ляган мне показывает, где бездарно остывает плов: мол, неплохо бы приступить.
— Да-да, — говорю, подумав, что это меня приглашают угоститься, — спасибо. Сейчас мы, вот только…
— Нет, давайте прервёмся, — засмеялся Алиджан. — Иначе никто не притронется, пока вы не отведаете — вы же среди нас самый старший.
Потом, уже позже, когда познакомились ближе, выяснилось, что чуточку старше всё же Хайдаров, но я был тогда уже сед, как лунь, а он ещё вполне черноволос, и земляки сочли это безусловным признаком моего старшинства.
Ну а в нашей-то компании все прекрасно знали, кто тут старший, и приготовились внимать.
— Я ехал к вам с одним вопросом, но Лена поставила второй, так что давайте обсудим оба, — сказал я.
— В порядке поступления? — восстал в Лене из летаргического сна комсомольский орговик, и это меня рассмешило.
— Мы же не на комсомольской конференции, старуха. Да, думаю, и там всё же решили бы первым обсудить вопрос принципиальный, а потом уж частный.
Андрей долил себе чаю, отхлебнул слишком нервно, что выдало его не проходящее лихорадочное состояние, обжёг, естественно, нёбо и чертыхнулся:
— С вами орговиками… Шкура теперь с нёба слезет. — Он покатал по обожжённому нёбу языком и поморщился. — Уже слезла.
— А ты что, тоже в комсомоле работал? — удивилась Лена, переводя взгляд с мужа на меня и обратно.
— Не за зарплату, как ты, — сказал я. — Был членом Ленинского райкома комсомола Ташкента, а когда пробился в партию, формировал комсомольские отряды на ударные стройки. Так что выбыл из комсомола только в 31 год, когда сам уезжал из Ташкента на «Атоммаш», отдав комсомолу 17 лет.
— Надо же, какие открываются подробности! — покачала головой Лена. — А ты ведь никогда не говорил.
— Я многое чего тебе не говорил — это удел Андрея тебе всё говорить, — усмехнулся я. — Что он, надеюсь и делает.
Ребята переглянулись и обнялись.
— Воздержавшиеся есть? Воздержавшихся нет. Принято единогласно! — изобразил я председательствующего при голосовании по вопросу «разное». — А теперь хватит трёпа. Вопросы на повестке вот какие: Лена предлагает покончить с нашей проблемой кардинально — изничтожить этот чек и считать, что его и не было.
— Праздновать труса? — недоумённо посмотрел на неё Андрей.
— А хотя бы и так, — дёрнула она плечом. — Всё остальное обойдётся дороже, я чувствую.
— Если мы так и порешим, как Лена предлагает, — сказал я, — то вопрос, с которым я к вам ехал, отпадает.
— Что за вопрос? — насторожился Андрей.
— Очень простой: если продолжать доискиваться правды, надо объединять усилия. Мне одному не осилить.
— Разве кто-то возражает? — воззрился он на меня.
— Не хотелось бы никого обижать, — парировал я интонацией телеведущего Ильдара Жандарёва, — но вчера ваша выходка, сударь…
— Ну я же извинился! — вскочил Андрей, вновь показав, как внутренне наэлектризован. Язык его задел обожжённое нёбо, и он скривился.
— Этого мало, — не стал щадить его я: подумаешь, обжёгся — не пулю же словил. — Ты объясни, чего ты всё время дёргаешься. Главное тут именно это, а не твои ишацкие намёки на наш с Леной якобы адюльтер, который пригрезился тебе от истощения нервных клеток головного мозга. Это-то, кстати, вполне извинительно — Альцгеймер подкрадывается неумолимо, ничего не попишешь.
— Саша, хватит! — воскликнула Лена и схватила Андрея за руку, словно стараясь не дать Альцгеймеру его схарчить. — Прекрати свои дурацкие шуточки! Мысли материальны.
— Сказала идеалистка, верящая в гороскопы, — поддел её я.
— А это уж моё дело! — показала она мне язык.
Обстановка разрядилась, и Лена пошла заваривать новый чай.
— Старик, пока мы одни, объясни ты мне всё же, чтобы с этим навсегда покончить — чего ты вдруг стал плести про что-то у нас с Леной?
Андрей насупился.
— Ну было же…
— С чего ты взял? Решил так, потому что я с Леной познакомился раньше, чем ты? Так я и с твоей тёщей раньше тебя познакомился, — выпалил я и прикусил язык. Но было поздно!
— Видишь! — вспыхнул он, как мальчишка. — Ты у них, значит, бывал — где ж тебе ещё было с Мариной Игнатьевной, царствие ей небесное, познакомиться?
— Не бывал, — сказал я. — Но разве тебя переубедишь?
— А ты попробуй! — упёрся вдруг Андрей. — Может и удастся.
Мне было смешно и грустно.
— И ты что, вот с этим всем все эти годы жил? Копался, сопоставлял?
Он долго молчал.
— Представь себе, — глухо признался он наконец.
— Что ему надо представить? — весело спросила Лена, появляясь в гостиной с чайником на блюдце с нахлобученной на него бабой в толстом салопе, чтобы сохранять тепло. Салоп уже вылинял, а целлулоидная голова бабы растеряла весь свой макияж и большинство волос косицы. А была ведь такая яркая…
— Помнишь? — перехватила Лена мой взгляд. — Это ведь ты подарил? Вот, гордись, сберегла!
О боже! Лучше бы она этого не говорила! Я обхватил голову руками и стал подумывать, не выпрыгнуть ли в окно, как Подколёсин.
— А я всегда считал, что это твоей мамы подарок, — зловещим шёпотом проговорил медленно Андрей.
Лена бросила быстрый взгляд на меня и, кажется, поняла, что тут без неё происходило.
— И на каком же основании? — обняла она мужа сзади, поставив чайник на стол.
Андрей резко сбросил её руки.
— На том, что приличной девушке чужие мужики подарков не дарят! А значит, кроме родителей, больше некому.
Тут уж Лене шлея под хвост попала.
— А откуда у тебя, дорогой мой, такие глубокие познания о приличных девушках? Чувствую, ты их с о-очень близкого расстояния изучал.
Я вот рассказываю, а вы представьте: собачатся не юнцы, а два шестидесятилетних человека! Большой грузноватый Андрей и маленькая хрупкая всё ещё Лена. Умора — если бы только третьим в этом ужастике не был я.
А Лену между тем несло:
— Где, голубочек мой? В типографии — наборщицы, да? Или в буфете «Нурхона» — такие были в крахмальных наколочках, фик-фок на один бок и сбоку бантик? А вы не с Антипиным ли случайно на пару их изучали? — обошла она его кругом, вглядываясь так, будто прежде не видела ни его штанов, ни рубашки. — Или и Саша с этой же целью подкатывал? — подмигнула она из-за его спины мне. — А-а, вспоминаю, — покачала головой Лена и села к столу, — вы с Тугушевым на целую неделю завились как-то в Шахимардан. В Вуадили, стало быть, заповедник приличных девушек для изучения их повадок?
Она помянула Шавката Тугушева — собкора «Правды Востока» в ту пору, когда Большаковы женились и он был свидетелем на их свадьбе. А мы-то с ним познакомились много раньше, когда Шавкат был ещё репортёром «Ферганки» и мы тоже вместе однажды ездили в Вуадиль. Если бы там был такой заповедник, какой предположила Лена, Шавкат непременно бы мне его показал.
И вот тут Лена переборщила. И теперь в наступление перешёл Андрей. Он сел напротив неё, не обращая внимания на моё присутствие, и сказал ехидно:
— Очень вовремя вы, мадам, о Шавкате напомнили. Помню, кто-то на том Новом годе в драмтеатре, о котором Саша потом тиснул репортаж в «Комсомольце», весьма страстно целовал Снегурочку.
— Не Снегурочку, а её рукавички, — растеряв весь свой обличительный пыл, проговорила Лена.
— Ах, ах, ах, рукавички! — легко, символично пристукнул Андрей кулаком по столу, что даже чайник не дребезжнул, и вывинтился со стула через правое плечо. — Скажите пожалуйста, какой объект для страстных поцелуев — театральный реквизит, закаканный мышами!
— Сам ты закаканный, Большаков! — залилась краской Лена. — Если уж на то пошло, я видела, как ты обнимался за кулисами с той актрисулей, что осенью у них взяли в труппу.
— Да, — отважно принял опасный выпад Андрей. — Да! Я обнимался с ней, больше того — я с ней целовался — между прочим в губы, а не как твой Тугушев в варежки. И даже взасос!
— Я это, конечно, предполагала.., — пролепетала Лена.
— Ну вот, а теперь знаешь наверняка! Знать ведь лучше, чем теряться в догадках. — Он впервые за всё время перепалки повернулся ко мне. — Как считаешь, старик?
Я, наблюдая за ними, расслабился и не подобрал вовремя пресс. Я же не думал, что следующий тычок будет в меня.
— А что я? Я с актрисулей не целовался…
— Не валяй дурака! — посмотрел на меня какой-то чужой Андрей, каким он никогда не был. Был незнакомым, но до того как я его впервые увидел у Антипина, а потом — сразу своим. Когда он успел стать таким? За годы, что мы не виделись? Но мы, слава богу, уже больше десяти лет опять видимся — и это всё тот же ферганский, «поднурхонный» Андрей, только, как все мы, понемногу стареющий. — Ты помнишь, как я тебя встретил возле Лениного дома весной того года, когда мы с ней познакомились? Только я тогда ещё не знал, что это её дом, а ты-то уже знал.
Он посмотрел на меня с сожалением, как смотрят, когда узнают об опасном диагнозе друга.
— И я не знал.
— Но ты же выходил из её подъезда! — взвился Андрей.
— Выходил.
— А зачем ты был в нашем подъезде?! — изумилась Лена и подалась ко мне.
— Тебе лучше знать! — огрызнулся Андрей и отмахнулся от её попытки сказать что-то ещё, словно замазывая мазком кисти готовые сорваться с её губ слова.
— Я помогал Марине Игнатьевне донести её сумки.
— Ну хоть в этом не врёшь.., — обессиленно сказал Андрей и снова сел.
— А в чём вру?
— Что не был никогда у Лены.
— Я и не был.
Я тоже обессилел и тоже сел. Лена разлила нам по пиалам подостывший чай.
— О, хорошо — как раз такой, что можно пить с сожжённым нёбом, — одобрил Андрей, пригубив, словно наша перепалка не имела никакого отношения к той обыденности, где происходило чаепитие. Он как бы вышел из одной пьесы и зашёл в другую.
— Я был в тот день в обществе «Знание», — сказал я, не прикасаясь к чаю. — У них там молодёжный лекторий, и меня мой завотделом в «Комсомольце Узбкистана» Гена Фиглин нарядил по телефону сделать об этом заметку — я же в отделе пропаганды работал. Пришёл, а у них день выдачи пайков — их по четвергам выдавали. Хорошие такие пайки, объёмистые: мясо, шпроты, куча цибиков чая, сервелат, сыра здоровый кусище — ну всё, что было в дефиците. Марина Игнатьевна мне всё про лекторий рассказала, снабдила цифирью и, уже провожая, споткнулась о сумки с пайком, что стояли прислоненные к её письменному столу — две, как сейчас помню. «Простите, расставила тут! Господи, как я это всё понесу…», — сказала она мимоходом и начала про что-то другое. А я говорю: «Давайте я помогу!» — «А вам не трудно? Других дел у вас вечером нет?» — «Но мы же не в Маргилан понесём?» — «Какой там Маргилан! Вон, через две улицы». — «Когда за вами прийти?» — «Да можно сейчас и идти, чтобы вам не возвращаться: у меня сегодня всего два важных дела было — паёк получить да вам данные по лекторию приготовить. Оба выполнены», — улыбнулась она. Она оделась, я подхватил сумки, и мы пошли. В подъезде она забрала у меня сумки: «Неудобно, если соседи увидят. Вот, возьмите». Она достала из одной из сумок две пачки чая с незнакомыми мне этикетками. «Это кенийский, вы такой вряд ли пробовали — его только в обкомовских пайках выдают. Берите-берите, — видя, что я колеблюсь, сказала она. — Все журналисты любят чай, а такого вы ни за что не достанете! А у нас дома чай почти не пьют — только компоты да кофе». Ну ладно, раз так. Я сунул цибики в карманы пальто, мы попрощались, и я отправился в гостиницу. Вышел из подъезда — а тут ты как раз мимо идёшь, — глянул я на Андрея. — И только на вашей свадьбе, когда мы поехали выкупать невесту, я узнал, что Мария Игнатьевна — это Ленина мама. Какая-то женщина подошла ко мне сзади и спросила: «Ну как кенийский чай? Понравился?». Оборачиваюсь — она.
Андрей встал и, стараясь не встречаться со мной взглядом, вышел из комнаты. «Схожу вниз за сигаретами», — бросил он уже в дверях.
— Ну а ты чего не сказала ему, что это я подарил тебе бабу на чайник? — накинулся я на Лену, когда мы остались одни. Вполголоса, опасаясь, что Андрей вдруг передумает идти за куревом и вернётся. — Зачем эти бомбы замедленного действия? Кому это нужно у ворот кабристона?
— Да какие там бомбы? — скривилась Лена. — Я что, думала, что какая-то баба на чайник может что-нибудь значить! Мне тогда на 8 Марта ребята в горкоме сколько подобных пустяков надарили — дело же обычное.
— Как видишь, нет. То «ребята в горкоме» — а то я, которого Андрей изначально, выходит, подозревал в нехорошем. Поди с самого того дня вашей свадьбы, когда я был его дружкой, которого он тебе представил, а ты нет чтоб смолчать, сделав вид, что мы не знакомы, полезла ко мне целоваться как к старому знакомому. Тут бы и у меня, пожалуй, возникли чёрные мысли, уж на что я толстокожий.
— Ты? Толстокожий?! — прыснула Лена. — Думаешь я не помню, на что я наткнулась, обнимая тебя тогда от полноты чувств?
Я отскочил от неё.
— Вот ещё этого нам не хватало! Вот ещё это ляпни, когда он вернётся! — зашипел я, поглядывая на прикрытую дверь в прихожую. — И всё — можно рвать чек, а следом вскрывать себе вены. Или искать того гуляльщика по времени и вместе с ним рвать когти в будущее.
Лена оглядела меня, словно мы только что с ней не цапались.
— Я предпочла бы рвать с тобой когти не во времени, а в пространстве, — сказала она многозначительно, закусив нижнюю губу и приподняв правую бровь — совсем как делала это Оля Медведева, и у меня отвисла челюсть.
16. БЛЮЗ АЧЧИК-ЧУЧУК
— Старуха, ты по миру-то ходи, да хреновину не городи, — отозвался я знаменитым савельевским присловьем, когда вновь обрёл способность говорить.
Лена продолжала смотреть на меня всё так же порочно-загадочно. Господи, я и её, оказывается, толком не знал, как и Андрея, открывшегося мне нынче с неожиданной стороны — и это меня поразило. Вот живёшь так, жизнь идёт по накатанной, и кажется, что все таковы, какими видятся год за годом за дружеским пловом. А случись на этой дороге колдобина, так подбросит, что не только зад отобьёшь, но и в жизненном калейдоскопе вместо пасторальных лютиков возьмёт, да и сложится что-нибудь монструозное.
Мы знакомы, конечно, давно, что там — очень давно — как их выжданный Коля говорит, люди столько не живут. Но что я о них знал? Общались мы в сущности мало — и в молодости, и теперь только по праздникам или совсем на бегу. Ни толком поговорить, ни хоть чайную ложку соли поваренной вместе съесть, ладно уж пуд, было всё недосуг. Андрей? Ха, да вот он весь, как предметное стекло с препаратом на просветку! Леночка? Тоже вся, как под рентгеном, жаль лишь, он до самых костей пронимает, а не только до кожи. Что в них такого таинственного, загадочного или неизвестного? Ну, интимные тайны их трогать не будем, они же у всякого есть, но на отношения с окружающими почти не влияют, если только не ПМС. Но так ведь это было давно и неправда — нам всем уже столько годков, что о тех «отягчающих обстоятельствах» и вспоминать нынче смешно и неловко. Гормоны, конечно, по старой привычке временами поигрывают — вон как Лена отреагировала на мою хохму по поводу Андреева собственноручного оскопления, не случайно ведь, но всё это, как говорила моя мама, остатки былой уже роскоши.
Что ж вы, старичьё моё этакое, не утыркаетесь всё никак, не поймёте, что дорога у нас остаётся одна, магистральная — на кабристон, вон он виднеется в дымке у горизонта? Мчаться по ней, разумеется, незачем — опоздать невозможно, но и мышковать, ныркать в проулки по-пацанячьи тоже ведь несолидно. Шествовали б себе с достоинством по широкой панели и желательно за ручку, как давно ли ходили по жасминно-сиреневой Фергане очень многим на зависть. Так нет…
— А чего вы сидите такие загадочные? — послышался голос Андрея в дверях. — Опять у меня за спиной замутили?
Теперь он говорил без былого сопения и без деланной лёгкости, а в самом деле шутливо, как тот лохматый парень после армии в ферганском типографском цехе. Он подошёл ко мне, сел на стул сбоку, лицом мне в щёку, хлопнул рукой по ноге и сказал:
— Ещё раз прости, дружище. Опять сплоховал…
— Бог любит троицу, — покосился я на товарища. — Стало быть мы ещё до первой звезды можем снова увидеть небо в алмазах.
— Гарантирую — нет, — глянул он на меня проникновенно. — Это всё этот чек — и надо ж ему было попасться мне под руку.
— Кстати, а где он? — вспомнил я, что хотел его рассмотреть не на фото, а наяву.
— Да вот.
Андрей открыл стеклянную дверцу «Хельги» — знаменитой гэдээровской горки времён нашей молодости. Её купила ещё его тёща, пользуясь своими возможностями председателя городского общества «Знание» — горкомовской номенклатуры, по спецталону в главном ферганском мебельном магазине на Ленина, недалеко от базара. Многое бросив на родине, она всё же заставила Андрея с Леной втиснуть её в контейнер с самым необходимым и дорогим и припереть в Петербург, когда они её перевозили туда в самом конце 90-х. А с тех пор, как Марина Игнатьевна так и осталась на Южном после совместной поездки с детьми с Будапештской, где они вчетвером — ведь и Коля родился — ютились лет восемь, «Хельга» осталась как память — и о Лениной маме, а Колиной бабушке, и о былом советском скромном номенклатурном благополучии.
На средней полке в хрустальной пепельнице, которая ни единого раза, как помнится, не использовалась по назначению, ибо в доме у них никогда не курили, Лена держала свои кольца, кулоны, цепочки — солидную пригоршню «рыжья», постепенно надаренную Андреем за целую жизнь. Поверх этой семейной сокровищницы и возлежал тот злополучный чек.
Впрочем, отчего злополучный — зла-то он никому пока не принёс? Ну, побухтели немного, поцапались, оголив от нервного напряжения в предчувствии от него только зла прикрытые тональным кремом жизни старые болячки — так ли уж это страшно. И последняя выходка Лены, с её этим прикусом женщины-вамп, тоже из той же серии. Ну вспомнила старая девочка, как прижимаясь ко мне тёплым бедром, шевельнула что-то такое во мне на их свадьбе — так разве подобные шевеления из диковинных. Живому живое, тем более молодому. Ну шевельнулось — но ведь инстинктивно, во-первых, а во-вторых, бесперспективно — прежде всего потому, что ни мне, ни ей этого уже не было надо. Да и сразу-то не было — может быть чуточку только мне, в силу гендерного своеобразия возраста, как я писал в стихотворении того времени — «с присущим нам порхающим прищуром, когда мы служим почитальный чин языческим эротам и амурам».
— Держи, — Андрей подал мне чек.
— Возьму с собой?
— Да ради бога! — позволил он с радостью и видимым облегчением. — Так даже лучше: раз, говоришь, тебя касается, так пусть у тебя и распространяет свою радиацию.
Я рассмеялся.
— Это ещё не третий сеанс твоей мстительности, который я предвидел? Или уже?
— Бери и уноси, — Андрей пропустил или сделал вид, что пропустил, мимо ушей моё язвительное замечание. Он явно демонстрировал, что больше не склонен вступать со мной в контры. — По крайней мере, у тебя хоть точно сохранится, а тут Лена может его и прикончить.
— Пока он нас сам не прикончил, — впервые подала голос Лена с момента своего ошеломившего меня заявления.
— Типун тебе на язык! — дёрнулся Андрей. — Если кого и прикончит, так Сашу.
— А меня что, не жалко? — скривился я вроде как со смешком, но его замечание, честно признаюсь, меня покоробило.
— Своя рубашка ближе к телу, — цинично отбрил он.
Уж больно что-то много цинизма исходит нынче от Андрея, подумалось мне. Неужто я вот уж настолько его не знал? Впрочем, он Овен, и это, возможно, совсем не цинизм, а форма старческого упрямства как рудимента детского каприза. Не зря говорят, что старый, что малый. Я ведь и за собой его изредка замечаю — а окружающие, вероятно, частенько.
Да, изменились мы с тех пор, как сидели в последний раз все вместе под «Нурхоном», чего уж тут говорить. Просто мы трое, к счастью, здоровы, по лечебницам не ошиваемся и скорых к нам не вызывают, продолжаем работать: я редактирую экологический сайт, Андрей два через два сторожит автостоянку поблизости, Лена вяжет прекрасно, и её вязево разлетается через группу ВКонтакте моментально, как горячие пирожки — вот и блазнится, будто прорва времени миновала, а мы всё как прежние, словно прибыли на вокзал статусной старости скорым поездом молодыми, со всеми закидонами молодости. Больным старикам не до душевных переживаний, они, как послушаешь где-то в транспорте, толкуют только о земном, а не надземном и подземном, их печали — сахар в крови, песок в суставах, ухватить номерок или как он теперь называется к семи узким специалистам кряду, да не забыть надеть памперсы, уходя в магазин. Мы им очень сочувствуем, однако не соприкасаемся с ними, это не наш мир — заунывного, словно калмыцкая песня, и мучительного, как затяжные роды, угасания.
Но бог не ермошка, видит немножко. Сохранив нам физическое здоровье и вроде бы ясность рассудка, он чем-то же должен был гаденьким уравновесить, для справедливости, эти внешние проявления. И не эта ли дремавшая под спудом компенсация вылезает теперь наружу, когда сработал катализатор в виде в высшей степени странного чека. Что же такое нам ещё предстоит узнать про себя и испытать? Вероятно, Андрей это осознал или, скорее, своим седалищем почувствовал раньше меня — и задёргался, как кролик перед пастью удава, ещё снаружи, но уже чуя на себе змеиный желудочный сок. И у Лены на этой же почве возникало сегодняшнее помутнение — со всей этой её вампукой. Рвать когти они со мной захотела, ты ж понимаешь! Если на то пошло, где ж ты была в 77-м, когда я бы, возможно, на такое и подписался, хотя и не факт. И придёт же такое на ум… На здравый старушечий не придёт, а на вспугнутый — запросто, как оказывается. Не зря она заклинала нас похерить к чёрту этот чек — женщины, как и звери, за версту чувствуют крадущуюся беду, только они не уходят подальше, а начинают дёргаться, как плотва на крючке. Недавно я гулял тёплым вечером по Колпину, и на моих глазах рыбачок выхватил из мутной воды ижорской заводи искорку с мой указательный палец. Как она дёргалась, бедная! И всё же сорвалась с крючка.
А сорвёмся ли мы? Или так вот пересобачимся, как поддатая молодь на танцполе? Так что же, гасить тогда чек и заняться, как прежде, лишь внуками. Да, кстати, о внуках — а где же Вовчик?
— Кстати, где Вовчик? — повторил я последнюю фразу своих размышлений вслух. — Его же вчера привезли.
— А утром забрали, — как-то нервозно отозвалась Лена. — Сказали, ребёнку тоже надо лесным воздухом подышать, пока погода хорошая. Это вообще-то правильно — что ему с нами сидеть в четырёх стенах.
— Ночь им нужна была просто бездетная — чтобы рты друг другу не зажимать, — опять цинично высказался Андрей и взглянул на меня снова чужими незнакомыми глазами. Мне захотелось крикнуть: «Андрей, атас!», — как кричали мы в детстве, сплавляясь на баллонах по Бурджару, если на нас мчался острый сук тала, нависавшего над самым потоком с крутого берега.
— Ну и что тут плохого? — скосила на него глаза Лена. — Ты вон всё ещё любишь плотские радости, а ребята чем хуже?
Он смутился.
— Да нет, ничего. Так это я — для ясности…
— Ладно, пойду я, — поднялся я, пока снова чего-нибудь не случилось. Большаковы, кажется, присмирели, вот бы ещё сами нырнули в постельку для сеанса омоложения. Окинув их взглядом, я понял, что к этому вроде как всё и идёт: они меня не удерживали, я стал уже лишним.
— Чек я беру! — зафиксировал я в их сознании факт и спрятал чек в паспорт, который вместе с пенсионным у меня всегда во внутреннем левом кармане моей любимой спандексной ветровки, в которой демисезонно хожу и сейчас.
Они молча кивнули.
— Плова тебе положить? — спохватилась Лена. — Там осталось порядочно, ты не думай — ещё и ребятам с Вовой на завтра хватит. Приедешь домой разогреешь в микроволновке.
Она говорила быстро и деловито, и в быстроте её речи проявлялись и выпроваживание меня, и благодарность, что понял их и без слов.
Наполнив пловом контейнер, Лена упаковала его ещё и в два полиэтиленовых пакета: «Чтобы жиром всё не перепачкать, если вдруг потечёт». В другой контейнер она наложила аччик-чучука, который настоялся в холодильнике и стал даже лучше свеженарезанного. Я, кстати, начинаю готовить плов с аччик-чучука: тончайше пластаю помидоры и лук, а то и чуточку жирномясого болгарского перца, сыплю щепотку райхона и немного кинзы, солю, стряхиваю с кончика ножа жгучий красный перец, перемешиваю, даю постоять с полчаса, а потом убираю дозревать в холодильник. И лишь затем приступаю к плову. Зато когда уже и он готов, аччик-чучук являет свои наилучшие эликсирные свойства.
— Не провожаю, старик, ничего? — спросил Андрей, глаза которого снова стали «поднурхонными».
У нас в Туркестане всегда было принято, накинув чапан и сунув ноги в ичиги, провожать до остановки или лично сажать в такси у подъезда. Чтобы гость пошёл, а ему лишь махали в окошко с надцатого этажа, как в России, а то и, чего доброго, «на посошок» набили морду с пьяных глаз — у нас этого нет, и в дурном сне не приснится. Так что Андрей ломанул нынче против традиции, как ледокол на торосы, но я его в данный момент понимал: у нас всё сейчас не как у людей, уж какие тут проводы, к чёртовой бабушке…
17. «ЖОРКА» БАСКОВ
Дома было холодно и душно. У меня северная сторона, солнца прямого вообще не бывает, а тут ещё осенняя бесконечная хмарь — немудрено, что квартира, и моя комната вместе с ней, после лета основательно выстыла, а о спасительном протапливании пока только важно разговаривали в Смольном. Поэтому окно приходится в эту пору прикрывать максимально, оставляя лишь узкую щёлочку — совсем-то без свежего воздуха я не могу. Пока я был дома, дискомфорта от его жиденького притока не ощущал, а воротясь от Большаковых, поморщился: сильно однако, оказывается, в небольшой комнатушке мною надышано. Уходя, надо было, конечно, оставить хоть форточку нараспашку, но впопыхах не подумал.
Переоделся в домашнюю тёплую фуфайку, раззявил окно сколько можно, напугав соловьёв на берёзе напротив, и ушёл в кухню подбивать бабки дня. Заморосил дождь, и я высунулся из кухонного окна там, где узкая, форточная, фрамуга, и подставил макушку под капли. Хотя было сыро и стыло, капли оказались не ледяными, чуть даже не тёплыми — они, вероятно, нагрелись в полёте от трения о воздух, как нагревается спускаемый аппарат космического корабля в плотных слоях атмосферы. А мы и были в тех плотных, я и капли — на уровне шестого этажа, и хоть это всё ж не земной горизонт, но и не Эверест ведь. Как-то там большаковские «дети», да ещё с малышом, подумалось вдруг? Но потом посмотрел на часы: они явно давно уже дома.
Вскипел чайник, присвистнул, но я тотчас выключил газ — не люблю этого техногенного сипа, как не переношу сигнальное предупредительное попискивание работающего экскаватора или маневрирующего трактора. В моём детстве всего этого не было, и ничего — и чайники жгли не чаще, и на тракторные гусеницы не особо наматывались. А жизнь у нас была поопаснее нынешней: и взрывчатку самодельную делали из… нет, пожалуй, не буду делиться рецептами, и ныряли солдатиком где попало, и из пестиков скобочных перестреливались (даже намёка не дам, что это такое, не ждите!). Так что в каждом чиланзарском дворе был свой Кутузов, свой же монстрик со следами ожога во всё лицо, парочка гавриков с оторванным пальцем, а ещё один непременно упорно отсутствовал последние месяцы, потому что просто утонул в Бурджаре. Встречались и Джоны Сильверы.
Вспомнил про плов. С чего это Лена решила, что у меня есть микроволновка? Разве я похож на человека, таковую имеющего? Видно, забыла — давно у меня не была. Они-то со своей печкой СВЧ носятся как с писаной торбой — и то в неё запихнут, и это. Тьфу, прости господи! Человек, родившийся у казана, не должен так низко падать. Но поди им скажи — сразу же тысяча оправданий. Ну да, я согласен, что плов и лепёшки лучше всего разогревать именно там, но ведь это туркестанских микроволновщиков не извиняет.
А мы уж лучше достанем нашу милую сковородочку «Лёвенбраун» с «гранитным» антипригарным покрытием, которую я сам себе подарил однажды на день рождения, утомившись корячиться с прежней, уже издыхавшей, и разогреем пловешник на ней, аккуратно и безотрывно помешивая деревянной лопаткой.
Аччик-чучук я переложил в глубокую мисочку и поставил на время, что греется плов, в холодильник. Аччик-чучук должен быть ледяной — это одно из его важных свойств, помимо вкусовых. А ещё он обязательно должен дать сок, так что если вам где-нибудь подадут что-то просто помидорно-луково-наструганное, то есть это можно, разумеется, безбоязненно, но это — не аччик-чучук.
Плов разогрелся именно настолько, как мне нужно: перегретый разогретый плов — считай, убитый. Я переложил его на мелкую тарелку и стал есть, слегка поливая из ложечки аччикчучуковым соком то место, которое на меня смотрит, а потом отравляя это горяче-холодное в рот. Турки и греки пьют кофе с холодной водой — эффект тот же, хотя вкусовая гамма, на мой взгляд, несравненно беднее.
Когда ешь плов, всё, чем был перед тем озабочен и даже обрадован, уходит на задний план, словно камера отъезжает от волновавших тебя обстоятельств и захватывает мироздание целиком. И я ел его медленно, смаковал, перекатывал во рту рисинки, напоённые курдючным жиром, морковным ароматом с терпким привкусом зиры. Хорошо всё же Андрюха готовит! Лена, кстати, не хуже, но за плов никогда не берётся — её стихия манты. А когда хочет мне потрафить, то заводит беляши, причём именно так, как их делаю я — собственно, я её этому и научил. А моя наука воспринята мною от тётки — младшей папиной сестры, тёти Кати, единственной нашей с папой родственницы, которая жила в моё время в Ташкенте.
…В 1918-м году папа, разоружённый в октябре революционными рабочими и оставшийся, как и все товарищи по полку, на бобах, мыкался в Ташкенте, думая, как добыть пропитание, ибо получить хоть какой-то паёк бывшему царскому офицеру было совершенно немыслимо. Наконец пристроился в какое-то новое советское учреждение письмовидителем, поскольку имел восхитительный почерк, сохранившийся у него до старости. И вдруг получает весной телеграмму от деда из Аулие-Ата, который большинство помнит как Джамбул, а теперь он называется Тараз: «Срочно приезжай вск». И — всё! Папа квартировал на Лермонтовской, перпендикулярной Пушкинской, слева от старой консерватории — улице, уже давно не существующей. Ехать по современным меркам недалеко, но как? Кругом неразбериха, поезда толком не ходят. Пробирался в родительский дом он как бог на душу положит. Голодный — в Туркестане, как только атаман оренбургского казачьего войска Дутов перерезал дорогу в центр России, прекратился подвоз хлеба — кое как добрался. Как потом говорил, знал бы в чём дело, ни за что не ввязался в дорожную авантюру, которая несколько раз едва не стоила ему жизни, но он думал, что с матерью что-то стряслось или с сёстрами, а может и с отцом — всё же царский полковник, а время совсем не царское…
Оказалось, что деда не только не тронули, поскольку весь город его уважал, но и обратились за помощью из совдепа. Знали, что сын Василий — молодой офицер, да и помнили его многие, и пришли просить его возглавить мобилизационный отдел — началось формирование Красной Армии. А он, оказалось, в Ташкенте…
…В 1977 году ко мне в редакцию «Комсомольца Узбекистана» пришёл крепкий старик с широкой окладистой бородой, похожий на старовера. Перед этим мне позвонил снизу милиционер и сказал, что ко мне просится гражданин, который говорит, что ему нужно к Жабскому, Васиному сыну. Вы, мол, знаете его? Нет, говорю, но пустите же человека — если он называет моего отца по имени, значит ему есть, что мне сказать.
Старику было уже за 80, и первый его вопрос прозвучал прямо в дверях:
— Вася, скажи мне, живой?
— Увы. Умер семь лет назад…
Он горестно перекрестился, сел, долго сидел молча. Я ему чай предложил, но он отмахнулся.
— Я в газете твою фамилию увидал, когда к внуку приехал — они правнучке выписывают. Велел ему позвонить и спросить, как его, твоё, значит, имя-отчество. Секретарша сказала Васильевич — мне это прежде всего было надо, тебя-то пусть хоть как зовут. Васин, думаю, сын, вот точно! А ты вон какой молодой… Что-то я ничего не пойму…
— Я его сын, — сказал я.
Он посмотрел недоверчиво.
— Сын… Значит не того всё же Васи отпрыск… Неужто в Ташкенте ещё Жабские есть?
— Нет, я последний. Ну и мама ещё.
— Да мама! — он с досады махнул рукой — мол, причём тут какие-то бабы.
— А вы кто, объясните, пожалуйста? — подсел я к нему. И тут меня осенило: — А вы не из Джамбула?!
— А ты знаешь Джамбул? — вскинулся он.
— Я и Аулие-Ата знаю — мой папа оттуда.
Старик вскочил, да так резко, что покачнулся, и я еле удержал его в равновесии.
— Василий Поликарпович Жабский, — продолжал я, усаживая его на место. — Сын Поликарпа Семёновича, что на Бурульской, теперь Кирова, жил.
Старик теперь уже перекрестился широко, размашисто.
— Он! Тот самый Вася наш. Но как же ты такой молодой… сколько тебе?
— Почти двадцать пять.
— Ну! А ему бы уж было наверное сильно за восемьдесят — мы же с ним одногодки.
— Так и есть, — подтвердил я. — В декабре исполнилось бы всемьдесят четыре. А фамилия ваша как? Может я слышал.
— Басков.
— Жорка?! — невольно вырвалось у меня.
Старик вытаращился.
— Ой, простите, Георгий Демидович, — смутился я. — Это папа вас так называл.
— Хм… Ты и отчество знаешь… Помнил, значит, меня всё-таки Вася… А я полагал, забыл. Он в 59-м году, говорили, в Джамбул приезжал, а ко мне не зашёл… Вот и решил, что позабыл старого друга.
— Да нет же! — воскликнул я, поскольку хорошо помнил ту нашу поездку в Джамбул к папиной сестре, в Кара-Балты к папиной тётке и во Фрунзе — к боевым товарищам. — Мы втроём с мамой к вам приходили, да соседи сказали, что вы на Пушкинской уже не живёте. А адрес не знали. И Сабо не знал.
Сабо, военнопленный венгр-коммунист, был папиным комиссаром в полку, когда убили словака Сороку.
— А Иштвана давно нет, — пробормотал гость, и в правом его глазу набрякла слеза. — Никого наших нет. Один я остался. Думал, вот ещё Вася…
«Жорка» Басков, папин закадычный дружок и соученик по городскому высшему начальному училищу Аулие-Аты, и рассказал мне, что это была его идея — позвать папу в совдеп. Сам Георгий Демидович состоял товарищем его председателя, и его голос имел вес. Хотя, признался, совдеповцы и роптали, мол, золотопогонника нам ещё не хватало, зачем, дескать, революцию делали.
— Они делали… Пошли в думу, ключи от несгораемого шкафа забрали, а думским пайки дали, чтоб и дальше исправляли дела, а не саботировали — вот и вся революция в Аулие-Ата, — фыркнул он так, что слюни полетели. — А то — «делали»!.. Это потом Григорович, Колька с нашего же с Васей класса, банду сколотил лютую да обложил город. А тогда, в начале восемнадцатого…
Гость обтёр платком рот, побухтел ещё с минуту негодующе и продолжал:
— Пришли к твоему деду в его усадьбу на Бурульской, узнали, что Васи-то в городе нет, говорим, мол, Поликарп Семёнович, а нельзя его вызвать из Ташкента? Мы пошлём от вашего имени телеграмму, если согласны, только адреса не знаем. Сам пошлю, говорит строго — дед у тебя был ох суровый! И отправил, спасибо — Катенька, дочка его, и отбила, она же на телеграфе служила. А как явился Вася, тут мы быстро работу по набору добровольцев и отправку их в полки для их пополнения наладили. Да и Григоровича навсегда отучили шалить в Аулие-Ата. Я предсовдепа морду тогда ещё чуть не набил, что сомневался в Васе, скотина этакая…
Я рассказываю, а ведь это всё ещё присказка — сказка будет впереди.
18. НАЧМОБ С БЕЛЯШАМИ
Летом, когда и вторую Дутовскую пробку пробили — первую ещё в конце января 1918-го, из России прислали Туркреспублике подкрепление. Часть его направили в распоряжение аулиеатинского совдепа — для острастки казачества Семиречья. Отрядом командовал молодой, 20-летний фронтовик империалистической Михаил Понкин.
— Прибыли мы на станцию, коней выгрузили и верхами в совдеп, — рассказывал дядя Миша, которого я любил не меньше тётки и в честь которого назвал своего сына. — Людей расквартировали, и я жду от папы твоего, какие будут распоряжения. А он, пока мы расселяли бойцов, умчался опять гонять Григоровича — его банда, как донесли, была вновь замечена на окраине города. До потёмок у него просидел в кабинете. А потом вестовой, что у окна с тоски семечки лузгал, вдруг кричит: «Эвон товарищ начмоб скачет!» Выхожу на крыльцо, а вдалеке мчится рысью вдоль улицы вороной поджарый аргамак, а на нём — папа твой в белой рубашке стоит в стременах — как сейчас перед глазами… А потом мы за встречу так крепко с ним и другими совдепскими выпили, что папину шёлковую рубашку изорвали на ленточки. Я первым увидел дырочку у воротника, ногтем подцепил, потянул — и так нам это понравилось! — заливисто смеялся и через полвека дядя Миша.
Его папа позвал жить в отцовский дом. А осенью они с папиной младшей сестрой поженились. А потом на всю гражданскую разлетелись по фронтам и встретились с папой снова только, когда в начале 20-х осели в Ташкенте. Тётка сменила сестру дедова брата Павлу Семёновну на поприще первой ташкентской красавицы, но дяде Мише всё это было до фонаря — ему хотелось есть, а молодая жена ничего не умела готовить, даже яичницы.
— Мишенька, говорила ему моя мама, твоя бабушка, когда он посватался, — много раз повторяла мне тётка, — одумайтесь, она никогда в жизни и чашки-то чайной не вымыла! Вы же оба умрёте с голоду. Но где там — разве Мишенька мой послушал, — при этом она целовала своего обожаемого супруга, а он её, — вот и маялся долго. Сколько раз было: поджарю котлеты — а он с работы придёт и в ведро их помойное: горелые… Ничего, всему научилась!
Я слушал и не верил — ибо лучшего кулинара я в жизни не видел. Тётя Катя умела стряпать буквально всё.
— А какой сейчас год? — щурилась она лукаво, видя такое моё удивление. — Семидесятый? Ну-ка отними восемнадцать. Вот то-то, Сашенька… Жизнь научит коврижки есть.
Тётя Катя с дядей Мишей много лет, ещё с довоенных, снимали комнату с просторной застеклённой верандой во флигеле большого дома славной узбекской семьи Ахмедовых на улице Вотинцева на Кашгарке. После землетрясения она исчезла, «залитая», как и весь этот эпицентр трагедии, рухнувший в одну минуту на рассвете 26 апреля 1966 года, новостройками, но в моё детство была живописной — главным образом, потому, что сначала сбегала, петляя, как все узбекские улочки, к арыку Чаули, а потом взбегала от него на высокий косогор и выводила на Чимкентский тракт неподалёку от Саман-базара. К ним так и нужно было добираться: доехать до места, где в 1961 году построили кинотеатр «Спутник», переименованный потом в «Казахстан» и памятный мне тем, что там мы с тётей Катей смотрели фильм «Великолепная семёрка», спуститься к Чаули, перейти его по мостику и снова взбираться наверх. А там уже два поворота — и вот этот двор с большой старой орешиной в центре, справа сарай и тандыр, где то и дело пекли невероятного вкуса лепёшки, а слева начинался огибавший двор многокомнатный густонаселённый дом, а в дальнем левом углу двора, за кустами сирени под старыми гледичиями стоял флигель Понкиных. Я очень его любил — за сумрачную прохладу комнаты, полной старинных вещей, и светлую, пронизанную солнцем веранду с огромным, до потолка фикусом. Вот вы посмеётесь, а я с тех пор люблю фикусы и всегда мечтал и мечтаю, что у меня дома тоже будет фикус, как у тёти Кати. Но у меня всё ещё нет пока дома — как не было его у папы, пока не получил вместе с нами на 68-м году жизни секцию на Чиланзаре, но так и не успел этим насладиться — счастье его длилось всего-то 15 дней. И как не было его у Понкиных, пока в 64-м они не купили, по крохам скопив деньжат («Достаток, Саша, — учил меня мой дорогой дядя Миша важной науке не тучных времён, — не от больших доходов, а от малых расходов») крохотный домик по ту сторону Энгельса, тоже в славном узбекском тупичке, позже на удивление не тронутым землетрясением.
Помню, как утром в тот день, когда нас тряхануло, мы пришли в школу, и у нас отменили занятия, и мама сказала за обедом, чтобы я ехал к тётке, узнать, как они. И я ехал после обеда по разрушенному центру Ташкента, и по всей Ленина уже стояли солдатские палатки, на перекрёстках в полевых кухнях варилась еда. И все уже знали, что в полдень в Ташкент прилетели Брежнев с Косыгиным и вместе с Рашидовым ходили по улицам, говорили с испуганными людьми, обнимали самых отчаявшихся и обсуждали, как возрождать Ташкент. Теперь вот Горбачёв рассказывает басни, что ему-де несколько дней толком не сообщали, что случилось в Чернобыле — врёт, конечно: почему-то Брежневу и Косыгину сообщили тотчас, и они, бросив всё, не позавтракавши, помчались к нам, уже самим своим присутствием в городе с первых часов нашей беды успокаивая: Родина с вами, мы справимся с этим. Разве могли мы не любить эту Родину и не презирать тех поганцев, пастернаков и даниэлей, орловых да копелевых, а позже — якиров, сахаровых и солженицыных? «Деятели культуры»… Мы даже в юности понимали, что культура существует не сама по себе, а лишь в контексте современного ей общества. А всё вне контекста — и вне культуры. Мы знали твёрдо: наша Родина никогда нас не бросит, как придушившая её подло змеюка бросила на произвол судьбы несчастный «Курск», травила своих ради глупого принципа на Дубровке и расстреливала в Беслане.
В город входили танки из Чирчика — не расстреливать советскую власть, как в Москве в чёрные дни ельцинского антисоветского переворота, а рушить завалы, иногда непролазные — потому с них были сняты для удобства пушечные стволы. Наш 23-й автобус подолгу стоял в заторах, пропуская бронированные колонны, — и это были первые ташкентские пробки, благослови их господь, как атеист говорю. Доехав до ЦУМа, пересел на 2-й трамвай, что огибал центр по Узбекистанской и Первомайской и следовал мимо Алайского. Первомайская устояла, а на Кашгарке был полный аут. Пыль поднималась над бывшей улицей Вотинцева и Чаули. И тоже — палатки, палатки, палатки…
Слава богу, у Понкиных ничего не порушилось, как и в округе, а тётка даже завела было на радостях беляши, раз я приехал. Но я, убедившись, что они живы, помчался назад: днём опять сильно трясло, а там мама с парализованным папой. Мама сказала, когда я вернулся, что она держала во время дневного мощного толчка, уступавшего только утреннему, книжный шкаф, который раскачивался, чтобы не рухнул.
Вечером все вышли спать во дворы, превратившие Чиланзар в огромную спальню до самой зимы: был тревожный прогноз Уломова — выдающегося сейсмолога и подлеца. Он был культовой фигурой Ташкента в 66-м, объясняя в печати и по радио все тонкости сейсмической обстановки, а в 90-х гнусно подписал заключение о якобы безопасном расположении Ростовской АЭС, которую мы, волгодонские «зелёные» и правозащитники, добившись её консервации в 89-м, не давали достраивать десять лет, потому что она в любой момент может стать Чернобылем в кубе — и именно из-за сейсмики. Мама сунула мне, семикласснику, документы и деньги, завёрнутые в целлофан и перевязанные бечёвкой, и вытолкнула из квартиры с нашей старенькой раскладушкой, куда вложила постель, как через три года, собирая меня на хлопок, — а сама осталась в содрогающемся беспрестанно доме с нетранспортабельным папой, чтобы если умирать, так вместе.
В мае, отменив предстоящие экзамены, нас, ташкентских детей развезли на отдых и поправку нервов в разные концы страны — в самые лучшие! Родина о нас заботилась, и меня, мальчишку из советского Узбекистана на долгих три месяца приняла советская Грузия, и с тех пор я её очень люблю. Советскую, а не нынешнюю — злобную от собственной нищеты и униженности, позабывшую, что именно на её земле обитало 99 процентов подпольных и явных советских богачей, всё бездарно профукавшую, а теперь Россия виновата…
Ладно, хватит политики, она не герой моего сериала, не то, что тёткины беляши. Я всё это тут рассказал только ради того, чтобы вернуться в жаркий день конца августа 66-го, когда после Грузии я впервые вновь навестил моих Понкиных. И вот тут-то уж беляши зафестивалили. Тётка завела их на маланину свадьбу! Она обычно готовила в маленькой кухоньке на задах дома — этаком стеклянном флигельке, заглубленном на полметра в землю для прохлады, а под ним — подпол, где было студёно даже в летнюю чиллю. А тут керосинку вынесли во двор, на большой стол, за которым мы обычно летом обедали, под плотным навесом из перевитых, как живая корзина, виноградных стеблей, с которых свисали дородные кисти, любовно одетые дядей Мишей в марлевые мешочки, чтобы не съели вездесущие осы.
Стол, накрытый весёлой клеёнкой, испещрённый осколками солнца, жгучего над навесом и обессиленного под ним. На углу стола керосинка с ещё бабушкиной чугунной сковородой, в которой в шипящем хлопковом масле дожариваются сразу десять беляшей. Тётка за ними следит, а мы с дядей Мишей нетерпеливо глотаем слюнки на старом диванном ложе, поставленном на подпорки между кухонькой и столом. А потом по очереди выхватываем из большой чашки горячие беляши, не дав им даже отойти от жара под салфеткой. Тётка смеётся, выкладывает на сковороду в свежее масло очередную партию приоткрытыми «ротиками», сквозь которые виден её божественный фарш, вниз — так положено, а первой партии уж нет, как и не было, только масляный след на дне чашки, и мы с дядей Мишей снова нетерпеливо её спрашиваем: «Ну, готово?!» — «Да погодите вы, дайте им прожариться!»
Тётушкины беляши я ни с чем не сравню, даже с собственными, вроде б аутентичными. Она делали их маленькими, что даже мне в школьные годы были на полтора укуса. И я такие готовлю. И Лена. И у неё они тоже отличные, с фаршем, напоённым райхоном и перцем. Я, правда, давно уж хитрю: не ставлю, как тётка, кислое тесто, а замешиваю его как пельменное, только вместо воды на кефире — кто не ел тёткиных беляшей, ни в жизнь не догадается, что это скороспелка. И Лена не догадывается. А я молчу.
Но довольно мутить отстоявшуюся воду прошлого своими воспоминаниями! Я сходил в прихожую, где на плечиках в демисезон висит моя ветровка, достал из паспорта принесённый от Большаковых чек и сел в кухне ближе к окну, где больше света, его изучать. Потом подумал, что надо же сравнить его с заведомым подлинником. Хм, днём в «Пятёрочке» был, когда разговаривал со «стовосьмой» продавщицей, но ничего там не покупал. А вчерашний чек от овощей и молока, конечно же, выбросил…
Я снова накинул ветровку, нахлобучил бейсболку и спустился вниз. У меня второй подъезд от конца дома, а сразу за внутриквартальным проездом, где вечно не пройти от припаркованных сикось-накось автошек, большой «Магнит», через сто шагов — тоже большая «Пятёрочка», а напротив, через бульвар Трудящихся, «Семья» и поблизости, за Сбербанком, ещё одна «Пятёрочка». Так что магазинами «шаговой доступности», как любила выражаться Матвиенко, я обеспечен под завязку. Это и хорошо, и плохо. Хорошо для немощных — недалече ползать, а мне так не очень: было бы далеко, я бы совершал прогулки, совмещая приятное с полезным, а так — нырк в один-два магаза под носом — и снова в норку, ибо просто так шляться не умею. Правда, в последнее время внушил себе, что взял за правило моционить по вечерам, но хватило меня раза на два-три, да и то в особо тёплые и живописные вечера.
Нет, для меня лучшая природа — горячий калёный город, а лучший отдых — пахота за компом. Играешь словом, футболишь, жонглируешь, а то и, как в лянге, бьёшь его сперва висями, потом — люрами или джянджишь — когда набивается раз за разом тяжёлый летучий козлиный волан правой стопой в прыжке из под голени полностью согнутой в колене левой ноги. Эх, Расея… Не знает она, что такое туркестанская лянга.. Ну, как-нибудь расскажу, а теперь недосуг. Так вот, швыряешь слово, как тесто дунганской лапши, обмасливаешь и свиваешь, уполовиниваешь свиток и снова в том же порядке — и так тысячу раз, пока его шматок не превращается в километровую ниточку, — и выходит весёлое, вкусное, как сералеподобный лагман. Его поедание оргазмогенно, оно куда эротичней «Греческой смоковницы» и даже «Глубокой глотки».
Воистину, зачем нам женщина, если есть лагман, как говорил один мой старинный ташкентский знакомый.
Зачем мне природа, если есть творчество.
Опять старикана вынесло из своего скромного и обжитого закоулка на всехнюю магистраль. А надо-то было всего лишь смотаться в «Пятёрочку» и что-то купить ради чека. Подобных целей у меня ещё не было, и я задумался о гармоничности чека с товаром и решил, что сегодня больше всего идеалу соответствует ацидобифилин.
Вот теперь можно во всеоружии браться за экспертизу.
19. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ
Пока ходил в «свою» «Пятёрочку» за свежим чеком, за окном смерклось. Сидеть в кухне больше не имело смысла, да и комнатка моя достаточно проветрилась. Поэтому я отлил себе из коробки в высокий стакан принесённый из магазина ацидобифилин и переместился восвояси, за открытый (он то открыт, то закрыт, чтобы не занимал и без того тесное пространство) раскладной стол-тумбу из советского прошлого. Положил перед собой два чека — достоверный, только что полученный при оплате этого самого ацидобифилина, и подозрительный, из 2072 якобы года, бог весть как оказавшийся под рукой у Андрея, когда тому вздумалось составить список завтрашних покупок.
На вид разницы между ними никакой не было: тот же лейбл сети бюджетных супермаркетов «Пятёрочка», известный, вероятно, половине страны — куда эти магазы только не пролезли, совершенно одинаковая по качеству и одинаково тускло-белая бумага, явно специальная термочувствительная — для печати чеков методом разогрева нужных на ней мест, идентичный шрифт и расположение реквизитов: на одних и тех же местах перечень покупок, ФИО кассира, дата и время продажи.
О чём это мне говорило? О нескольких вещах. Во-первых, что чек из будущего подлинный, а не подделанный в фоторедакторе и напечатанный иным способом, нежели настоящие. А во-вторых, что подозрительный — вовсе не из какого не из будущего, ибо — ибо! — как-то трудно представить, что:
а) сеть «Пятёрочка» вообще просуществует ещё 56 лет (отсчёт, напомню, вёлся от сентября 2016 года, когда завертелась эта невероятная и порядком раздражающая всех к ней причастных история), когда уже сейчас она заметно хиреет, сильно сдав со времени моего приезда в Питер в плане ассортимента из-за неуклонного падения покупательской способности населения;
б) если и просуществует до последней трети XXI века, что в общем-то в более благополучных странах случается, а наша страна вдруг тоже в какой-то момент чудом станет благополучной и тогда в ней начнут складываться вековые обиходные традиции, на вроде Британии, — так вот если и заживётся, то вряд ли за столь долгий период в сети не случится ребрендинг, да причём не один — то есть на чеках будут печатать уже не арабскую цифру 5 в круге с верхней перекладинкой в виде листика, а, скажем, вписанную в квадрат римскую V, одна из палочек которой будет, возможно, в виде батона колбасы;
в) опять же, если «Пятёрочке» суждено стать свидетелем 100-летия выдворения из СССР Иосифа Бродского, образования Республики Камерун, начала «Уотергейта», возвращения на сцену Пола Маккартни, подвоза с Луны собственного, советской добычи, лунного грунта, а также произнесения комментатором Николаем Озеровым его знаменитой фразы «Такой хоккей нам не нужен!» во время трансляции матча СССР-Канада, который наша команда проиграла, а с ним и всю канадскую серию, то вряд ли на её чеках будут продолжать печатать QR-код, появившийся на них незадолго до того. Подобные приметы времени долго не живут в силу поступательного движения прогресса. Уж каким, казалось, достижением стали гибкие когда-то 5-дюймовые носители информации, но очень скоро их сменили куда более компактные дискеты, а потом и те исчезли, уступив место флэшкам. Нет, кое-какой винтаж возвращается порой, вроде винила, но всё же не в массовый обиход, а в дома лишь самых прибабахнутых фанатов. Думаю, и QR-код не долгий жилец — его сменят иные, более удобные способы идентификации чеков. Если вообще они ещё будут нужны, эти способы. Как, впрочем, и сами чеки — и как подтверждение оплаты покупок, и узаконенный «стук» мытарям.
Но больше всего меня позабавило то, что цены остались прежними, словно и 56 лет не прошло! Что деноминаций рубля за это время не случилось, это ещё куда ни шло, хотя только за мою жизнь их была парочка — в 1961-м и 1998-м, не считая павловских и прочих денежных пертурбаций, но вот цены — словно в Советском Союзе, намертво привинченные к Госкомцен. Вообразите, как стоила 90-граммовая баночка красной икры 220 рублей, так и более чем через полвека стоит — словно и нет никакой инфляции. Но она же есть! Спустя всего-то три года, а именно нынче утром, как я посмотрел спецом во всё той же своей «Пятёрочке», покупая сахар, она уже торгуется по 249.99 за банку. Про «Метаксу» сказать не могу ничего — в последнее время она мне что-то нигде на глаза не попадается, но приблизительную прикидку сделать можно. Например, в ОКЕЕ она стоит тысячу с копейками, судя по сайту сети, — помнится, примерно столько стоила и в «Пятёрочке» ещё весной. А в чеке из будущего указано — 890 руб.
Словом, я пришёл к логичному, на мой взгляд, выводу, что чек якобы 2072 года вовсе не оттуда — он современный, ибо несёт на себе все приметы сиюминутности. Вот только дата на нём… Сказала же «стовосьмая» продавщица, что выставить её произвольно на кассовом аппарате невозможно.
А почему ей, собственно, следует верить?
В партийной практике КПСС была одна очень меня раздражавшая особенность: если кто-то что-то критиковал, то первым делом не устанавливали обоснованность критики, а дотошно выясняли, что за субъект с ней выступил. И только убедившись, что он — человек относительно положительный (в полностью положительных людей партийные органы не верили, исходя из вроде бы и изжитого, но в подсознании сохранившегося принципа «был бы человек, а статья найдётся»). Даже в прессе, мы, журналисты, приводя чьё-либо критическое суждение об организации дела на каком-нибудь совершенно незначительном производственном участке, сопровождали его множеством абзацев о безусловных достоинствах допустившего критику. Он, мол, и работник хороший, план выполняет, и семьянин примерный — хотел развестись однажды, но одумался и больше о подобном даже не помышляет, ещё, правда, курит, но уже не пьёт, а также во время дежурства в составе добровольной народной дружины сделал за один вечер аж два строгих замечания нарушителям общественного порядка в плохо освещённом парке, не побоявшись, что ему могли запросто начистить фотокарточку, а двух с ним шествовавших девушек подвергнуть и большему поруганию, благо густых кустов кругом полно, на то ведь он и парк.
Теперь мы уже как-то отвыкли, чтобы человек, прежде чем что-нибудь вякнет, сперва удостоверил, а то и доказал свою порядочность, и оттого-то нас бесконечно разводят всевозможные проходимцы. То и дело читаешь, что какая-то несчастная пенсионерка отдала миллион с гаком обещавшим ей мафусаилов век, поверив им на слово (тут две странности: откуда у нас пенсионеры-миллионщики и чем же могли те обдурившие бабку проходимцы документально подтвердить свои возможности реально обеспечить библейское долголетие). А то мне самому звонят и представляются: «С вами говорит младший менеджер Сбербанка. Только что нами зафиксирована попытка проведения с вашего счёта транзакции — перевода денег в Пензу. Это вы переводили?» — «Нет, — дёргаюсь я, как всякий задёргался бы, — ничего я не переводил! Чушь какая-то…» — «Значит кто-то пытался взломать ваш доступ в Сбербанк Онлайн, — сочувственно говорит „младший менеджер“ якобы Грефа. — Давайте проверим, всё ли в порядке». — «Давайте». — «Назовите номер вашей карты». — «Так вы ж её знаете — если установили факт попытки транзакции!» — «Таков порядок: а вдруг мы ошиблись и транзакцию пытались произвести не с вашей карты». Называю — не больно какой секрет. «Теперь назовите ваш пароль для входа в Сбербанк Онлайн», — слышится деловитый голос, как если бы на том конце волны уже во всю кипела работа по сбережению моего банковского благополучия. «Но этого делать не полагается, — говорю. — Сам Сбербанк постоянно подчёркивает, что его сотрудники никогда не просят у клиентов называть их пароли». — «В обычных случаях — а тут, как вы понимаете, форс-мажор — вдруг следующая попытка транзакции окажется удачной, хотя мы и заблокировали временно ваш счёт!» — как будто сидя на иголках, убеждает деловитый «младший менеджер».
В этот момент я положил трубку и пошёл в своё отделение Сбербанка, что напротив меня — на бульваре Трудящихся. Там проверили: ничего у меня не заблокировано, и сказали, что хоть у меня и сохранился номер звонившего, отследить его невозможно: у жулья стоят электронные симуляторы номеров. И похвалили, что я молодец — благоразумно не повёлся, а вот сотни людей ведутся на подобное фуфло ежедневно, ибо психологический расчёт жуликов точен: человек разволнуется, что какие-то гады едва не умыкнули его денежки, и в раже их защиты утратит бдительность, чувствуя в позвонившем «младшем менеджере» своего заботливого спасителя — ведь он хочет злоумышленникам помешать воплотить своё злоумышление.
Нет, рано мы ввели на бытовом уровне презумпцию невиновности! На правовом — пусть, а на бытовом преждевременно, не созрели.
Придя к такому заключению, я допустил, что «стовосьмая» не заслуживает того, чтобы с доверием отнестись к её заверениям, будто дату на чеке подделать нельзя. Может она так сболтнула, в силу некомпетентности или не стопроцентной социальной ответственности. Значит, надо перепроверять. А как? Как узнаешь, что другая продавщица в другом магазине, имея вполне себе благообразный и даже невинный облик не наплетёт тебе всё те же сорок бочек арестантов? Да хотя бы побоявшись, что ты и есть тот самый тайный покупатель, которым запугали уже всю торговлю, хотя, несмотря на наличие в интернете кучи сайтов-вербовщиков такого рода провокаторов-проверяльщиков, поди дознайся, существуют ли они в реальности или это тоже какая-то хитроумная разводка — то ли лопоухих кандидатов в тайные покупатели, то ли торговых точек — с целью вымогательства мзды за невнимание к ним.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
