
Бесплатный фрагмент - Вслух. Стихи про себя
Предисловие
Теплой весной 2011 года у меня зазвонил телефон; неведомый женский голос звал встречаться. Оказалось, что «Авторское телевидение» — студия, к чьим работам я привык относиться с восторгом — договорилось с каналом «Культура» о том, что они тоже попробуют сделать программу о современной поэзии. «Тоже» не в том смысле, что такая программа уже существовала, а в том, что другие уже пробовали, но без особого успеха. И вот теперь за дело брался сам Малкин. Анатолий Григорьевич — великий телевизионный продюсер, человек, ухитряющийся энергичную оптимизацию расходов сочетать с рыцарственной преданностью телевидению смыслов. Это странная и сложная роль. Программы, которые он создает, даже если они выматывают всех сотрудников насухо, позволяют людям долгие годы гордиться тем, что они сделали вместе.
Женщина, которая мне позвонила, была Людмила Сатушева, — бессменный шеф-редактор программы «Вслух». Люся пришла и сказала: «Мы хотим делать программу, мы спрашивали у разных поэтов, и все говорили нам — „С этим на одном поле не сядем, про этого вообще нечего разговаривать, этот злодей, этот негодяй“. И единственная фигура, к которой ни у кого не было существенный претензий это, Саша, Вы. Соглашайтесь, будете ведущим». И я согласился.
Телевидение — очень просто выстроенный балаган: либо в нем есть столкновение эмоций, либо на экране ничего не происходит. Кроме того, на современной русской культуре очень различим отпечаток 1960-х, десятилетия культурной экстраверсии, со стадионными читками Евтушенко и Вознесенского, с читками до утра у памятника Маяковскому. Поэтому всем очень хочется и кажется естественным, чтобы поэты бились за право называться королем.
По счастью, мы хорошо понимали, что никакого ристалища, никаких гладиаторских боев не может быть. Так не работает культура, так не работает поэзия. Об этом замечательно написал Мандельштам в эссе «О природе слова»: «Никакого „лучше“, никакого прогресса в литературе быть не может, хотя бы потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать». Лермонтов не отменяет Пушкина, «Волшебная гора» Томаса Манна ничем не лучше и не хуже «Одиссеи» Гомера.
Вместе с Люсей мы придумали для программы формат «как-будто-бы-состязания». Для каждой программы мы довольно условно выбираем тему «Поэт и…» что-нибудь: «Поэт и его семья» или просто «Семья», «Поэт и творец мироздания», «Поэт и театр», «Поэт и Пушкин». Два старших поэта (условно говоря «старших», на этих креслах бывали люди очень юные) говорят о том, как устроена их собственная жизнь в поэзии и как в тех или иных аспектах они взаимодействуют с внешним миром. А два, условно говоря, молодых поэта (например, молодым поэтом в этой программе был Аркадий Моисеевич Штыпель, родившийся в 1944 году) — два условно молодых поэта читают перед публикой, мэтры дают им советы, если молодые поэты в таких советах нуждаются, после чего мы проверяем, на что способна публика. Вот два молодых поэта: кого публика смогла услышать? И тот прочитает им в подарок заключительное стихотворение программы.
Уже делая эту программу, я с восхищением констатировал какой неимоверный цветник — сегодняшняя русская поэзия. В ней одновременно работают десятки литературных направлений, сложно «переопыляющих» друг друга. Это культурное состояние, схожее с знаменитым серебряным веком. Никаким шестидесятым, никаким семидесятым, никаким тридцатым не снилось ничего похожего на то, что происходит в сегодняшней русской поэзии.
Но было и неприятное открытие: это изобилие обернулось очень большой раздробленностью: даже поэты одного поколения редко слышат друг друга. Люди, входящие в поэзию, часто предпринимают этот шаг без существенного багажа. Поэты советских времен, не вошедшие в школьную программу, даже великие, как Арсений Тарковский, или Давид Самойлов, или Николай Рубцов, или Юрий Кузнецов, сегодняшними, активно живущими поэзией молодыми людьми, редко оказываются прочитаны. Я ожидал, что мы будем работать с гораздо более компактным сообществом, в котором плюс-минус все за всеми в пол глаза приглядывают. Нет, это не так. Это кошачья стая. В испанском языке есть такая идиома — пасти котов, и параллельная ей — кошачий пастух. Сейчас это чаще всего употребляется в значении «управление творческими проектами»: когда каждый идет куда-то, куда ему заблагорассудилось, но в принципе скоты должны двигаться плюс-минус в одну сторону. Сегодняшняя русская поэзия — это огромная, очень красивая стая котов, каждый из которых ходит сам по себе. Но мне кажется (и мне хотелось бы надеяться), что отчасти наш проект помогает тому, чтобы поэты увидели друг друга.
За пять лет программы мы показали российскому зрителю больше 150 поэтов. От Ивана Жданова до Михаила Еремина, от Евгения Евтушенко до Веры Полозковой, от Валентина Гафта до Ольги Седаковой. Странным образом, отчасти из-за большой рассеянности современной культуры, отчасти из-за девальвации поэтического слова как такового, всякий раз, когда я разговариваю с людьми о современной поэзии, люди готовы скорее к тому, что я буду говорить об упадке. «Где наш Пушкин? Где наш Некрасов? Где наш хотя бы Евтушенко?» (хотя он еще вполне себе жив), — восклицают читатели поэзии прошлых лет. А я вынужден свидетельствовать, с восхищением и благодарностью, грандиозный расцвет, очень сложное цветение. Массового читателя, видимо, больше всего устраивал бы одинокий цветок гвоздички, торчащий из зеленой клумбы: все вместе идем и читаем одного единственного Бродского (или Рождественского), а больше никого не читаем. Но то, что вижу я, больше всего похоже на усыпанный гроздями куст сирени, где каждый цветок цветет отдельно и они покрывают огромное пространство этим кипением красоты.
Александр Гаврилов

Поэт и поколение
Когда мы, читатели и историки литературы, смотрим на поэтические движения, нам часто кажется, что поэты появляются не поодиночке, а обоймами. Мы предполагаем, что для акмеистов важен был не только их собственный круг, литературное направление, но и та среда в целом, которая сформировала их и которая была сформирована ими.
Эта гипотеза не всегда подтверждается хотя бы потому, что мы знаем примеры великих и абсолютно одиноких поэтов.
В этом выпуске программы мне очень повезло, потому что четыре поэта, которые представили свои стихи и свои соображения, не только принадлежали принципиально разным поколениям, но и реализовывали каждый принципиально иную стратегию. Иван Жданов появился как поэт поколения — его читатели, его подражатели, его товарищи по группе метаметафористов были объединены с ним поколенческими связями. Андрей Родионов появился абсолютным одиночкой. Галина Рымбу сформировала в некотором смысле поколение, сделалась его лицом и лидером, не имея этого в качестве цели — это стало результатом её активной общественной деятельности. Наконец, Полина Репринцева, поздно зазвучавший поэтический голос, в своём поколении не укоренённый никаким образом, если говорить и о поколении биологическом, и о поколении литературном. Те, кто посмотрят программу в интернете увидят, до чего мы договорились. А пока — эти четыре подборки.
Иван Жданов
Арестованный мир
Я блуждал по запретным опальным руинам,
где грохочет вразнос мемуарный подвал,
и, кружа по железным подспудным вощинам,
пятый угол своим арестантам искал.
Арестанты мои — запрещенные страхи,
неиспытанной совести воры,
искуплений отсроченных сводни и свахи,
одиночества ширмы и шоры.
Арестанты — уродцы, причуды забвенья
и мутанты испуганной зги,
говорящей вины подставные мишени
и лишенные тыла враги.
И, заблудшим убийствам даруя просторы,
неприкаянным войнам давая надел,
я, гонитель-чужак, на расправу нескорый,
отпустить их на волю свою не сумел.
Я их всех узаконил музейным поместьем,
в каталог арестантов отправил.
Но для них я и сам нахожусь под арестом,
осужденный без чести и правил.
Ничему в арестованном небе предела
не дано никогда обрести.
И какое там множество бед пролетело,
не узнают по срезу кости.
Но растянутый в вечности взрыв воскрешенья
водружает на плаху убийственный трон.
проводник не дает избежать продолженья
бесконечной истории после времен.
Западней и ловушек лихие подвохи
или минных полей очертанья —
это комья и гроздья разбитой эпохи,
заскорузлая кровь мирозданья.
Если б новь зародилась и было б довольно
отереть от забвенья чело…
Но тогда почему воскрешение больно,
почему воскресенье светло?
Двери настежь…
Лунный серп, затонувший в Море Дождей,
задевает углами погибших людей,
безымянных, невозвращенных.
То, что их позабыли, не знают они,
по затерянным селам блуждают огни
и ночами шуршат в телефонах.
Двери настежь, а надо бы их запереть,
да не знают, что некому здесь присмотреть
за покинутой ими вселенной.
И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли, —
только лунная пыль по колена.
Между ними и нами не ревность, а ров,
не порывистой немощи смутный покров,
а снотворная скорость забвенья.
Но душа из безвестности вновь говорит,
ореол превращается в серп и горит,
и шатается плач воскресенья.
Е.С.
Если птица — это тень полета,
знаю, отчего твоя рука,
провожая, отпустить кого-то
невольна совсем наверняка.
Есть такая кровь с незрячим взором,
что помимо сердца может жить.
Есть такое время, за которым
никаким часам не уследить.
Мимо царств прошедшие народы
листобоем двинутся в леса,
вдоль перрона, на краю природы,
проплывут, как окна, небеса.
Проплывут замедленные лица,
вкрикнет птица — это лист падет.
Только долго, долго будет длиться
под твоей рукой его полет.
Памяти сестры
Область неразменного владенья:
облаков пернатая вода.
В тридевятом растворясь колене,
там сестра все так же молода.
Обрученная с невинным роком,
не по мужу верная жена,
всю любовь, отмеренную роком,
отдарила вечности она.
Как была учительницей в школе,
так с тех пор мелок в ее руке
троеперстием горит на воле,
что-то пишет на пустой доске.
То ли буквы непонятны, то ли
нестерпим для глаза их размах:
остается красный ветер в поле,
имя розы на его губах.
И в разломе символа-святыни
узнается зубчатый лесок:
то ли мел крошится, то ли иней,
то ли звезды падают в песок.
Ты из тех пока что незнакомок,
для которых я неразличим.
У меня в руке другой обломок —
мы при встрече их соединим.
Андрей Родионов
25 октября
Сидим с женой в аэропорту Кольцово
А тут Мамлеев принял смерть
Пишем сценарий по стихам Пригова Бродского и Рубцова
Они ровесники, а он их старше всех
Длиннее путь его, чем у поэтов был
И дальше пусть бы жил, но видно надо
Мамлеева мне жалко и я его любил
За отношение теплое ко аду
13 ноября
Сегодня ночью проезжал Мытищи
И вдруг увидел я средь множества строений
Давно покинутое мной жилище
Средь хвойных и безлиственных растений
Что там теперь, в той сказочной Перловке,
По-прежнему ли по ночам в тумане
Плывут по Яузе светящиеся лодки
Наполненные бледными тенями
7 января
Ехали через ельник
Катя, сегодня сочельник
Когда мы проедем его
Будет уже Рождество
Люди нашего круга,
Волшебники, короли,
Пастухи сказали друг другу
Пойдём в Вифлеем, пошли
11 января
Ты сказала утром мне
Знаешь, умер Девид Боуи
И весь день я в тишине
В небеса смотрю на боинги
Девид Боуи поёт
И мне хочется подпеть ему
Самолету самолёт
Все там будем, в Шереметьево
26 января
Шёл я вдоль кладбища в Перми,
Вдруг женщина. Простите, мама,
Ответьте мне, плиз, ансвер ми,
А где здесь Кама?
Но женщина на этот микс
Из чёрной ямы
Ответила: здесь только Стикс,
Здесь нету Камы
4 февраля
Сугробики едут в камазике
На снегоплавильный завод,
Идёт себе тихо вдоль Яузы
Нетрезвенький пешеход
Идёт и живой и здоровенький,
А вы поезжайте туда.
Сугробики едут, сугробики,
Сугробики, господа
5 февраля
Я ночью шёл старой Москвой
И видел лофты
Окна светились надо мной,
Эх, лох ты, лох ты,
В моей бутылке булькал спирт,
А в ваших стёклах,
Как будто мир, в горшочках мирт,
Комарик дохлый
12 мая
Я видел девушку в метро
С повязкою гриппозной,
А под повязкою хитро
Скрыт синячок серьёзный
Но всем беда её видна
Безжалостно и точно,
Как будто ехала она
С пикетом одиночным
22 мая
Отец последние пару лет жизни пил
В вагончике под Дмитровым, он называл его «вилла»,
Точно в таком же в фильме Килл Билл
Жил брат Билла
Моя жена ему говорила: Вы один в лесу,
Заведите козу, чтоб не спиться,
Отвечал отец — мне нельзя козу,
Я могу влюбиться
Галина Рымбу
* * *
«Это не война» — сказал в метро один подбритый парень
другому парню, бритому наголо.
«Нет, не война, — говорят аналитики, — так, кое-какие действия».
«Территория происходящего не вполне ясна», — констатируют в темноте
товарищи.
«Война — это иначе», — сказал, обнимая, ты. «Можно не беспокоиться», —
с уверенностью говорят правительственные чиновники в прямой трансляции
по всем оставшимся телеканалам, но кровь
уже тихо проступает на их лбах, возле ушных раковин —
тонкие струйки, пока изо рта не забьёт фонтан.
Мы договаривались
сидеть тихо, пока не поймём, что происходит. Ясности не прибавилось
и спустя 70 лет, ясности не прибавилось.
Тревога, тревога, оборачивающаяся влечением. Множество
военных конфликтов
внутри, во рту, в постели; в одном прикосновении к этому — терпишь крах.
Настойчиво-красным мигают светофоры, навязчиво-красные флаги
заполнили улицы одной неизвестной страны. Смутные мертвецы,
обмотанные георгиевскими ленточками, сладкие мумии в опустевших барах
и ресторанах
приятный ведут диалог — о возможности независимого искусства и
новых форм,
о постчеловеческом мире, о сыре и вине, которое растопит
наши сердца, сердца «отсталых». Пока вирус окраин, вирус границ
уже разрушает их здравый ум, милый разум. Вот вопрос —
Сколько сторон участвует в этой войне сегодня?
Не больше и не меньше, не больше и не меньше. Прозрачный лайнер
пересекает границы нескольких стран. Внутри — раздувшиеся от жира и
страха правители
смотрят вниз, над чёрными тучами гнева и ненависти,
совершая последний круиз. Те требования, что выдвинуты против нас,
с гулом проваливаются в тёмный пустой пищевод.
Орудия, направленные внутрь себя. Внешние конфликты —
во множественных
разрезах, провалах, паралич памяти, страх рождения — всё собирается
в единый момент.
Мёртвых птичек России и Украины внесли теперь на досках сырых.
Скелеты валют на мёртвой бирже, материя, плотно осевшая
в ночи мира… —
Снова знакомые песни услышу я,
Снова весенние улицы боевых полны антифа.
Снова могу любить тебя,
Снова и снова, пока не исполнится миром ночь мира,
Не откроется наша победа.
***
они ткут целый день, ткут и ткут снова 14 век,
ткань льется вниз, словно грязь всего времени,
грязно-дымчатое государство.
он бьет по ткани рукой, выбивая круги,
бьет по ткани рукой, получается флаг,
и так, что значение флага говорит одно: по мне били рукой.
он бьет рукой по животу на смутном празднике,
как на собственном юбилее,
куда пришли все родственники, заводские стоят,
закрыв глаза, и дочь несет к столу хрусталь,
полный кислых солений, мокрых кубиков
чуть подпорченной рыбы, воды. в какой-то момент
он говорит как будто бы тост: «чтобы быть живым
я должен теперь взять имя мертвого»
они ткут целый день и ночь уже без людей
в пустом цеху освященном синим сиянием баннеров,
перебежками красных иероглифов на окне, желанием трудящихся,
ткут блестящую ткань без значения,
которую мы носим здесь, из которой сделаем флаг,
он говорит одно: то, что был сделан без участия мыслей и рук.
ты должен держать речь. но я не могу ее удержать, к тому же давно надоел язык,
болтается во рту школьной тряпкой, и не поймешь,
то ли ржешь, то ли треплешься и ешь одновременно,
стоя в луже у супермаркета, уже нигде ни кого не ждешь.
я как бы сказала как бы сказал как все было если чё как бы где…
мощные вязкие ткани плывут из другого мира
в объезд горячих точек, как рулоны войны, также полные форм, существ, насекомых, лежат, сжимаясь, все в пятнах и не новы.
универсальное тело на берегу кокетливо их встречает,
чтобы надеть, завернуться, укрыть,
стать нацией ворса, джинсы, острых катышек,
алый скидочный ковролин уже выстелил новый мир, другое внутри,
друзья «понаехали», вошли в наш дом и легли на пол,
обнялись во сне, спят вздрагивая.
что им снится? стрельба, девушки в джинсах-дудочках,
вплывающие в раскрытый темный гараж,
или свет на рыночном дне,
лучом разбивающий дыни.
* * *
разъясняющая всё кровь животных
политика: животные в хижине решают как быть
ветерок в волосах смуглых животных
утробные крики белых слонов
двигаясь внутри экономических систем,
сбрасывая кожу, роняя шерсть
«критика чистого разума» рассечена когтем
половые акты в лагуне, тёмная жидкость, всхлипы…
смерть на острие памяти
старый вожак в утеплённом гробу перенесён через сибирскую степь
на синих фуфайках фрагментарные следы охоты, яростное цветение фонем
чувственные раны на тёплом мясе в глухом сознании овода
в холодные зимы мы собирались сами
звонили из хижины отсутствующим друзьям
создали лес советов, гаремы режимов
и только один вышел жить
этика: хотят есть
свершаясь в мертвенных знаках
Полина Репринцева
***
Открытый настежь человек сидит на кухне.
Открытый настежь человек считает птиц.
Он скоро рухнет, говорю тебе, он рухнет.
Быть может, вверх. Необязательно, что вниз.
А этот дом к нему прилип — вторая кожа:
Холодный пол, холодный свет, пустой чердак.
И скоро дом очеловечится, быть может.
А человек? Необязательно, что так.
***
давай, расскажи мне, что изоляция
приносит пользу.
что на мертвом поле сношений
повсюду — гильзы.
что расстояние между людьми —
наш главный козырь.
что принадлежу
к литературнейшей из гильдий.
давай, расскажи, как в группе
анонимного понимания
вскользь обсуждается жизнь,
которую мы не.
но речь — порождение беса,
и в топку такую магию.
поэтому молча ищем
иголку на простыне.
рассказывай однозначней,
я слушаю некрикливо.
все буквы твои черны,
твой рот выпускает кольца.
и там, где упало слово —
прорастает текст торопливо.
и самое страшное,
этому гаду не нужно солнца.
мне дышится очень долго,
а воздух украден — спертый,
и мой домовой с похмелья
зовет себя цифровым.
но прежде чем ты решишься
еще раз восстать из мертвых,
убедись, что тебе
действительно
понравится
быть живым.
***
Полная остановка времени в терминале
Сверху завял букет из железных прутьев.
Быт сжимается до операции по безналу,
Бытие — до дыхания полной грудью.
Дрожь облаков, турбины протяжный вопль.
Сходит с лица бесполезного грима жижа,
Сколько же нужно выпить сегодня, чтобы
Зеркалом стать, самим себя отразившим.
Скоро покажется из-под крыла пырея
Желтая рябь, угодья сухого стебля.
Глянцевый скальп фюзеляжа как будто преет
В тщетном стремлении слиться со степью.
Ветер завыл, спотыкаясь о каждый камень,
Гимн исчезающим из головы вопросам.
Видишь: вот здесь станцевала однажды Кали,
Так разошлась, что за воздух пришлось бороться.
В полупустыне схлопывается сознание,
Плоскость вальсирует, не оставляя шанса,
Взять и прийти в себя, не повиснув на небе,
И до пылинки крошечной не ужаться
Между песком, рекою да рыбаками.
Город непобежденных, нет, не прошу остаться,
Дай мне сыграть в этот раз небольшое камео,
Прошлое развернув, словно декорацию.
***
Голоса собачьи бесприютные
Жалобно шкварчат на дне оврага.
Кто бы вас, родные, убаюкал бы?
Мнется корка — снежная бумага,
Под неугомонными подошвами
Тех живых, что трутся вдоль ограды.
Впору землю рыть столовой ложкою:
Пепел к пеплу, черт за черта, брат на брата.
Мимо катится карета ФСИНа,
В ней сидят порядок да закон.
Обожги скорей мне руки, псина,
Розовым колючим языком,
Не скули, отступит непогода,
Потеплеет — сохранишь свой хвост.
Радуйся, метафора народа.
Ведь на то оно и Рождество.

Поэт и питер
Россия — страна огромной протяженности, населенная не слишком плотно. Это налагает на неё некоторые географические обязательства — в ней часто города становятся сами по себе культурными феноменами. Безусловно, таким феноменом является Москва, скорее всего, Екатеринбург, я почти уверен, что Владивосток. Но культурный статус всех этих городов вместе взятых не может сравниться с тем, что такое Петербург на культурной карте России и Европы. Петербург становился героем великих романов 19 века, Петербург описывал как отдельного персонажа Гоголь, конечно, никакого Блока не было бы, если бы не Петербург. Странным образом, это город, который в культурном смысле никогда не равен самому себе — город, который всегда больше самого себя. Поэтому мы осмелились в этом выпуске задать такую тему — «поэт и Петербург».
Считается, и в программе это мнение озвучивается, что питерские поэты отличаются от московских, Ахматова и Гумилев от Цветаевой и Пастернака, тем, что питерские поэты гораздо более строгие, тяготеющие к классицизму и ясности формы, а московские поэты — более эмоциональные и расхристанные. В этом смысле Бродский, безусловно, питерский поэт, не только по географии, но и по творческому методу, а Вознесенский, например — московский.
Александр Семенович Кушнер, который украсил собою эту программу, один из, с одной стороны, старейших, а с другой — неумолчнейших российских поэтов, обращается с этой исторической и культурной памятью с царственной небрежностью — он её принимает на равных. Хотя каждый поэт должен быть оборудован ощущением собственного величия, не всякий поэт может себе такое позволить — всё-таки, великие тени гнетут почти всех. В этом смысле интересно, что и для Ольги Баженовой, и для Ольги Логош, юных участников этой программы, стратегиями стало скорее избегание, незамечание. Но особенно интересный способ работы с этим культурным грузом избирает для себя Владимир Беляев, житель Царского села. Беляев начинал как подлинный питерский поэт: с возведением своего почерка к классицизму, с очень чистым и звонким звуком, а потом сам сознательно, по выбору, от всего этого отказался, уйдя в пространство эксперимента, потому, что счёл такой способ использования прежде наработанных техник игрой в поддавки. Двигаться в пространстве без границ, с ободранной кожей и обнаженными чувствилищами дело гораздо более мучительное, гораздо более сложное, и гораздо более результативное. Может быть, не всегда для слушателя, но всегда — для самого поэта.
Александр Кушнер
***
Ко мне Он не сходил с Синайской высоты,
и снизу я к Нему не поднимался в гору.
Он говорил: смотри, Я буду там, где ты
за письменным столом сидишь, откинув штору.
И Он со мною был, и Он смотрел на сад,
Клубящийся в окне, не говоря ни слова.
И я Ему сказал, что Он не виноват
ни в чём, что жизнь сама угрюма и сурова.
Но в солнечных лучах меняется она —
и взгляд не отвести от ясеневой кроны,
что в мире есть любовь, что в море есть волна,
мне нравятся её накаты и наклоны.
Ещё я говорил, что страшен меч и мор,
что ужаса и зла не заслонят листочки,
но радуют стихи и тихий разговор,
что вместе люди злы, добры — поодиночке,
что чудом может стать простой стакан воды,
что есть любимый труд и сладко па́хнет липа,
что вечно жить нельзя, что счастье без беды
сплошным не может быть, и Он сказал: спасибо.
***
Долго руку держала в руке
И, как в давние дни, не хотела
Отпускать на ночном сквозняке
Его легкую душу и тело.
И шепнул он ей, глядя в глаза:
Если жизнь существует иная,
Я подам тебе знак: стрекоза
Постучится в окно золотая.
Умер он через несколько дней.
В хладном августе реют стрекозы
Там, где в пух превратился кипрей, —
И на них она смотрит сквозь слезы.
И до позднего часа окно
Оставляет нарочно открытым.
Стрекоза не влетает. Темно.
Не стучится с загробным визитом.
Значит, нет ничего. И смотреть
Нет на звезды горячего смысла.
Хорошо бы и ей умереть.
Только сны и абстрактные числа.
Но звонок разбудил в два часа —
И в мобильную легкую трубку
Чей-то голос сказал: «Стрекоза»,
Как сквозь тряпку сказал или губку.
……………………………………
Я-то думаю: он попросил
Перед смертью надежного друга,
Тот набрался отваги и сил:
Не такая большая услуга.
***
Гертруда :
Вот он идет печально с книгой, бедный…
Какую книгу он читал, об этом
Нам не сказал Шекспир — и мы не знаем.
Читал! При том, что сцена грозным светом
Была в то время залита; за краем
Земного мира тоже было мрачно,
Там бледный призрак требовал отмщенья.
И все же — с книгой, с книгой! Как удачно,
Что мы его застали в то мгновенье.
А в чем еще найти он утешенье
Мог, если все так гибельно и дико?
И нам везло, и нас спасало чтенье,
И нас в беде поддерживала книга!
Уйти отсюда в вымысел заветный
Хотя б на час, в другую обстановку.
«Вот он идет печально с книгой, бедный»,
Безумье отложив и маскировку.
Владимир Беляев
***
трать слова-слова, бесстыжий мой,
видишь, как их много стало.
заверни с собой, неси домой —
сигнатуры прячь под одеяло.
травлю звуков, очумелые флажки,
в воздух опрокинутую мнимость.
с музыки отвальной отвали мешки
и чего еще скажи на милость.
воскресенье — голос — птичий куст,
сладкая закваска шила-мыла,
день менялся, мялся, оставался пуст,
и чужая речь тебя кормила.
что прохожий там — от слова легче стал,
даже как-то распрямился.
ну, прости-прости, что я тебя назвал,
а ты посторонился.
я тебя люблю, прохожий мой, —
как зерно твое бежит из клюва,
как ты ходишь, как качаешь птичьей головой,
как скрипит во тьме твоя обува.
***
они все проходят через рамки металлоискателей,
не задерживаясь, ускользая, —
площадь светла, безлюдна.
и одетые по форме не знают перед кем извиниться,
кому рассказать, что больше нет государства,
что взор обращенный истаивает, утратив нить подозрения.
красота беспощадна, пойдем домой, — говорит один,
но речь пуста, и прежние связи избыты.
они проходят через рамки металлоискателей,
не задерживаясь, ускользая, —
свет от света, бога истинна от бога истинна.
***
скоро меня встретят —
страшная маленькая природа,
извини-извини деревьев,
птицы в разбитую осень окна.
скоро меня встретят
талые сады благодати,
весны полногрудые развалины,
тихоплавное государство.
так и идти к уже настоящему другу,
кто бесплотен и равен,
кто не знал, говорит, твое время войны,
а только мерцание, только мерцание
***
…и вот, да, и приходит, и говорит, и темница слагается,
и вот она уже — бабочка калек —
пишет узелками над городским, морским, детским,
над помойкой, троллейбусом,
над женщиной в оранжево-черной немоте лета, над трав глазами,
над его внятным возрастом, в котором
голос преувеличивает боль.
Ольга Баженова
* * *
Дробленый, пегий, пергидрольный
путь, снеголед перестрадальный,
вся соль,
весь тусклый блеск стекольный,
а дальный.
Шевелящийся шестипало,
проеденный аж до костей.
Сон шевелящийся мозольный.
И если в грануле асфальта
облизанная оскорбинка,
даль, вставши полубоком,
даль та —
сама отставленная спинка.
А глянешь — вон он в полушубке.
Как карты грязные, гадальный,
мучительный и лучевой,
обросший шерстью кочевой,
все же осевший и покатый,
в белой брошюрке,
валяющийся на ветру,
не могущий уйти по шпалам,
не различающий мастей
(а волок — облачный, камвольный),
в глупой кошурке
с бедным и хитрым, умным лицом,
бегучей серой жизни гонцом,
а глянешь — дальный:
вон он в размытом полушубке
стоит беспомощный и жуткий.
Кандальный?
Весь кусковой,
а выданный-то головой.
Еще гадательный, гадальный…
***
цериевый блеск горбов морских:
царский ветер скифов,
и валких нецинкованых гробов,
и плах морских
(и не слабо!) —
в море умащённое тоски (море масленое)
зыблемых немирных скирд
не плавит,
время царско,
знать, не платит
***
слышен
ветер, голос —
сухой бесплотный бросок ветра,
вычерствевшего по мере воли, —
выбравший кирпич и лесок,
все легкое поле,
летную кость, плотную ость,
держащий легкую черствую пропасть,
иногда на ее свинцовом дне — солнце,
чаще — ничего, только легкость, легкость:
ни крошки ее черствого вина
(а каково оно —
как лес, как леска?
как мех вершин деревьев?),
хотя ничто здесь — не по вере моли,
что превращается — и не грызет
***
И ласточки — ресницы Бога?.. —
Нет, с поперечной полосой.
Но им тепло и неглубоко
в глубоком небе… Дождь босой
чуть тронул — не пошел. А сверху
высоки серые клубы,
не сны, не днища денной верфи,
не купол ангелов, не рвы —
так… чуть серее крыльев стерха,
нежны, далеки и грубы…
***
к жестким углам — черного мира
здешних братьев — деревьев и трав —
углам черного мига —
к ним время пришло:
в миг время пришлось,
сотлилось, содлилось,
в коре
скороталось,
черно,
такое время классифицируют по размеру,
длиннопламенный уголь мелкий орех,
длиннопламенный рядовой, длиннопламенный, плита
крупная и иные,
нельзя распустить (по домам),
с веток сбить, развернуть,
только сжечь
исчезающий пламень,
глубина его покупная,
пламенное рядно,
где стволы по плечи
(в земле),
где ветви в угле,
где ноги, приведшие к камню,
где лица, глядящие в воду,
эта черная вещь,
к ней
***
вразброс по облакам — звери какой-то зари,
рыщущие, беззвучно бегающие везде,
«ворон?..» — звезда подлетает к звезде —
уже невидимы,
в отсутствие волн (подбрасывает себя плавучая вечеринка
на гладкой темной реке)
ловчих, ломких, ловких
Ольга Логош
Г. В.
сколько солнца
нам выпало
……………….в веке лесном
сколько
солнца играет с тобою!
обернись: с головой
накрывает покой
…угодья
……горами синеют!
я чужой в этой сфере
я из шерсти земной
затаился приладился к ветру
верховой часовой
в соловьином раю
пробует голос
настройку
а я выстрелил вверх
потерялся в листве
говорю
не ходите за мною
***
говоришь:
у нас общее небо
говорящее имя
да прокрасим прожитки
льняным, натяжным, голубым
назови меня Олуэн
але-аторно-ю птицей
дай бог сил
доваландать
до суждённой небесной жены!
***
в Вологде запугивали букой
в Питере тебя стращали Блоком
и теперь туманною монашкой
замкнутая в лифте невидимке
слышу сквозь стены:
Мама, не бойся воды и песка!
это Москва Москва
***
Г.К.
Питер прожит
он просто молчанье
тяжёлый сон
призраком виснет в тумане
он — за спиной
А во мне
круги разбегаются —
когда ты идёшь
по своей Москве
***
прямо с утра думала
ты — мой свет
лампочка обиделась и перегорела!
***
по чисто вымытой
Пречистенке
иду реву
***
с мрчаньем
проснулось желание
раньше чем я
***
москва
маленькая и круглая —
как Земля

Поэт и черновик
У черновика в литературе — особенный статус, ведь это последнее, что автор пишет сам. Дальше включается печатная машина и бесконечно воспроизводимые одинаковые тиражи «Войны и мира» или «Василия Теркина», ничем не отличаются один от другого, прижизненное издание и современное издание могут различить только коллекционеры и собиратели. Для нас, читателей, черновик — это последняя возможность ухватить поэта за перо. Понять, как двигалась его работа.
К сожалению, в русской поэзии, в основном, средней школой, воспитан культ спонтанности. Был такой фильм, снятый в 1937 году — «Поэт и Царь», его главный герой — Пушкин, которого царская охранка убивает насмерть через плечо Дантеса. Там Пушкин, перед тем как ехать на дуэль, садится в передней своей петербуржской квартиры к одноногому столику, складывает ножки крендельком и набело без помарок пишет стихотворение «Памятник»: «Я памятник себе воздвиг себе нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа…». Это особенно смешно, если видеть, как Пушкин в действительности работал с черновиками. Там нет ни одного не поправленного слова. Он часто зачеркивает четыре варианта и возвращается к изначальному, но там нет ни одного слова, которое бы поэт уже на бумаге, не попробовал выкрутить из строки, проверить на точность. К сожалению, вот эта работа пестования черновика, она вообще редко обсуждается. Поэтому для меня было так важно пригласить людей к этому разговору. Я очень надеюсь, что где-нибудь на далеком стойбище, где нет ничего, а есть телеприемник с каналом «Культура», молодой поэт увидит эту программу и узнает — в больше никто ему этого не скажет! — и узнает, что черновики надо править, и что от черновика до чистовика у поэтов могут проходить годы.
Это важнейшая часть работы поэта и мне радостно, что мы смогли вытащить ее наружу. Алесксандр Скидан — не только замечательный поэт, но и значительный теоретик литературы. Было очень интересно обратить такой тренированный ум на собственную поэтическую работу, чтобы он показал, каким образом она идет. Хотя поэта Владимира Аристова условно можно отнести к тому же кругу в современной литературе, но это поэт совсем другой интонации и совсем другого отношения к рукописи и черновику. Если для Скидана, все-таки, и черновик, и стихотворение, и рукопись являются некоторыми знаками назвездном небе у него в голове, то Аристов воспринимает рукопись и черновик в их изначальной функции — это след руки. Одно из стихотворений, которое он читал на этой программе, написано на прозрачных листах. И поскольку они сложены стопкой, то поэт, некоторым образом, в любой момент времени видит стихотворение целиком, но не может его прочесть, это мучительная работа, потому что строчки сливаются, буквы налезают одна на другую. Некоторым образом, это стихотворение уводит еще дальше в глубь черновика от ясности и простоты печатной страницы именно для того, чтобы сохранить в нем дыхание того мгновения, когда стихотворение еще только рождается, а не родилось и отделилось от своего создателя.
Дана Курская и Михаил Чевега, на самом деле, поэты довольно опытные. Так иногда бывает у нас в программе, что человек, работающий уже много лет и выпустивший полдюжины книжек, и сам себя воспринимает, и поэтическим сообществом воспринимается как все еще начинающий. Их работа с текстом в развитии мне показалась тоже очень интересной.
Александр Скидан
Схолии
пролёты моста
колёса мельниц
рожок почтальона
и перегоны метро
<и Гёте Гёте конечно!>
не прислоняться
не спать
крепкие
мужские объятья
сентиментальная чепуха
«заткни пасть»
буквы «М» и «Ж» стёрты
***
всё что связано с подлинностью
мыльный привкус
техномузыка из дверей кафе
пролегомены
ко всякой будущей метафизике
воображаемые решения
катакомбы
«никогда не говори со мной таким тоном»
красно-коричневая чума
новый порядок означающих
the sun is going so fast
берёзки
полупроводники
сновидения
обрезки ногтей
сопротивление бесполезно
***
реклама volvo и вульвы
нила и сены отца и сына
(параллелизм
аллюзии
пустые места
теодицея
для пассажиров с детьми
паронимическая аттракция
<это не стихотворение>
это теологические ухищренья товара
самореклама (откровение
святого духа
в абсолютной разорванности
***
первобытный идол
фетиш или Грааль
место эпифании
и исчезновения
заклинания
и искупления слова
опредмечивания
превращения в вещь
пройти через отчуждение
развоплотиться
<эстетический опыт>
превратить себя в изысканный труп
surplus value
перламутровый след
речь не о человеке
весь его пыл
неосязаемая фантомность живого
присвоение ирреальности
последняя явь
«я буквально разъят на части»
***
натяжение или искривление нервов
затвердевшие или воспалённые органы
особое качество
неосязаемый цвет
уникальная
и преходящая форма
(покраснение.
уплотнение.
жар.
видимое на аутопсии поражение.
речь идёт о сложных
производных процессах
с помощью которых артикулируется
сущность болезни
***
непосредственная чувственность
клинического подхода редукция
болезнь как имя есть частное бытие
разрушая ткани
движение или функции
хирургическое вмешательство
обретает плоть
особое качество
неосязаемый цвет
уникальную
и преходящую форму
лингвистической структуры реального
(таким образом
мы вправе сказать
если искусство хочет выжить
в условиях промышленной цивилизации
художник должен научиться воссоздавать
в своих произведениях разрыв
между потребительской стоимостью
и традиционной понятностью
<разрыв>
который и составляет по существу
опыт шока
***
ни нарывающих виноградниками холмов
ни терцин обещающих очищение
утилизация образа
мониторинг
валоризация трещины у тебя в паху
бесчестит воображение.
чистая длительность предложения
заняться любовью
разрушительное сияние
выставленных в витрине мощей
представь
что ты ещё жив
в сослагательном наклонении
в информационных сетях
глянцевые костры
аура всесожженья
аура исчезновения ауры
<назови себя Беньямин>
аутоэротизм и ауто-
референциальность искусства
искусственный член
задроченный троеперстьем
крестовый поход
капитала
вложенного
в крестовый поход
In <the> dead God we trust
***
в «Бытии и Времени» (на странице
163) Х. утверждает:
как словесное озвучание
основано в речи
так акустическое восприятие
в слышании
что же он слышит?
скрипящую телегу
мотоцикл
северный ветер
стук дятла
потрескивание огня
колонну на марше
<в этом месте мы закрываем глаза
и прислушиваемся к сердцебиенью>
<Ханна Арендт шепчущая люблю>
<документальная хроника>
слышание (утверждает он там же)
конститутивно для речи
***
обезглавленный
ходит ещё четыре часа
стихотворение в прозе
о нежных пуговицах
ангел истории со свастикой
на серебряных крыльях
(их ему не сложить
перманентная катастрофа
алеаторика
клинамен
избирательное сродство
IBM
эмпирическое определение правил
(их ему не сложить
сказать ли
все они уходят во тьму
нацизм последовательно приходит
к эстетизации политики <или смерти>
<иными средствами>
***
<это не стихотворение>
существительное <Целан>
<и Гёте Гёте конечно!>
некий смысл
пусть в отсутствие и украдкой
«увидеть Александрию и умереть»
«я буквально разъят на части»
<некий смысл>
обезглавленный
ходит ещё четыре часа
но сказать это
значит сказать
повешенный висит вечно
***
это как стена дождя
или стена новостей
когда ты мелом крошась
как если б мир покачнулся
и его еще можно было спасти
только таким образом
крошась
но мир — это и есть стена новостей
в которую вмурован твой мел
Владимир Аристов
***
Треугольный пакет молока.
Если угол обрежешь,
То белая хлынет тоска.
Как письмо непрочитанное
Пропадает в ночи.
Тихо. Молчи.
Но росе разведенный,
Рассвет, помутившись, растет
За углом, где работа постылая ждет.
Я его позабыла,
Значит в памяти он никогда не умрет.
На окне на ночном цветных пирамид молока
Громоздятся мучные бока.
Молока струйку чувствуя нить —
Эту память уже не прервать, не продлить.
Предваряющие слова
Эта краткая поэма очень долго не могла завершиться, только «формальное решение» — записать ее на прозрачных пленках-листах (в просторечии «прозрачках») позволило ей найти окончательный смысл. При ее чтении сквозь листы проступают лица слушающих. Речь в ней — о присутствии других, ныне живущих и тех, кого как будто нет — среди нас, но которые прозрачнее и прочнее тени. Здесь намек на возвращение через повторяющееся усилие памяти. В них — в листах, пропускающих свет сквозь слова — слабая надежда на то, что возможно не только вытеснение, — в совместном пребывании и люди станут прозрачны.

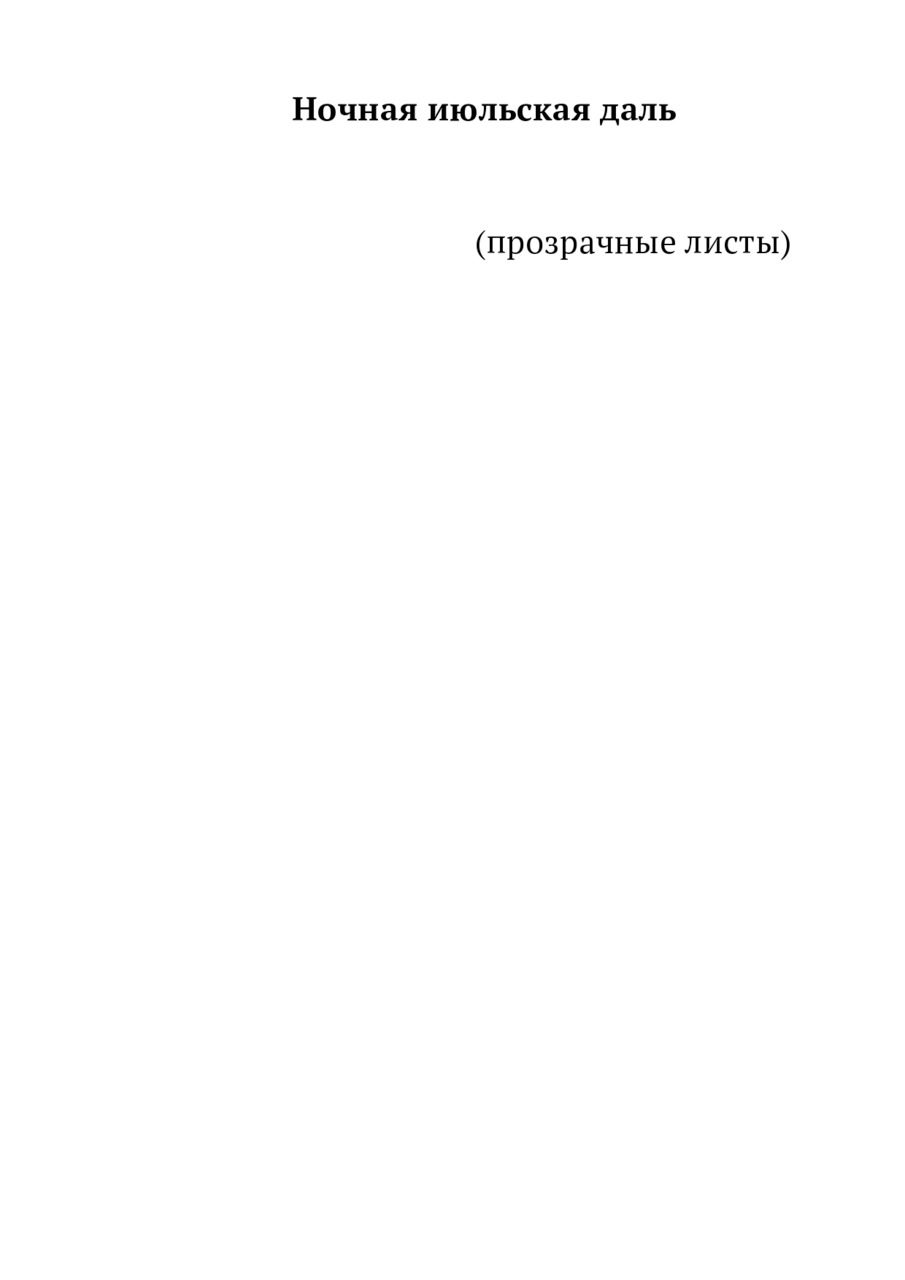
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.