
Бесплатный фрагмент - Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина
Вместо вступительного слова
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮРИНА НА РАСШИРЕННОМ
ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВНИИЛМ
30 сентября 1982 года.
Город Пушкино Московской области.
Дорогие товарищи!
Мне предоставлена возможность выступить перед вами, специалистами, лично знавшими отца, либо хорошо знакомыми с его научными работами. Возможно, мне придется в чем-то повториться, надеюсь, что найдется какая-либо новая грань в характере такого многогранного человека, каким был Александр Владимирович.
Многое уже на расстоянии, нет многих его учеников и со временем стирается облик человека, превращаясь в своего рода символ. Чтобы перейти к моему пониманию отца, как человека, разрешите поделиться с вами некоторыми размышлениями по этому поводу.
Что было основной сутью отца?
Прежде всего, доброжелательность к людям. Не разделяя и не взирая на лица, которые к нему обращались, он был со всеми ровен в обращении, умел выслушать до конца, проанализировать сказанное, даже если был не согласен с собеседником. Доводы отрицания давались в тактичной форме, аргументированными и продуманными. Самоконтроль не позволял резких возражений, оставляя возможность что-то уточнить, поправить, даже изменить свою точку зрения, или наоборот, более полно ее обосновать.
Отец умел в небольшом увидеть новое, перспективное, целесообразное для дальнейшего развития и творчества, поддержать здоровую идею для практического использования. Четкость и ясность изложения, доступность для понимания и восприятия замечена многими.
Принципиальность в решении специфических вопросов была основана на прочно сложившихся убеждениях, как правило, проверенных опытом или анализом. Отца отличало умение обобщать разрозненные явления, далеко не очевидные, в стройную систему знаний. В довоенные годы Александр Владимирович занимал пост председателя экспертной комиссии ВАК. Его принципиальность и беспристрастность помогала экспертной комиссии находить правильное решение в конфликтных ситуациях при защите диссертаций.
Приверженность отца к выбранной специальности, как известно, проявилась с юношеских лет. Овладев профессией агронома в Богородицком среднем сельскохозяйственном училище, он смог осуществить мечту — поступить в Петербургский лесной институт и стать лесоводом.
Заведуя Брянским опытным лесничеством, отец развернул большую научно-исследовательскую работу, способствовал становлению в лесной науке, например, такого известного ученого, как В. П. Тимофеев. Большое внимание Александр Владимирович уделял воспитанию младших братьев — будущему академику И. В. Тюрину и известному в биологическом мире будущему доктору биологических наук ихтиологу П. В. Тюрину.
В период работы в Воронеже, сначала в Воронежском сельскохозяйственном институте, а потом в Воронежском лесотехническом институте (ВЛТИ), появилась прекрасная плеяда лесоводов и организаторов лесного дела. Как известно, таланты образуются в научных школах, руководимых опытным и чутким руководителем. Авторитет школы поддерживается ее учениками. Такой школой до войны был ВЛТИ, где работал отец. Многие стремились туда в аспирантуру или на защиту докторских диссертаций. В этой связи хотелось пожелать ВЛТИ новых успехов.
Воронеж сыграл большую роль в становлении отца как ученого и профессора. Свыше двадцати лет отдано созданию и укреплению Воронежской высшей лесной школы и опытной базы института: Левобережному и Правобережному лесничествам. Творчески здоровая атмосфера, воодушевление молодых людей, пришедших в институт после Гражданской войны в период восстановления народного хозяйства, создали благоприятные условия для подготовки новых специалистов лесного дела.
Я далек от возможности перечислить многих известных учеников отца, самобытных и по-разному, оставивших о себе память. Некоторые из них в свое время сделали большой вклад в науку о лесе, способствовали организации в деле лесопользования и защите леса. Их деятельность достойна высоких оценок, особенно сейчас, когда забота о природных ресурсах леса стоит как государственная задача.
Вам судить о роли отца в научной деятельности Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ, ранее ВНИИЛХ). Могу привести один из примеров по созданию лесозащитных полос в 1947 году, не потерявших значение и сейчас, и выдержавших испытание временем, а также создание монографии «Дубравы СССР» и целого ряда организующих инструкций и многое другое. Мне как неспециалисту лучше не касаться этого, но, чтобы хотелось отметить — данные работы отец выполнял в возрасте далеко за шестьдесят лет.
В беседах с отцом затрагивались обширные темы: его волновали и судьба чистоты озера Байкал, эрозия почвенного покрова берегов Байкала при рубках на склонах, возвращение в сельскохозяйственный оборот плодородных и пойменных земель, излишне затопленных мелководными водохранилищами (необходимость польдеров), легкая повреждаемость и трудная восстанавливаемость растительности Крайнего Севера при расширении хозяйственной деятельности в этих районах. Видим, что это комплексные темы, исследования по которым требуют привлечения многих институтов и предприятий, в том числе и смежных профилей.
Отец был широко интересующимся человеком, приятным собеседником. В нашем доме в Воронеже и здесь, в Пушкино, очень часто бывали ученики отца, товарищи по работе. Всегда они находили теплый прием. Особую роль играла хозяйка дома Екатерина Петровна, верный спутник жизни и первый помощник Александра Владимировича.
Уже будучи на пенсии отец вплотную занялся фенологией. Он не был учеником Д. Н. Кайгородова, учился по его книгам. Подвижничество, которое начал Д. Н. Кайгородов, способствовало созданию добровольной сети фенологов-корреспондентов. Отец продолжил практическое изучение массовых фенологических наблюдений для сельского и лесного хозяйства, за что был удостоен Почетной грамотой Географического общества Союза ССР.
В перерыве меня попросили рассказать о семье. Нас было трое сыновей. Все мы родились в Брянском опытном лесничестве. Мы, дети Александра Владимировича и Екатерины Петровны, многим обязаны нашим родителям. Все сыновья рано встали на ноги. После окончания вузов вышли на самостоятельную жизненную дорогу, внесли или продолжаем вносить свой вклад в развитие страны, пытаемся передать все лучшее нашим детям и внукам. Среди нас нет лесоводов, пока! Поживем — увидим…
Старший сын, Борис Александрович, профессор, доктор геологических наук, заслуженный геолог Казахской ССР. Долгое время работал в Казахстане и много сделал для развития производительных сил этого района страны. Последние годы работал в Москве. К сожалению, Борис Александрович рано ушел из жизни, в 1974 году после тяжелой болезни.
Средний сын, Владимир Александрович, присутствующий здесь на заседании Совета, ответственный работник одного из оборонных министерств, ныне персональный пенсионер и продолжает работать.
Я свыше 25 лет был главным конструктором Ленинградского КБ «Арсенал», в настоящее время персональный пенсионер, но продолжаю трудиться на «Арсенале».
Внуки — инженеры в промышленности и в вузах. Есть правнуки. Для внуков были написаны «Дедушкины рассказы о том, что было», в которых описаны доступные для детского восприятия явления природы и исторические события, в том числе, выходящие за пределы интересов семьи.
Не менее интересен отец как бытописатель семейной хроники за почти столетний период жизни. Эта работа ждет своего часа, надеюсь, что ею заинтересуются, и она будет опубликована. Ознакомившись с проектом решения Совета и прослушав предложение Н. А. Моисеева, поддерживаю предложение о создании книги об отце. В свою очередь, семья может предоставить рабочей группе материалы и фотоснимки. Неплохо привлечь опытного журналиста, умеющего обрабатывать подобные материалы и их популяризировать для широкой аудитории.
Отец в быту был очень скромным и нетребовательным человеком, зачастую отказывался от лишних хлопот вокруг себя, но это был не аскетизм, ничто человеческое ему не было чуждо. Его ценностями были другие категории, далекие от «вещизма». Отзывчивость и доброта к близким, желание помочь, прийти на помощь хорошо известны и остаются в памяти многих людей, которые его знали.
Пользуясь, случаем, разрешите от членов семьи Александра Владимировича выразить признательность Министерству лесного хозяйства СССР, руководству ВНИИЛМ, докладчикам — последователям отца, всем присутствующим за проявленное внимание к памяти Александра Владимировича и за работу по сохранению научного наследия замечательного ученого и человека, каким был наш отец.
Детство, отрочество, юность
Детство в Тимергане (1882—1890)
Когда началась Великая Отечественная война, мне было под шестьдесят. Тогда я ощутил необходимость рассказать о своей жизни. Первыми были написаны воспоминания о детстве, отрочестве, юности (в 1941 году). Представляю их для прочтения моим сыновьям, моим внукам, моим близким.
А. В. Тюрин
Немножко географии
В четырехугольнике, образованном на севере рекой Камой, на востоке рекой Белой, на западе рекой Волгой, а на юге железной дорогой Сызрань — Уфа, сбегает с юга на север, с возвышенных холмов Башкирии быстрая и извилистая река Ик. Она впадает в Каму, а километров за сорок до своего устья принимает слева небольшую, но круто падающую с юга на север реку Мензеля. На левом cеверном берегу этой реки, в нескольких километрах от ee впадения в Ик, расположен город Мензелинск. Покатая на юг к реке Мензеля возвышенность, на которой расположился город, поднимается к северу по мере удаления от реки и падает крутыми обрывами к реке Ик, окаймляющей возвышенность с востока и севера. Можно сказать, что северные и восточные окрестности города Мензелинска расположены на возвышенных обрывистых берегах Ика. С этих высот видна пойма реки Мензеля и реки Ик, сливающаяся с огромной поймой Камы. Весной эта обширная пойменная равнина заливается полой водой на несколько десятков километров.
В это время город Мензелинск делается похожим на приморский город так, что парусные суда с реки Камы в весеннюю пору могут подходить к самому городу. По обширному необозримому водному пространству в непогоду ходят настоящие морские волны, а дальние берега Камы едва различаются в легком тумане.
Окрестные возвышенности по рекам Мензеля и Ику покрыты лиственным лесом. На западе, в сторону города Набережные Челны, тянется старый тракт, окаймленный по бокам исполинскими столетними березами. Такой же тракт и с такими же гигантскими столетними березами тянется на юг, к Уфе. Между лесами расположены поля, а в пойме рек Мензеля, Ика и Камы раскинуты бесконечные озера, окаймленные тростником и кустарником из дуба и лозы.
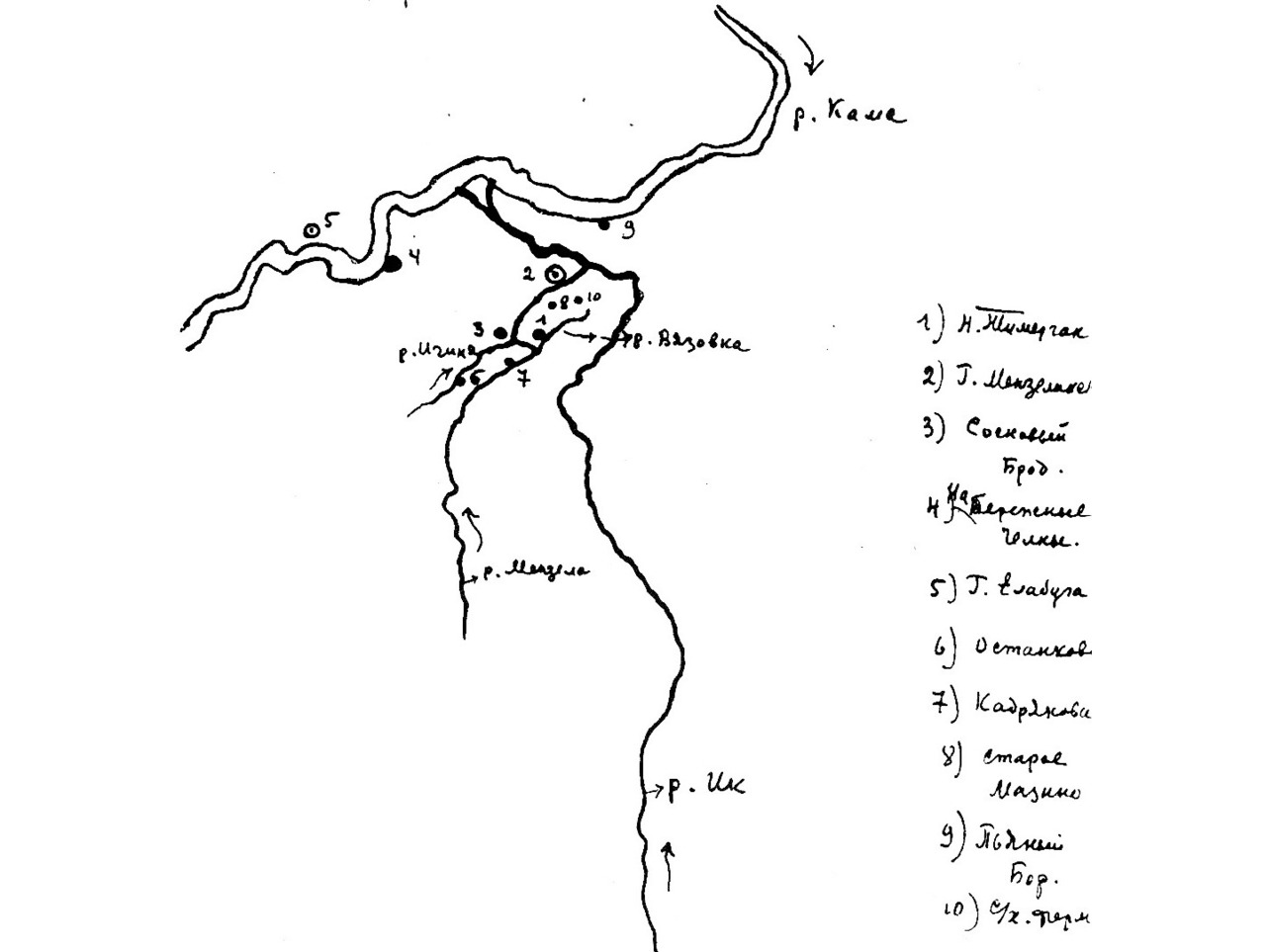
В этом краю я провел свое детство и отрочество, с 1882 по 1898 год. Но родился я не в самом городе Мензелинске, а недалеко от него, в маленьком селении Нижний Тимерган, расположенном на маленькой речке Вязовке, в двадцати километрах от города. Речка Вязовка сбегает с возвышенного водораздела между Иком и Мензеля и впадает в Мензеля в том ее месте, где она делает крутое колено, наткнувшись на известняковый кряж, и огибает его у селения Сосновый Брод. Речка Вязовка пробегает не более пятнадцати километров. Начинаясь в лесах, она половину своего пути проходит среди перелесков и только в нижней части лишена леса. На правом ее берегу расположено два селения, одно небольшое — Верхний Тимерган, другое поменьше — Нижний Тимерган. На левом берегу расположено селение Вольный Тимерган. Возле Нижнего Тимергана, на правом берегу реки Вязовки, с начала ХIХ века и до начала ХХ века стояла дворянская усадьба. В прошлом она принадлежала помещикам Брудинским. Жители селения Нижний Тимерган были крепостными этих помещиков. При освобождении от крепостного права в 1861 году крестьяне получили дарственные наделы, а остальная земля в количестве около двухсот сорока гектар (двести семнадцать десятин) составляла частное владение. Помещики после 1861 года не сумели вести хозяйство на новых началах и сдали землю в аренду. Первым арендатором у них стал мой отец. Ему было около тридцати лет, когда он арендовал поместье, прожив затем на этой земле и ведя на ней хозяйство около тридцати пяти лет.
В конце 90-х годов отец совершенно разорился и прожил остаток своих дней в Мензелинске, приписавшись к мещанскому обществу этого города. В этой старой усадьбе я родился и провел свои детские годы. Усадьба занимала обширное пространство. При доме имелся передний двор, не менее половины гектара, такой же величины задний двор и огород, площадью около гектара. Ко двору примыкали верхнее и нижнее гумно и особый выгон. Вся усадьба имела не менее пяти гектар и примыкала к реке Вязовке. Последняя была перехвачена плотиной и образовала длинный, вытянутый пруд вдоль огорода и нижнего гумна. Просторы усадьбы были местом нашей детской и отроческой работы и наших игр. Деревьев на усадьбе было мало. Они сохранились лишь вдоль берега реки Вязовки и состояли из серых ольх и громадных черемух, являвшихся для нас единственными плодовыми деревьями. В углу усадьбы, на южной ее стороне, стоял дом. Он был построен из толстых дубовых бревен, обшитых тесом и утепленных мякиной между обшивкой и бревнами. Когда-то он был с мезонином, но отец перестроил его и снял мезонин. Дом был обширен и имел шесть комнат с отдельной кухней. Некоторые комнаты носили отпечаток давно ушедшего крепостного права. Так, одна из комнат называлась лакейской. В ней стоял сундук около окна и двери. Комната служила некогда местом пребывания казачков и лакеев. Около дома с южной стороны был палисадник, в котором росли старые кусты сирени, а по краям палисадника стояли очень толстые и высокие деревья желтой акации. Таких размеров желтой акации, какие были в этом палисаднике, мне не пришлось видеть потом нигде. Я и сейчас жалею, что, будучи мальчиком, не подсчитал числа годичных колец на каком-либо из срубленных деревьев и не определил их возраста. По-видимому, они были посажены в начале ХIХ века, и было им в то время, когда я их видел, около ста лет.
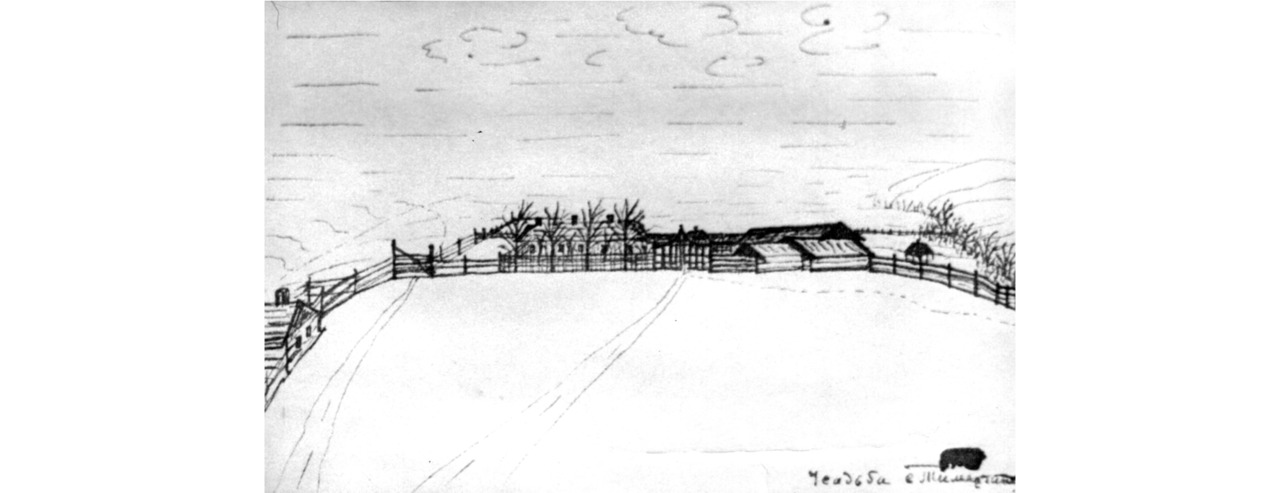
Фасад дома выходил на южную сторону в палисадник. Из окон дома сквозь деревья виднелось селение Нижний Тимерган, состоявшее из десяти дворов, и излучина реки Мензеля с ее поймой, начинавшейся в двухстах метрах от усадьбы. До самой реки Мензеля было около одного километра. Далее по реке были видны селения: вверх по течению Кадряково с шумным еженедельным базаром, вниз Ямяково с высоким зеленым минаретом деревянной мечети. В Кадряковой жили крещеные татары. Они называли себя «кряшен», местные русские называли их «крещены». В Ямяково жили татары. Далее вверх по реке были видны кряшенские и татарские селения, а на далеком горизонте, за рекою, закрывая всю южную сторону горизонта, шел хребет, отделявший Мензеля от Ика. По этому хребту шел старый Казанский тракт, и были видны окаймлявшие его деревья. Это были такие же старые березы, как и на трактах вблизи города Мензелинска. Далекий тракт, идущий в город Казань, казался нам в детстве полным таинственности. С ним было связано слово Казань, неизвестный для нас обширный и красивый город. На юг от усадьбы до самого дальнего горизонта не было лесов. Это были давно распаханные степи. Отдельные татарские названия, такие как Кайнатау (что значит березовая гора) и названия урочищ, в которых входило слово кабан, свидетельствовали о том, что тут когда-то были лиственные леса, но они были вырублены, раскорчеваны и распаханы. На горе Кайнатау, нависшей над рекой Мензеля несколько ниже селения Ямяково, я еще застал последнюю березу.
Пойма реки Мензеля перед нашей усадьбой и к югу от нее была в то время покрыта густыми зарослями ивы, серной ольхи, дуба и осины. В ней было большое количество мелких озер и болот. Через эту часть поймы проходила речка Вязовка до ее впадения в реку Мензеля. В пойме жило огромное количество уток и куликов разных видов. К северу от усадьбы начинались леса и перелески, и они тянулись до самого города Мензелинска. Дорога от нас на Мензелинск шла наполовину среди лиственных лесов. Мои первые детские впечатления связаны с жутким чувством детской печали от вырубки окрестных лесов. Была погоня у всех за новой пахотной землей из-под леса, и «чищоба» (раскорчеванная земля) являлась предметом вожделения для землевладельцев.
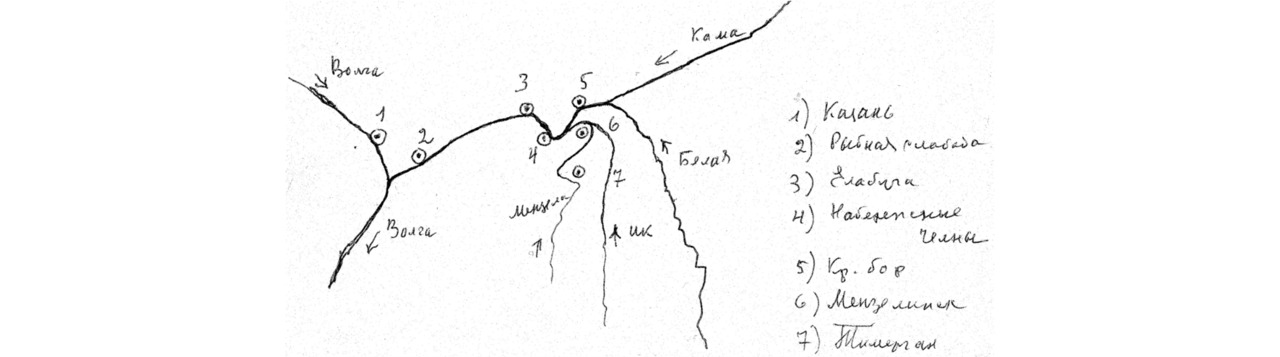
Я отчетливо помню, что северней нашей усадьбы находился осинник, в котором были крупные строевые деревья. Самовольные порубки в этом осиннике, которые нельзя было прекратить, вынудили отца вырубить осинник. Это было сделано однажды зимой, когда мне было очень немного лет. Я еще не ходил в школу и научился только считать. Но я был уже настолько восприимчив, что не мог спокойно отнестись к вырубке осинника. Я любил эти деревья, потому ли что часто гулял здесь, или потому, что здесь водилась клубника, и я плакал, когда стали вырубать деревья. К тому же однажды срубленным деревом зашибло неосторожно бежавшего зайца. Этого зайца принесли ко мне, и он умер у меня на руках. Детские впечатления были настолько сильны, что и потом, когда я был уже лесничим, я не мог спокойно видеть сплошную вырубку леса.
Арендованная отцом земля тянулась длинной полосой километра на четыре. Ее дальний конец приближался к селению Сосновый Брод на реке Мензеля. Около этого селения оканчивалось колено Мензеля, и она вновь принимала свое старое направление к северо-востоку. С высот правого берега Мензеля у Соснового Брода открывалась великолепная картина левобережья реки Мензеля и узкая долина реки Игини, впадающей в Мензеля слева у Соснового Брода. Вдали, на горизонте, у реки Игини виднелась белая церковь села Останково. С детских лет она была окружена для меня таинственностью, вызванной тем, что там, в этой церкви, как мне передавала моя мать, она венчалась с моим отцом в 1878 году. Впоследствии я получил огромное удовлетворение, когда смог проездом посетить это село и осмотреть церковь.
Край, в котором я провел детство, был разноплеменный. Вокруг нас жили русские, кряшен, татары, башкиры и чуваши. Нашим общим языком был русский, но мы немного говорили и по-татарски. Еще и теперь в моей памяти сохранились татарские слова и отдельные фразы, хотя прошло больше сорока лет с тех пор, как я уехал из родных мест.
Отец
Отец мой, Владимир Иванович Тюрин, родился в 1832 году в селе Рыбная Слобода на реке Каме. Он происходил из семьи ювелиров, крестьян Рыбной слободы, находившихся в крепостной зависимости. Ювелирный промысел для них был средством к жизни и давал им возможность платить оброк своему помещику. В качестве ювелирных изделий делались серебряные модные женские украшения (браслеты, серьги и прочее), преимущественно, для татарок, чувашек и женщин прочих народностей, населяющих Прикамье и среднее Поволжье. Однако мой отец не стал ювелиром. Десяти лет он был взят в услужение в качестве «мальчика» к одному разъезжему торговцу и вместе с ним исколесил все Прикамье. C течением времени, по мере накопления опыта, он превратился из «мальчика» в приказчика и доверенного, все также разъезжая по обширному Прикамскому краю.
Выйдя в 1861 году из крепостного состояния, отец приписался к мещанскому обществу ближайшего к Рыбной слободе города Елабуги и в таком звании состоял до самой смерти. К тридцати годам он располагал небольшими оборотными средствами и вздумал переменить торговое дело на сельское хозяйство. Отцу приглянулся Мензелинский уезд, и здесь в середине 60-х годов он арендовал понравившееся ему небольшое имение на речке Вязовке близ Нижнего Тимергана. Арендная плата на землю в двести семнадцать десятин составляла вначале около четырехсот золотых рублей в год. Впоследствии она была повышена до шестисот рублей в год. Середина 60-х и 70-е годы характеризовались подъемом сельского хозяйства. Запашки в Прикамском районе увеличивались, распахивались старые залежи, усиленно вырубались и раскорчевывались леса. Успех сопровождал предприятие отца. В течение первых двух десятилетий его хозяйство на арендованной земле крепло и расширялось. Ежегодно сеялось около ста пятидесяти десятин, то есть две трети всей земли, одна треть находилась под паром. В хозяйстве было большое количество скота, около тридцати лошадей, двадцать коров, пятьдесят овец и прочая живность.

Однако удачные годы двух десятилетий не дали денежных сбережений. Оборотных средств в запасе было немного. В середине 80-х годов урожаи стали заметно падать, как следствие истощения земли, не удобрявшейся навозом, несмотря на его избыток, так и из-за засух, примитивной обработки почвы, не способствовавшей накоплению влаги за осень и зиму. К тому же в конце 80-х годов обнаружилось сильное падение цен на зерновые хлеба, как следствие невыгодного для нас торгового договора с Германией. При уменьшившихся урожаях и при низких ценах на хлеб трудно было выплачивать ежегодную аренду в шестьсот рублей, стали накапливаться недоимки. Сейчас трудно поверить, насколько низки были тогда цены на хлеб и прочие продукты сельского хозяйства. Так, например, один пуд ржи стоил не больше сорока копеек, один пуд овса не больше тридцати пяти копеек, один пуд свинины стоил около одного рубля, а битых гусей я сам по поручению отца продавал зимой в Мензелинске на ярмарке в начале 90-х годов по пятьдесят копеек за штуку. И, несмотря на такую дешевизну, к моему великому горю, этих гусей у меня никто не покупал. В тоже время наемный труд был дорог. Так, например, уборка хлеба серпом (сжать, связать снопы и сложить их в копны) стоило в эти годы от пяти до семи рублей за десятину. Достаточно принять во внимание, что урожай зерновых в среднем был не больше пятидесяти пудов, из них десять пудов на семена, оставалось же сорок пудов. При цене сорок копеек за пуд это составляло шестнадцать рублей. Отсюда следует, что одно жнитво (сжать, связать снопы и сложить в копны) требовало от одной трети до половины всего урожая.
Не одно только наше хозяйство испытывало в этот момент болезненный надлом. Кругом нас беднели и разорялись средние владельцы, а также и крестьяне. В этот момент нужно было искать новые пути ведения хозяйства. Его нужно было индустриализировать, машинизировать, но для этого нужны были свободные средства. Таких средств не было, а искать их отец не имел ни сил, ни здоровья, так как был уже стар.
Мои первые сознательные детские впечатления (конец 80-х и начало 90-х годов) связаны с ощущением признаков начинающегося разорения. Постепенно и незаметно чувствовался упадок нашего обширного хозяйства.
Мне было не более десяти лет, но я чувствовал, как старший из детей, что на мне лежит ответственность за благополучие семьи. Со мной советовался отец, а чаще мать, по поводу различных хозяйственных неурядиц в ведении дела. В качестве хозяйского глаза я ездил в поле смотреть за работами, на соседнюю мельницу молоть зерно, на местные базары, чтобы продать муку или пшено. С детской хлопотливостью я принимал посильное участие в поддержании хоть какого-нибудь порядка во дворе, в конюшне, в поле, но не мог не понять своим детским умом, что процесс разрушения хозяйства идет неудержимо, и, что сил отца, матери, старшей сестры и моих недостаточно, чтобы удержать падение. Больше всех нас видел это отец. Окрестное население, особенно татары, в селение Ямяково, жили плохо. Большинство недоедало, а зимой буквально голодало. Я был свидетелем многих сцен, когда люди приходили к отцу с просьбой выручить их и дать им хлеба. Я не помню ни одного случая, чтобы отец отказал в просьбе. Но за то и в самом нашем хозяйстве бывало так, что в июле месяце незадолго за нового урожая у нас у самих не оказывалось хлеба. Я помню случай, когда однажды в июле месяце отец попросил меня съездить на соседнюю мельницу, в селение Ямяково попросить взаймы несколько пудов ржаной муки. Муки я привез, но мне было стыдно от сознания упадка нашего хозяйства.
Упадок хозяйства, задолженность по плате за аренду земли привели, в конце концов, к судебному процессу, описи имущества и продажи его с молотка (с публичных торгов) для покрытия платежей по арендной плате. Распродажа произошла в 1897 году. Нужно было покрыть сумму несколько больше тысячи золотых рублей. На торги съехалось много народу. Тут были и хищники, готовые поживиться, но оказалось, что среди приезжих были знакомые отца из татар и башкир. Они организовали дело так, что нужная сумма была собрана фиктивной продажей нашего имущества с последующим возвращением этого имущества нам же. Это была помощь со стороны хорошо относившихся к отцу местных людей. После судебного процесса аренда была прекращена, и отец с семьей переселился в город Мензелинск, приписавшись к мещанскому обществу этого города. От ликвидации хозяйства в Нижнем Тимергане после выплаты всех платежей остались небольшие средства. На них был куплен в Мензелинске маленький старый домик с садом и скромными службами за четыреста рублей.
Отец не мог пережить катастрофы с хозяйством. Он чувствовал, как мне казалось, вину на себе за эту катастрофу, за то, что не смог ее предотвратить и тем самым поставил маленьких детей (он женился поздно) и свою жену (нашу мать) в тяжелое положение. Вскоре после переезда в Мензелинск в 1901 году отец умер.
Мать
Моя мать, Анастасия Васильевна Тюрина, (в девичестве Колесникова) родилась в 1855 году. Она происходила из крестьян города Мензелинска. Для многих читателей покажется странным, что в Мензелинске жили крестьяне. Да, это действительно так. Город Мензелинск, один из древнейших городов Прикамья (он был основан в 1584 году) представлял в то время чрезвычайную оригинальность в отношении состава населения. Главную массу жителей города составляли крестьяне. Они имели огромные земельные владения в виде пахотных земель, лугов в пойме рек Мензеля и Ика, лесов и выгонов для скота. По величине земельного надела мензелинские крестьяне стояли на первом месте среди крестьянского населения Прикамья. Будучи горожанами, они в тоже время, как крестьяне имели общинное устройство, а в городе Мензелинске для них было создано особое волостное правление.

Вторая значительная группа населения города состояла из мещан. Мещане города Мензелинска также имели земельные наделы, но небольшие. Будучи горожанами, они в тоже время имели в свое мещанское управление в виде мещанской управы. Земля, находившаяся в пользовании мещан, распределялась, как и у крестьян на общинных началах. Кроме этих двух крупных групп населения, в городе была так называемая шляхта. Это были потомки польских дворян, выселенных из Смоленской области в ХУII веке, после удачных для Москвы войн с Польским государством при царе Алексее Михайловиче. Шляхта имела свои земли на праве частной собственности. Эти земли были достаточно обширны. Наконец, была еще одна небольшая группа населения, занимавшаяся земледелием и несколько отличная от крестьян, мещан и шляхты. Она называлась «мурзой» и представляла из себя потомков татарских и башкирских мурз, живших до завоевания Прикамья при Иоанне Грозном.
Родители моей матери были старожилами Мензелинска. Отец ее, мой дедушка, Василий Филиппович Колесников, занимался сельским хозяйством попутно. Основной его работой была служба в общественных учреждениях города. В его лице эпоха 60-х — 70-х годов воспитала убежденного и страстного общественного деятеля. Сельское хозяйство в его семье лежало на жене, моей бабушке, Варваре Павловне и на ее дочери, моей матери. В 1878 году моя мать вышла замуж за вдовца, моего отца и переселилась в Нижний Тимерган. Отцу, когда он на ней женился, было уже за сорок. Моя мать с детства занималась сельским хозяйством, но, тем не менее, она была типичная горожанка и любила свой город. Нелегко ей дался переезд из города в деревню, хотя и отстоявшую от города на расстоянии на более двадцати километров. Большое хозяйство в Нижнем Тимергане требовало разносторонних усилий, и мать сильно уставала, занимаясь хозяйством целый день. С первых сознательных лет я помню ее напряженный непрерывный труд. Зимою она вставала не позже шести часов, а летом — не позже трех часов утра. Ложилась она всегда позже всех. Редко ей удавалось отдохнуть днем на четверть часа или полчаса. Для нас, детей, она казалась вечно бодрствовавшей. Сферой ее деятельности было все, кроме полеводства, находившегося в ведении отца. Когда стали подрастать старшие дети, сестра и я, она взяла заботу о нашем обучении, так как отцу этим некогда было заняться.
Она первая в семье почувствовала надвигавшийся кризис хозяйства и необеспеченность семьи. Аренда чужой земли всегда внутренне ее раздражала. Она желала иметь небольшое владение, но свое. Я не сомневаюсь в том, что жизнь в деревне ее не удовлетворяла. Она предпочла бы иметь небольшую усадьбу и дом в городе, чтобы вести полеводческое хозяйство на своем земельном участке вблизи города. В этом отношении между нею и отцом не было единства взглядов. Отец был человек большого размаха, с значительными организаторскими способностями. Маленькое хозяйство, хотя бы на собственной земле его никогда не удовлетворило бы. Из-за этого различия во взглядах между отцом и матерью мы продержались на арендованной чужой земле дольше, чем следовало бы, и в итоге дошли до разорения. Прозорливость матери в этом отношении была бесспорна. Аренду нужно было бросить добровольно, в начале 90-х или в конце 80-х годов. Тогда можно было бы избежать пережитой впоследствии катастрофы.

Переселение в город Мензелинск, в небольшой собственный домик и приписка к мещанскому обществу с получением мещанского земельного надела, а также последующая смерть отца, поставили перед матерью задачи исключительной трудности. С большим напряжением, но при помощи своих близких, она преодолела эти трудности. Подраставшие дети как могли помогали ей в хозяйстве. Я уехал из дома еще до переселения в Мензелинск, когда мне было только пятнадцать лет, и больше в семью уже не возвращался, лишь изредка заезжал как гость, сначала через два-три года, а потом значительно реже. Бывая у матери в такие приезды на короткое время, я чувствовал, что она, после переселения в Мензелинск, душевно успокоилась. Ее утешало сознание, что при всех трудностях жизни она и ее дети имеют свой угол, хотя и очень скромный, что она живет среди близких ей людей в своем городе, где она всех и ее все знают. Я никогда не видел ее веселой в Нижнем Тимергане, но в Мензелинске при встрече с нею мне приходилось наблюдать ее просветленное лицо с тихой улыбкой. Она прожила в Мензелинске в своем домике до самой кончины в 1933 году. На ее долю выпало много горя и страданий. В конце жизни она была измучена тяжелой болезнью, но перед смертью могла быть утешена тем, что близкие ей люди живы и здоровы. Мать и отец похоронены вместе на городском кладбище города Мензелинска рядом с другими близкими им людьми.
Сестра и братья
В нашей семье было шестеро детей. Они по годам естественно разделялись на три пары: старших, младших и средних. Сестра моя Пелагея Владимировна и я были старшими из детей. Следующая пара составлялась из братьев Пантелеймона и Леонида Владимировичей. Младшими из детей были Иван Владимирович, впоследствии, академик АН СССР, и Петр Владимирович, впоследствии доктор биологических наук, профессор. Пантелеймон и Леонид Владимировичи получили лишь начальное образование. На них в тяжкой форме сказался пережитый нашей семьей хозяйственный кризис. Сестра и я до момента кризиса успели пройти курс имевшихся в Мензелинске учебных заведений: сестра в прогимназии, а я в городском училище. Даже такое образование давало уже нам возможность идти дальше без поддержки семьи. Образование младших братьев могло осуществиться лишь потому, что к тому времени семья стала оправляться от пережитого кризиса. Дети в семье дружили парами, чему содействовала близость лет. Мое детство и юность были тесно увязаны с жизнью сестры. Дружба, начавшаяся, между нами, в раннем детстве, прошла затем через всю нашу жизнь. Сестра кончила прогимназию в 1896 году, и работала учительницей начальной школы в селении Тимерган. Для нее и для всех нас это событие было светлым лучом в жизни. Нам казалось, что найдена отдушина в какой-то другой мир. И этот мир стал понемногу раскрываться.
В 1897 году с нашей семьей познакомился неизвестный для нас до тех пор человек. Это был молодой преподаватель ремесел в сельскохозяйственной школе, находившейся в десяти километрах от нашей усадьбы. Молодого преподавателя звали Дометий Васильевич Астапов. Через Астапова мы познакомились и с другими преподавателями школы. В конце 1897 года Д. В. Астапов сделался женихом моей сестры. Ей было в то время восемнадцать лет, а ему около двадцати пяти лет. В начале 1898 года состоялась свадьба сестры, и она переехала на усадьбу сельскохозяйственной школы, где Д. В. Астапов имел небольшую уютную квартиру. Осенью 1898 года Д. В. Астапов получил служебное назначение в Тульскую губернию, куда он и уехал с сестрой. Через десять лет Д. В. Астапов и сестра снова вернулись в Мензелинск. Уроженец юга Украины, украинец по национальности, Д. В. Астапов полюбил Прикамский край за его ширь и просторы и решил здесь провести остаток своей жизни. Небольшие сбережения, которые они имели, позволили им осуществить давнишнюю мечту — купить землю и построить собственный хутор. Когда-то А. П. Чехов в письмах к брату писал «денно и нощно думаю о хуторе». Такая мечта была свойственна интеллигентным людям того времени. Своя земля и свой хутор рассматривались тогда, как единственная возможность устроить для себя независимую жизнь. Естественно, что сестра и зять были охвачены таким же желанием создать себе независимое существование. Они купили близ Мензелинска (в трех километрах от города) небольшой участок плодородной, черноземной земли на берегах речки Лакомки недалеко от ее впадения в Мензеля. Здесь был построен небольшой домик с необходимыми надворными постройками и разведен большой плодово-ягодный сад. На этой земле выросли их дети, и сами они обрели, по-видимому, искомый покой и независимость.
Национализация земель в 1917 году заставила сестру и зятя переселиться в город Мензелинск, куда был перевезен и их домик с реки Лакомки. Здесь они прожили вместе до смерти Д. В. Астапова в 1930 году, после чего домик был продан, а сестра переселилась к своим взрослым детям в город Пермь.
Наше хозяйство
Жизнь нашей семьи в Тимергане всецело определялась ходом сельскохозяйственного производства. Времена года: весна, лето, осень и зима давали задание по проведению тех или иных работ, и эти работы выполнялись как обязательные. Когда впоследствии я познакомился с сочинениями Г. И. Успенского и прочитал его «Власть земли», я не был поражен выводами автора, так как я сам испытал власть земли, живя в Тимергане и наблюдая работу нашей семьи. В деревне существовал хорошо разработанный и всеми усвоенный календарь природы, наблюдались и записывались самые тонкие приметы в явлениях природы, все для того, чтобы предугадать характер погоды не только на ближайшие дни, но и далеко вперед. Все эти приметы выражались звучными словами. Несколько лет спустя, когда я познакомился с книгой тогдашнего министра земледелия А. С. Ермолова о приметах и пословицах применительно к потребностям сельского хозяйства, я увидел в этой книге знакомые мне с детства формулировки. Отец и мать придавали большое значение народным приметам и по ним строили календарь сельскохозяйственных работ.
Мы, дети с ранних лет принимали участие в общей работе и потому были хорошо знакомы с ней. Даваемые нам поручения были сначала очень просты, но с годами они усложнялись. Наиболее сложная и предусмотрительная подготовка работ была в конце зимы перед началом весны. Полевые работы открывались на весеннего Георгия (23-го апреля по старому стилю).
Первыми сеяли овес. Пред началом сева говорили: «Сей меня в грязь и будешь ты князь». Зяблевой вспашки не производили, и овес сеяли после озимых на голую землю, освободившуюся от снега и чуть обсохшую. Запахивали сохами и довольно мелко. После чего боронили деревянными боронами с железными зубьями. Кроме овса, весною сеяли яровую пшеницу, полбу, гречиху, горох. Просо сеяли лишь по вспаханной залежи, где оно не страдало от сорных трав. По залежам сеяли и лен, хотя в небольшом количестве для собственных потребностей. Сеяли рукой из лукошка вразброс. Яровые посевы в значительной степени страдали от сорняков. Это был результат отсутствия зяблевой вспашки. Борьба с сорняками доставляла много хлопот. Боролись при помощи прополки, но так как рабочих рук не хватало, то сорняки, развиваясь в огромной степени, снижали, а иногда и полностью уничтожали урожай. Из озимых хлебов сеялась лишь рожь, так как она меньше страдала от сорняков и засух и давала более надежные урожаи. Посев озимых всегда делался свежими семенами. На огороде сажали картофель, а также огурцы и дыни. Для огурцов и дынь создавались грядки из перепрелого, теплого навоза, по которому насыпалась рядками «перегнойная» земля. Такое приспособление давало огурцам и дыням необходимое тепло, и они давали у нас обильный урожай. У самого пруда высаживалась капуста. Капустная рассада выращивалась матерью в особом парнике под стеклянными рамами. Крестьяне окрестных деревень выращивали на своих огородах только картофель. Они не умели или затруднялись выращивать огурцы и капусту, не говоря уже о дынях. В 30-х годах ХХ века в том краю стала развиваться такая культура как помидоры, но в годы моего детства и юности об этой культуре ничего не знали. Также не было тогда культуры плодовых деревьев. Яблоневые сады можно было встретить лишь в Мензелинске у немногих любителей этого дерева. Большое количество скота в нашем хозяйстве выпасывалось с ранней весны на паровых полях. Черного пара тогда еще не применяли, и земля для озимых посевов поступала из-под «толоки». Рожь сеяли на неподготовленную, утоптанную скотом землю. Запахивали семена сохами на небольшую глубину с последующим боронованием. Впрочем, иногда дело обходилось и без боронования. При посеве ржи исходили из правила: «Сей меня хоть в золу, но в пору». Временем для посева ржи был период между первым и третьим спасом (1 и 15 августа старого стиля). Признаком хорошего хозяйства было заканчивать сев не позже 10 августа старого стиля.
Уборка ржи начиналась, как правило, на летнюю казанскую 8 июля. Жали серпами (кос и машин не применяли). Считалось, что уборка косою ведет к большим потерям, а жнеек еще не было. Уборка серпом действительно сопровождалось большей тщательностью и наименьшей потерей зерна. Яровые поспевали к 1 августу по старому стилю. Вторая половина июля и первая половина августа по старому стилю была самой напряженной порой. Эта пора носила название «страда». В это время работали не только днем, но и ночью. Первая же половина июля старого стиля была занята уборкой сена. Косить траву начинали с Петрова дня 29 июня. Эта дата, освященная столетиями, несомненно, была правильной для более северных и северо-западных районов страны, откуда пришли в Прикамье русские переселенцы, но для Прикамского края она была запоздалой. Придерживаясь этой даты, косили перезревшую траву. Но никто не решался отступить от унаследованных правил.
На арендованной нами земле лугов не было. Поэтому каждый год луга приобретались нами у крестьян деревни Ямяково, обладавшими большими луговыми пространствами по реке Мензеля. Луга были расположены от нашей усадьбы не ближе трех-пяти километров. Вследствие этого возка сена требовала большего напряжения. Нечего и говорить, что возка снопов с полей на гумно была труднейшей задачей. Молотьба в поле не практиковалась. Только горох иногда молотили в поле. Молотьба на гумне была организована превосходно. Еще в 80-х годах наш отец купил в Казани конную молотилку завода Рамм. На гумне была сооружена огромная рига, в которой помещалась машина и конный привод к ней. Производительность машины была до тысячи пудов в день. Но веяние и сортирование зерна происходило на ручных машинах. Молотьбой занимались поздней осенью и ранней зимой. Хлеб, привезенный с полей, складывался на гумне в огромных скирдах или кладях.
Зима была временем продажи продуктов сельского хозяйства. Местом сбыта был город Мензелинск и пристань Набережные Челны на реке Каме. Первое место, бесспорно принадлежало Мензелинску с его зимней ярмаркой. Продавались рожь, горох, овес, гречиха, живой скот (лошади, быки), битые свиньи и птица. Дополнительно продавалось масло, мед, пух, перо, щетина, редко шерсть и овчина, так как они находили применение в собственном хозяйстве для изготовления валяной обуви, полушубков и шуб. Хозяйство было так построено, чтобы покупать, возможно, меньше изделий города, заводов, фабрик. Так, например, из продуктов первой необходимости покупались сапоги, ситец, редко шерстяная ткань. Белье готовилось из собственного холста, который изготовлялся нашей матерью ежегодно в количестве нескольких десятков метров. Для этих то целей и сеялся лен в небольшом количестве. Конопля не разводилась как культурное растение, хотя у нас на огороде она росла дико в виде зарослей. Шерсть от собственных овец шла целиком на изготовление шерстяных чулок, валенок, а также кошм, которыми пользовались широко вместо тюфяков. На кошмах спали, свертывая их на день в огромные трубки.
Участие детей в общей хозяйственной жизни было разносторонним, но мало определенным. Большею частью это были временные поручения, но иногда они носили характер постоянных обязанностей. Мы обычно вставали с взрослыми и ложились не раньше их. Суетясь, бегали около взрослых, все видели, наблюдали, во всем принимали посильное участие. Зимою рано утром обычной нашей обязанностью было кормление ягнят сеном и липовыми вениками. Ягнята помещались в особой неотапливаемой избе. Кормление ягнят было самым приятным занятием, и я исполнял его с величайшим удовольствием. Менее приятно была кормить гусей, кур и индюшек, так как гуси щипали маленьких хозяев, а старый петух систематически бил нас своим клювом и крыльями. Когда мы стали постарше, нам поручали кормление телят, коров и лошадей. Более разнообразны были наши обязанности летом. В их круг входили дежурства на пасеке, надзор за птицей, особенно за гусями, сгребание сена на лугах, возка сена и снопов, участие в молотьбе, поездка на мельницу, или обмер цепью вспаханных или убранных участков. Наш трудовой день, как бы рано бы мы ни вставали, всегда начинался утренним чаем, с хлебом и молоком. Настоящий чай мы пили редко. Под именем чая разумелся какой-то фруктовый настой. Обед был около двенадцати часов и состоял из щей или супа с вареным мясом, каши и киселей. Вечерний чай с хлебом и молоком был около пяти, а ужин около девяти часов. В нашем столе было мало мяса и только в вареном виде. Изобиловали овощи в виде картофеля, огурцов, капусты и свеклы, но совсем не было фруктов. Яблоки были редкостью. Их привозили издалека. Преобладал красный анис. Осенью были в изобилии арбузы. Их привозили и продавали разъездные торговцы-татары по десять — пятнадцать копеек за штуку. Они же торговали лимонами. Когда у нас бывал настоящий китайский чай, «фамильный», как его называли, то его все пили обязательно с лимоном. Лимоны были дешевы, от трех до пяти копеек за штуку. Торговцы татары в Мензелинске умели хранить их зимою, в особых подвалах. Семена лимонов мы, дети, сеяли в цветочные горшки и выращивали из них комнатные деревца; однако, они у нас не цвели и достигали до высоты три четверти метра.
Деревенские занятия детей
Хозяйственные поручения занимали у нас, детей не все время. Мы располагали свободным временем для своих собственных занятий. Эти занятия в дошкольный период и в каникулярное время, когда мы начали учиться (учение происходило в Мензелинске), заключались большею частью в свободных играх. Игрушек у нас было немного. Лишь изредка привозили нам из города, большею частью зимой с ярмарки, коней из папье-маше, маленькие пистолетики с бумажными пистонами и ружья с пружинным заводом, стрелявшие пробкой. Покупные игрушки существовали у нас недолго и поэтому в нашей детской жизни большого значения не имели. Мы находили источники развлечений сами и не скучали. Зимою наши игры сосредотачивались в катании на санках и главным образом в создании разного рода построек из снежных глыб, вырезаемых нами лопатой из сугробов вокруг усадьбы. Сугробы вокруг дома и палисадника были огромные. Они полностью засыпали изгородь и ворота, вследствие чего на санях ездили поверх сугробов и помимо ворот. В старых деревьях акации, окаймлявших палисадник с юга, сугробы достигали их вершин. Мы называли сугробы «Уральским хребтом». В нем делались нами внутренние ходы и галереи. В этих галереях было тепло, и нам они доставляли удовольствие своим уютом. Участниками игр были наши сверстники из деревни Нижний Тимерган. На коньках мы не катались, потому что коньки были редкостью, да и льда хорошего не было, но на лыжах мы научились ходить рано, и с большой охотой пользовались ими для прогулок по соседним равнинам. Таких, как теперь, длинных лыж мы не имели. У нас были широкие, но короткие лыжи с бичевками для управления при ходьбе. Лыжные палки тогда тоже не использовались. Когда мы стали постарше и научились владеть топором и рубанком (эти инструменты всегда были в хозяйстве), то были в состоянии делать такие же лыжи сами.
Вечера зимою проходили в особых занятиях. Книга не была предметом нашего внимания в Нижнем Тимергане даже тогда, когда мы научились читать. Происходило это потому, что учились мы в Мензелинске и зимой приезжали в Нижний Тимерган лишь на отдых. У нас было твердое убеждение, что местом учения является Мензелинск. Там мы учились прилежно, Нижний Тимерган же рассматривался нами как место для отдыха, развлечений и участия в домашних работах. По вечерам мы обычно собирались в нашей просторной домашней кухне. В кухне жили постоянные рабочие. Наиболее долго жил у нас и работал крестьянин из деревни Ямяково Асалай Гирей. Он дружески относился к нам и мы были сильно привязаны к нему. По вечерам он занимался разного рода хозяйственными делами: чинил сбрую, вил веревки из мочал и пакли или обтесывал что-нибудь топором. Вместе с ним и мы сучили веревки для своих санок, бичевки для лыж, вытесывали топором или простым ножом нужные нам предметы. Такого рода занятия сильно нас увлекали, и мы не замечали, как проходили вечера. Иногда по вечерам к нам в кухню приходили наши сверстники из деревни Нижний Тимерган. Большим нашим приятелем был мальчик Аким Жигалов.
Наши возможности летом были более широки. Мы могли бродить по окрестностям усадьбы. Однако наши путешествия ограничивались ближайшей местностью, в радиусе не более двух, трех километров. Местом наших прогулок были перелески, ближайшие рощи, луга, поля и выгоны. Деревни нас не привлекали. Кроме Нижнего Тимергана, расположенного поблизости от нашей усадьбы, других деревень мы не знали. Только изредка мы проезжали через них при поездках с отцом.
Больше всего нас привлекала вода. Речка Вязовка с ее прудом на огороде были тем местом, где нас легче всего было найти. В теплое время мы часто купались в пруду. В промежутках между купанием, а также в прохладные дни занимались постановкой игрушечных мельничных колес ниже плотины пруда. Когда мы были нужны старшим для какого-либо хозяйственного поручения, за нами посылали в огород к берегу речки, зная наперед, что там вернее всего можно нас найти. В нашем хозяйстве было большое количество плотничьего и столярного инструмента. На нашем дворе или на гумне, в риге, летом всегда что-нибудь строилось. Делались и чинились телеги, сани, кадки и прочие изделия, необходимые в хозяйстве. На лето приглашались опытные мастера по дереву. Глядя на их работу, мы копировали их и сами делали для себя маленькие тележки, санки, мельничные колеса, как ветряные, так и водяные. Словом, во всем подражали старшим. Наряду с большим хозяйством, в деятельности которого мы по временам участвовали, как исполнители отдельных поручений, у нас, детей, было свое хозяйство, но игрушечное. Тем не менее оно сильно увлекало нас. Если в большом хозяйстве чинилась молотилка и начиналась молотьба, то и мы делали себе игрушечную молотилку с барабаном, с зубьями на нем и с приводом. На ней мы тоже молотили, но только не хлеб, а метелки подорожника, заменявшие нам хлеб. Если в большом хозяйстве строили сарай, то и мы строили для себя из разных обломков жердей и досок игрушечные домики, в которых проводили время. Уменье в детстве владеть топором, пилой, стругом, долотом и буравчиком доставляло нам много удовольствия и независимость от старших в наших увлечениях. У моего брата, Пантелеймона Владимировича, первоначальное умение владеть плотничным инструментом превратилось впоследствии в настоящее мастерство.
Привязанность к речке, присущая всем детям, превратилась у меня в особую страсть. Из всех ребят я был единственным, исследовавшим течение речки Вязовки до впадения ее в Мензеля. Став постарше, я с еще большой настойчивостью и страстью хотел отыскать исток речки Вязовки, но найти его мне не удалось. Он находился в большом Сомовском лесу, куда я не мог пойти один, а сопровождать меня было некому. К сожалению, никто не разделял моей страсти. Бывая на мельницах по реке Мензеля по поручению отца, я с огромным наслаждением просиживал часами возле берега реки или расспрашивал кого-либо о верхнем течение реки Мензеля. Меня интересовало, откуда она началась, и какие речки в нее впадают. При разговорах с мельниками на всех мельницах мне приходилось слышать, примерно, одно и тоже: «Падает наше дело, воды становится в Мензеля меньше. Сохнет наша река, а все оттого, что леса повырубили и берега распахали!» Эти горестные слова с детских лет стали звучать в моей душе с болезненной силой.
Так как мы выросли в обстановке постоянной деятельности, то слова по поводу обмеления рек и вырубки лесов привели меня к решительным действиям. Предметом этих действий была речка Вязовка. По ее берегам остались лишь деревья черемухи и серой ольхи, да в нескольких местах сохранились кусты ивняка. В пределах нашего огорода речка производила размывы берега, и это было предметом постоянных огорчений отца. Вот тут и началась моя лесокультурная деятельность. Проводя значительную часть времени на речке, я заметил, что срезанные прутья ивняка, даже части этих прутьев, быстро укореняются, если один конец у них погружен в сырой песок. Я начал упорно работать по разведению ивняка. Увлекательное занятие поглощало все мое время и дало хороший результат. Мне было тогда около десяти лет. В 1898 году, когда я уезжал из Нижнего Тимергана, чтобы больше в него не возвращаться, в тех местах, где я разводил ивняк, образовались значительные заросли. В них можно было укрыться от солнечного жара. Впоследствии я занимался разведением леса, как лесничий, на значительных площадях, но первый свой опыт лесоразведения на берегах речки Вязовки я помню до сих пор подробно. В те далекие детские годы запала мне в душу страстная любовь к лесу. Разведением деревьев стали увлекаться у нас в усадьбе и другие члены нашей семьи. Сестра Поля была первая, применившая наше увлечение для расширения нашего сада. Однажды весною, по ее просьбе, были выкопаны в лесу и привезены в усадьбу маленькие деревья липы и березы. Их посадили возле дома для расширения сада. Однако насколько удачно у меня шло разведение ивняка, настолько трудным оказалось у нас разведение деревьев при помощи пересадки. Оглядываясь на прошлые годы, я вижу, что неуспех посадок заключался в том, что деревья высаживались поздней весной в облиственном состоянии. В те времена приемы посадки деревьев в Прикамском крае были мало известны. Поэтому посадка деревьев возле домов не была распространена, отчасти, вероятно, потому что сопровождалась неуспехом.
Прикамские селения того времени поражали полным отсутствием зелени. Впрочем, и теперь эти селения не очень озелены.
Наши будничные занятия по временам приятно преображались приездом гостей. Гости бывали в праздники, и это были гости для старших, отца и матери. Мы были более рады гостям, приезжавшим к нам с детьми. Однако такие случаи были редки. У нас, мальчиков, сверстников со стороны не было, если не считать наших друзей из Нижнего Тимергана. Но сестра, начавшая учиться раньше меня на три года, имела подруг в Мензелинске. Более близкими у нее были Маня Бабина и Анюта Афанасьева. Иногда их привозили к нам в Тимерган гостить летом на несколько недель. Их приезд был радостен для всех нас. Обе они были остроумными, веселыми девочками. С ними детская жизнь шла более оживленно, разнообразно и интересно. Нашими любимыми играми были игры на зеленом выгоне перед садом; играли в горелки, в соседи, в жмурки. Маня Бабина и Анюта Афанасьева остались близкими подругами сестры на всю жизнь. Бывая впоследствии у сестры, когда она была уже замужем, я изредка встречался с Маней или Анютой. Мы сохранили дружеские отношения и всегда были рады друг другу при встрече. Иногда заезжала к нам с соседнего хутора, расположенного между Верхним и Нижним Тимерганом, жена управляющего хутором Дарья Ивановна Чиркова. Хутор принадлежал разорившемуся помещику Романовскому. Дарья Ивановна была словоохотливая, живая дама, очень молодая, не имевшая детей. Она подружилась с нашим семейством, любила нас детей, и была на правах подруги сестры. Через нее наш круг знакомых расширился, через нее же состоялось знакомство с Д. В. Астаповым, о котором я уже упоминал и который потом сделался женихом и мужем сестры.
Чего нам не доставало в детстве, так это музыки. Музыкальных инструментов у нас и у соседей не было. На вечерах, когда хотели потанцевать, приглашали гармониста, да и того было трудно найти. Музыку мы любили, но не имели возможности заняться ей всерьез. Впоследствии я не раз жалел об этом. Танцам учились случайно, скорее самоучкой, и этим искусством владели плохо. Лучше танцевали девочки, но и то скорее для себя, в небольшом кругу, с оглядкой, чтобы кто-нибудь не осудил.
В нашей семье не было охотников. Но в деревне промышляли ловлей зверей, главным образом зайцев и лис, при помощи капканов. В хозяйстве нашем тоже оказались капканы, и их мы пробовали расставлять зимою на заячьих следах на гумне. Сама расстановка капканов, выслеживание заячьих троп, осторожность при расстановке капканов увлекала нас. Но никаких зверей к нам в капканы не попадало. Тем не менее, увлечение продолжалось несколько лет.
Когда я стал постарше, меня потянуло к ружейной охоте. В нашем доме было два дробовых ружья, работы ижевских заводов, расположенных сравнительно недалеко от нас. Ружья были плохие, пистонные. Они вовсе не предназначались для охоты, а были средством обороны от воров. Однако я решил использовать эти ружья для охоты. Порох и дробь всегда у нас были. Я научился заряжать ружья (они заряжались с дула шомполом) и стал рассматривать себя в качестве охотника. Но охотником настоящим не стал. Ружье, скорее всего, стало моим спутником в моих прогулках по окрестностям. Добычи от моего хождения с ружьем не было, но для меня удовольствие заключалось вовсе не в добыче, а в том, что я мог в свободные дни целыми часами ходить по окрестным полям, лесам и лугам, предаваясь своим размышлениям, очарованию красивых мест, общению с природой. Я был в восторге от спокойного душевного сосредоточения, оттого что никто не мешал мне. Это было в то время, когда мне шел тринадцатый или четырнадцатый год.
Хозяйство падало, мы шли к разорению, дома все было печально от наступающего хозяйственного краха, который никто уже не мог предотвратить. Отец был стар и на наших глазах дряхлел. Мать была беспомощна, дети были малы. В этот тяжелый период ружье было для меня поводом уйти из тяжелой душевной обстановки в светлый спокойный мир природы. И я уходил с ним, чувствуя в нем какую-то защиту. Позднее мне пришлось прочитать Аксакова «Семейную хронику» и «Записки ружейного охотника». Эти книги стали для меня откровением. То, что пережил и перечувствовал Сережа Багров, было страшно близко мне. Его любовь к воде, лесу, ко всей природе — все это было то же, что испытывал и я. Речка Бугуруслан, на которой вырос Сереже Багров, была такая же, как наша Мензеля. Тургеневские «Записки охотника» такого очарование у меня не вызывали. Дети обычно увлекаются уженьем рыбы. Для этого увлеченья у нас не было условий. В речке Вязовке водились лишь вьюны и караси, и то в очень небольших количествах, а Мензеля была все же не очень близко. И хотя иногда мы делали удочки и ходили на Мензеля, но так как рыба на удочки не попадалась, то это развлечение быстро погасло. Да и впоследствии, когда мне приходилось бывать на рыбных реках, меня не тянуло к уженью рыбы. Сидеть на одном месте всегда раздражало меня, и я предпочитал отдыхать, прогуливаясь пешком.
Первое дальнее путешествие
Наши детские впечатления не всегда ограничивались окрестностями Нижнего Тимергана. Однажды отец поехал в город Елабугу и взял меня с собой. Мне было семь лет. Дело было летом. У отца в Елабуге, находившейся от нас на расстоянии семидесяти километров, жил его старший брат Петр Иванович Тюрин. К нему то мы и поехали на наших собственных лошадях. Ехали через селение Сосновый Брод, где в Мензеля вливается слева ее самый крупный приток Игиня.
С высокого правого берега реки Мензеля, недалеко от того места, где кончалась наша арендованная земля, шел длинный спуск к реке. Помню отчетливо, как страшен был этот спуск, но также отчетливо врезался мне в память великолепный вид на левобережье Мензеля с далекими татарскими селениями, украшенными зелеными деревянными минаретами и русскими селами с белыми, каменными церквами.
Переехав реку Мензеля, мы двинулись через лесистый перевал между Мензеля и Камой к деревне Тогаево. Тогаево стояло на большом тракте Мензелинск-Челны. Накормив лошадей и дав им отдохнуть, мы направились по трактовой дороге к селу Орловка, затем к селу Мысовые Челны и, наконец, достигли большого села (ныне города Набережные Челны). Было уже около четырех часов дня. Огромная Кама плескалась перед нами, но было тихо. Другой берег реки был едва различим. У пристани стояли черные длинные баржи. У самого берега, к которому мы подъехали, стоял большой паром. Такие паромы я видел раньше на реке Мензеля весною. Маленький буксирный пароходик, впервые мною увиденный, терся около парома. Мы въехали на паром. К нам присоединились еще несколько телег. На пароме завозились извозчики. Буксирный пароходик засвистел, попятился, натянул канат, которым он, оказывается, был привязан к парому, и потащился к другому берегу. Паром косо потянулся за ним, а потом выпрямился. Ехать было страшно. Мутная вода относила нас вниз, но все же пароходик дотащил нас до другого берега. Мы пристали и плотно привязались к маленькому бревенчатому съезду, после чего съехали на глинистую отмель. У меня немного отлегло от сердца. По косому подъему мы поднялись на глинистый берег первой террасы и поехали к Елабуге камскими лугами. От Челнов до Елабуги считалось около двадцати километров. Когда мы проехали половину дороги, направо от нас над луговым берегом под лучами западного солнца встала стена золотистого леса. Да, какого леса! Я никогда еще не видел такого! Это был старый сосновый бор. Около Нижнего Тимергана были только лиственные леса, и я не знал хвойных. Был теплый вечер. Западное солнце освещало стену леса. Какой удивительный запах шел из бора! Я весь онемел. Моя страстная привязанность к лесу достигла в этот момент необычайной силы. Так вот он, таинственный хвойный лес, который я видел до сих пор только на картинках! Я был очарован. Дорога шла только мимо леса, но не самым лесом. Я спросил отца, можно ли ехать лесом? Отец ответил: «Там есть дорога, но она очень тяжела из-за песка. Поэтому мы и едем лугами около леса, хотя и делаем крюк». Я просил отца ехать обратно бором, из Елабуги в Челны, чтобы полностью рассмотреть этот таинственный бор, но отец не согласился. И я в течение долгих лет не имел возможности видеть сосновый бор в его глубине. Эта возможность явилась лишь тогда, когда я сделался студентом Петербургского Лесного института, а в полной мере лишь потом по окончании курса лесного института, при моих путешествиях по хвойным северным лесам. Но первое впечатление от соснового прикамского бора между Челнами и Елабугой я никогда не забуду. Я и сейчас его представляю. Но вот и город Елабуга. Мы переехали реку Тойму величиною не более нашей Мензеля и въехали в город. Елабуга была и больше, и лучше Мензелинска, а дом дяди Петра Ивановича, каменный, двухэтажный, с каменным двором, с прекрасными службами и яблоневым садом показался мне несравненным. Рассматривая внимательно дом дяди, я испытывал горькое сознание, что у нас самих нет ничего своего, ни дома, ни сада, что живем мы на чужой земле, в чужом доме, и негде нам преклонить голову при несчастье. Я высказал свои чувства отцу, но он ничего не сказал мне в ответ.
Впоследствии я узнал, что уроженцем города Елабуги был наш выдающийся художник И. И. Шишкин, а в сосновом бору, мимо которого мы тогда ехали, он находил материал для своих картин, в том числе и для «Корабельной рощи».
Мы пробыли в Елабуге дня два или три и отправились домой той же дорогой. Уютный, небольшой дом дяди Петра Ивановича мне долго потом вспоминался, как образец культурного жилища. Почему-то дядя Петр Иванович не бывал у нас в Нижнем Тимергане, да и отец ездил к нему как к старшему брату (он был старше отца на десять лет) чрезвычайно редко. По-видимому, большой близости между братьями не было, и Петр Иванович не разделял сельскохозяйственных увлечений моего отца. Сам он начал свою жизнь торговым мальчиком, как и отец, и до старости лет занимался торговым делом, служа в крупных фирмах того времени, занимая в них ответственные посты. При встрече дядя показался мне глубоким седым стариком, очень похожим на отца. У него была замечательная библиотека. Он выписывал газету, был влиятельным общественным деятелем города и любил садоводство. Его яблоневый сад был одним из первых садов города. До того времени и тех мест хороший плодовый сад был, конечно, большим достижением. У нас в Нижнем Тимергане ничего этого не было, а дикие черемухи являлись единственными плодовыми деревьями.
Возвратившись из поездки в Елабугу, я бредил сосновым лесом и рекой Камой. В Мензелинске в садах встречались деревья: сосны и ели и на них были шишки с семенами, но не было питомника. Никто не подсказал мне, как вырастить сеянцы сосны или ели из семян. Поэтому мое детское желание иметь около себя хотя бы несколько хвойных деревьев так и осталось неудовлетворенным. Так мало было в то время в том краю уменья разводить деревья! Удивительно и то, что я умел уже в то время разводить лимонные деревца из семян лимона, но сам не догадался разыскать семена сосны и ели и посеять их в цветочных горшках, как сеял семена лимона!
Несравненная Кама заполнила мое воображение своим величием и мощью. Несколько лет спустя мне пришлось ездить по Каме на пароходе и каждый раз я восхищался ею. Я видел потом много рек Волгу, Днепр, Дон, Северную Двину, Неву, Западную Двину, но ни одна из этих рек не могла сравниться с Камой. В последний раз я видел Каму в 1933 году. Что сделалось с нею за два десятка лет, в течение которых я ее не видел?
«Что сделалось с Камой? — спросил я у соседей пассажиров, ехавших со мною на пароходе, и, по-видимому, местных людей. — Леса все вверху повырубили, вот и пересохла наша Кама!» — был горестный ответ. Глубокой правдой звучали эти печальные слова. Через три года после этой поездки был принят закон о водоохранных лесах (1936 год). Он коснулся Камы и ее притоков. Я не был на Каме после проведения этого закона в жизнь и не знаю, помог ли он восстановить Каме ее прежнюю мощь.
Расставание с Тимерганом
Двойственное чувство охватывает меня, когда я вспоминаю о Нижнем Тимергане. Любил я его? И да, и нет. Мне были близки и дом, и усадьба, и речка, и окрестности, и в тоже время все это было чужое. Близким оно было потому, что там жили отец, мать, братья. Чужим же потому, что ни дом, ни усадьба не принадлежали нам. Все это было не наше, и когда хозяйство на арендованной земле пришло в упадок, когда отец состарился и одряхлел, а дети были еще малы, — оказалось, что у нас нет своего угла. Мы были чужими пришельцами, вынужденными уходить куда угодно, и никто не подумал о том, куда мы уйдем. Наша мать была права, когда думала, что нам надо было уходить из Нижнего Тимергана значительно раньше, когда еще можно было завести хозяйство на своем, хотя бы небольшом участке земли. В то время только небольшое хозяйство на собственном земельном участке могло дать нам относительно независимое существование. Но этого вовремя не было сделано, а когда разразилась над нами хозяйственная катастрофа, об этом уже поздно было думать. Под действием этих сложных ощущений, в конце концов, родилось чувство отчуждения от Тимергана, как от места, где было пережито больше горя и тягостей, чем радости. Но корни увлечения природой, страсть к разведению леса, предпочтение уединенной жизни среди природы, — все это родилось в Тимергане и определило мое последующее призвание.
Отрочество (1890—1898)
Местом нашего учения был город Мензелинск. Меня отвезли из Нижнего Тимергана учиться в августе 1890 года, и с той поры до 1898 года большую часть времени я проводил в городе, учась в его школах и живя в доме дедушки Василия Ивановича Колесникова. Нижний Тимерган сделался для меня с 1890 года лишь местом отдыха от учения. Туда я ездил на зимние и летние каникулы, в общей сложности на два, пять месяцев в году.
Город, как я уже упоминал, был расположен на ровной возвышенной покатости к реке Мензеля. По южной окраине города протекала река Мензеля, еще дальше к северу покатость переходила, постепенно повышаясь, в высокий водораздел между Мензеля и Иком, защищающий город от северных ветров. В те времена на возвышенности имелись сплошные дубовые леса. С центральной части этого водораздела стекали в Мензеля и Ик небольшие речки. Среди них находилась уже известная нам речка Вязовка. На юге на равнине, за рекой Мензеля шли пашни.
Вид на город с высот южного водораздела в солнечный день был очень красив. Правильно расположенные улицы были видны, как на ладони. Среди деревянных домов резко обрисовывались: красивые формы белого здания городского училища (теперь сельскохозяйственной техникум), собор с голубыми главами, женский монастырь с оригинальной колокольней, напоминавшей башню Сююмбике в Казани, и пятиглавая зеленая Троицкая церковь.
Деревья и насаждения не украшали город. Можно сказать, что они отсутствовали. Лишь на краю города возле места бывшей когда-то крепости был создан в 70-х годах ХIХ века городской сад на площади свыше десяти гектар. Я застал его уже хорошо разросшимся и прекрасно содержимым. Он служил местом приятного отдыха для горожан. Сохранившись до сих пор, он является одним из украшений города.

Улицы в городе в мое время не были мощены. Суглинисто-черноземная почва создавала непролазную грязь. В центре города на некоторых улицах существовали деревянные тротуары, но они обычно плохо содержались, и ходить по ним опасно было не только ночью, но и днем. Город был не велик, около шести тысяч жителей. Его горожане занимались земледелием на обширных полях, принадлежащих городу. Торговля была весьма значительна, так как город был центром большой территории. Его торговая деятельность приобретала даже краевой характер, благодаря знаменитой ярмарке, занимавшей третье место в стране (первое принадлежало Нижегородской, второе Ирбитской). Ярмарка была около нового года и собирала товары из европейской и азиатской части страны. Она давала городу много шума, дохода и даже блеску. Маленький город имел городских доходов около сорока — пятидесяти тысяч золотых рублей, чего не имели в то время и более значительные города страны. Город имел хорошо оборудованное городское училище, женскую прогимназию и, кроме того, несколько приходских школ. Хотя Мензелинский уезд был наполовину населен татарами и башкирами, школы были только на русском языке. Культурным украшением города была общественная библиотека, созданная в средине 90-х годов IХХ века учителем городского училища Д. Е. Пушковым.
Такой библиотеки, по богатству книг, я не встречал потом даже в таких значительных городах, как Тула, Уфа, не говоря уже об уездных городах. Лишь библиотека Омска, созданная Казачьим Сибирским войском, с которой я познакомился в 1905 году, напомнила мне по разнообразию и богатству книг Мензелинскую общественную библиотеку конца 90-х годов.
Вблизи города, в семи километрах от него, в обширном дубовом лесу, на упомянутом выше водоразделе между Мензеля и Иком, около деревни Старое Мазино и верховьев речки Вязовки находилась низшая сельскохозяйственная школа министерства земледелия. Ее директором в то время был известный агроном М. П. Зубрилов, впоследствии организатор средней сельскохозяйственной школы в городе Богородицке Тульской губернии, а затем основатель такой же школы в Персиановке близ города Новочеркасска на Дону.
Коллектив преподавателей сельскохозяйственной школы был тесно связан с интеллигенцией города. И культурные начинания в городе были всегда тесно связаны с преподавательским коллективом школы. В уездном городке, конечно, не было театра. Однако в те времена в городе была хорошая любительская труппа, и спектакли по праздникам были обычным делом. Почти всегда ставились пьесы Островского. Среди актеров любителей были бесспорные таланты. Конечно, они были любимцами публики. Из таких талантов нужно назвать В. Ф. Куреньщикова, преподавателя сельскохозяйственной школы и Д. Е. Пушкова, учителя городского училища. С исполнением женских ролей всегда было хуже, и в моей памяти от тех времен не осталось имен.
Город был удален от губернского города Уфы на двести восемьдесят километров, от Казани — примерно на столько же. Ближайшим городом (в семидесяти километрах) был уездный город Елабуга Вятской губернии. Почта приходила зимою два раза в неделю, а летом каждый день. Связь города с другими городами зимою была крайне затруднена. Можно было ехать только на лошадях. Летом связь улучшалась, так как севернее в двадцати километров от города находилась пароходная пристань на Каме — Пьяный Бор (теперь Красный Бор). Путь к ней лежал через пойму реки Ика и Камы. В половодье ходили на больших лодках. Так как пароходные линии и в то время были хорошо организованы, то доехав на лошадях до пристани, можно было сесть на пароход и с удобством ехать в любом направлении до Уфы (по Каме и Белой) или до Казани (по Каме и Волге). Пароходные поездки были в то время в городе распространенным видом отдыха, особенно для учителей и учительниц городских и сельских школ. Река Ик, несмотря на свою значительность (длина ее около пятисот километров), не была судоходной. Мешали этому, как говорилось тогда, мельницы и запруды. Не сделался Ик пароходной рекой, к сожалению, и теперь, вследствие чего обширный край по реке Ик до сих пор остается без удобной и дешевой водной связи.
Из трех ближайших к Мензелинску крупных городов: Казани, Уфы и Перми, наибольшее значение имел во всех отношениях город Казань. Из Казани поступали промышленные изделия, она была и культурным центром для обширного Прикамского края. Университет тогда был лишь в Казани, там же был и ветеринарный институт, среднее земледельческое училище и ряд технических средних школ. Ни в Уфе, ни в Перми не было тогда ни одного высшего учебного заведения. В Казани выходили наиболее влиятельные для Прикамского края местные газеты, имевшие распространение и в Мензелинске. Общее тяготение к Казани было бесспорным, а связь с Уфой, поскольку Мензелинск входил тогда в Уфимскую губернию, ограничивалась официальными сношениями.
Своей промышленности в Мензелинске тогда не было. Существовали лишь небольшие мастерские по изготовлению разного рода изделий из кожи, шерсти и овчин. Был также небольшой пивоваренный завод. Город носил облик селения, занятого по преимуществу сельским хозяйством. На восточной окраине города были сосредоточены гумна, занимавшие огромную площадь. Они придавали городу осенью, когда на гумнах бывали сложены скирды хлеба, оригинальный и живописный вид.
Жизнь города шла размеренным шагом. В будние дни все были на работе. В воскресенье и праздничные дни однообразие прерывалось хождением в церковь. По вечерам в воскресенье и праздничные дни ходили друг к другу в гости. Немногие посещали любительские спектакли, устраивавшиеся по праздникам. Субботние дни были обыкновенно банными днями. Почти в каждом доме была своя маленькая баня. И обычай мыться в бане каждую неделю соблюдался строго. Тот жизненный порядок, который я видел в городе, несомненно, без больших изменений также протекал и раньше в течение столетий. Город был старый, существовал четвертое столетие и, конечно, приобрел, за время своего существования устойчивые формы жизни.
Когда-то, на заре своего бытия, он был окраинной крепостью, пережил много осад, пожаров и моровых поветрий. В мое время это было в прошлом. Никто не предполагал, что военные бедствия когда-нибудь снова надвинутся на этот город: так далек был он от всяких границ. Но оказалось, что дальность государственной границы не помешала возникнуть военным действиям и в этом городке. В 1918—1919 годах город Мензелинск оказался местом неоднократных ожесточенных боев между Красной и Белой армиями. Тогда горожане вспомнили, что когда-то, очевидно, не даром Мензелинск слыл сильнейшим укрепленным районом, что неспроста его построили на перекрестке важных путей, в таком месте, в котором по естественным условиям он легко превращался в грозную крепость. Но от старой крепости не осталось никаких следов. Только известно, что она была в нынешней верхней части города, близ современного городского сада, на обрывистом узком полуострове, образованном двумя ручьями, впадающими в Мензелу и образующими очень глубокие овраги. Жившие в этой части жители уже не помнили о старой крепости, существовавшей когда-то на месте их современных усадеб. Не осталось от тех времен ни пушек, ни пищалей. По крайней мере я их не видел, а музея в городе не было. Из рассказов старых людей сохранились лишь воспоминания об осаде города Пугачевым. По-видимому, крепость в то время еще существовала. Хорошо сохранился крепостной ров и вал, шедший полукругом на расстоянии семи километров от Мензелинска, на западе и юго-западе, около Старой Мазины, и соединявший северо-восточную излучину Ика таким образом, что около Мензелинска создавался обширный укрепленный район, защищенный на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке рекой Иком, а на западе, юго-западе и юге — крепостным валом. Этот вал пересекал реку Мензелу, хорошо сохранился и имел протяжение в несколько десятков километров. По его размерам и величине укрепленного района, радиусом около семи километров можно было судить, какое значение придавалось в прежние века Мензелинску, как опорной крепости. Летописи теперь не ведутся, а события, происходящие в небольших селениях и городках, остаются лишь в памяти людей. Не велись летописи и в Мензелинске. Поэтому так мало осталось сведений о нем о тех далеких временах. Однако, крупные события последних десятилетий помнились и ярко передавались с живой подробностью. таким событием был пожар в 1877 году. Почти весь город сгорел в течение нескольких часов при сухом жарком ветре. Сгорели не только дома и имущество жителей, сгорела соборная каменная церковь, а колокола упали и пробили ряд перекрытий колокольни. Это было такое страшное событие для города, что и в мое время можно было слышать обычные выражения: «Это было за год до пожара! Или: «Это произошло уже спустя два года после пожара!». Моровые поветрия, столь ужасные в прошлые века, посещали город и в IХХ веке. Это были нашествия холеры в 1848 и 1891 году. Холера 1891 года прошла на моих глазах. Я видел результаты ее в городе. Страх и ужас напали на всех, люди боялись друг друга. Уже спустя много лет, когда я читал пушкинскую пьесу «Пир во время чумы», я ясно представлял себе, что происходило в те дальние времена, так как картины холерных смертей стояли перед моими глазами, а забыть их было нельзя.
В этом маленьком Прикамском городке и протекли годы моего первоначального обучения.
Дом дедушки
Годы моего обучения в Мензелинске прошли в доме моего дедушки Василия Филипповича Колесникова, отца моей матери. В то время, когда я жил в его доме, у него была небольшая семья, состоявшая из его жены, моей бабушки Варвары Павловны (в девичестве Ащеуловой), сыновей — моих дядей: Алексея Васильевича, Владимира Васильевича и дочери — моей тетки Анны Васильевны. Она скончалась в 1891 году, через год после моего поступления в школу. Дом был не в центре города, а ближе к окраине, на углу двух улиц, возле большой площади. Усадьба имела небольшой передний двор, сад, огород и задний двор для скота. На усадьбе было два дома, новый и старый. Оба дома были невелики, в каждом было по одной квартире. В старом доме жил Алексей Васильевич, в начале 90-х годов еще холостой. Он служил секретарем уездного съезда судей и был хорошо обеспечен, так как получал тысячу рублей золотом в год, цифра весьма большая для Мензелинска при дешевизне жизни в то время. В новом доме жили дедушка с бабушкой, дядя Владимир Васильевич и тетя Анна Васильевна. Здесь жили в учебное время моя сестра и я.
Дедушка Василий Филиппович Колесников родился в 1836 году. Он был моложе моего отца на четыре года. Отец моего дедушки был солдатом Кутузовской армии, проведший всю кампанию 1812—1815 годов. Он участвовал в Бородинской битве, проделал весь поход в Пруссию, Францию и был в Париже. Прослужив в армии двадцать пять лет, он вернулся в Мензелинск в начале 30-х годов искалеченным ветераном. Здесь он женился и имел единственного сына, моего дедушку. Умер он в 1848 году от холеры, когда его сыну было около 12 лет.
По законам того времени, мой дедушка, как сын солдата, должен был идти в солдаты на правах кантониста, но, очевидно, как единственный сын матери-вдовы был, в конце концов, оставлен при матери. Он окончил уездное училище в Мензелинске. До глубокой старости дедушка занимался самообразованием, читал газеты и журналы, знал хорошо русскую литературу, обладал громадной и четкой памятью, широким и проницательным умом. С ним можно было беседовать на разнообразные темы и чувствовать приятность от общения с умным и образованным собеседником. Свою жизнь Василий Филиппович организовал целиком сам за счет настойчивого непрерывного труда. По окончании уездного училища он начал службу помощником волостного писаря. Потом служил в должности волостного писаря, а на склоне лет перешел на службу в городскую управу Мензелинска. В начале 90-х годов ему пришлось бросить службу из-за болезни глаз (катаракты). Хозяйство на надельной земле (он принадлежал к сословию крестьян города Мензелинска) вел его сын, мой дядя, Владимир Васильевич. Чтобы не было скучно, дедушка завел при доме небольшую бакалейную лавочку, где торговал разными товарами, от сахара до керосина включительно. Это давало ему небольшой заработок, около пятнадцати рублей в месяц. Живя у дедушки, в свободное от учения время я помогал ему в его несложной работе. Цены на основные товары, существовавшие в то время, мне памятны до сих пор.
Дедушка был высокого роста, довольно строен; голову носил прямо и имел открытое простое русское лицо. Он всегда был деятелен, аккуратен, дисциплинирован в труде и отдыхе. Его настроение всегда было жизнерадостным, а печали он развеивал в систематическом труде. На меня, внука, дисциплинированность дедушки имела огромное воспитательное значение. И сейчас, размышляя над тем, где я мог получить основные черты своего характера, должен сказать, что получил их от дедушки. Я в полной мере его воспитанник, ученик, затем друг и близкий товарищ.
Хозяйство уже не лежало на дедушке, его заменил сын, мой дядя Владимир Васильевич. Плохое зрение способствовало размышлениям о душевной жизни, продумывать то, что было пережито, и в этот момент рядом с ним появился восьмилетний внук. Естественно, что дедушка и внучек, проводя вместе большую часть времени, сблизились, а потом сдружились. Занятия по торговле в лавочке были нашим совместным трудом, прерываемым моим пребыванием в школе. Часы отдыха мы проводили вместе. Иногда в зимние вечера я читал ему вслух, иногда мы с хохотом играли в карты (в мельники и в свои козыри), а по субботам вместе ходили в монастырскую церковь ко всенощной. Дедушка любил эту церковь потому, что там, у монахинь, было чисто, культурно, кроме того монашки замечательно хорошо пели церковные песнопения. Я также любил монастырскую церковь, но по другим причинам: там на полу лежали толстые кошмы. Если я уставал стоять на ногах, то опускался на колени; от кошмы было мягко и тепло моим коленям. Мне также нравилась опрятность во всем монастыре, чистота, порядок, обилие цветов и зелени. Ничего этого не было ни в соборе, ни в Троицкой церкви. Наши путешествия к всенощной почти всегда сопровождались приключениями. Случалось почему-то так, что мы часто приходили с мокрыми ногами, хотя большинство луж уже просохло, а ручьи перестали течь. По-видимому, здесь не обходилось без моих шалостей, или же я искал новых путей, по которым еще никто не ходил. Дедушка относился к таким приключениям добродушно. Иногда перед сном дедушка рассказывал мне о разных вещах из своей жизни, а также из виденного им и прочитанного. Очень часто я расспрашивал его о войне 1812 года, в которой его отец участвовал. Дедушка любил Кутузова, а еще более Суворова. Из его рассказов, еще до того, как я начал читать исторические книги, я узнал много подробностей из жизни этих двух великих полководцев. Дедушка сообщил мне также, что обоим полководцам дали княжеский титул.
— А что такое князь? — спросил я.
— Это почетное, самое почетное звание. Его дают только великим полководцам, — ответил дедушка.
Его слова я запомнил и однажды поставил дедушку в неловкое положение. Были гости. Я присутствовал тут же, сидя в уголке на стуле, около своего столика. Во время беседы была произнесена фамилия Кугушев с прибавлением слова «князь». Когда на минуту установилось молчание, я спросил дедушку: «Князь Кугушев — это тоже великий полководец?» Взрыв общего хохота был ответом на мой вопрос. Но после дедушка объяснил мне, что, к сожалению, есть князья не по заслугам, а по рождению. Этого, однако, тогда я не понял, пока не подрос и не узнал жизнь побольше. Князь же Кугушев был потомок прежних татарских мурз, обрусевших после покорения Прикамского края. Никаких заслуг за ним не числилось.
Когда я уехал учиться в далекие края, то постоянно переписывался с дедушкой и иногда приезжал в Мензелинск повидаться с ним и другими близкими и родными мне людьми. Он был крепкий старик, но осенью 1911 года на семьдесят пятом году жизни опасно заболел. Я заехал в Мензелинск и навестил его. Он лежал в земской больнице.
Как теперь, вижу его на постели. Он лежал в коридоре, так как коридор не был проходным, его место не было плохим. Он был спокоен, сознавая свое положение, но находил силы шутить. В то время я уже кончил Лесной институт и был оставлен при институте для подготовки к профессорскому званию. Дедушка был горд за своего старшего внука, самого близкого к нему из внуков. Он давно уже думал о том, чтобы найти невесту внуку и женить его при своей жизни. На эту тему мы не раз шутили, и это доставляло нам обоим много удовольствия. Мы представляли себе разные комбинации по поводу моей предполагаемой женитьбы. Так и в этот раз последнего нашего свидания после приветствий и расспросов он полушепотом сказал мне, шутливо улыбаясь: «А я тебе, Саша, невесту приглядел! Ох, хороша…", — а потом добавил. — Говорят, у тебя своя невеста завелась?» Я ответил, что своей невесты у меня нет, и что я охотно познакомлюсь с той, о которой он говорит.
Эта была наша последняя встреча и последняя беседа. Через несколько дней я уехал в Петербург, и скоро ко мне пришло печальное известие, что дедушка умер. Чувство глубокой горечи и сейчас западает мне в сердце, когда я думаю о величавом старике. Он был моим учителем в жизни, воспитателем моего характера и лучшим моим другом.
Моя бабушка Варвара Павловна была на два года моложе дедушки. Они поженились, когда дедушке было восемнадцать, а бабушке шестнадцать лет. Дедушка рассказывал мне, как он встретил бабушку первый раз. Было воскресенье, шли к обедне. Дедушка был со своим приятелем, когда их обогнала группа молоденьких девушек. Среди них была и Варвара Павловна. Дедушка впервые встретился с нею; она так сильно и сразу понравилась ему, что когда его приятель в шутку спросил его:
— Какую из девушек посватать за тебя?
— Он серьезно ответил.
— Посватай вон ту!
И указал на Варвару Павловну. Все это произошло, как говорил дедушка, почти мгновенно. Варвара Павловна Ащеулова (такова была ее девическая фамилия) действительно была вскоре высватана за дедушку, и свадьба их состоялась.
Моя мать была их первым ребенком. Бабушка была очень красива и сохранила следы прежней красоты до старых лет. Когда она одевалась в свои лучшие платья, я всегда ею любовался. В те далекие времена женщины не получали образования, не получила его и моя бабушка, но свою первую дочь, мою мать, она настояла научить грамоте. Это был значительный шаг вперед, тем более интересный, что женских школ тогда не было, и девочек приходилось учить грамоте на дому.
На плечах у бабушки было значительное домашнее хозяйство. У них было несколько коров, овец; были куры, гуси, индюшки; было три или четыре лошади. Для полевых работ приглашался постоянный рабочий. К полевому хозяйству бабушка не касалась. Оно целиком лежало на ее сыне, моем дяде, Владимире Васильевиче. Не мало забот доставляли и мы с сестрой, живя в доме дедушке. Ласковая, внимательная бабушка окружала нас тем уютом и душевным теплом, которые так необходимы детям. Мы учились в спокойной обстановке, лишенной суеты, шума и нервозности, обычно тяжело отражающихся на развитии детей. Не знаю, кто больше любил меня, мать или бабушка. Но я был привязан к бабушке необычайно. В последний раз я виделся с нею в 1901 году при кратковременном приезде в Мензелинск. Встреча была такой радостной, что старушка едва удерживалась на ногах от волнения, так как мы давно не виделись с нею. Она уже прихварывала, но казалась довольно крепкой, хотя ей было тогда за шестьдесят. Скоро я снова уехал и более ее уже не встретил. Она умерла в 1903 году. Вспоминая ее, я всегда думаю о ней, как о типичной русской героической женщине, которая спокойно, приветливо смотрит на жизнь, скромно несет свою долю обязанностей и непрерывным трудом, мягким любовным отношением к людям создает здоровую основу общего благополучия, совершенно не сознавая своей великой роли в жизни.
В начале 1894 года мой дядя Владимир Васильевич Колесников женился. В дом дедушки вошла молодая женщина, жена дяди, моя новая тетя Анна Трофимовна (Колесникова). Ее девическая фамилия была такая же, как и у ее мужа. Они оба находились в очень далеком родстве. Я внимательно стал изучать свою новую тетю и полюбил ее. Она имела характер спокойный, выдержанный, тактичный, и была очень доброй. С ее приходом в доме дедушки появился юмор, которого раньше в доме не было. По вечерам мы с сестрой любили слушать ее рассказы, полные добродушной веселости. Самые простые вещи в ее передаче делались интересными. Она умела подмечать смешные стороны у людей и передавала их с необычайной для нас, детей, выпуклостью. Я сохранил с ней и моим дядей Владимиром Васильевичем дружескую переписку до сих пор. Письма тети и теперь полны добродушного юмора, заражающего весельем. Мой дядя Владимир Васильевич унаследовал от своего отца, моего дедушки, его дарования и склонность к общественной работе. В начале этого столетия он выдвинулся как общественный деятель, был членом выездной земской управы и приобрел авторитет не только в городе, но и в уезде. Гражданская война 1919—1920 годов заставила его однако оставить Мензелинск и переселиться в Уфу.
В доме дедушки я прожил годы моего первоначального обучения, с 1890 по 1898 год, в течение восьми лет. Через сорок с лишним лет, оглядываясь на этот период, я оцениваю его как исключительно благотворный, способствовавший раскрытию во мне природных дарований, и я с глубокой благодарностью вспоминаю дедушкин дом и его семью. Дом сохранился, как мне передавали, но в нем живут уже чужие люди.
Начало учения
В августе 1890 года дедушка повел меня в приходскую школу. Мне не было полных восьми лет, я хорошо считал, но читать не умел. Меня приняли в школу. Моей учительницей была Анна Ивановна Будрина. Почему-то мне трудно давалось соединение слогов в слова, и я отчетливо помню, что очень долго не мог прочитать слово «тарелка», хотя рисунок под этим словом в «Азбуке Бунакова», как будто бы, должен был способствовать моей догадке и помочь чтению. Эти трудности испытывали и другие ученики. Не помню сейчас, почему это происходило. Наблюдая обучение грамоте своих детей, я мог видеть, что этот раздел грамоты, наоборот, давался им легко. У Анны Ивановны я проучился недолго. Вскоре после того, как я научился читать трудные слова, меня перевели во вновь открытую школу на той площади, где был дом дедушки. Это было близко и так удобно, что в большую перемену я бегал к бабушке выпить чашку молока и съесть кусок хлеба. Нашей новой учительницей была молодая учительница Софья Алексеевна Касаткина, только что кончившая прогимназию в Мензелинске. Она была на редкость одаренная и обаятельная девушка, с несомненными педагогическими способностями. Дело обучения у нас с ней пошло очень быстро. К новому году я уже читал и писал. Нашими учебниками были «Родное слово» Ушинского, арифметика Евтушевского и книги для чтения Л. Н. Толстого. Эти учебники нас увлекали, особенно глубокое впечатление оставили у меня книги для чтения Л. Н. Толстого. Один из рассказов, напечатанный там, «Мильтон и Булька» я и теперь вспоминаю с самым теплым чувством, а с тех пор прошло более пятидесяти лет. Уже на первом году обучения мне выпало счастье прикоснуться к творчеству огромного таланта. Сила его обаяния благотворно коснулась детской души и привлекла к себе на всю жизнь. Многие из его рассказиков, помещенных в книжках для чтения, я читал вслух дедушке, и он, знавший главнейшие произведения Л. Н. Толстого, был в восторге от них.
В те времена не было, как теперь, готовых тетрадок с различными графами. Тетрадки мы делали сами из писчей бумаги и графили тоже сами при помощи особых квадратных линеек (квадратиков). Каждый школьник имел при себе тетради по письму и арифметике, квадратик для графления, карандаш, ручку с пером и чернильницу. Лист бумаги (полный развернутый) стоил полкопейки, лучший сорт — копейку. Карандаш стоил от трех до пяти копеек, перо полкопейки. Книги для чтения Л. Н. Толстого стоили, кажется, пятнадцать или двадцать копеек каждая. Всего их было четыре книжки. Теперь эти книжки сделались редкостью и, вероятно, мало кто их знает даже из преподавателей. А жаль, эти книги заслуживают большего внимания. В начальной школе у С. А. Касаткиной я проучился один год. Об этом годе у меня сохранились лучшие воспоминания. Впоследствии С. А. Касаткина вышла замуж за моего дядю Алексея Васильевича Колесникова и сделалась моей теткой. Их брак не был счастливым. Обаятельная Софья Алексеевна Касаткина, к сожалению, очень походила по своему характеру на Варвару Павловну Лаврецкую из романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». Она и сама происходила из угасавшего и разлагавшегося дворянского рода. Но дядя мой Алексей Васильевич Колесников не походил на Федора Ивановича Лаврецкого. Уже после моего отъезда из Прикамского края дядя получил назначение крестьянским начальником в Керенск Иркутской губернии. С ним поехала туда и жена его Софья Алексеевна. Через несколько лет дядя умер в Керенске, а Софья Алексеевна продолжала жить там до февральской революции, после чего, как мне передавали, перебралась с детьми в Москву. Потом след ее потерялся. Что стало с моей обаятельной учительницей, я не знаю, даже не знаю, жива ли она.
Городское училище
Городское училище в Мензелинске обслуживало не только город, но и огромный уезд. В нем давалось некоторое неполное образование в размере нынешней неполной средней школы. Училище состояло в то время из четырех классов: первые два класса имели по два отделения. В первое отделение первого класса принимали мальчиков, прошедших первый класс приходского училища. Таким образом, чтобы нормально кончить городское училище нужно было проучиться семь лет. В училище преподавались: русский язык (грамматика, синтаксис, история литературы), арифметика в полном объеме, геометрия, физика, естествоведение, история общая и русская, география, рисование и закон божий. Преподавателями были воспитанники Оренбургского учительского института. Этот институт был образцово поставлен и имел хорошую славу. Городское училище в Мензелинске было обеспечено специальным, просторным, светлым каменным зданием, имело хорошие кабинеты по физике, естествоведению и располагало значительной фундаментальной библиотекой классиков литературы. Преподавательский состав городского училища пользовался авторитетом среди жителей города.
Осенью 1891 года меня зачислили в городское училище, где я и пробыл шесть лет до его окончания в 1897 году. Вначале мне не понравилось на новом месте: было слишком шумно, а малышей затирали, иногда даже били старшие ученики. Вдобавок, ходить из дома было далеко (больше одного километра). Осенью и весною, когда кругом была непролазная грязь, хождение в училище было истинной мукой. Но постепенно я привык к училищу и полюбил его. В то время заведовал училищем (был его инспектором) Никольский; учителями были: Пушков, Козлов, Пшеничников и Коробко. Все они были питомцами Оренбургского учительского института. Закон божий преподавал священник Троицкой церкви Лавр Фенелонов. Первые годы моего обучения в городском училище преподаватели специализировались по отдельным предметам. Так Пушков преподавал русский язык, Пшеничников арифметику.
Года через два после моего поступления в училище был принят новый порядок преподавания. Суть нового порядка заключалась в том, что преподаватель прикреплялся к определенному курсу и вел его до окончания училища, преподавал все предметы, положенные по учебному плану. К нашему курсу был прикреплен Д. Е. Пушков. Он и довел нас до окончания, преподавая (с момента прикрепления к нам) все предметы. Только закон божий во всех классах преподавал Лавр Фенелонов. Не помню сейчас всех учебников, которые у нас были, но по арифметике был учебник Малинина-Буренина, по геометрии — учебник Вулиха, по истории — Иловайского, по истории литературы — Острогорского (двадцать биографий знаменитых русских писателей). Обычно у нас было по пять уроков каждый день. Дома, вечерами, нужно было тратить время на подготовку уроков не менее трех — четырех часов. Таким образом, наш рабочий день школьника был не менее восьми часов. Такой же продолжительности рабочий день был и у наших учителей. Занятия начинались в девять часов утра и кончались в третьем часу дня. По вечерам в училище мы никогда не собирались. Не организовывалось там ни бесед, ни развлечений. Здание работало только днем. В остальное время оно очищалось, проветривалось. Среди предметов была и гимнастика. Преподавал ее местный фельдфебель. Кажется, она была не каждый день. Ее не любили, она проводилась не утром, а по окончании уроков и сильно нас утомляла. Закон божий обычно не любили в школах, но уроки нашего Лавра Фенелонова мы слушали с удовольствием. Он умел рассказывать даже ветхий завет увлекательно, как историю. Много лет спустя, когда мне пришлось читать роман Леона Фейхтвангера «Иудейская война», я вдруг почувствовал, что об этом я где-то уже слышал. Имя Флавия, еврейского историка, сидело у меня где-то в тайниках моего мозга. «Откуда это?» — спросил себя и вдруг вспомнил, что действительно Лавр Фенелонов много десятков лет тому назад рассказывал нам об этом самом Флавии и передавал содержание его книг. Надо было иметь большой характер и значительные умственные запросы, чтобы среди казенной церковщины сохранить душу живую, как сохранил ее Лавр Фенелонов, сумевшим сделать интересным для нас, школьников, даже ветхий завет.
Я не встречался с ним по окончания училища, но всегда интересовался его судьбой. Кажется, он сделался потом жертвой алкоголизма. Из всех учителей наибольшее влияние оказал на нас Д. Е. Пушков, принявший наше поколение на свое попечение и доведший нас до окончания курса.
Учитель Д. Е. Пушков
Димитрий Егорович Пушков был уроженец города Череповца Новгородской губернии. Он окончил курс местного городского училища и затем поступил в Оренбургский учительский институт. По завершении образования в этом институте Д. Е. Пушков был назначен учителем городского училища в Мензелинске. В Мензелинск он приехал совсем юным молодым человеком, женился на уроженке города и сильно привязался к новому для него краю. Когда я стал его учеником, ему было с небольшим тридцать лет. Мое первое знакомство с ним состоялось в начале августа 1891 года перед моим поступлением в городское училище. Дедушка зашел со мною в одно из воскресений к Д. Е. Пушкову, чтобы посоветоваться с ним по поводу моего поступления в городское училище. Чистенькая и довольно большая квартира показалась мне замечательной. В гостиной я увидел кресла в белых покрывалах, что для меня было диковинкой (у нас в Тимергане, у дедушки, а также у дяди Петра Ивановича я никогда этого не видел), и один удивительный предмет лакированный, черный, вроде большого комода. Это было, как потом мне сказал дедушка, когда я его спросил, пианино. На стенах висели картины, а около кресел стоял лакированный столик. Когда цель прихода дедушки выяснилась, Д. Е. Пушков погладил меня по голове и сказал: «А вот мы сейчас почитаем!» и с этими словами достал лежавшую недалеко от него на столе книгу, развернул ее, показал мне одну страницу, на которой был помещен небольшой рассказик (по-видимому, это была книга для чтения) и сказал: «Ну-ка, почитай, дружок!»
Слова его были так приветливы, а обращение таким сердечным и простым, что робость меня оставила, я хорошо прочитал рассказик и хорошо пересказал его, когда книга была закрыта. Затем мне была дана небольшая задачка для решения в уме, которую я также легко сделал. «Хорошо, хорошо! — сказал Д. Е. Пушков. — Он у вас вполне подготовлен, вполне, вполне…». И я был принят в городское училище. С этого момента я полюбил Димитрия Егоровича. И все ученики любили его. Для всех у него находилось приветливое слово. Он имел открытое лицо с улыбающимися глазами, зачесанными назад волосами и ходил всегда быстро. Его подвижность, энергия и работоспособность удивляли нас. Нам было непонятно, как он успевал выполнять многочисленные служебные, общественные и личные дела. Его занятия по городскому училищу отнимали у него с проверкой домашних ученических работ и с подготовкой к урокам не менее восьми — десяти часов в день. Кроме того, созданная им общественная библиотека отнимала у него не менее двух — трех часов ежедневно, а то и более. Он был также душой ряда культурных начинаний в городе (постановка спектаклей, организация общественных чтений). С наибольшей горячностью он отдавался общественной библиотеке. С каждым годом она разрасталась. В начале текущего столетия она перешла в просторное помещение, где имелся уже обширный зал для чтения. Библиотека сделалась культурным центром города. Здесь можно было встретить почти каждый день представителей местной интеллигенции. Это был своего рода общественный клуб.
В средине 90-х годов Д. Е. Пушков приобрел в городе небольшой домик, на высоком берегу реки Мензеля. Он переделал домик по своему вкусу и развел при доме плодовый сад. Садик служил ему местом отдыха. Я несколько раз бывал у него и всегда любовался культурностью его маленького жилища. Он прожил в нем около двадцати лет, пока не уехал из Мензелинска на службу в другой город, Гурьев, расположенный на берегу реки Урал. Не знаю, была ли эта поездка добровольной? Скорее, это был подневольный перевод. И с тех пор я потерял его из вида. В последний раз мы виделись с ним в 1905 году. Я жалею, что у меня не сохранилось его фотографии. Впрочем, я представляю очень ярко его подвижную фигуру, его улыбающееся, подвижное лицо, его постоянную готовность помочь всякому, кто к нему обращался.
Оглядываясь сейчас на свой длинный жизненный путь и перебирая в памяти встреченных мною людей, я всегда с благодарностью и любовью останавливаюсь на своем первом и лучшем учителе Д. Е. Пушкове.
Мое первое сочинение
Д. Е. Пушков из всех предметов больше всего любил русский язык. Естественно, что и нам его ученикам, передалась его любовь. В классе мы первоначально занимались переложением отдельных рассказиков, затем читали образцы произведений наших классиков и писали сочинения на заданные темы на дому. Осенью 1895 года в одно из сентябрьских теплых солнечных воскресений Д. Е. Пушков устроил нашему классу экскурсию на ферму сельскохозяйственной школы, отстоявшую от города на расстоянии семи километров. Вышли около девяти часов утра. Дорога шла вначале через пойму реки Мензеля, по длинной километровой дамбе, затем по выгону, полям, а потом по дубовому лесу. Погода была замечательная. Настроение было веселое. Возраст наш (двенадцать-тринадцать лет) располагал к проказам и шуткам. Д. Е. Пушков не отставал от нас. Вся наша группа была единым веселым коллективом. Красота дубового леса в осеннем уборе с отдельными багряными осинами восхищала нас. Вдруг впереди показались зеленые крыши через вершины деревьев. Это была сельскохозяйственная школа, впервые нами виденная. Она расположилась на большой лесной поляне. Все здесь для нас было новым, необычным. Нас встретили ученики школы. Они были в форменных куртках с зелеными стоячими воротничками. Их фуражки имели зеленый околыш. У нас же формы не было, кроме значков на фуражках (М.Г.У.), обозначавшем, что мы учимся в Мензелинском городском училище. Прием был радушен. Нас угостили чаем с горячими пирожками. Директором сельскохозяйственной школы был тогда известный агроном М. П. Зубрилов. Школа была поставлена у него прекрасно. Кругом были образцы отличной культуры земледелия. мы осмотрели огороды, сады, пашни. Ученики школы обучались также кузнечному, столярному и слесарному ремеслу. Меня особенно поразили модели плужков, веялок, сортировок и прочих сельскохозяйственных машин, сделанные учениками школы и выставленные для обозрения в качестве образцов их работы. Все, что мы видели в этот день, было для нас откровением. У нас глаза открылись, мы прикоснулись к новому миру, более культурному, красивому, по сравнению с тем, в котором жили.
Ученики сельскохозяйственной школы рассказали нам, что они учатся и работают в поле, в огороде, в саду, на скотном дворе, на пчельнике. Оказалось, что они проходят те же предметы, какие проходим и мы, но вдобавок изучают ремесла и полностью участвуют в сельскохозяйственном производстве. Их возраст был больше нашего лет на пять. Те из них, которые были в последнем классе, производили на нас впечатление уже взрослых молодых людей. Когда мы возвращались домой, стало уже темно, но погода благоприятствовала нам до конца пути. Наш учитель в конце пути сказал нам: «Опишите наше путешествие, это будет вашим очередным сочинением». На сочинение нам отводилось недели три или четыре. Придя домой, закусив и отдохнув, я тотчас же начал писать и в первый же вечер написал странички три. Я и раньше замечал над собою, что у меня лучше выходит учебная работа, когда я делаю ее исподволь, понемногу, но каждый день. Этот прием я применил и в данном случае. Я писал понемногу, но каждый день. Дней через десять я кончил и стал переписывать, но переписывал не механически, а вновь передумывал и исправлял ранее написанное. Переписывал я по утрам. Помню, что мне удобнее было писать на стуле (тогда я был мал ростом), стоя на полу на коленках. Переписка отняла у меня несколько дней. Наконец все было готово. Я прочитал свое первое сочинение дедушке. Сочинение называлось «Путешествие на ферму». Дедушке оно понравилось. После этого я сдал его Д. Е. Пушкову. Димитрий Егорович читал наши произведения несколько дней, так как нас в классе было не менее тридцати учеников, а сочинения были длинные. Помню, что у меня оно имело двадцать страничек в четверть развернутого листа. Наконец наступил день разбора наших сочинений. Отличными оказались два сочинения: Трегубова и мое. Гриша Трегубов был остроумный мальчик, и он написал свое повествование в духе «Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, которым он в то время восхищался. Мое повествование было написано в эпическом стиле. Оба сочинения были прочитаны в классе и всем понравились. Я и Трегубов были на верху славы. Нам обоим прочили писательское будущее, но ни Трегубов, ни я не стали литераторами. Вскоре после окончания городского училища Трегубов исчез из Мензелинска. Что с ним стало, неизвестно. Я же сделался не романистом, а ученым. Слава о наших сочинениях быстро разнеслась по городу. Сочинение мое и Трегубова читали, особенно на сельскохозяйственной ферме. Нас стали замечать наши сверстники из прогимназии. Подруги моей сестры, Маня Бабина и Анюта Афанасьева, рассматривавшие меня до сих пор как их пажа, повысили мой ранг и соблаговолили допустить меня в свою маленькую компанию, как равного товарища, хотя им было по шестнадцать лет, а мне только тринадцать. С той поры Димитрий Егорович стал пристально следить за мною. Я был все время в поле благожелательного ко мне внимания. Меня запомнил также директор сельскохозяйственной школы М. П. Зубрилов, через несколько лет оказавшийся моим руководителем, но не в Мензелинске, а в другом городе — Богородицке Тульской губернии, где мне пришлось по окончании городского училища учиться в среднем сельскохозяйственном училище.
Последние классы городского училища. Я нахожу свое призвание
В третьем и четвертых классах я прикоснулся к сокровищам фундаментальной библиотеки училища. Я имел возможность прочитать русских и иностранных классиков. В библиотеке оказалась даже такая редкость, как «Божественная комедия» Данте. В тоже время общественная библиотека, созданная Д. Е. Пушковым и им руководимая, окрепла и расширилась. В ней были богато представлены новые авторы и периодическая литература, отсутствовавшие в библиотеке училища. В эти годы быстро выросла популярность Мамина-Сибиряка и Потапенко, но о Чехове и Горьком еще не знали. Д. Е. Пушков привил нам интерес к толстым журналам, ежемесячникам. Из них наибольшим интересом я читал «Божий мир». Я с благодарностью вспоминаю также еще одну библиотеку, существовавшую в то время в Мензелинске — библиотеку при Городской Управе. Она была невелика, занимала небольшое помещение в доме Городской Управы, рядом с городским училищем. Там был читальный зал очень небольшой, но удивительно уютный и тихий. Этот зал был открыт по вечерам и мало кем посещался. Однажды я робко зашел туда и попросил разрешения почитать. Библиотекарь Бобров, глубокий старик, разрешил мне, и я стал заходить по вечерам в этот уютный читальный зал. Очень часто я там бывал единственным посетителем.
Перед окончанием училища у нас были разные планы. Я хотел учиться дальше. Но из городского училища дороги были очень узки. Можно было поступить в земледельческое училище (оно имелось в Казани), можно было также поступить в техническое среднее училище, имевшееся в Уфе, Перми, Кунгуре, Казани, Нижнем Новгороде. кроме того, можно было поступить в низшую лесную школу с двухлетним курсом обучения. Такая школа имелась на севере Мензелинского уезда близ реки Камы (Биклянская лесная школа). Лесная школа меня сильно интересовала, и я готов был в нее поступить, но мне было мало лет. Технические училища мне не нравились, и я остановился в конце концов на Казанском земледельческом училище, ясно начертав себе дальнейший план пойти по окончании этого училища в Петербургский лесной институт. Мои давнишние склонности к лесу, к посадкам деревьев, к природе были в это время сильно подкреплены замечательной для своего времени книгой профессора Петербургского лесного института Кайгородова, посвященной лесу. Книга «Беседы о русском лесе» состояла из двух частей. Одна называлась «Краснолесье» другая «Чернолесье». Книга была хорошо издана с рисунками и написана увлекательным языком. Я ее перечитывал несколько раз. Она-то и укрепила меня в мысли стать лесоводом. Земледельческое училище рассматривалось мною как путь к Лесному институту. Не помню точно, но кажется, что эту книгу дал мне почитать Д. Е. Пушков. Он давно заметил мои склонности и развивал их.
Как-то раз в общественной библиотеке (там я бывал почти каждый день) появился один посетитель в особой форме, которой я еще никогда не видал. На нем была черная шинель с зелеными кантами; на плечах были серебряные погоны, в руках он держал фуражку с зеленым околышем. Когда я о нем спросил Д. Е. Пушкова, тот ответил, что посетитель — помощник лесничего, и что он очень образованный человек.
Этот случай запомнился мне. «Так вот какие бывают помощники лесничего» — подумал я про себя, и мне самому захотелось быть помощником лесничего, а затем и лесничим. Через 15 лет после того я сам сделался лесничим и вспомнил детскую встречу с помощником лесничего в Мензелинске. Примерно тогда же я прочитал и другие книги профессора Кайгородова, посвященные описанию природы: «Из зеленого царства» и «Из царства пернатых». Они были написаны также увлекательно. Через много лет после этого, когда я осенью 1904 года поступил в Петербургский лесной институт, я встретил профессора Кайгородова. Это был уже старик, но еще сохранивший большую подвижность. Его можно было видеть почти каждый день в парке лесного института. Он не просто гулял, а изучал птиц, живущих в парке, наблюдая за ростом деревьев и кустарников, произраставших в парке. В год моего поступления в институт он ушел в отставку, но жил в лесном, в своем изящном доме, на Институтском проспекте, среди хвойного леса. Я не имел возможности познакомиться с ним, поскольку он ушел из института и не читал лекций, но издали всегда наблюдал за ним, когда мы встречались в парке института.
Достойна внимания жизнь этого человека, тонкого знатока природы. Воспитанник артиллерийского училища, офицер артиллерии, он поступил в 1868 году вольнослушателем в Лесной институт, окончил в нем курс в 1871 году, посвятил себя затем лесному делу и с 1882 года стал профессором Лесного института. Он умер в двадцатых годах текущего столетия. Его популярные книги о природе могли бы и теперь иметь большое образовательное значение. Во мне его книги оставили неизгладимое впечатление и вместе с более ранними детскими впечатлениями определили мое призвание.
Весною 1897 года наше поколение окончило курс городского училища. Окончание каждого учебного года сопровождалось у нас тогда торжественным актом. Лучшие ученики награждались похвальными листами и ценными книгами. При выходе из училища я был награжден собранием стихотворений А. К. Толстого в двух томах. Эти книги сохранились в моей библиотеке до сих пор.

Но с моим аттестатом приключилось некоторое недоразумение. Для получения аттестата требовалось представление метрической выписки о рождении. Факт моего рождения и крещения был записан в церкви села Верхние Юшады, находящихся в пяти километрах от Нижнего Тимергана. Мое крещение происходило, однако, дома, а не в церкви. При крещении я был назван по желанию родных Александром, но в книге церковных записей по ошибке священника и его помощника меня записали Иоанном. Естественно, что метрическая запись была выдана не Александру, а Иоанну, можно себе представить мое горе и великое смущение моих родных. Инспектор городского училища Н. П. Никольский был также обескуражен. Виданное ли дело: учился Александр Тюрин, а оказался Иоанном. Аттестата я не получил. Дедушка составил жалобу на действия притча села Верхние Юшады и потребовал исправления ошибочной записи. Оказалось, что жалобу надо подавать в духовную консисторию, находившуюся в Уфе. Жалобу подали, дедушка написал личное письмо одному из членов консистории, но дело сильно затянулось. Решение консистории в благоприятном для меня смысле последовало только через год, в конце 1898 года.
Мое намерение поступить осенью 1897 года в Казанское земледельческое училище поэтому не могло осуществиться.
Тяжелое впечатление произвела на меня эта история, и я грустно смотрел в свое будущее.
Служба в уездном съезде судей
Отдохнув в Нижнем Тимергане в течение лета 1897 года и, увидев, что из-за отсутствия аттестата я не могу в данном году поступить в среднее земледельческое училище, я решил искать работу и зарабатывать средства на жизнь. Мне еще не было пятнадцати лет. Но найти работу было очень трудно. В конце концов я определился писцом-практикантом в уездном съезде судей, где мой дядя Алексей Васильевич Колесников был секретарем. У него была довольно большая канцелярия, состоявшая из двух помощников (они получали сорок рублей в месяц) и несколько писцов (они получали от десяти до двадцати рублей в месяц). Мне было назначено жалованье один рубль в месяц. Я прослужил на этом жаловании четыре месяца, до 1 января 1898 года. Ясно, что на один рубль нельзя было прожить самостоятельно, даже при существовавшей тогда цене на хлеб в одну копейку за фунт. Я по-прежнему жил в доме дедушки, обременяя бюджет его семьи. Моим родителям было тяжело это видеть, но иного решения, очевидно, нельзя было найти. Я приходил на службу к девяти часам утра и уходил в три часа дня. Иногда, но очень редко, приходилось дежурить по вечерам в ожидании пакетов. Моя служба состояла в том, что я переписывал копии с жалоб и прошений, поступавших в канцелярию. Эти копии прикладывались к делам, подготовляемым к слушанию в судебных заседаниях. Я писал довольно красиво и быстро. Через мои руки за четыре месяца прошло очень много самых разнообразных дел. Больше всего было гражданских дел о наследстве, о неправильных захватах имущества и пр. Передо мною прошли все слои населения: дворяне, шляхта, мурзы, крестьяне, мещане, купцы. Я читал в прошениях о жалобах отцов и матерей на детей, детей на родителей, мужей на жен и жен на мужей. Уездному съезду судей были подведомственны некрупные дела. Поэтому то, что я видел отраженным в прошениях и жалобах, большею частью носило характер комический. Некоторые дела были настолько курьезны, что их читали вслух, и вся канцелярия (секретарь сидел в особой комнате и держался изолированно от канцелярии) хохотала, тщательно запирая дверь, чтобы не услышал секретарь.
За четыре месяца я близко узнал мир мелких чиновников, их скучный быт, отсутствие каких бы то ни было перспектив и безотрадность настроений. Трудно представить себе более печальное существование, чем-то, которое было уделом писцов нашей канцелярии. Они ничего не читали, никуда не ходили, разве на охоту или на рыбную ловлю. Землистые лица и сутуловатые спины говорили об их физическом нездоровье. Для меня четыре месяца работы в канцелярии все же не прошли бесследно. Сквозь бесчисленные жалобы и прошения, которые прошли через меня, я увидел действительный мир, каким он был в то время. Через много лет потом, когда я стал знакомиться с Бальзаком, я легко представлял себе мир человеческой комедии, как он был отображен романистом: ведь, я сам видел ту же человеческую комедию, когда переписывал прошения и жалобы, будучи писцом уездного съезда судьей в Мензелинске.
До 1 января 1898 года за четыре месяца службы я получил четыре рубля. Дедушка предложил мне, зная мою страсть к книгам, выписать на половинных началах журнал «Нива» на 1898 год. Издатель «Нивы» Маркс в то время вступил на путь рассылки своим подписчикам ценных приложений — собраний сочинений русских, а затем и иностранных писателей. На 1898 год к журналу в качестве приложения шли двенадцать томов полного собрания сочинений И. С. Тургенева. Журнал с приложением на год стоил семь рублей. Я имел средства для участия в половинном размере. На долю дедушки шел сам журнал, на мою долю двенадцать томов сочинений И. С. Тургенева. План мы осуществили и журнал выписали. В 1898 году журнал и приложения стали приходить в адрес дедушки. Я был рад созданию своей библиотеки. Но те книги у меня не сохранились. В моей библиотеке и сейчас, наряду с другими книгами, стоят томики сочинений Тургенева, но не в издании Маркса, а — Глазунова. Однако, всегда, глядя на них, я вспоминаю свою первую выписку журнала в содружестве с дедушкой.
Я заменяю сестру учительницу в сельской школе
В 1896 году в деревне Вольный Тимерган впервые выстроили сельскую школу. Она должна была обслуживать все Тимерганы: Вольный, Верхний и Нижний. Учительницей была назначена моя сестра Пелагея Владимировна, к тому времени окончившая прогимназию в Мензелинске. В начале 1898 года сестра вышла замуж за Д. В. Астапова и переехала к мужу на сельскохозяйственную ферму, где Д. В. Астапов был преподавателем ремесел. Встал вопрос о назначении новой учительницы. Но так как на поиск новой учительницы требовалось время, а занятия в школе нужно было вести, была предложена моя кандидатура в качестве неофициального временного заместителя. Как окончивший городское училище, я имел право быть народным учителем после сдачи небольшого дополнительного экзамена. Такого экзамена я не держал, вследствие чего моя кандидатура на пост постоянного учителя не могла быть поставлена, я мог быть лишь временным неофициальным заместителем. Я согласился на такое замещение, уволился из писцов уездного съезда судей и приступил к делу в середине января старого стиля 1898 года. В школе было только два отделения: младшее и старшее. Школа была новой, чистенькой, но очень холодной. Классная комната была одна. Когда я занимался чтением вслух с каким-либо одним отделением, другое отделение занималось самостоятельно: решало задачи или писало. Мне полюбилось учительство. По-видимому, дело у меня шло неплохо, и ученики привязались ко мне. Я даже подумывал подготовиться и выдержать экзамен учителя, чтобы всерьез заняться этим делом, если дальнейшее мое образование в средней школе не сможет осуществиться. Но события сложились иначе: в 1898 году я смог продолжить свое образование.
Мое преподавание в сельской школе длилось около двух месяцев, пока не приехала настоящая учительница для замены моей сестры.
Подготовка к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище. Отъезд
Появление в нашей семье зятя Д. В. Астапова было радостным событием для всех нас. Он сделался нашим старшим братом, руководителем, наставником. Он убедил отца, мать и меня, что в ожидании исправленной метрической выписки нужно деятельно готовиться к поступлению в земледельческое училище и повторить те предметы, по которым придется держать конкурсный экзамен. Это было разумное предложение. Я сел за учебники по русскому языку, арифметике. геометрии, физике, географии, истории и значительную часть времени проводил у сестры и зятя на сельскохозяйственной ферме, где обстановка для учения была исключительно благоприятной и где один из кончивших школу Соловьев также готовился к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище.
В часы отдыха я бродил по окрестным лесам. Они были красивы и изобиловали многочисленными ручьями. Эти ручьи составляли вершину речки Кум-яды, протекавшей через деревню Старое-Мазино. Моя давняя страсть к воде, к речкам, ручьям нашла здесь удовлетворение. Исток речки Кум-яды находился недалеко от истока реки Вязовки. Но и на этот раз я не дошел до их истоков. Они находились в глубине лесного массива, куда я боялся проникать один, хотя со мною и было ружье. Я любил эти одинокие прогулки по пустынным лесам.
Летом 1898 года стало известно, что организовано новое среднее сельскохозяйственное училище в городе Богородицке Тульской губернии, и, что директором этого училища назначен М. П. Зубрилов, бывший директор Мензелинской сельскохозяйственной школы. Было сообщено также, что открыт прием заявлений для поступления в первый класс этого училища, что экзамены будут в конце сентября, а начало занятий 1 октября 1898 года. Это извещение чрезвычайно обрадовало меня, так как раздвигало сроки для ожидания злополучной метрической выписки, без которой нечего было и думать о поступлении в училище. Кроме того, я так много слышал хорошего о М. П. Зубрилове, что мне захотелось учиться под его руководством. Я знал также, что он был другом Д. Е. Пушкова. На основании полученных сообщений, опубликованных в газетах, я решил отказаться от поступления в Казанское земледельческое училище и наметил для себя Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище. Наконец, пришла исправленная метрическая выписка. Я получил аттестат об окончании городского училища, написал прошение на имя директора Богородицкого среднего сельскохозяйственного училища о допущении меня к конкурсным экзаменам и направил все документы в Богородицк Тульской губернии.
Недели через две пришел ответ (это было в конце августа), извещавший меня, что я допущен к экзаменам, и, что я должен прибыть в город Богородицк к началу экзаменов. Если не ошибаюсь, их начало было назначено на 25 сентября старого стиля 1898 года.
В средине лета Д. В. Астапов получил интересное для него назначение заведующим ремесленной мастерской в селе Моховом Тульской губернии. Наши пути совпадали, и мы решили поехать все вместе. Наш маршрут был намечен через Нижний Новгород, Москву, Тулу. Далее наши пути расходились: я должен был направиться в Богородицк, расположенный в семидесяти километрах от Тулы по железной дороге, а зять с сестрой должны были ехать в село Моховое через Орел, до станции Хомутово. При селе Моховом находилась знаменитое в то время имение Шатилова.
Наши сборы были недлинны. Мы сначала простились в Мензелинске с нашими родными и выехали в Нижний Тимерган. Там были окончательные проводы, и уже оттуда на своих лошадях мы выехали через Сосновый брод на пристань Набережные Челны, где сели на пароход, направлявшийся в Нижний Новгород. Прощание с Нижним Тимерганом я описал в конце первого очерка.
Дальнейший мой путь лежал через Москву и Тулу. Подъезжая к Москве рано утром (был сентябрь), я увидел храм Христа Спасителя. Он возвышался над городом, освященный утренним солнцем, и показался таким величественным, что я и сейчас как будто вижу его. В последующие годы очень часто, проезжая через Москву, я снова видел его и восхищался каждый раз. Когда же я бывал в Москве надолго, я сиживал около на уличном диване, а иногда рассматривал внимательно его наружные стены и читал фамилии, написанные на стенах. То были фамилии участников Отечественной войны с Наполеоном 1812 года. Храм Христа Спасителя и был построен в честь победы над Наполеоном по проекту архитектора Константина Андреевича Тона (1794-1881). Среди фамилий, написанных на стенах, я искал Колесникова Филиппа Сидоровича, моего прадедушку, участника этой войны. Но, к сожалению, я не нашел этой фамилии.
Юность в Богородицке (1898—1904)
Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище
Обучение в училище продолжалось шесть лет. Окончившие курс училища, получали звание агронома. Лучшие из окончивших имели право поступления в высшие учебные заведения министерства земледелия. Первые четыре класса были общеобразовательными, два последних: пятый и шестой — специальными. В общеобразовательных классах проходили следующие предметы: алгебру, геометрию, тригонометрию, физику, химию, ботанику, зоологию, минералогию с геологией, историю древних и средних веков, новейшую историю, географию, космографию, геодезию, почвоведение, русский язык с историей литературы, немецкий язык, черчение, рисование, историю церкви. В специальных классах проходили: земледелие, животноводство, ветеринарию, садоводство, огородничество, лесоводство, сельскохозяйственную экономию с элементами политической экономии, сельскохозяйственную технологию, сельскохозяйственное машиноведение, счетоводство, законоведение. Преподавание предметов, как общеобразовательных, так и специальных сопровождалось обширными практическими занятиями (упражнениями) в классе, лабораториях, в саду, в огороде, в поле, в лесу, на животноводческой ферме, в конторе учебного хозяйства. Учебный план был построен в тесной связи теории с практикой. При училище с первого года его существования было организовано учебное хозяйство на подаренной училищу городской земле (220 гектар). Земля примыкала к городу и находилась к северу от него по шоссе на Тулу. На этой земле были построены в 1898—1899 годах учебные и жилые корпуса училища.
Учебный корпус представлял собою огромное трехэтажное кирпичное здание с центральным отоплением. Около него были построены два преподавательских корпуса, здание для обслуживающего персонала, больница, баня и различные надворные службы.


В километре от учебного корпуса была построена усадьба учебного хозяйства. Там были конюшни, коровники, амбары, сараи и дома для служащих. Через землю училища протекал небольшой ручей, впадающей в реку Уперт (Уперт — правый верхний приток реки Упы). На этом ручье были построены две большие плотины, одна близ устья ручья, другая — в его вершине. Благодаря плотинам было образовано два значительных пруда, длиной около километра каждый. В прудах была разведена рыба. Сад, огород, защитные посадки были созданы и поддерживались в порядке руками учеников.
Наш первый учебный год прошел в наемном здании, находившемся в самом городе. Теоретические занятия начались 1 октября 1898 года и продолжались до 1 мая 1899 года с двухнедельным перерывом около нового года. Мы занимались в классе ежедневно до пяти часов. Самостоятельных вечерних занятий у нас не было. Нас переводили в следующий класс или оставляли в прежнем классе или исключали на основании успеваемости в продолжении всего года. Для подведения итогов учебы практиковались письменные работы. Они проводились по всем предметам, даже географии. Нужно отметить, что нам приходилось много писать, излагая свои мысли и показывая свои знания. Ничто так не закрепляло наши знания, как изложение их на бумаге.
После 1 мая 1899 года начались занятия в природной обстановке. Мы приняли участие в создании плодового питомника, плодового сада, защитных живых изгородей вдоль границы нашего учебного хозяйства и вдоль дорог, проложенных на нашей земле. В эту весну я научился сажать деревья и получать сеянцы из семян. Когда весенние работы были закончены, начались ботанические экскурсии в поле и в лес. Наши летние каникулы при переходе из первого во второй класс по продолжительности были примерно такие же, как в реальных училищах и гимназиях. Начиная со второго лета, при переходе из второго в третий класс и дальше они становились все короче. C каждым годом наша связь с сельскохозяйственным производством делалась все глубже и разностороннее. В предпоследних классах мы почти не имели летних каникул, проводя все лето на сельскохозяйственных работах в учебном хозяйстве. Мы прошли все фазы полевых работ: предпосевную, посевную, весеннюю обработку, весенний сев, обработку пара, сенокошение, уборку колосовых, молотьбу, осенний сев озимых, копку картофеля и свеклы. Мы прошли также все фазы полевых работ по уходу за животными: кормление коров, свиней и лошадей, доение коров и лечение животных. Мы научились по-настоящему пахать, боронить, сеять сеялкой, работать сенокосилкой, жатвенной машиной, сноповязалкой, организовывать все виды работ с учетом их эффекта. Экскурсии в хорошо поставленное хозяйство Бобринских дало нам возможность расширить наш агрономический горизонт и иметь представление о более крупных хозяйствах, чем наше учебное.
Преподавание общих и специальных дисциплин было поставлено на большую высоту. Мы имели лучшие учебники того времени. Я вспоминаю, что, например, по истории средних веков мы имели учебник профессора Иванова, по истории древнего мира — профессора Виноградова. Анализ по неорганической химии проходили по учебнику профессора Меншуткина. Геодезию изучали по учебнику Поплавского, ботанику — по учебнику профессора Бородина, сельскохозяйственную экономию — по учебнику профессора Шишкина, лесоводство — по учебнику профессора Турского. В училище была создана с первого же года богатейшая фундаментальная библиотека по всем отраслям знаний. Она обеспечивала умственный рост и содействовала успеху обучения.
Педагогическая работа в училище руководилась педагогическим советом. Хотя часть преподавателей менялась (особенно по русскому языку, физике и химии), но основной костяк наиболее авторитетных преподавателей сопровождал нас с первого до последнего класса. Это были директор училища М. П. Зубрилов, инспектор Д. Д. Иванов, преподаватели М. Ф. Арнольд, В. Т. Петров и Н. А. Падарин. В середине нашего обучения благотворное влияние оказал на нас преподаватель И. И. Баранов. Успеху обучения, во многом, содействовала общая упорядоченность нашего быта в стенах училища. С первого же года в училище трудами преподавательского коллектива была создана хорошая сознательная дисциплина. В наших учебных помещениях было уютно и чисто, а наши спальни имели чистоту не меньшую, чем в нынешних санаториях.
Расположение нашего училища вдали от городских центров близ маленького захолустного городка, придавало нашему воспитанию замкнутый деревенский характер. В нас не было светскости. В обществе мы терялись, большею частью молчали, отходили в сторонку и старались поскорее исчезнуть, уйти опять в свою деревенскую скорлупу. Впрочем, это общий удел закрытых учебных заведений, низших, средних и высших, если они расположены вдали от культурных центров.
Учителя
Василий Трофимович Петров
Василий Трофимович преподавал нам русский язык и литературу в первом и во втором классе. Воспитанник Московского Университета (филолого-исторического факультета) он был тонким знатоком русского языка. Он познакомил нас с законами словообразования и научил анализировать слова и предложения. В частности, ему мы обязаны знанием пунктуации. Он был очень требователен к нам, но прост в обращении. Некоторые дни он дежурил по пансиону. В такие дни он играл с нами. Игры были разнообразные, но простые. Осенью и зимою это были снежки, весною и летом — крокет и мяч. Простое и сердечное отношение сблизило нас с ним. Мы сильно горевали, когда он уехал от нас в Москву. Историю литературы преподавал нам уже не Василий Трофимович. Незадолго перед окончанием курса, однажды, проездом через Москву, я зашел к нему на его московскую квартиру, но неудачно: он как раз уезжал из Москвы. Поэтому наша встреча была очень короткой. Больше я не видел его и не знаю, как сложилась его дальнейшая жизнь.
Сменившие его преподаватели (они менялись часто) были слабее его и не могли сравняться с Василием Трофимовичем ни по уменью преподавать, ни по уменью воспитывать.
Николай Андреевич Падарин
Николай Андреевич преподавал нам историю и географию в первых двух классах. Это был всесторонне образованный человек, окончивший университет по двум факультетам: естественноисторическому и историко-филологическому, долгое время живший во Франции. Он излагал нам предмет с большой глубиной, по первоисточникам. Мы часто писали ему сочинения на исторические и географические темы. Помню, что первой исторической темой была: «Причины греко-персидских войн». Один из наших товарищей Филатов С. М. написал отлично. На его сочинении Н. А. Падарин сделал надпись: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Мы не поняли этой фразы, и Николаю Андреевичу пришлось разъяснять нам ее смысл. По-видимому, смысл был тонкий, я уже не помню его в деталях, но этой фразой он хотел похвалить Филатова и побудить его к дальнейшим успехам.
Николай Андреевич был очень благожелателен к ученикам, мягок, но секрета простоты обращения с нами, в противоположность Василию Трофимовичу, не знал. Мы глубоко уважали его, в душе любили, но близких сердечных связей у нас с ним не возникало, хотя чувствовали высоту его нравственного облика. При этом чувствовалась какая-то неудачливость и неприспособленность к жизни. От нас он перешел учителем в гимназию в Харьков. Через много лет, в 1912 году, я неожиданно встретил его в Вятке, в фойе вятского театра. Я легко узнал его, так как он мало изменился. На другой день я навестил его дома. Он жил далеко от центра города, в старом ветхом домике. Обстановка в квартире была очень скромная. По-видимому, в Вятку он приехал не совсем по доброй воле. Сотрудничая в местной газете, он добывал скромные средства для жизни. Семья его была невелика: жена и племянница, девушка лет шестнадцати, ученица гимназии. Мы вспоминали старые времена. В его высказываниях я почувствовал убеждения старого идеалиста-народника. Народ для него продолжал быть богоносцем. Но действительно народа он едва ли знал. Как и раньше, так и в эту встречу, Николай Андреевич показался мне идеалистом, оторванным от реального мира. После этой встречи в Вятке я уже больше не виделся с ним.
Михаил Федорович Арнольд
Михаил Федорович прошел с нами с первого и до последнего класса, преподавая разные предметы. Он был воспитанником Петровской сельскохозяйственной академии, некоторое время был за границей, в Германии, где ознакомился с постановкой сельскохозяйственного образования и научно-исследовательского дела. К нам он пришел уже сложившимся авторитетным агрономом. В первом классе он преподавал нам геометрию. Раньше, в городском училище, я проходил этот предмет, но он не увлекал меня. Здесь Михаил Федорович своим мастерским анализом теории и отдельных задач увлек многих из нас, в том числе и меня. Когда я думаю о том, где я мог получить основы строгого научного мышления, то я прихожу к выводу, что эти основы заложил во мне Михаил Федорович во время преподавания им геометрии. Мы решали с ним очень много задач на построение. Решения этих задач сопровождались черчением. Теперь эти задачи на построение не в моде. А жаль, их роль в развитии мышления, в частности конструктивных способностей огромна и, пожалуй, ничем не заменима.

В четвертом классе Михаил Федорович преподавал нам почвоведение, а в специальных классах земледелие. В основу преподавания почвоведения были положены им учебные книги профессора Сибирцева. Уже из этого видно, насколько серьезно было поставлено дело. И почвоведение, и земледелие излагались М. Ф. Арнольдом увлекательно. На небольшом земельном участке (около десяти гектар) он организовал опытное поле. Каждый из нас учеников имел на поле свои опытные делянки и изучал на них рост растений.
С приемами агрономического анализа познакомил нас также М. Ф. Арнольд. На опытном поле я сделал свое первое исследование о влиянии на развитие ржи сроков ее посева. Я делал эту работу с увлечением. На нее у меня ушло около года.
М. Ф. Арнольд был сдержан, но всегда приветлив и корректен. У него не было той простой открытой сердечности, которая характеризовала Василия Трофимовича Петрова. Не было также и той утонченной, несколько оторванной от земли, интеллигентности, как у Н. А. Падарина. Мы любили М. Ф. Арнольда за его душевную цельность. Он нам казался образцом агронома: ученого, исследователя, практика. По окончании училища, уже будучи студентом лесного института, я встретился с ним в 1907 году в Петербурге. Письмом он пригласил меня к себе, в гостиницу, где остановился. После 1905 года, в эпоху начавшейся реакции, ему пришлось уйти из Богородицкого сельскохозяйственного училища и служить в департаменте земледелия по опытному делу. С тех пор я не виделся с ним. Уже в двадцатых годах, когда я уже был профессором в Воронежском сельскохозяйственном институте, я получил от него дружеское письмо из Москвы, где он жил и работал, и послал ему в ответ большее письмо. Нового письма от него я уже не получил. Вскоре он умер. Из учителей Богородицкого сельскохозяйственного училища М. Ф. Арнольд имел на меня наибольшее влияние. От него я получил любовь и навыки к научно-исследовательскому делу.
К М. Ф. Арнольду иногда приезжали его братья Владимир Федорович, статистик-экономист и Игорь Федорович, студент Московского Университета. Владимир Федорович был глубокий и тонкий мыслитель. В то время, когда я познакомился с ним, он был тяжело болен умственным переутомлением, от которого не вылечился и скоро умер. На нас, юношей, знавших его, в том числе на меня, он произвел сильнейшее впечатление своей одаренностью. Взгляд его глаз можно сравнить лишь с тем проникновенным взглядом, который так характерен для В. С. Соловьева по его портретам. Игорь Федорович был близок к литературным кругам Москвы того времени. Через него мы прикоснулись к новым литературным произведениям, в частности, к поэзии начала ХХ века. При этом, он был немногим старше меня. Нас, юношей, притягивало к нему и врожденная элегантность, знание иностранных языков, рассказы о жизни европейских стран, где он бывал. Мы часто проводили свободное время в прогулках с Игорем Федоровичем, слушая его, и втайне восхищались им.
По окончании курса, уже студентом лесного института, я заезжал навестить его в Москве, где он жил со своим отцом. Это была последняя наша встреча. В то время он еще учился в университете на юридическом факультете.
Димитрий Димитриевич Иванов
Димитрий Димитриевич Иванов был воспитанником Петровской академии. До прихода в Богородицкое училище он служил земским агрономом. У нас в училище занимал должность инспектора и, кроме того, преподавал нам географию (после Н. А. Падарина), а также сельскохозяйственную экономию. Это был серьезный и глубоко знающий преподаватель. К нам он относился требовательно, иногда сурово. Сердечных, близких отношений с ним у нас не установилось, может быть благодаря его требовательности, не смягченной внимательностью и лаской.
Несомненно, что дисциплинированность учеников училища, внешняя культурность училища были в значительной мере обязаны Д. Д. Иванову. На его долю выпала тяжелая, чрезвычайно ответственная, но малозаметная роль при создании и формирования училища.
Михаил Петрович Зубрилов
Михаил Петрович был организатором нашего училища и нашим директором. Он провел с нами все шесть лет, с первого до последнего класса. Воспитанник Петровской академии, он по окончании курса работал некоторое время в земской статистике, которую хорошо знал и любил. В начале девяностых годов ему было поручено создание Мензелинской сельскохозяйственной школы. Школа была им удачно организована и хорошо обустроена. Он стал ее первым директором. Когда правительство задумало учредить среднее сельскохозяйственное училище в Богородицке, организация этого дела была поручена М. П. Зубрилову.
В конце первого десятилетия текущего века, когда возникла мысль об учреждении среднего сельскохозяйственного училища на Дону, близ города Новочеркасска, организация дела по созданию новой сельскохозяйственной школы была поручена также М. П. Зубрилову и он удачно выполнил данное ему поручение. Новое сельскохозяйственное училище было организовано в Персиановке, недалеко от Новочеркасска. После Октябрьской революции оно послужило базой для организации Донского сельскохозяйственного института, существующего и поныне. Михаил Петрович был талантливым организатором. Он умел выбирать людей способных, преданных делу, и сплачивал их около себя. Он обладал кипучей энергией, работал и ходил быстро. Его накидка, которую он часто носил, везде развивалась по воздуху, сообщая впечатление расправленных крыльев. Действительно, Михаил Петрович летал, а не ходил. Как преподавателя, мы узнали Михаила Петровича в последних классах, в которых он преподавал нам экономическую географию. Он умел говорить с большой силой и увлекал своим предметом. Цифры не сушили наших уроков, так как он умел сопоставлять сообщаемые цифры и находить между ними легко запоминаемые связи. Как директор, он чувствовал, что захолустное расположение нашего училища сообщает нам, ученикам, деревенскую замкнутость и принимал меры к ее устранению. Так, иногда, нас вывозили в свет, в Москву, для осмотра ее культурных достопримечательностей, для посещения московских театров. Иногда, у нас в училище устраивались вечера, на которые приглашались знакомые из города, но многого в данном направлении достичь было невозможно. Мы сами это сознавали, несомненно, сознавал это и директор.
Между нами, учениками, и Михаилом Петровичем не было таких сердечных отношений, какие у нас существовали с Василием Трофимовичем Петровым и Михаил Федоровичем Арнольдом, но все же близкие, теплые связи были. В 1906 году осенью я встретился с ним в Петербурге, на Васильевском острове в студенческой комнате его дочери Веры, только что поступившей на курсы. Мы встретились как старые друзья, вернее, как товарищи студенты, из которых один был уже седой старик. В дальнейшие годы я имел о нем лишь отрывочные сведения. Он умер в конце двадцатых годов.
Вспоминая о М. П. Зубрилове, не могу ни вспомнить его жену Софью Григорьевну. Она была неутомимой энергичной помощницей своего мужа. Культурность нашего пансиона, безупречная чистота в нем, хороший здоровый стол, надзор за приготовлением пищи и прочее — всем этим мы были обязаны Софье Григорьевне. Она не занимала в училище никакого поста. Ее забота о культурности и порядке в училище исходили из ее понимания общественного долга, как жены директора, как лица, живущего на территории училища. В нынешнюю эпоху ее деятельность была бы всем понятна, но в те времена она встречала и недоброжелательство. Но большинство учеников было ей благодарно.
Позже я узнал, что Михаил Петрович, как человек прогрессивных убеждений, находился под надзором полиции, также как и его жена Софья Григорьевна.
Иван Иванович Баранов
Иван Иванович появился у нас в качестве преподавателя в 1901 году. Он был студентом Петербургского лесного института, курс которого в то время еще не кончил. По-видимому, он был исключен в связи с революционной деятельностью студенчества того времени. В 1901 году, в год моего поступления в Лесной институт, он окончил его экстерном.
Он преподавал нам техническое черчение и геодезию. Вместе с ним к нам в училище пришли революционные веяния. Он рассказывал нам о марксизме, о борьбе народников и марксистов (до того времени мы не слышали ни о народниках, ни о марксистах), познакомил нас с новой литературой. От него мы услышали о Горьком и стали читать его произведения. В то же время, по-видимому, под его влиянием мы стали пополнять наши знания самообразованием. Так я и мои товарищи Инюшин и Парунин принялись за изучение политической экономии, истории культуры, социологии, философии. В это время я познакомился с учебниками Исаева, Иванюкова, Чупрова, известных в то время профессоров по политической экономии. Тогда же я тщательно прочитал и продумал сочинения Рикардо (в переводе) и стал читать в подлиннике «Der isolirte Staat» Тюнена. Из других книг в это время были прочитаны «История культуры» Липперта и «История цивилизации» Бокля.
К И. И. Баранову наш класс относился неодинаково. Была небольшая группа учеников, предводительствуемая Узбековым, которая яростно ненавидела И. И. Баранова. Эта группа чувствовала в И.И.Баранове своего социального врага. Узбеков был дворянином, племянником крупного помещика Тамбовской губернии. Около него группировались люди, мало развитые, не оторвавшиеся от старых унаследованных традиций и связанные с мелкособственническим укладом.
К И. И. Баранову приезжали по временам его знакомые студенты Московского Университета. В такие дни я и несколько моих товарищей заходили на квартиру Ивана Ивановича. Московские студенты привозили с собой настроение бодрое, радикальное, революционное. В 1904 году осенью после некоторого перерыва я встретился с И. И. Барановым в Петербургском лесном институте. Я только что поступил в институт, он уже кончал его. Это была наша последняя встреча. Окончив Лесной институт экстерном, он не стал лесничим, а сделался преподавателем одного из реальных училищ на Украине и исчез с нашего горизонта. Он отличался большой сердечностью, мягкостью характера и был талантливым преподавателем. Склонность к преподавательскому делу, по-видимому, и объясняет решение И. И. Баранова отказаться от лесной специальности и посвятить себя преподаванию.
Наш пансион
Прием в училище составлял каждый год по сорок человек. При шести классах общий состав учеников равнялся двумстам сорока человек, из них около двухсот жило в пансионе. Пансионер за сто пятьдесят рублей в год имел белье, постель, верхнее платье и стол. Я провел в пансионе все шесть лет; со второго года обучения я имел казенную стипендию за отличные успехи, которая обеспечивала меня полностью. Наш пансион помещался в главном учебном корпусе. Верхний (третий этаж) этого корпуса был отведен под спальни. На втором этаже были классы, чертежная, читальня, библиотеки, учительская. На первом этаже разместились лаборатории и учебные классы. В особом приделе первого этажа была столовая, а над столовой, на втором этаже, находился актовый зал, превращавшийся в соответствующих случаях в церковь. В пансионе для нас был установлен строгий порядок дня. Вставали мы по звонку в шесть с половиной часов утра. Для одевания и уборки кровати полагалось полчаса, для умывания полчаса. С семи с половиной и до восьми часов утра можно было прогуляться на дворе. Но обязательной эта прогулка не считалась. В восемь часов по звонку мы собирались в столовой, и начинался утренний завтрак. Он состоял из одной или двух кружек чая (с двумя кусочками пиленого сахара) и булки. К чаю подавалось молоко в кувшинах. В восемь с половиной часов утра завтрак кончался и с восьми с половиной до девяти часов оставалось время для подготовки к урокам. В девять часов начинались занятия. В двенадцать часов, после трех уроков давался второй завтрак, состоявший из одной кружки молока с булкой. Занятия продолжались до двух с половиной — трех часов дня. В три часа начинался обед. На обед являлись по звонку. Обед состоял в будни из двух блюд. На первое суп или щи с кусочком вареного мяса, на второе каша с маслом. В воскресенье обед состоял из трех блюд: добавлялось сладкое. Обед кончался в три с половиной часа дня. В пять часов вечера подавался чай, но без булки. Желающие могли кушать с чаем черный хлеб. Последний подавался без ограничения. Промежуток времени от трех с половиной до пяти часов вечера был предназначен для игр и свободных прогулок в окрестностях училища. В город отпускались по разрешительным запискам. В пять с половиной часов вечера начиналась самостоятельная работа над учебным материалом. Она продолжалась до восьми часов вечера. В восемь часов накрывался ужин. На ужин собирались также по звонку. Ужин состоял из тех же блюд, что и обед. Ужин кончался в восемь с половиной часов. От восьми с половиной до девяти с половиной часов происходили свободные занятия и игры. В это время разрешалось играть на музыкальных инструментах всех видов. В девять с половиной часов вечера раздавался звонок, извещавший, что рабочий день завершен, и нужно идти спать. В десять часов прекращались всякие разговоры и начинался сон. На сон отводилось, таким образом, восемь с половиной часов. Выполнение всех указанных правил обеспечивалось постоянным присутствием особых надзирателей. В первый и второй год нашего обучения в училище, пока нас было немного, обязанности надзирателей выполняли наши преподаватели в порядке совместительства. Штатные надзиратели появились уже потом, когда нас стало больше. Напомню, что первый прием учеников был в 1898 году, и наш класс был всегда старшим. Жизнь в пансионе шла строго по заведенному порядку. Наши развлечения были скромны и разнообразны. Физических упражнений зимою и осенью у нас не было. Весною и летом они были обильны, но выражались в форме работ в поле, в огороде, в саду, в питомнике. Каждую субботу у нас была баня. Баню все очень любили, и субботний день у нас был настоящим отдыхом. Действительно, баня у нас была великолепная, просторная, чистая, светлая. Мы проводили в ней, в ее отделениях, порядочное время.
Время от времени у нас в пансионе устраивались вечера самодеятельности. На них приглашались гости из города. Но какие гости? В Богородицке не было средних женских учебных заведений, а из мужских было только городское училище и наше сельскохозяйственное. Наши сверстники и сверстницы из города учились в Туле, в гимназиях, реальных училищах, семинарии, в епархиальном училище. Они приезжали в Богородицк лишь на каникулы, а в это время ученики сельскохозяйственного училища сами в большинстве случаев разъезжались. В учебное же время в Богородицке не было ни наших сверстниц, ни наших сверстников. Поэтому на наши вечера приходили гости, не соответствующие нашему возрасту. В большей части гостями были родственники и родственницы тех наших учеников, которые происходили из Богородицка. Какими же скучными были эти вечера! Иногда на них танцевали. Но танцующие пары были очень комичны и вызывали много смеха. В самом городе не было любительских спектаклей, иногда лишь заезжали сюда труппы вроде капеллы Славянского, имевшей у нас большой успех. Нам всегда не доставало музыки, ее не было ни в Богородицке, ни у нас. Среди преподавательских семей музыкальностью отличалась лишь семья Д. Д. Иванова. Его жена, урожденная Геммерлинг, прекрасно играла на фортепьяно. Сами ученики тянулись к музыке и старались играть на тех инструментах, которые давались нам со стороны дирекции училища. Это были преимущественно балалайки и флейты. Была у нас и фисгармония, но на ней выучились играть не более двух — трех человек. Пение же процветало, и у нас был учитель пения.
Оглядываясь на прошлую пансионную жизнь, я прихожу к выводу, что хотя она протекала в здоровых бытовых условиях, но была чрезвычайно однообразна и бедна внешними впечатлениями. Основная причина этого лежала в том, что училище находилось близ захолустного городка, который со своей стороны не мог доставить нам, ученикам, никаких культурных развлечений. Это был, конечно, большой недостаток: мы все чувствовали его, но не могли от него избавиться в стенах пансиона. Некоторые из нас пробовали в последних классах выйти из пансиона и поселиться на частной квартире в городе. Я, как стипендиат, не мог этого сделать и остался в пансионе до конца. Бывая у товарищей, вышедший из пансиона на частную квартиру, я наблюдал, что они, правда, жили свободнее, чем в пансионе, но эта большая свобода не компенсировала у них бытовые неудобства жизни на частной квартире. Внешние же впечатления у них были также бледны, как и у нас, так как город был все тот же, как для них, так и для нас.
В этой однообразной обстановке могли бы вырасти у нас пороки, столь обычные для пансионеров, если бы не спасло, то обстоятельство, что у нас не было старших товарищей, что мы сами (наш класс, наше поколение) всегда были старшими. Порочной заразы у нас в самом училище не было, ее могли занести лишь со стороны. Поэтому наша однообразная, бедная внешними впечатлениями жизнь в пансионе имела вредными последствиями лишь то, что не сообщила нам светскости, вырастила нас дичками, но дичками здоровыми, без внутренней гнили. Светскость, общительность, легкость во взаимоотношениях с людьми нам пришлось приобретать уже потом, когда мы вышли из пансиона и окончили училище. Замечу, что приобретались эти качества с большим трудом и часто сопровождались тяжело переживаемыми неловкостями. Легче было бы приобретать эти качества в отроческом и юношеском возрасте, но, к сожалению, этого нельзя было сделать в тех условиях, в которых мы жили.
Путешествие в Ясную Поляну
Осенью 1901 года, зайдя однажды на квартиру к И. И. Баранову (преподавателю Богородицкого сельскохозяйственного училища), я познакомился у него с человеком, который произвел на меня глубокое впечатление. Это был пожилой, но еще не старый человек, с правильным красивым лицом, с умными выразительными глазами и простой, полного внутреннего убеждения речью. Одет он был скромно. Его звали Михаил Васильевич Булыгин. И. И. Баранов, оказывается, уже давно знал Михаила Васильевича. По его словам, м. В. Булыгин, гвардейский офицер в прошлом, является пламенным последователем Л. Н. Толстого, построившим свою жизнь в соответствии с его учением. Он заинтересовал меня. Михаил Васильевич часто бывал в Богородицке, так как его семья зимой жила в этом городе. Старший его сын готовился для поступления в наше училище, а его пасынок уже учился в нем. Вскоре я познакомился и с его семейством. Жена Михаила Васильевича Анна Максимовна, женщина редкой красоты и большой духовной силы, напоминала мне Анну Каренину. Сам Михаил Васильевич напоминал Алексея Вронского.
Булыгины пригласили меня к себе в Хатунку (так назывался его хутор, находившийся в десяти километров от Ясной Поляны), и я решил при первой возможности отправиться к ним. Так как мои товарищи Инюшин и Парунин также были знакомы с Булыгинами, и их они тоже приглашали к себе, то мы решили направиться в Хатунку целой компанией пешком.
В конце августа 1902 года у нас были, после окончания молотьбы и перед началом занятий, десятидневные каникулы. Погода была теплая, солнечная, и мы пустились в путь, намереваясь от Булыгиных дойти до Ясной Поляны и иметь беседу с Л. Н. Толстым по вопросам о смысле жизни. У Парунина был брат, только что поступивший в наше училище. Он присоединился к нам, и наша компания увеличилась до четырех человек. Вышли около десяти часов утра и к вечеру дошли до небольшой деревушки, где жил крестьянин, знакомый или родственник Инюшина. Сам Инюшин тоже происходил из крестьян Богородицкого уезда. Эта деревушка стояла на половине нашего пути, километров в сорока от Богородицка. Мы переночевали у крестьянина в сарае, на свежей соломе. Утром встали на заре, помогли хозяину смолотить и провеять скирду овса, позавтракали (хозяйка угостила нас великолепными блинами из свежей пшенной муки) и часов в десять утра отправились в дальнейший путь. В семь вечера того же дня мы подошли к Хатунке. Недалеко от усадьбы Булыгина нам встретились великолепно содержимые поля семенного клевера. «Очевидно, это клевер Михаила Васильевича» — сказали мы себе.
Нас встретили радушно. Михаил Васильевич, как толстовец, отдал свои земли крестьянам, оставив себе усадьбу и около нее тридцать гектар земли. Деревня Хатунка, которой он отдал свою землю, была тут же около усадьбы. Усадьба была небольшая. Стоял небольшой каменный дом, и около него необходимые службы. Около дома был расположен старый сад. Жили Булыгины скромно, почти бедно. Поужинав, мы направились спать, по указанию хозяев, на сеновал. Никто из нас не курил, и потому нас можно было спокойно разместить на сене.
Мы сказали Михаилу Васильевичу, что на другой день хотели бы сходить к Льву Николаевичу. Он обещал сообщить об этом в Ясную Поляну, чтобы получить тот или иной ответ от Л. Н. Толстого. Мы уже засыпали после утомительной дороги, как вдруг услышали внизу, на дворе сильный шум. Мы проснулись. Шум был тревожный. Мы спустились с сеновала во двор. Там были старшие дети Булыгиных. Оказалось, что крестьяне выпустили своих лошадей на булыгинский семенной клевер и травят его. Мы вспомнили, что видели этот клевер, когда подходили к усадьбе. Вместе с детьми Булыгиных мы быстро сгрудили крестьянских лошадей и загнали их на булыгинский двор. Сообщили об этом Михаилу Васильевичу. Он вышел, выслушал, в чем дело, и сказал детям, чтобы они выпустили лошадей в деревню. Пасынок Булыгина, возмущенный умышленным озорством крестьян, потравивших клевер, доказывал отчиму, что крестьянам не нужно потакать, что лошадей нужно задержать, а за потравленный клевер взять штраф. Но М. В. Булыгин настоял на своем распоряжении, и лошадей выпустили. Мы были возмущены происшедшим. Нам была непонятна пассивная позиция, занятая М. В. Булыгиным. Пасынок, недовольный решением своего отчима, ушел с ворчанием.
«Неужели это действие толстовского учения о непротивлении злу насилием?» — сказали мы себе. Мы плохо спали в эту ночь и встали утром расстроенные. Михаил Васильевич сообщил нам ответ, полученный из Ясной Поляны. Рано утром туда был послан верховой с письмом от М. В. Булыгина. В ответ сообщили, что Лев Николаевич может принять нас, но его затрудняет вопрос: что же он может сказать нам нового? Он уже все сказал в печати. Таков был ответ. Мы не сочли нужным тревожить Л. Н. Толстого и просили передать ему наше извинение за беспокойство. После происшествия, случившегося накануне и произведшего на нас глубокое впечатление, нам трудно было идти к Льву Николаевичу: душа у нас была в большом смятении. Мы отправились в Богородицк обратно, также пешком, но другой дорогой.
Через двадцать пять лет, летом 1927 года, мне снова пришлось быть в этих местах. Я приехал в Крюковское лесничество (в Тульских засеках), находившееся в пятнадцати километрах от Ясной Поляны. В одно из воскресений мы большой компанией направились в Ясную Поляну, чтобы побывать в Толстовском музее. Кроме меня и лесничего Н. Н. Чистякова с женой с нами были студенты — практиканты из Воронежского сельскохозяйственного института.
Дорога шла опушкой засек, но километров через пять мы свернули к маленькой деревушке. Около деревушки находилась разоренная усадьба с порубленным и вытоптанным фруктовым садом. Среди сада была видна маленькая избушка. Что-то в этой картине показалось мне знакомым. Я спросил Н. Н. Чистякова, как называется деревушка?
— Это Хатунка! — ответил он.
Я коротенько рассказал ему о посещении усадьбы Булыгина в 1902 году.
— Вот, это остатки усадьбы, — продолжал он, — сам он и его жена, кажется, умерли, а сын остался здесь. Он живет вон в той хибарке. Кажется он приписался к крестьянскому обществу (общине).
— Как все изменилось здесь! — заметил я.
— Хотите побывать сейчас у Ивана Михайловича Булыгина, вероятно, он дома, сегодня воскресенье! — предложил мне Н. Н. Чистяков.
Я минуту раздумывал: Ваню Булыгина я знал еще маленьким мальчиком лет шести. После некоторого размышления я отклонил предложение Чистякова, и мы поехали в Ясную Поляну. Недалеко от нее проехали через усадьбу Телятинки, где жил друг и единомышленник Л. Н. Толстого В. Чертков. Дом с мезонином еще стоял, но на всем была печать крайнего запустения. Вот и Ясная. С горы виден дом Л. Н. Толстого и обширный парк. Оставив лошадей у знакомого Н. Н. Чистякову крестьянина деревни Ясной, мы пешком направились к усадьбе.
Все было так, как и при жизни Л. Н. Толстого, только без него самого. Его могила находилась поблизости в дубовом, еще нестаром лесу. Я тщательно осмотрел и дом, и парк, и сад. Все было знакомо по многочисленным описаниям, как будто бы я уже был здесь когда-то. И я до мелочей вспомнил незавершенное до конца мое путешествие в эти края в 1902 году.
Мог ли Лев Николаевич, подумал я, звать к крестьянскому опрощению людей, видя перед собой эту нищету и некультурность. Ведь он знал, к какому опрощению жизни он ведет! Я вспомнил семью Булыгиных, опростившегося Ивана Михайловича Булыгина, и мне стало грустно и жутко. В те далекие времена и мне, юноше, стоявшему на пороге жизни, идеи толстовского опрощения были не чужды, и я лишь с большим трудом отошел от них.
Революционные веяния
Первые веяния надвигавшихся бурных событий, приведших в конце концов к революции 1905 года, мы ощутили в начале 1901 года. До этого времени мы жили спокойно. Мы изучали историю, имели представление об общественных и политических сдвигах в Древней Греции, Древнем Риме, о революции в Англии ХVII века и о революции во Франции конца ХVIII века. Но эти знания имели для нас интерес настолько далекий, что нам и в голову не приходило прилагать эти знания к нашей действительности, которую мы, впрочем, видели из очень маленького богородицкого окошечка и имели о ней самое искаженное представление. И вдруг, гром и молния среди ясного неба! Появились слухи о студенческих волнениях 8 февраля 1901 года. Министр народного просвещения Боголепов был убит студентом. Убили царского министра! Наше спокойствие исчезло. Мы заволновались, спрашивали друг друга, задавали вопросы преподавателям, но разъяснения, нас удовлетворившие, получили лишь от пришедшего к нам в 1901 году нового преподавателя И. И. Баранова, бывшего студента Петербургского лесного института. По-видимому, он был исключен из института за участие в студенческих волнениях. Как революционно настроенный студент, да еще из Петербурга, он был в курсе дела. Именно с этого времени мы начали выписывать вскладчину газету и регулярно ее читать. Вначале мы выписывали «Россию», а впоследствии начали читать журнал «Жизнь», вскоре закрытый, кроме того, принялись за изучение общественно-политических наук (политической экономии, социологии, истории политических движений). Летом 1901 года я ездил в Мензелинск для свидания с родными. Приехав в Мензелинск, я заметил там большие перемены в обществе. Город сделался местом ссылки для революционно настроенных рабочих, студентов, служащих. Здесь в первый раз я встретил рабочих революционеров, сосланных из крупных индустриальных центров (из Нижнего Новгорода, Москвы). Меня удивила их широкая развитость и начитанность. В то же время они были деловиты, добывая себе средства для жизни разнообразным трудом. От них я получил первые книги о рабочем движении на западе Европы и у нас в России. Из моих новых знакомых мне нравился Павел Васильевич Беляевский, типографский рабочий из Нижнего Новгорода. Молодежь собиралась на хуторе Д. Н. Тяжельникова, расположенном в трех километрах от города. Сын Д. Н. Тяжельникова Борис был моим товарищем по городскому училищу. В описываемое время он учился в техническом училище в городе Кунгуре Пермской губернии. Несколько позже, как оказалось, он вступил в партию эсеров, участвовал в каком-то террористическом действии и погиб. Дочь Д. Н. Тяжельникова, Зоя была на один год старше меня. Она кончила гимназию в Уфе и в описываемое время учительствовала в одной из земских школ Мензелинского уезда. В 1901 году она была веселой девушкой, привлекавшей к себе молодежь. Гостеприимная хозяйка, приветливая и жизнерадостная — она была центром, около которого группировалось революционно настроенное общество. На хуторе собирались по крайней мере один раз в неделю, обычно с субботы на воскресенье. Время проходило в беседах, спорах, пении революционных песен. Еда и питье в таких сборищах играли малую роль. Кусок черного хлеба и стакан чая удовлетворял каждого. Сама хозяйка Зоя, ее брат Борис симпатизировали больше народникам, гости же были большей частью с марксисткими симпатиями. Спорам о народниках и марксистах не было конца.
Когда осенью 1901 года после каникул мы собрались в училище, то оказалось, что многие, как и я, приехали с беспокойными мыслями относительно ближайшего будущего России. В начале 1902 года в газете «Россия», которую мы выписывали, появился фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы», направленный против династии Романовых. Для нас, юношей, этот фельетон был как разорвавшаяся бомба. Мы были еще более взбудоражены, когда оказалось, что газету «Россия» закрыли за Амфитеатровский фельетон, а самого фельетониста выслали в Сибирь. В эту зиму у нас стали появляться нелегальные листовки, брошюры, газеты на папиросной бумаге (из-за границы). Ученический коллектив стал распадаться на две группы. Одна тянулась к революционной литературе и самообразованию, другая — заняла позицию противодействия первой. В первой группе в нашем классе своей активностью и склонностью к революционному героизму и, пожалуй, мученичеству были В. Ф. Инюшин и В. Е. Парунин. В 1903 году они, по-видимому, сделались членами организации эсеров. Вследствие своей неосторожности, всем бросавшейся в глаза, они очень скоро, в конце 1903 года, были арестованы и заключены в Тульскую тюрьму. Там они просидели не менее года и затем были высланы в северные губернии.
Во второй группе активным охранителем существовавшего порядка был Н. Н. Узбеков, дворянин, племянник крупного помещика Тамбовской губернии. Вследствие этих явлений, наш класс в 1903 и 1904 годах, до момента нашего окончания (в июле 1904 года) гудел, как улей. Наши наставники, начиная с директора М. П. Зубрилова и кончая учителями, были озабочены настроениями нашего класса, особенно после ареста Инюшина и Парунина. Они боялись катастрофы. Но мы благополучно кончили курс наук летом 1904 года и оставили училище. Классы, шедшие за нами, были более спокойны и не внушали для дирекции серьезных опасений. Впрочем, осенью 1905 года и они оказались неспокойными. Характерно, что народнические тенденции в училище были выражены более сильно, нежели марксистские. Меня лично народничество не привлекало. Я знал деревенскую жизнь, и идеализация народа была мне чужда. Марксизм привлекал меня стройностью и научностью своего воззрения. Но передо мной стоял тогда недоуменный вопрос: где же тот рабочий класс, который осуществит это учение? Индустриальных рабочих в Богородицке не было, они были в Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Туле. Нет ли здесь иллюзий, как и у народников, думал я. Эти сомнения были у меня очень сильны в 1903 и 1904 годах. Позднее они рассеялись, но это было уже в Петербурге, в 1904 году.
Весною 1904 года я окончил с отличием Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище и поступил по конкурсу аттестатов в Петербургский лесной институт.

Послесловие
С той поры минуло много десятков лет. В 1968 году Богородицкое среднее сельскохозяственное училище, преобразованное в советское время в Богородицкий сельскохозяйственный техникум, отмечал 70-летний юбилей. В подготовке к юбилею я принял посильное участие. В связи с этим я получил от дирекции задушевное послание, на которое ответил сердечным письмом. Привожу послание дирекции и мой ответ.
Уважаемый тов. Тюрин А. В.
Дирекция, партийная, комсомольская и профсоюзная организации Богородицкого сельскохозяйственного техникума поздравляют Вас с 70-летием родного учебного заведения, в котором Вы провели лучшие годы своей юности, выражают Вам искреннюю благодарность и признательность за активное деятельное участие в подготовке техникума к празднованию этого славного юбилея, желает Вам доброго здоровья, благополучия и успехов в Ваших делах.
Директор Богородицкого сельскохозяйственного техникума (Зеленцов)
Секретарь партийного бюро (Ушков)
Секретарь комитета ВЛКСМ (Туманова)
Председатель месткома (Савельев)
г. Богородицк, 1968 г.
Директору Богородицкого сельскохозяйственного техникума
тов. Зеленцову Л. В.
Секретарю партийного бюро тов. Ушакову
Секретарю Комитета ВЛКСМ тов. Тумановой
Председателю месткома тов. Савельеву
Уважаемые товарищи!
Благодарю Вас за ваше задушевное послание с приложением очерка (проспекта) «Богородицкий сельскохозяйственный техникум», 1968 г., и альбома фотоснимков, характеризующий техникум и город Богородицк.
Мысленно, с душевным волнением, побывал я в тех местах, где жил и учился с 1898 по 1904 год.
Вижу, каким огромным и благоустроенным учебным заведением стал ныне Богородицкий сельскохозяйственный техникум.
Горжусь им и желаю ему дальнейшего расцвета.
Мой глубокий привет всему коллективу техникума!
15.07.68 г., А. Тюрин
Город Пушкино Московской области, Оранжерейная 15, кв. 8.
Наш совместный жизненный путь
Наши встречи
В книге говорится о том, как дедушка и бабушка встретились друг с другом и повенчались в сельской церкви в глуши Брянских лесов, как долго жили в них, как переехали в Воронеж, как пережили Великую Отечественную войну и как под старость поселились в Подмосковье, в Пушкино.
Дедушка и бабушка, 1971 год.
Мы повенчались с бабушкой 22 января 1913 года. Произошло это венчание в сельской церкви села Полпино, близ города Брянска, недалеко от Брянского опытного лесничества, куда я приехал, как лесничий, в конце декабря 1912 года. Бабушка, как невеста, приехала из Уфы в Брянское опытное лесничество вместе со своей матерью Верой Алексеевной Воскресенской 21 января 1913 года, накануне нашего венчания.
Прошло с тех пор более 50 лет нашей жизни. Естественно, что перед датой золотой свадьбы, мы были полны трогательных воспоминаний. Нам легко было это сделать, так как еще в 1941—1946 годах мы записали нашу жизнь под заглавием «Путешествие в собственное прошлое». Получилась большая повесть, перепечатанная потом Екатериной Петровной на машинке.
Историю нашего знакомства коротенько воспроизвожу здесь, пользуясь записями бабушки. С моей стороны будут сообщены лишь некоторые разъяснения.
Мы познакомились в 1906 году. В 1906 году я был студентом Петербургского лесного института. Мне было двадцать три с небольшим года. В годы первой революции наш институт, как и остальные вузы страны, был закрыт с 22 января 1905 года до сентября 1906 года. В конце 1905 года я все же приезжал в Петербург, полагая, что занятия вот-вот начнутся, и пробыл там до весны 1906 года. Затем в конце апреля 1906 года я уехал на лето к сестре и зятю Астаповым, жившим в селе Булгаково близ Уфы.
Проездом через Уфу я познакомился с семейством Воскресенских. Вера Алексеевна (мать Екатерины Петровны) была учительницей в начальной школе. У нее было три дочери: Елизавета Петровна (старшая) — учительница в той же школе; Марья Петровна (средняя) — учительница в школе села Булгаково, и Екатерина — ученица средней школы (ей было тогда пятнадцать лет).
Вспоминаю курьезный случай. Во время прогулки вместе с сестрами Воскресенскими по окрестностям Уфы, мне и девушкам потребовалось перепрыгнуть через канавку. Я любезно подал руку, и все девушки, кроме одной благополучно ее перепрыгнули. С Екатериной Петровной случился конфуз, она, подавая руку, неумышленно оторвала рукав моей рубашки. Возможно, это был знак судьбы.
Дальше даю место воспоминаниям Екатерины Петровны.
1906 год
«Мать моя была выдающимся педагогом и сердечным отзывчивым человеком. Общественность города Уфы ценила ее за безупречную работу, а ученики любили ее за доброе сердце. Уже в советское время, в 1921 году она получила звание «Герой труда».
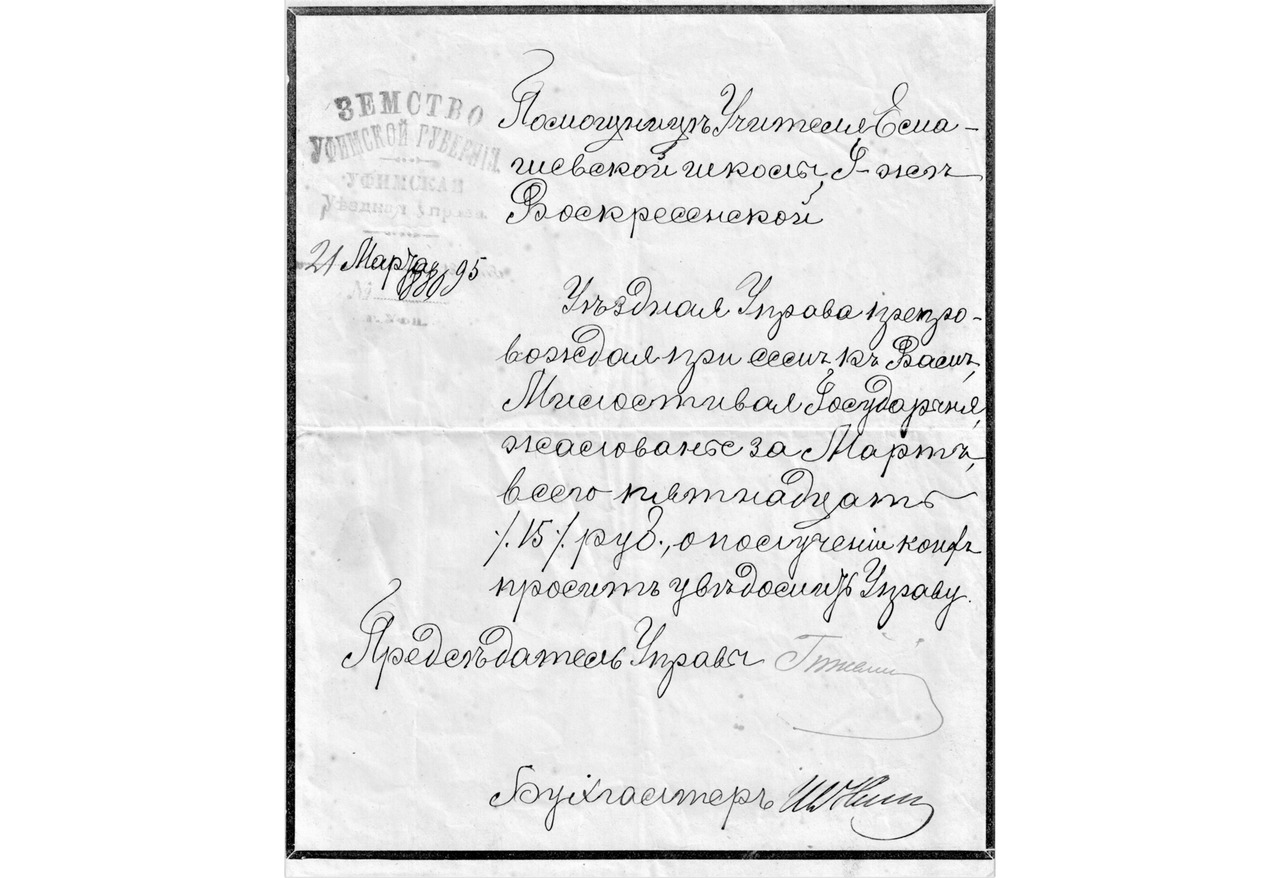
В семье нас было три сестры. Старшая Елизавета была застенчива, кротка, добра до самопожертвования. Вторая сестра Мария была с неровным характером. Энергичная, веселая, остроумная, временами изумительно интересная. Около нее был постоянно круг молодежи. Она была очень добра и жалостлива. В порыве жалости могла отдать положительно все, что имела. В запальчивости же, к чему была склонна, она могла обидеть человека, поступить даже несправедливо, а потом, остынув, не знала, чем искупить свою вину. Я была более сдержанной, очень замкнутой, слегка настороженной к людям и самолюбивой. Свою мать я любила какой-то ревнивой болезненной любовью. С ранних лет я наблюдала за ней (мы росли без отца: отец умер, когда мне было два года), чувствовала всем своим существом, как тяжело доставалась ей жизнь, и с каким мужеством и достоинством она несла тяжесть жизни.




Моя сестра Мария познакомилась с Александром Владимировичем весною 1906 года. С первого же раза он произвел на нее сильное впечатление. При последующих встречах и беседах это впечатление усилилось и вскоре перешло в сильное чувство. Ее письма из Булгаково, где она в то время (1906) учительствовала, были наполнены восхищением. Стало ясно, что на сей раз она увлеклась серьезно. У нас в семье сложилось впечатление, что она пользуется взаимностью. Как оказалось потом, это мнение было ошибочным. Мария Петровна в описываемое время считалась невестой одного учителя, А. В. Титова. Вера Алексеевна Воскресенская, боясь проявления ревнивых чувств со стороны жениха, А. В. Титова, сама предупредила Александра Владимировича об этой помолвке. Из уважения к Вере Алексеевне Александр Владимирович ответил ей, что он не ищет чужих невест.

Я познакомилась с Александром Владимировичем позже сестры Марии.
1905 год со своими революционными событиями застал меня в стенах закрытого учебного заведения. Несмотря на полную изолированность от жизни, к нам все-таки проникли новые веяния. Меня они застали врасплох, но заставили, несмотря на очень молодой возраст (мне было пятнадцать лет), глубоко задуматься над происходившими событиями.
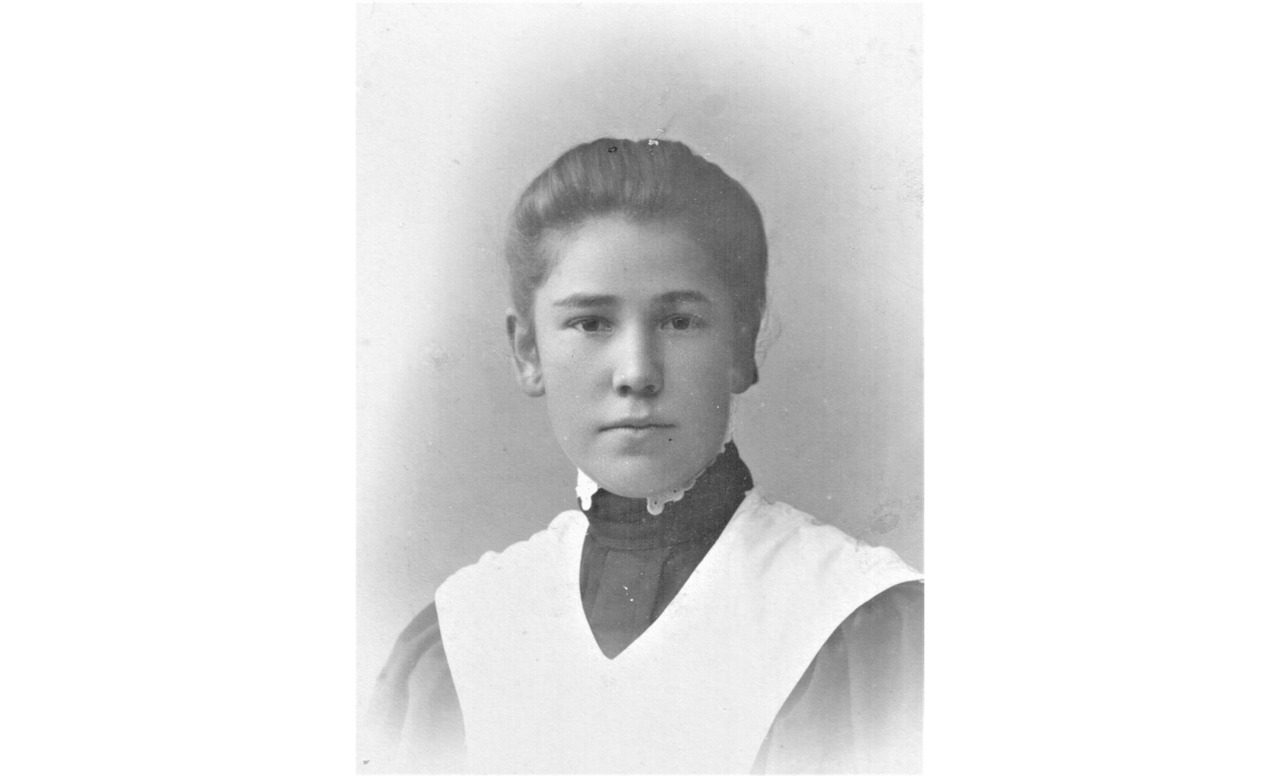
В это переломное для меня время я познакомилась с Александром Владимировичем. Он произвел на меня большое впечатление, как человек с сильным характером, хорошо образованный и, главное знающий твердо и уверенно свое место в жизни. Он резко отличался от прежних моих знакомых молодых людей. Я наблюдала за ним со стороны и часто приходила к мысли: «Вот человек, который сможет дать ответ на многие вопросы жизни». Стороной я слышала, что он принимал участие в революционной борьбе.
Когда выяснилось, что моя сестра Мария серьезно увлеклась Александром Владимировичем, я смотрела на него, скорее как на своего будущего родственника. Тем не менее, я его стеснялась, старалась быть незамеченной им, пристально наблюдала за ним со стороны и посильно изучала его.

При случайных встречах, замечая иногда пристальный взгляд на себе Александра Владимировича, я сильно смущалась и еще больше старалась замкнуться в себе и отойти в сторону.
Благополучно сдав экзамены, я перешла осенью 1906 года в Уфимскую гимназию в седьмой класс и с азартом принялась за изучение всех предметов, посещая также нелегальные кружки самообразования. В кружках я встречала многих сверстников из мужской молодежи и невольно проводила параллель между ними и Александром Владимировичем, и каждый раз убеждалась в его превосходстве».
1908 год
Прошло два года после описанных встреч. За эти два года я не был ни в Мензелинске, где жила моя мать, ни в Булгакове, где жила моя сестра и зять Астаповы. Я перешел на последний курс лесного института. Передо мною виднелась пора моей самостоятельной службы, как лесничего. Мне было двадцать пять лет, и я не был женат и еще не думал о женитьбе. К тому же у меня не было невесты. Некогда было ее искать. Но по временам я вспоминал с нежным чувством подростка Екатерину Воскресенскую: «Какова-то она теперь?»
В июле 1908 года я поехал в Булгаково на отдых. В Уфе я неожиданно встретился с Екатериной и был поражен, как из подростка за два года выросла прелестная девушка. Я был восхищен ею и сразу сказал себе: «Вот моя невеста».


Даю дальше место воспоминаниям Екатерины Петровны.
«Прошло два года. Весной 1908 года я успешно окончила гимназию с золотой медалью. Передо мной открывались дальнейшие возможности осуществления поставленной цели — получения высшего образования. Я была в приподнятом настроении и была уверена в дальнейших своих успехах. Будущее рисовалось для меня в самых радужных красках. На лето я осталась в Уфе, чтобы заменить в семье врача С. П. Знаменского, уехавшую в отпуск, домашнюю учительницу М. В. Спасскую. Иногда, в качестве отдыха, я заходила навестить бабушку и дядю с тетей (Стешиных). Однажды (это было в конце июля 1908 года) я встретилась у них с Александром Владимировичем, заехавшим к Стешиным по пути в Булгаково, куда он ехал на отдых к своей сестре. Мы не виделись с ним два года. На этот раз при встрече с ним я не испытывала прежней детской робости. Я встретилась, как равная, с равным.
Весь вечер того дня мы оживленно беседовали. Александр Владимирович был очень внимателен и предупредителен ко мне. Весь вечер я присматривалась к Александру Владимировичу, замечая в нем некоторые перемены. Он отличался от Александра Владимировича, которого я знала в 1906 году. Теперь он был менее хмур, менее резок в суждениях. У него не было порывистых движений, он чувствовал себя уверенней и спокойней. Взгляд был, как и прежде, открытый, светлый, но более добрый. На лице часто появлялась задорная улыбка, очень красившая его. Эта встреча с Александром Владимировичем, разносторонняя по содержанию беседа, как бы сблизила нас, и мы сильнее, чем прежде, заинтересовались друг другом.
В начале августа я, мама, сестра Лиза отправились на несколько дней в Булгаково в гости к Астаповым. Там случайно я осталась дольше, чем предполагала. Мама и сестра Лиза уехали на несколько дней раньше меня. Однажды во время прогулки с Александром Владимировичем он признался мне, что любит меня. Это признание в первый момент настолько сразило меня своей неожиданностью, что у меня невольно вырвалось восклицание: «Как, но ведь Вас любит моя сестра Маня!» Я невольно выдала тайну сестры, чего она не могла впоследствии мне простить. Затем, когда мой испуг прошел, чувство светлой радости наполнило мою душу. Эта радость не покидала меня все время, пока я была в Булгакове. Для меня в те дни все было ясно и светло. Но когда я вернулась домой, тут только осознала всю сложность создавшегося положения. Страх и ужас сжали мое сердце, наполнив его щемящей тоской, не покидавшей меня потом в течении нескольких лет.
Возвратившись из Булгаково домой, я узнала, что получено извещение с Петербургских Бестужевских курсов о моем зачислении в число студенток. Сборы были коротки.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.