
Бесплатный фрагмент - Воображаемое сообщество
Очерки истории экранного образа российской интеллигенции
Государственный институт искусствознания
Пролог
Бывают такие явления культуры, к описанию которых очень трудно подступиться. Не столько потому, что они очень сложные, сколько потому, что они изменчивые. Нам представляется, что «интеллигенция» — из таких. Вроде бы все понимают, о ком речь. Но все существующие определения не удовлетворяют, кажутся устаревшими, а новые получаются такими запутанными, что ничего толком не объясняют. Вот и живет слово в языке своей жизнью, используют его кому как вздумается. И люди живут, которых этим словом называют. Хоть слово и «хоронят» уже давно. А оно возвращается, потому что лучше пока не придумали, а традиция жива и передается из поколения в поколение. А еще потому, что задачи не выполнены и споры не доспорены. Можно было бы согласиться с рядом людей, утверждающих, что сегодня необходимо новое слово, чтобы обозначить это сообщество. Им представляется, что если современная культура родит это новое слово, то оно поможет людям лучше осознать себя и свои цели. Мы тоже это слово искали, пока писали книгу. Но не нашли.
Пока нового слова нет, мы обозначим своих героев «воображаемым сообществом», используя термин Бенедикта Андерсона, с помощью которого он описывал нацию как социологический феномен. Б. Андерсон понимал такое сообщество как сконструированное (воображенное) людьми, которые считают себя его частью. Нам представляется, что интеллигенция формируется и существует в истории культуры именно как воображаемое сообщество, включая в себя не только современников, но и предшественников, а также персонажей художественных произведений, чьи истории отражают важные для сообщества на том или ином этапе его существования идеалы.
В своей книге мы сосредотачиваемся не на социологических аспектах темы, а на искусствоведческом и историко-культурном. Нас интересуют знаковые персонажи (вымышленные и имеющие реальные прототипы) экранных произведений: кинофильмов, телевизионных передач, интернет-проектов — и их место в воображаемом сообществе, которое, пока не найдено новое имя, мы будем называть интеллигенцией.
Изучение воображаемого сообщества через его экранные отражения кажется нам интересным и важным. Рефлексия его репрезентации в художественных образах позволяет лучше понять сложное и многогранное явление, оценить его как явление культуры, отстраненно понаблюдать, как меняется представление о должном в зависимости от исторических условий, идеологической ситуации, режиссерских задач, форматов программ и других факторов. То, что режиссер не может или не хочет проговаривать, он сообщает зрителю через визуальные метафоры, драматургические конфликты, монтажные сопоставления и т. д. На них мы будем обращать особое внимание, стремясь не к историческому или политическому, но к эстетическому анализу воображаемого сообщества интеллигенции.
Очевидно, что рассматривать все случаи, в которых на киноэкране, на телевидении или на экране компьютера появлялся интеллигент, мы не планируем. Мы выбрали и остановимся на наиболее типичных для культуры своего времени героях и сюжетах. Часть из них — постановочные кинофильмы, часть — документальные экранные проекты разных жанров и форм. Реальные люди (в частности те, кого мы относим к интеллигенции), становясь частью медиареальности, начинают восприниматься не как конкретные личности, а как социальные маски, транслирующие зрителям типичные представления об обществе, ценностях и моделях поведения.
В нашей культуре идеи европейского Просвещения (а в нашем понимании именно они являются основой мировоззрения интеллигенции) до сих пор играют важную роль, хотя и подвергались за столетия существенным трансформациям и деформациям. Анализируя дискурс об «обществе» и «гражданском обществе» во второй половине XVIII века, В. Каплун приходит к выводу, что «в культуре российского Просвещения не существует „общества“ в специфическом смысле „общественности“, который (смысл) появляется в русской культуре со второй половины XIXвека, — не существует ни в умах, ни в социальной реальности. Генеалогическим предком „общественности“ может, по-видимому, считаться, скорее, появляющаяся в рассматриваемую эпоху фигура „публики“». Особенно важно для наших размышлений предположение В. Каплуна, что «публика» и «общественность» продолжают существовать в российской культуре параллельно, оказывая на нее на разных исторических этапах большее или меньшее влияние. При этом под «публикой» в этом контексте понимается не публика театральная, а «совокупность образованных граждан, связанных в единое сообщество посредством распространения „письмен“ через циркуляцию печатного слова». В примечании к этому определению исследователь прослеживает влияние на функционирование в обществе этого слоя французской традиции, когда в середине XVIII «литераторы» (hommes de lettres) стали во Франции влиятельными политиками. В современной культуре речь идет, скорее, о публичных интеллектуалах — философах, историках, писателях, поэтах, журналистах и т. д. — влияющих на общество через печатное слово.
Продолжая эту логику размышлений, скажем, что на этапе, когда визуальная культура на новом цифровом витке снова начала вытеснять письменную, ряды публичных интеллектуалов пополнили художники, фотографы, кино- и театральные режиссеры, а сегодня еще и дизайнеры и продюсеры мультимедийных проектов. Их влияние на современное общество с помощью разного рода изображений и приложений сопоставимо с тем, которое в свое время оказывало печатное слово. Люди, несущие в мир слово печатное и устное, визуальный образ или синкретичное художественное высказывание, сегодня продолжают составлять «публику» в прежнем понимании и формировать «публику» в нынешнем понимании (как зрителей, не сливающихся в толпу массовой аудитории, готовых к интерактивному взаимодействию с публичным интеллектуалом).
Новое время требует новых форм не только от дизайнеров, но и от исследователей. Мы попробуем соответствовать ожиданиям и стилизуем эту книгу под научно-развлекательный (сайнстейнмент) сериал, выделяя из академического текста героев (членов воображаемого сообщества) и их истории и давая в конце каждой «серии» набор коротких, но важных тезисов, как это делают авторы бизнес-тренингов.
Только не стоит думать, что такой формат — это только игра или уступка нежелающим читать длинные тексты студентам. Это сохранение одной из самых важных для нас миссий интеллигенции — «создания нового и осознания старого как нового» (Д. С. Лихачев), поиск форм изложения истории, позволяющих сохранять и адаптировать культурные ценности интеллигенции к изменяющимся языкам коммуникации.
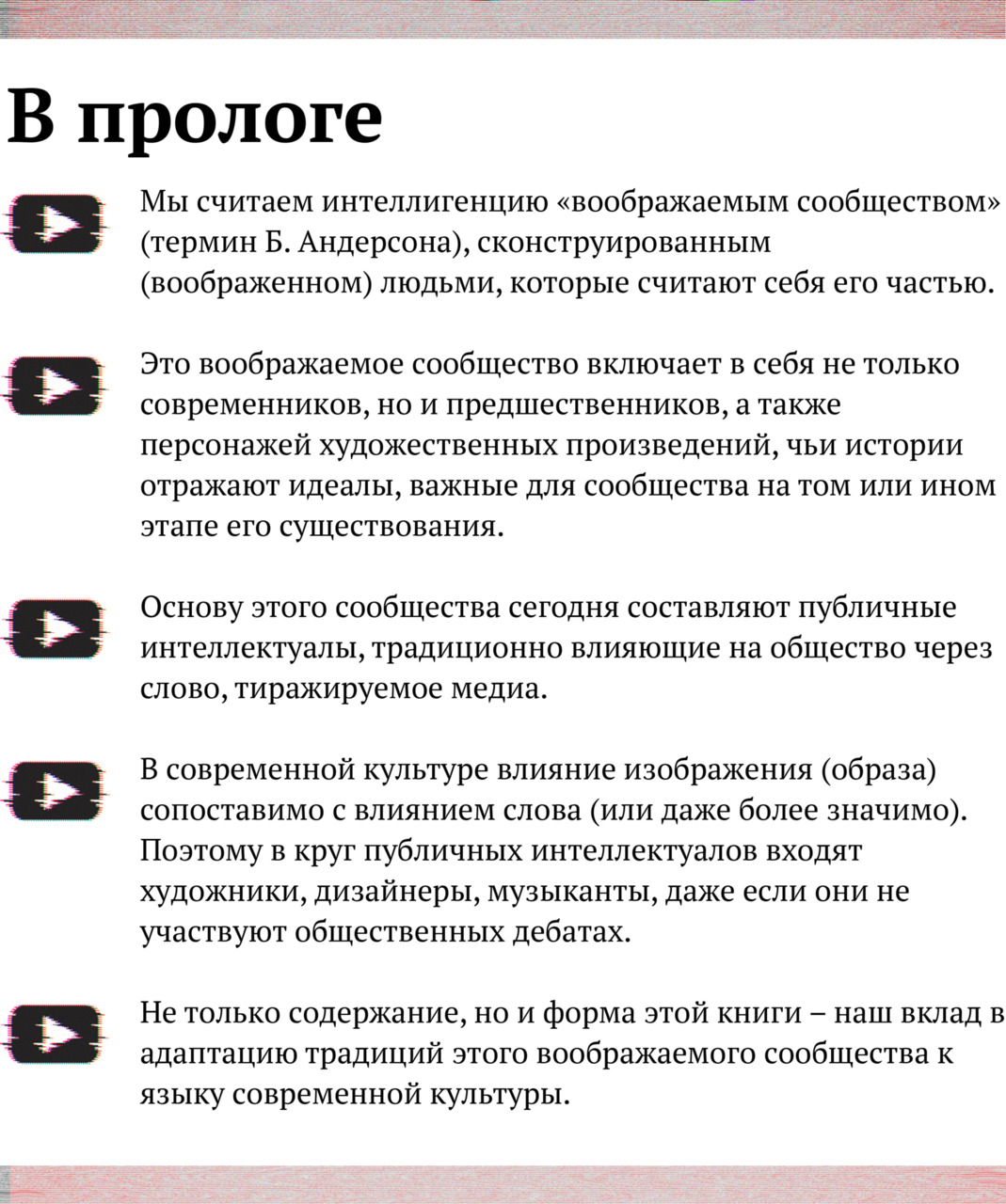
Серия 1. От «Арзамаса» до Arzamas’a
Действующие лица:
Александр Пушкин — писатель, герой мифа о Поэте, герой многочисленных кино-, телевизионно-, мультимедийных экранизаций;
Юрий Тынянов — ученый и писатель, автор книги «Архаисты и новаторы»;
Сергей Юрский — актер, много лет игравший интеллигентов в кино и в театре;
Дмитрий Лихачев — ученый и писатель, публичный интеллигент;
Ирина Никитина и Аркадий Громов — женщина-ученый и режиссер, герои фильма Григория Александрова «Весна» и мифа о советской науке;
Вильгельм Кюхельбекер — поэт, друг А. Пушкина по Лицею, герой фильма-спектакля «Кюхля» и проекта Аrzamas;
Авторы и продюсеры мультимедийного проекта Arzamas.
Путь российской культуры от «Арзамаса» до Arzamasa — это история становления в России культуры Просвещения: через литературные журналы, политические сообщества, диалоги с властью, революции, урбанизацию, индустриализацию, художественный авангард, мировые войны и космополитизм — и адаптации и трансформации этой культуры в мире современных цифровых технологий. Возможно, путь от иллюзии к иллюзии. Но на этом пути родилось и возмужало столько прекрасных людей и были созданы столь великие произведения искусства, что ради них стоило питать иллюзии.
Зарождение идей, ставших фундаментом воображаемого сообщества интеллигенции, можно связывать и с реформами Петра Великого, и с восстанием декабристов, и с более поздними событиями формирования революционного движения. Любой вариант будет правильным, в зависимости от фокуса исследования. Для нас в этой цепи событий важен момент (это и будет завязкой нашей истории) создания Императорского Царскосельского лицея, призванного воспитать новое поколение государственных мужей, а воспитавшего поколение публичных интеллектуалов, связь с которыми ощущается до сих пор. Описание череды важных событий того периода находим в книге А. Архангельского «Александр I»:
«Если кратко, то патриархальный период российского бытия завершился; вместе с его завершением менялись все привычные пропорции общества. Древняя формула — клирик молится, дворянин служит, ремесленник производит, крестьянин пашет — утратила свою незыблемость. <….> Два роя готовились оторваться от родимой матки: русские интеллигенты и русские рабочие».
Экранные произведения чаще всего персонифицируют этот исторический этап через образ Александра Пушкина, поддерживая миф о Поэте, зародившийся еще до революции, а также через образы его друзей (с акцентом на становление идей будущих декабристов) и сам момент зарождения Лицея. На формирование советского канона об этом времени оказал влияние Юрий Тынянов: как своими научными исследованиями (в частности, книгой «Архаисты и новаторы» (1929)), так и художественными произведениями — романом «Кюхля» (1925) и незавершенным «Пушкиным» (1936)). Разумеется, романы Ю. Тынянова не были написаны как конъюнктурные, а лишь использовались как флагман «советской исторической прозы».
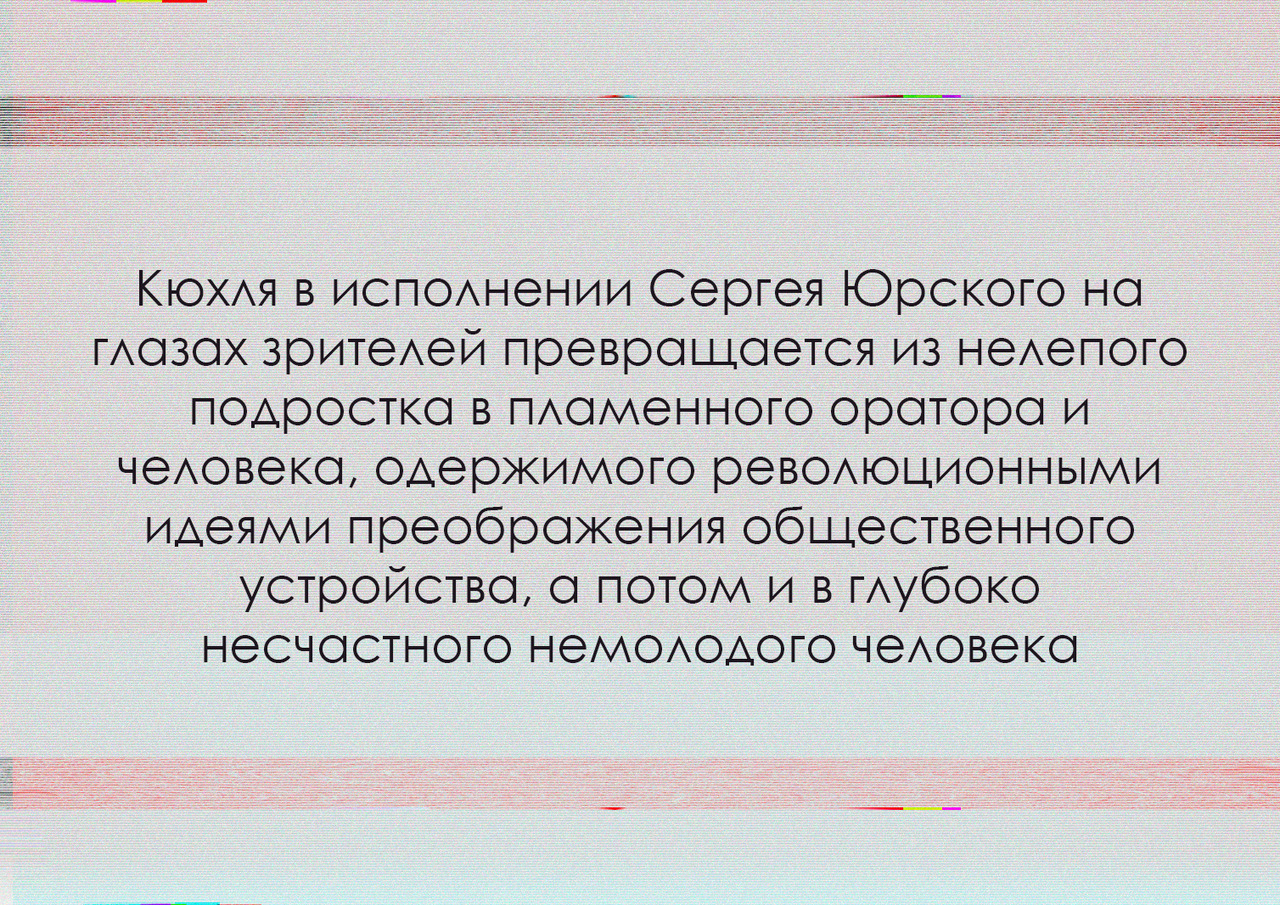
Экранизация делает еще более ощутимой многомерность прозы, поскольку вынуждает режиссера и актеров сделать свою интерпретацию событий однозначной и зримой. Телережиссер Александр Белинский и актер Сергей Юрский в фильме-спектакле «Кюхля» (1963) через традиционную для телевизионной эстетики тех лет «игру портретами» и диалоги старались показать динамику развития характеров людей, стоявших у истоков новой эпохи и вынужденных принимать решения, которые до них никто не принимал. Вопросы, которые, ставит перед своими героями Тынянов в конце 1920-х гг. оказываются созвучны как духовным поискам советской интеллигенции начала 1960-х, так и дилеммам, стоящим перед современным зрителем: можно ли сочетать служение искусству с общественным служением? как сохранить верность идеалам, не подвергая опасности верность дружбе? может ли бурная общественная жизнь компенсировать пустоту жизни частной?
Кюхля в исполнении Сергея Юрского на глазах зрителей превращается из нелепого подростка в пламенного оратора и человека, одержимого революционными идеями преображения общественного устройства, а потом и в глубоко несчастного немолодого человека. Его одержимость — стремление к свободе — проявляется в каждом движении и жесте, в каждой поэтической строфе, звучащей со сцены. В них катехизис публичного интеллектуала в его российской версии, которую мы обозначаем словом интеллигенция. И Кюхельбекер в этом фильме-спектакле ее воплощает даже ярче, чем Пушкин, потому что литература для него все-таки более средство, чем цель, а цель — общественное служение и создание нового воображаемого сообщества.
Впрочем, в экранизациях биографии А. С. Пушкина литература тоже не всегда оказывается для поэта главной целью. Иногда в глазах режиссеров она тоже отходит на второй план, уступая место иным жизненным задачам. Любопытно наблюдать динамику развития образа Пушкина от фильма 1937 года «Юность поэта» (режиссер А. Народицкий) до современных фильмов, не только биографических, но и приключенческих, снятых по мотивам исторических событий. Например, фильм «18–14» 2007 года (режиссер А. Пуустусмаа). Торжественный пафос советского кино, трактующий жизнь поэта как «житие», разительно отличается от «игры с классиком», предлагаемой авторами «18–14» (в фильме поэт и его друзья подключаются к расследованию серии загадочных убийств). Но в обоих случаях визуальный ряд фильмов позволяет зрителю воспринимать его как своего рода гимн книжной культуре. Книжные тома на полках, гусиные перья, грим и костюмы актеров, книжные обороты речи, литературные аллюзии и т. д. — все акцентирует внимание зрителя на узнаваемых со школьных лет символах и знаках, с помощью которых строится вселенная мифа.
Начальные титры фильма «18–14» тоже стилизованы под книжные шрифты, дизайнерская подложка — под рукопись Пушкина, компьютерная анимация– под иллюстрации массовых изданий ХIX века. Хотя человеческие отношения между студентами и преподавателями Лицея вполне современные и скорее вызовут ассоциации с фильмом «Гардемарины, вперед!» (1988) режиссера Светланы Дружининой или с серией романов Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине (первая публикация первого романа — 1998 г.), чем с теми историческими реалиями, которые описывает в своих произведениях Пушкин. Однако мысль о важности культурного противостояния образованного человека власти (в лице Аракчеева) в фильме звучит достаточно отчетливо, как звучит и тема открытости новому, готовности к преодолению сословной иерархии, интереса к становлению личности и жизни человеческого духа. «Культурные коды» пробивают глянец псевдоисторического детективного повествования, и если не отвечают на вопросы, то хотя бы называют проблемы, не теряющие актуальности.
Те же визуальные клише и идеи зритель может заметить в совсем другом по настроению фильме о Пушкине — биографической драме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006) режиссера Натальи Бондарчук. Умирающий в библиотеке, среди стоящих на полках и лежащих в беспорядке книг, поэт превращен в многозначную метафору, которую зритель осмысляет на протяжении всего фильма, восстанавливая цепочку событий личной и общественной жизни, приведших к гибели поэта.
Одновременная бесценность и бессмысленность книжного знания проявляется в разных поворотах сюжета. В частности, в новом взгляде Пушкина на отношения мужчины и женщины в семье, проявляющемся в доверии жене и согласии на ее самостоятельное появление в свете. Эта тема для режиссера одна из центральных. Через ее Н. Бондарчук выявляет политические и этические конфликты, визуализирует трагическое несовпадение взглядов только нарождающейся интеллигенции с обступившими ее со всех стороны людьми уходящей культуры.

Этот конфликт ярко выявлен Дмитрием Лихачевым (знаковой фигурой для советской интеллигенции 1980-ых годов), для которого интеллигент не равен интеллектуалу: «Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью», — пишет Д. С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном». — «Образованность живет старым содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как нового (курсив наш — А. Н.). Больше того… Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой „штуковины“, сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего языка — разговорного и письменного, — вот это и будет интеллигентный человек. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого».
Как ни странно, сходным образом описывает советскую интеллигенцию режиссер-мифотворец Григорий Александров в музыкальной комедии «Весна» (1947). Главные герои фильма, женщина-ученый Ирина Никитина (Л. Орлова) и режиссер Аркадий Громов (Н. Черкасов), — два лика новой советской интеллигенции. Оба увлечены своей работой, оба возвышаются над средним уровнем коллег, вызывая восхищение и робость, оба состоявшиеся личности, воспринимающие творчество как служение. Но самое главное — они открыты для понимания друг друга, то есть Другого. И мостиком для понимания оказывается любовь и… русская литература. Для развития отношений героя и героини важен эпизод на киностудии, когда Ирина оказывается зрителем на съемках фильма о писателях. Пушкин, сочиняющий стихи о любви, Тургенев, размышляющий на ту же тему… рядом с ними Маяковский, читающий стихи о любви к родине, выглядит странно неуместным и смешным. Трудно сказать, считывалась ли эта ирония в 1947 году, но сейчас она интерпретируется как саркастическое подмигивание режиссера зрителям через поколения. Не менее важен эпизод, когда герой-режиссер отстаивает ценность искусства, репетируя роль Гоголя: «Мир задремал бы без этих побасенок!». В этот момент комедийная история на время поднимается на уровень притчи. А дальше опять — мифологизация науки в формах научной фантастики, торжество «социалистического реализма» в легком жанре музыкальной комедии. Но образы из «Весны» прочно закрепились в экранной культуре. Их отзвуки появятся позже и в «Девяти днях одного года», и в «Служебном романе», а поиск взаимопонимания героев через переосмысление произведений Пушкина пройдет через весь советский ХХ век и выйдет за границы советской культуры, в рассказе «Спасти камер-юнкера Пушкина» М. Хейфеца, инсценированном многими театрами.
Собственно, на эту «формулу»: восприимчивость к интеллектуальным ценностям + эстетическое чутье + способность к созданию нового (в том числе, на базе старого) + этическая ответственность + понимание Другого — мы и будем опираться при анализе «экранных отражений» размышлений общества о месте интеллигента в мире.
Прослеживая трансформацию экранных образов интеллигентов от дореволюционного немого кино до наших дней, от универсальных массовых зрелищ до интерактивного, рассчитанного вовлеченную аудиторию цифрового контента, мы рассчитываем увидеть контуры будущего, пути адаптации традиционных для интеллигенции культурных ценностей к вызовам цифровой культуры. Если в экранизациях ХХ века (кинематографических или телевизионных) интеллектуальное, эстетическое, этическое, повседневное и провокативное (как открытость новому) слиты, как правило, в единый образ (чаще всего в лице главного героя), то в мультимедийной экранизации начала XXI века эти составляющие интеллигентского мировоззрения могут предлагаться публике (именно публике, а не зрителю, потому что интерактивные возможности и соучастие при этой форме коммуникации очень важны) — по отдельности и не только через персонажей, но и через иллюстрации, дизайн проекта, принцип построения пользовательского интерфейса.
Так, например, построена интернет-платформа Arzamas’а — просветительского проекта, посвященного гуманитарному знанию, который мы уже упоминали выше. Проект состоит из тематических курсов. Каждый курс включает в себя несколько видеолекций, а также разнообразные материалы — статьи, фотографии, карты, словари. Дополняют «серьезный» контент разного рода тесты, игры, шутливые инструкции и другие развлекательные элементы формата. Такая структура зрелища позволяет пользователям комбинировать информацию по своему усмотрению, уменьшая или увеличивая развлекательную составляющую по своему желанию.
Проект Arzamas интересен нам и сам по себе. Мы вернемся к нему в конце книги. Но сейчас нам важен «гуманитарный сериал» (так продюсеры называют свой формат), посвященный обществу «Арзамас» — «200 лет «Арзамасу». Информация в нем расположена вокруг главной темы своего рода концентрическими кругами: история страны и ее властителей в мировом контексте, роль общества «Арзамас» в литературе и политике, город Арзамас в истории культуры, персонажи — члены общества «Арзамас» (среди них А. Пушкин), персонажи — ученые-исследователи и журналисты, размышляющие об «Арзамасе», гуси и другие символы (в поэзии, пародии, тестах и играх), читатели (пользователи, «учащиеся») как соучастники (прошедшие испытания и получившие шуточное прозвище члена общества), В целом этот «гуманитарный сериал» — своего рода ритуальное действо в честь 200-летия «Арзамаса».
Исторические персонажи в нем визуализируются в традиционной эстетике — портретами из собраний музеев и галерей. Но эти «официальные образы» все время дополняются деталями и историческими анекдотами, позволяющими читателям волей своей собственной фантазии стряхивать «академическую пыль» и развеивать мифы вокруг героев, которые оказываются не менее, а может быть даже более живыми, чем наши современники. Находясь с ними на очень небольшой дистанции (в частности, смартфон является предметом «интимной коммуникации», как и книга), человек впускает их в свою приватную зону, позволяя раздробленной на мелкие частички просветительской информации капиллярно пронизать свою повседневную жизнь, формируя «смешанную», «дополненную реальность», в которой события 200-летней давности становятся частью личного опыта. И вот уже Кюхельбекер, одержимость которого так эмоционально точно передал Сергей Юрский в фильме-спектакле 1963 года, становится одним из героев «виртуального сообщества Arzamas’a», тех, кто «дурачился, издевался над врагами, писал веселые стихи и ел гусей — и одновременно воспитал Пушкина, изменил русский язык, стал важными чиновником и определил развитие русской политики и культуры на век вперед».
Режиссеры мультимедийного зрелища заставляют современного человека понять, что ему важно узнать не только как же могло так получиться, что Кюхельбекер мог быть одновременно радикальным романтиком и младоархаистом, ориентирующимся на активное использование церковнославянского языка (ведь «для западноевропейских писателей сочетание ультраромантизма с ориентацией на классический одический жанр немыслимо»). Что ему важна и многолетняя заочная полемика десятков исследователей, изучавших ту эпоху… Что он дитя и часть той просветительской культуры, без знания которой невозможна интерпретация постмодернистской иронии, которая все глубже вторгается в пространство современной культуры и личное пространство современного человека. Механизм вовлечения, который используют создатели проекта, гарантирует ощущение причастности вне зависимости от пропорции развлечения и обучения в персональной тактике пользователя. Образ интеллигента (в данном случае члена общества «Арзамас») в воображении зрителя может казаться более или менее гротескным. Но при соприкосновении с каждым из концентрических кругов информации будет возникать одно и то же ощущение: герой (исторический персонаж, автор проекта или читатель) выполняет роль медиатора, соединяющего прошлое с будущим, и с помощью этого реализующего свое служение свободе.

Серия 2. Братство медиаторов
Действующие лица:
Прот. Александр Шмеман — священнослужитель Православной церкви в Америке, богослов, писатель;
Илья Обломов, Андрей Штольц, Ольга Ильинская — герои романа И. Гончарова «Обломов»;
Эдвард Мэрроу — американский журналист, герой фильма «Доброй ночи и удачи»;
Марк Цукерберг — американский бизнесмен, герой фильма «Социальная сеть».
Родившись на сломе эпох, интеллигенция самой историей была призвана стать медиатором, способствовать формированию общественного консенсуса по поводу фундаментальных ценностей культуры. Разумеется, фигура медиатора (человека, который способен быть посредником в процессе коммуникации) для мировой культуры не нова. Но в каждой стране на разных исторических этапах специфика этой фигуры была обусловлена отличающимся друг от друга набором исторических условий. Так во Франции (как и в ряде других европейских государств) интеллектуалы, выполнявшие сходные с российской интеллигенцией культурные задачи, традиционно идентифицировали себя с левыми партиями. Процесс их самоопределения подробно описан в книге Ж. Бенда «Предательство интеллектуалов». Власть, на которую претендовали европейские интеллектуалы, называемая П. Бурдье символической властью, власть конструировать реальность, устанавливая гносеологический порядок», вовсе не обязательно должна была осуществляться в ситуации конфликта с другими ветвями власти. Но она всегда ощущалась как акт служения свободе, воспринимавшейся как своеобразный «символ веры». (Лозунг Великой французской революции: «Свобода, равенство, братство» будет сохранять свою ценность для воображаемого сообщества интеллигенции разных столетий и стран) При неблагоприятных обстоятельствах она приводила на каторгу. При благоприятных — человек, обладающий знаниями и профессионализмом и готовый выйти за рамки своей профессии, чтобы осуществлять гражданскую деятельность и нести моральную ответственность за ее результаты («public intellectual»), мог сосредоточиться на участии в создании общественных, образовательных, инновационных, филантропических организаций, формируя в итоге гражданское общество.
Российская специфика осуществления миссии интеллигента объясняется не только стремлением государственной власти (здесь мы опираемся на работы Дж. Томпсона, выделяющего четыре формы власти — политическую, экономическую, принудительную и символическую) на разных этапах своего развития сохранять тотальный контроль над символическими формами власти и общественными институтами, стремящимися их осуществлять в той или иной мере. Не менее важна для понимания места интеллигента-медиатора в России описанная прот. Александром Шмеманом ситуация сосуществования в России «трех культур»: допетровской (древнерусской), «просветительской» (державинско-пушкинско-гоголевской) и прагматически-технической. По его мнению, «эти три „культуры“, родившиеся из разных источников и отделенные одна от другой, казалось бы, почти непроницаемыми психологическими и бытовыми барьерами, в России практически сосуществовали одна с другой. Они не следовали и не вытекали одна из другой в порядке хотя бы и революционного, но все же преемства, исторической последовательности, а продолжали жить, создавая разные пласты, разные „сознания“, можно почти сказать — „разные миры“ уже в самом народном теле».
Если культуры «просветительская» и «прагматически-техническая» возникли на волне реформ Петра I и формировались под влиянием европейских ценностей одновременно, то крестьянская «древнерусская» культура оказалась практически не затронута петровской «культурной революцией». Крестьянство (а вместе с ним и мелкопоместное дворянство) еще долгое время продолжало жить по законам древнерусской культуры, базирующейся, с одной стороны, на христианстве и церковности, что объясняет постоянное притяжение просвещенной части общества к народу, искание у народа мудрости, чистоты и правды, с другой стороны, на языческом мистицизме и нерациональности, который одновременно и привлекал, и раздражал часть интеллигенции (бравшую на себя роль просветителей) и вызывал жесткую иронию у другой части — той, в которой доминировали прагматически-технологические настроения.
Это сосуществование культур описано в романе И. Гончарова «Обломов» и великолепно визуализировано в фильме режиссера Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979). Илья Обломов (в исполнении Олега Табакова) — наследник традиционной культуры. Для него жизнь в имении (режиссер показывает зрителю сны Обломова, в которых он видит себя маленьким мальчиком и своих родителей, ведущих патриархальную сельскую жизнь) — потерянный рай.
Однако растворение в природе и неспешном быте, следование философии благодатного покоя смешаны в Обломове с обычной ленью. Даже знания тяготят его своей бессмысленностью и разрозненностью. Он ищет гармонию, чувствует себя частью природы, боится оторваться от корней и от всего сердца плачет над ощущением тщетности жизни. Друг Ильи Обломова — Андрей Штольц (в исполнении Юрия Богатырева) — носитель прагматической культуры — безуспешно пытается «спасти» друга: переубеждает его, тащит за собой, знакомит с людьми, но безуспешно. Они как будто произносят монологи, плохо слыша друг друга. Носителем третьей — просветительской — культуры оказывается Ольга. Она пытается «излечить» Илью от «обломовщины», заставив читать газеты, начертив план переустройства имения. Она должна подготовить его к поездке в Париж, где преображенного Обломова через месяц будет ждать Штольц.
Однако роль медиатора Ольге не удается, из просветителя она быстро превращается во влюбленную барышню. А испытание любовью не выдерживают ни «почвенник», ни «просветитель», ни «прагматик». Медиатором между ними оказывается голос автора, сеющий в зрителях сомнения в кажущейся очевидной правильности прагматической инициативности Штольца, безнадежности обломовского бездействия, экзальтированной чувственности Ольги. Режиссер, обожествляющий экранными средствами красоту природы и детскую веру в то, что не человек управляет своей судьбой, а Господь всем управит помимо человека, вместе с тем видит и ущербность немецкой воспитательной системы, сформировавшей Андрея, и опасность сохранения «народной» культуры в городской жизни, которую пытается вести Илья. Он же настоятельно подсказывает зрителю, что живущая во внешне счастливом браке со Штольцем Ольга продолжает любить рано умершего от удара Обломова. Гармонию режиссер находит только в детской вере бегущего к матери мальчика (кадры, с которых фильм начинается и которыми заканчивается) и в разливающемся над полем церковном песнопении, в основании которого слова святого Симеона, много лет ожидавшего смерти и получившего ее после встречи с Богородицей, принесшей в храм новорожденного Спасителя: «Ныне отпущаеши раба твоего Владыко…».
Смерть как выход — ответ, претендующий на универсальность, не решает однако конфликт «трех культур», отголоски которого сохраняют актуальность и в современной культуре. Революция 1917 года, благословленная интеллигенцией и уничтожившая практически полностью традиционную религиозную и крестьянскую культуры, предложившая взамен прагматическую культуру индустриализации, тоже не смогла снять до конца остроту этих культурных конфликтов. Они воспроизводятся на каждом новом этапе: во время индустриализации и войны, в противостоянии «физиков» и «лириков», во время перестройки и в период формирования рыночной экономики и т. д.
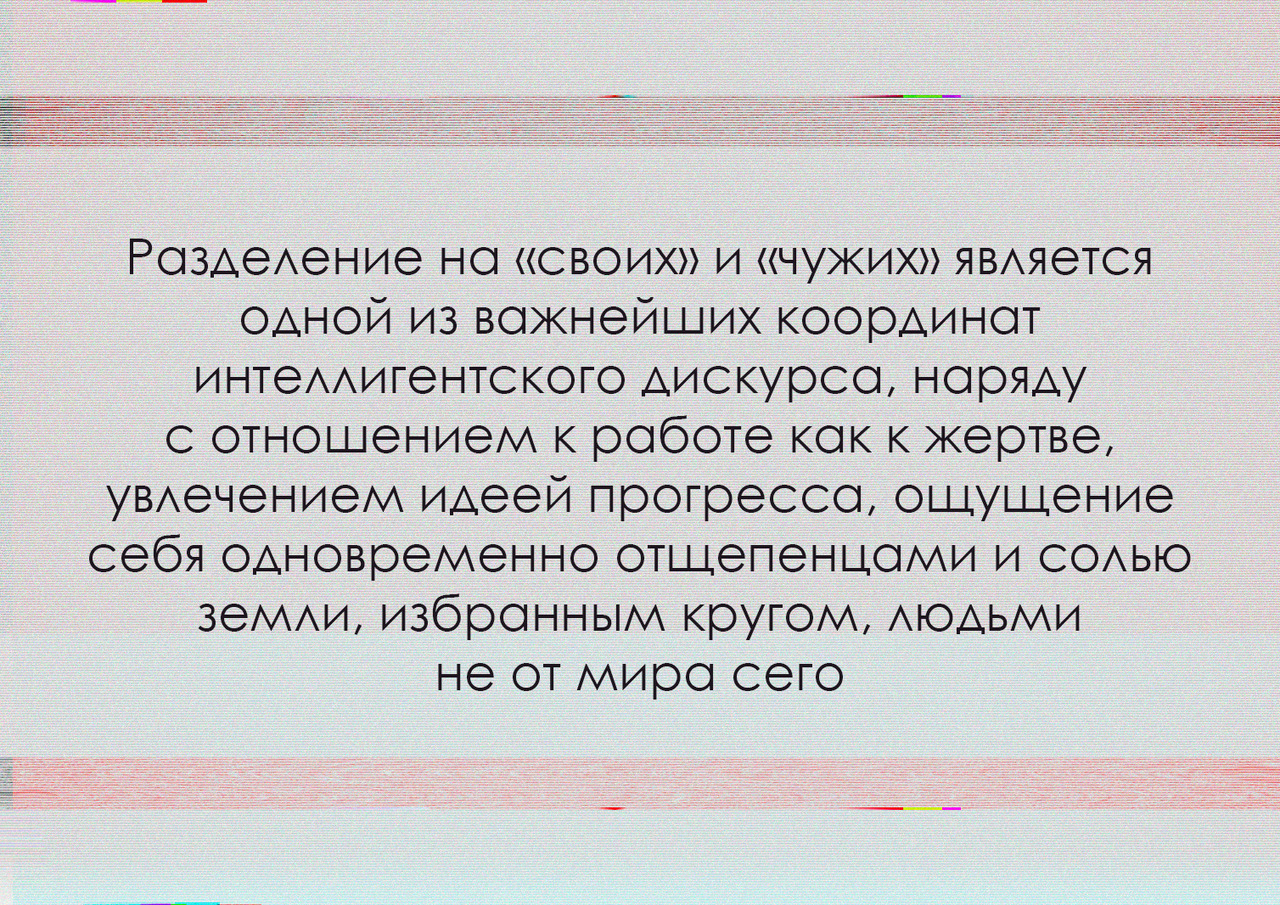
Находясь между элитой и народом, западом и востоком, традицией и новаторством, религией и атеизмом, техникой и искусством, интеллигенция в поисках синтеза часто оказывалась первой жертвой внутренних распрей. М. Лотман полагал, что разделение на «своих» и «чужих» является одной из важнейших координат интеллигентского дискурса, наряду с отношением к работе как к жертве, увлечением идеей прогресса, ощущением себя одновременно отщепенцами и солью земли, избранным кругом, людьми не от мира сего. Существенным отличием отечественной интеллигенции от западных интеллектуалов Б. Успенский считает ее способность к быстрому усвоению чужих культурных ценностей. Несмотря на то, что мы не разделяем всех утверждений авторов по поводу типичных характеристик дискурса интеллигенции, некоторые моменты отмечены точно, они регулярно встречаются и в проанализированных нами экранных произведениях.
На разных исторических этапах какие-то из названных элементов дискурса оказывались более востребованными, а какие-то отходили на второй план. Это может создавать ощущение, что преемственность интеллигенции разных поколений теряется, и порождать прогнозы о конце интеллигенции. Для Ф. М. Достоевского подобные предположения были связаны с реформой 1861 года, для авторов «Вех» — с революцией 1905 года, для послереволюционных продолжателей «Вех», авторов «Из глубины», — с революцией 1917. Эмигранты 1920–30-х годов констатировали смерть российской интеллигенции под впечатлением «раскола» интеллигенции на сотрудничающих с советской властью и борющихся с ней. В 1950–60-е годы интеллигенция разделилась на гуманитарную и техническую, рост советской интеллигенции стал делом государственным. Однако спустя много лет советская интеллигенция вновь ощутила общность своего дискурса с дискурсом эмигрантским, что проявилось в ее увлечении наследием писателей русского зарубежья в 1980–1990-х гг. Очередным поводом для «похорон» интеллигенции стали обвинения ее в предательстве народа, проявившемся в участии в перестройке и сотрудничестве с президентом Борисом Ельциным. Казалось, практически все готовы отказаться от противоречивого наследия, которое несет с собой слово. Однако на волне общественных протестов 2012–2013 годов интеллигентский дискурс зазвучал с новой силой и даже появился новый термин — «Интеллигенции 2.0».
И как бы ни отличались друг от друга разные поколения интеллигенции, как бы ни были далеки они от современных интеллектуалов, которые долго не считали себя наследниками интеллигентского дискурса, полагая, что он исчерпал себя после развала СССР и перед лицом грандиозных технологических революций, все же актуальные события последних лет — политические протесты, реакция на реорганизацию системы образования и науки и т. д. — наглядно показали, что интеллигентский дискурс, а значит, и интеллигенция как феномен, не только продолжает существовать, но и активно воспроизводится, хотя и с поправкой на новые технологические и культурные условия. Сегодня, когда не только Россия, но и другие страны вынуждены реагировать на вызовы упрощения картины мира (проявляющиеся среди прочего в однозначном противопоставлении «своих» и «чужих» в общественных дискуссиях, разворачивающихся на экранах), способность интеллигенции адаптироваться к сложному миру, быть медиатором в ситуации коммуникационного шума, искажающего смысл сообщений, чрезвычайно востребована. И если на поле публичной политики российская интеллигенция имеет меньше, чем раньше, возможностей активного участия в полигоге (анализу экранных примеров этого посвящен одни из разделов этой книги), то в сфере искусства и научного знания готовность части интеллигенции к медиатизации «просветительской культуры» и ее «прагматизации» в соответствии с законами медиаиндустрии позволяет надеяться на то, что реализации миссии будет продолжена.
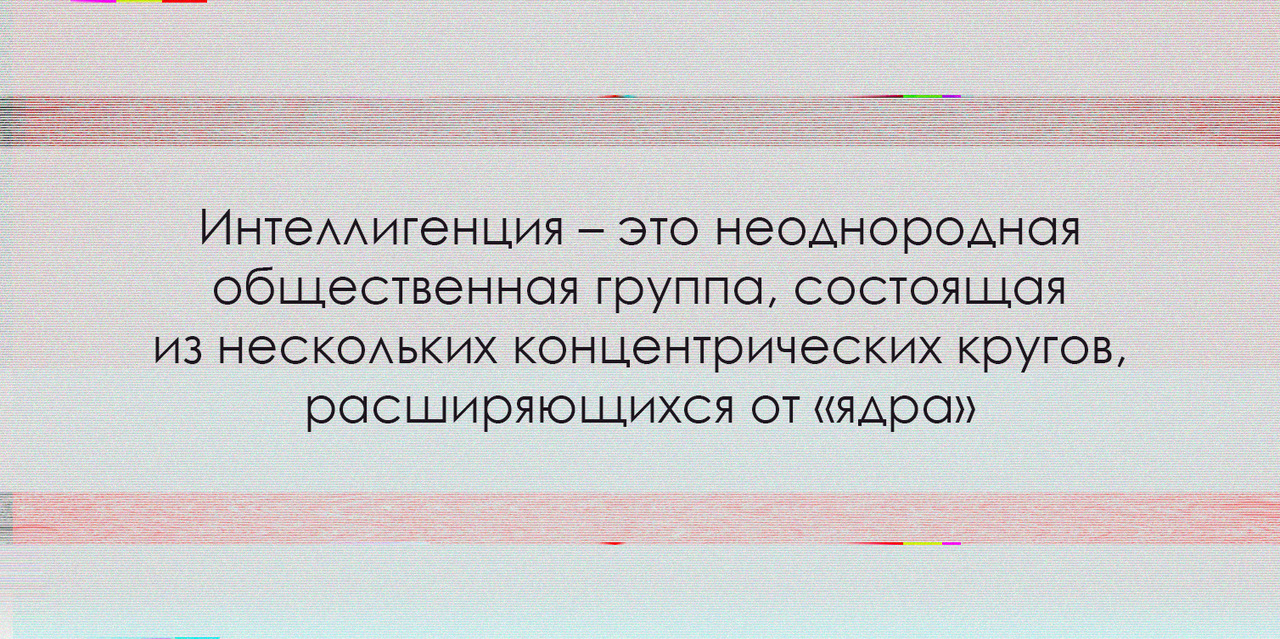
Не ставя перед собой задачу дать исчерпывающее определение понятию «интеллигенция» на современном этапе, мы будем пользоваться определением, предложенным П. Н. Милюковым и уточненным А. Н. Севастьяновым и К. Б. Соколовым. Согласно им, интеллигенция — это неоднородная общественная группа, состоящая из нескольких концентрических кругов, расширяющихся от «ядра», в которое входят немногочисленные «интеллигенты-идеологи» (культурная элита, формирующая идеологемы, и вынужденная вступать в те или иные отношения с властью, которая нуждается в советниках, имеющих влияние на общественное сознание). В середине «интеллигенты-пропагандисты» (обществоведы, социологи; гуманитарии — историки, философы, искусствоведы, известные журналисты, известные люди искусства, перерабатывающие эти идеологемы в мифы и транслирующие их обществу с помощью современных им видам медиа), а на периферии — «интеллигенты-исполнители» (образованный слой: врачи, учителя, юристы, офицеры, священники, инженеры, рядовые сотрудники сферы медиа и т. д., которые причисляют себя к этой субкультуре, опираясь на мифы, и пытающиеся строить повседневную жизнь в соответствии с предлагаемыми ценностями). В деятельность последних власть вмешивается мало, при условии их лояльности политической системе.
Такое определение интеллигенции представляется важным в контексте нашего исследования, так как хорошо согласуется классическими западными исследованиями общества и медиа, в частности с теорией среднего уровня Р. Мертона и моделью двухуровневой коммуникации П. Лазарсфельда. Если рассматривать различные слои интеллигенции через призму концепции Лазарсфельда, то «интеллигенты-пропагандисты» как раз окажутся «лидерами мнений». А общественную значимость интеллигенции можно рассматривать через ее коммуникационную функцию, которая представляется важной в контексте нашего исследования. Собственно, социальная сфера в других странах мира устроена сходным образом.
Неоднородность сообщества проявляется не только в российской ситуации. Она хорошо видна на примере двух знаменитых фильмов о публичной сфере США — «Доброй ночи и удачи» (2005, реж. Дж. Клуни) и «Социальная сеть» (2010, реж. Д. Финчер). Первый рассказывает о событиях 1950-х годов — противостоянии известного журналиста Эдварда Мэрроу и американского сенатора Джозефа Маккарти. Популярный ведущий, бросая в эфире вызов одиозному политику, вынужден вступить в коммуникацию с властью, потому что только это дает ему и его команде возможность отстаивать гражданские права американцев (одну из важнейших ценностей США). Эдвард Мэрроу ставит на карту свою профессиональную репутацию, становясь участником публичной политической дуэли. Но его победу обеспечивает команда «исполнителей» — это журналисты, продюсеры, технические сотрудники, которые тоже являются медиаторами, но не с властью, а со зрителями. На наш взгляд, основной драматический конфликт фильма разворачивается не в отношениях Мэрроу и Маккарти, а в отношениях внутри команды — остаться верными идеалам до конца, рискнуть всем — бизнесом, как это делает продюсер Фред Френдли (его играет сам Джордж Клуни), семейными отношениями, как делает героиня фильма Ширли (Патриша Кларксон), не ожидая публичной славы, которая достанется телеведущему.
Режиссер делает фильм черно-белым, так что эстетика кадра напоминает зрителю кино 1950-х годов. Это добавляет истории не только документальность, но и мифологичность. Клуни (звезда киноиндустрии), пользуясь символической властью своего бренда, снимает фильм-миф об одном из важнейших политических мифов середины ХХ века, напоминая зрителю о том, что, на его взгляд, не теряет актуальности сегодня: о свободе прессы и о свободе личного выбора.
Если фильм «Доброй ночи и удачи» реконструирует структуру общественных отношений Америки 1950-х годов, то фильм «Социальная сеть» показывает момент рождения новой коммуникативной ситуации. Она зарождается из столкновения двух элит: традиционной буржуазной (в лице близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов) и интеллектуальной (преподаватели и руководство университета, юристы, участвующие в судебных процессах) с новой — Марка Цукерберга и его друга и партнера Эдуардо. Очень важно, что события разворачиваются в Гарварде — одном из самых традиционных университетов США. Атмосфера классического университетского кампуса, его традиции, которые так старательно соблюдают юные буржуа Уинклвоссы — члены элитного студенческого клуба, гребцы, постоянно напоминающие друг другу, что они «джентльмены из Гарварда», поэтому не могут ставить под удар свою репутацию — резко контрастирует с виртуальным миром, в котором постоянно находится Марк. Его прямота и преданность идее (он жестко останавливает партнера, стремящегося сразу начать зарабатывать на рекламе, говоря, что это сделает проект банальным) вызывают уважение традиционной элиты и интерес у инвесторов. Переезжая в Кремниевую долину, Марк символически разрывает связь с логикой прошлого, строившего успех на основе традиционных социальных сетей — элитарных клубов. Он предлагает настоящему и будущему свою логику — тоже социальные сети, но новые, где каждый может позиционировать себя сам и доказать, что новаторские идеи, умноженные на технологии, дают не меньшую символическую власть над миром, чем деньги и связи.
Поднимаясь к вершине власти снизу, из положения программиста-исполнителя, Марк минует второй уровень (интеллектуала-пропагандиста) и сразу становится идеологом. Кажется, что этот идеолог больше не должен коммуницировать с властью, он может остаться жить в собственном мире, деньги дают ему на это возможности и право. Фильм «Социальная сеть» на этом заканчивается. Но реальная жизнь Марка Цукерберга свидетельствует об обратном. Поднявшись на вершину, создав семью, он начинает активно заниматься благотворительностью, создает с помощью медиа вокруг себя миф просветителя и общественного деятеля, вполне типичный для традиционной идеологии интеллигенции.
Отличие конфликтов и того, и другого фильма от традиционных для российской культуры конфликтов в том, что в обоих случаях герои борются не с законодательной и исполнительной властью США, а используют ее достижения для борьбы с теми, чьи предрассудки мешают достижению «американской мечты», к которой они стремятся. В России же такой единой «мечты» не существует и нет законодательно закрепленной дороги, к ней ведущей. Поэтому задача медиации в нашем случае превращается в поиск компромисса между «мечтами» носителей трех вышеназванных сосуществующих культур.
Интеллигенты-идеологи сосредоточены у нас на медиации между мечтами власти и народными чаяниями, интеллигенты-пропагандисты — между ценностями разных культур в процессе создания мифов (в частности, «допетровской», «просветительской» и «прагматической», а также высокой и массовой), а «интеллигенты-исполнители» — на медиации между разными слоями общества, с которыми они сталкиваются в процессе своей работы и обыденной жизни.
Принято считать, что интеллигенты этого самого широкого периферийного круга традиционно так заняты работой, что у них нет времени и желания думать о реформировании идеологии общества, к они власти относятся как к неизбежному злу, внешним условиям, которые надо учитывать в своей деятельности. Однако доподлинно проверить, так ли это, до последнего времени было достаточно сложно. Эти люди не имели свободного доступа к медиа, прямого влияния на формирование «социального воображаемого». Об их позиции свидетельствовали интеллигенты-пропагандисты, которые, в частности, создавали те экранные образы, которые мы анализируем в своей книге. Достоверность их мнений и экранных интерпретаций об ожиданиях другого слоя интеллигенции можно было поставить под сомнение. И на телевизионном экране в качестве героев документальных программ интеллигенты-исполнители тоже появлялись не часто, они не входили в телевизионные базы контактов звезд и экспертов, так как их работа не давала для этого большого количества информационных поводов.
Сегодня Интернет и социальные сети (о чем, в частности, и рассказывает фильм «Социальная сеть») предоставили всем желающим возможность осуществить публичное высказывание, презентовать себя и свое «социальное воображаемое», сформированное в соответствии со своими личными, а не только коллективными, представлениями о прекрасном. Получила такую возможность, в частности, и интеллигенты-исполнители. Стратегии их поведения в социальных медиа активно изучаются. В нашей работе мы описываем экранные образы, которые они при этом создают. Но уже здесь скажем, что в новых условиях иерархическая структура сообщества размывается, приводя к формированию более тесных связей внутри него, что позволяет говорить о становлении братства медиаторов.
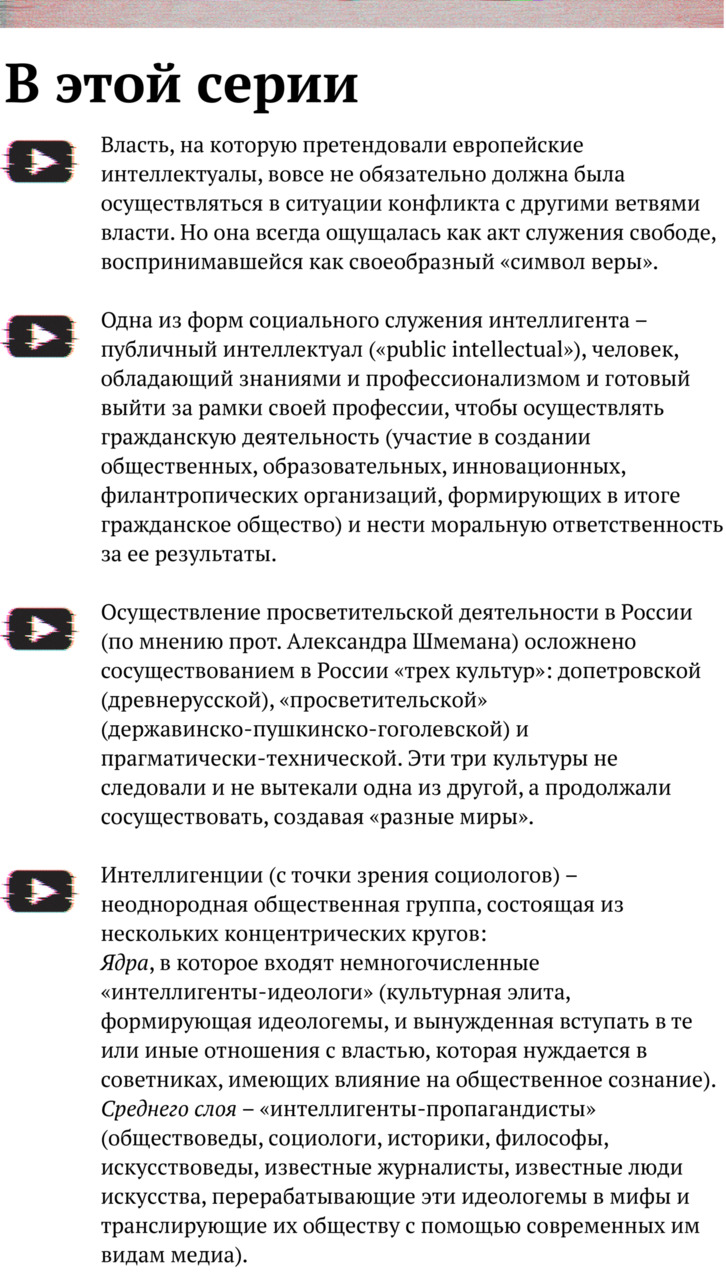
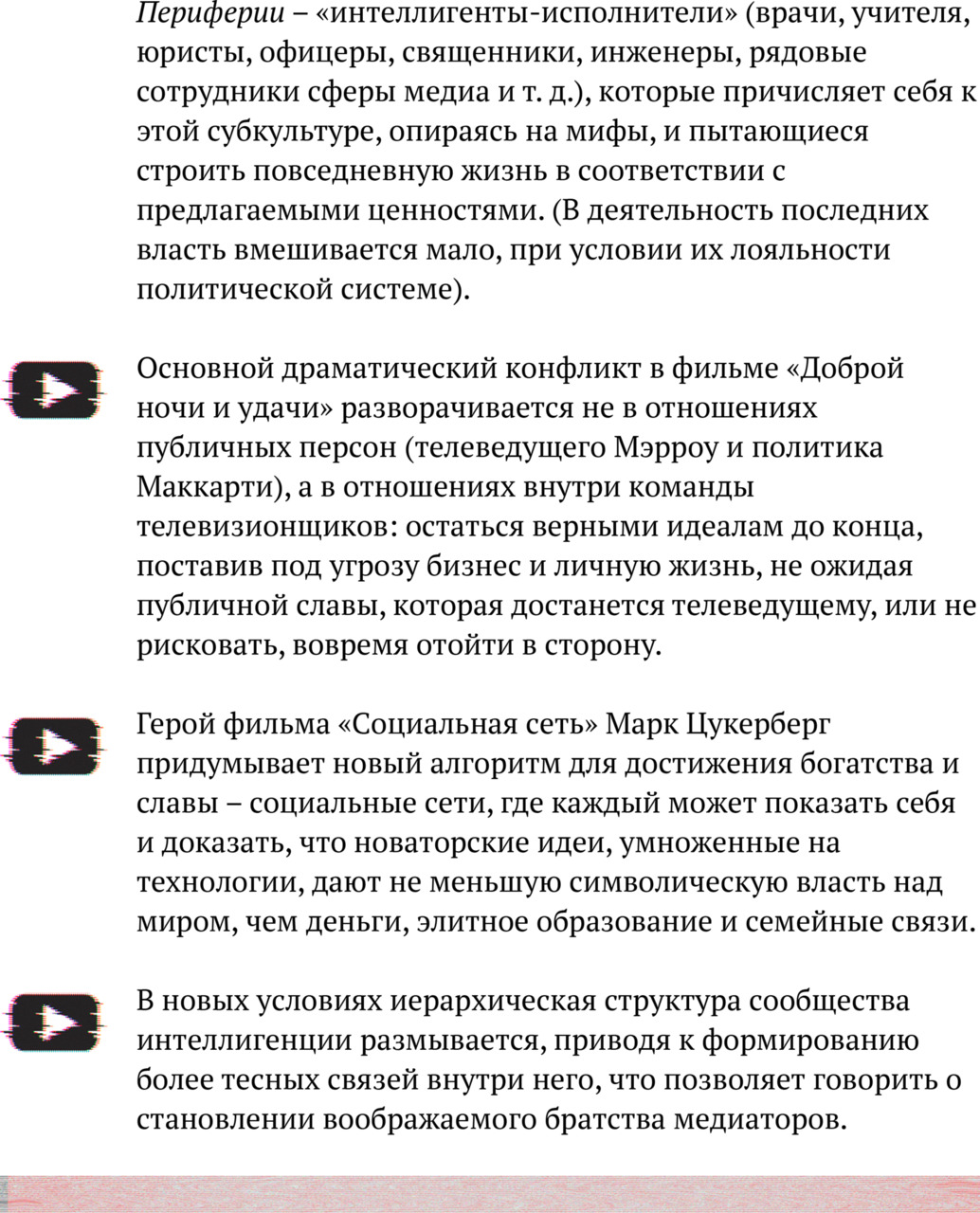
Серия 3. Смена высот. Место действия
Действующие лица:
Семья Кирсановых — герои романы И. Тургенева «Отцы и дети», живущие в «дворянском гнезде»;
Семья Турбиных — герои романа М. Булгакова «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных», живущие в объятом революцией Киеве;
Семьи русских поэтов Серебряного века.
Первая половина ХХ века в России — период глобальных изменений в укладе жизни. Технологическая революция, индустриализация, мировые войны и социальные катаклизмы нарушили традиционное течение жизни и сдвинули с насиженных мест массы людей, вынужденных или самостоятельно решивших сменить крестьянский образ жизни на городской, оседлый быт на новую версию быта кочевого.
Эти глобальные процессы, во многом общие для евроатлантической цивилизации в целом, совпали по времени с активным развитием звукозаписи, фотографии, кинематографа. Новые технические средства массовой коммуникации оказались очень удобны для того, чтобы с их помощью сначала фиксировать, а потом и формировать новую городскую культуру, выполнять задачи медиации, способствовать процессу интеграции большого количества новых членов в городские сообщества.
Изменения в стратификации общества повлекли за собой, в числе прочего, формирование новых традиций, корректировку ритуалов, перемены в привычках и укладе жизни, отношениях в семье и в системе образования. Становясь городскими жителями, представители разных сословий оказывались вырванными из повседневности в том понимании, которое предлагает Б. Вальденфельс: «Повседневное — это привычное, упорядоченное, близкое. В противоположность повседневному неповседневное существует как непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое. <…> Человек как „нефиксированное животное“ в соответствии со своей природой должен изобретать намеченный лишь весьма приблизительно порядок, создавать свой мир». В ХХ веке необходимость быстро «создавать свой мир» и перестраивать его сообразно обстоятельствам стала чрезвычайно актуальной. Перед этой необходимостью оказались равны представители всех сословий. Равенство всех перед лицом тектонических культурных сдвигов стало вызовом традиционному обществу. По сути, в течение этого столетия способность адаптироваться к изменениям превратилась в базовый навык, которым должны обладать все, кто хочет соответствовать требованиям современности.
Чтобы «создать свой мир», человек должен был по собственному разумению выстроить некий порядок, ориентируясь, в частности, на представления о «высоком» и «низком». Это иерархическое разделение, проникшее в быт из культуры классицизма, связанное с античными идеалами, с трудом приживалось на русской почве. Традиционный «русский мир» (вне зависимости от того, был ли это мир дворянской усадьбы или крестьянского дома) не был расчленен на «высокое» и «низкое». Оно уживалось под одной крышей. Красный угол в доме, с образами, украшенными искусственными цветами и вышитыми полотенцами, был совсем рядом с отгороженным пространством, где зимой держали молодых животных. Дом человека не был отделен от природы, он был ее частью. Под одной крышей «дворянского гнезда» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» уживались Павел Петрович с его элитарными привычками и милая простая Фенечка.
«Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином…»
«Небольшая, низенькая комнатка <…> была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; <…> в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая-чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом» (И. С. Тургенев, «Отцы и дети»).
Дом продолжался садом или огородом — целым миром, где, как и в жилище, господствовала повседневность. По мнению исследователей культуры начала ХХ века: «В высокой дворянской культуре обыденное, повседневное, воспринималось поэтически. Домашнее хозяйство представало сферой вечного творчества, доступного всем. Жизнь воспринималась нерасчлененно, в своей целостности, без разделения на высокое и низкое».
Иллюстрации к этому утверждению мы находим не только у Тургенева,
«Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичьим двором, он изредка ездил на охоту и занимался хозяйством…» (И. С. Тургенев, «Отцы и дети»).
но и у Пушкина. Его описания жизни семьи Татьяны Лариной полны подобных смешений, которые поэт описывает с легкой иронией и, вместе с тем, с симпатией:
XXVIII
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.
XXIX
Ей рано нравились романы
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.
(А.С Пушкин, «Евгений Онегин». Глава 2.)
Чтение, музыка, цветы, птичий двор, охота, общение с управляющим и крестьянами — все это действия одного порядка, где музицирование и чтение ничуть не выше, чем хозяйственные заботы. В случае традиционного уклада все это было одухотворено религиозными традициями и моральными принципами и высокими идеалами чести, которые передавались в процессе воспитания и в дальнейшем определяли поведение и принятие жизненно важных решений. Честь являлась основным законом поведения дворянина. Важны были не практические последствия поступков, а их этическое значение. Детей ориентировали не на успех, а на идеал: «Быть храбрым, честным, образованным ему следовало не для того, чтобы достичь чего бы то ни было (славы, богатства, высокого чина), а потому что он дворянин, потому что ему многое дано, потому что он должен быть именно таким».
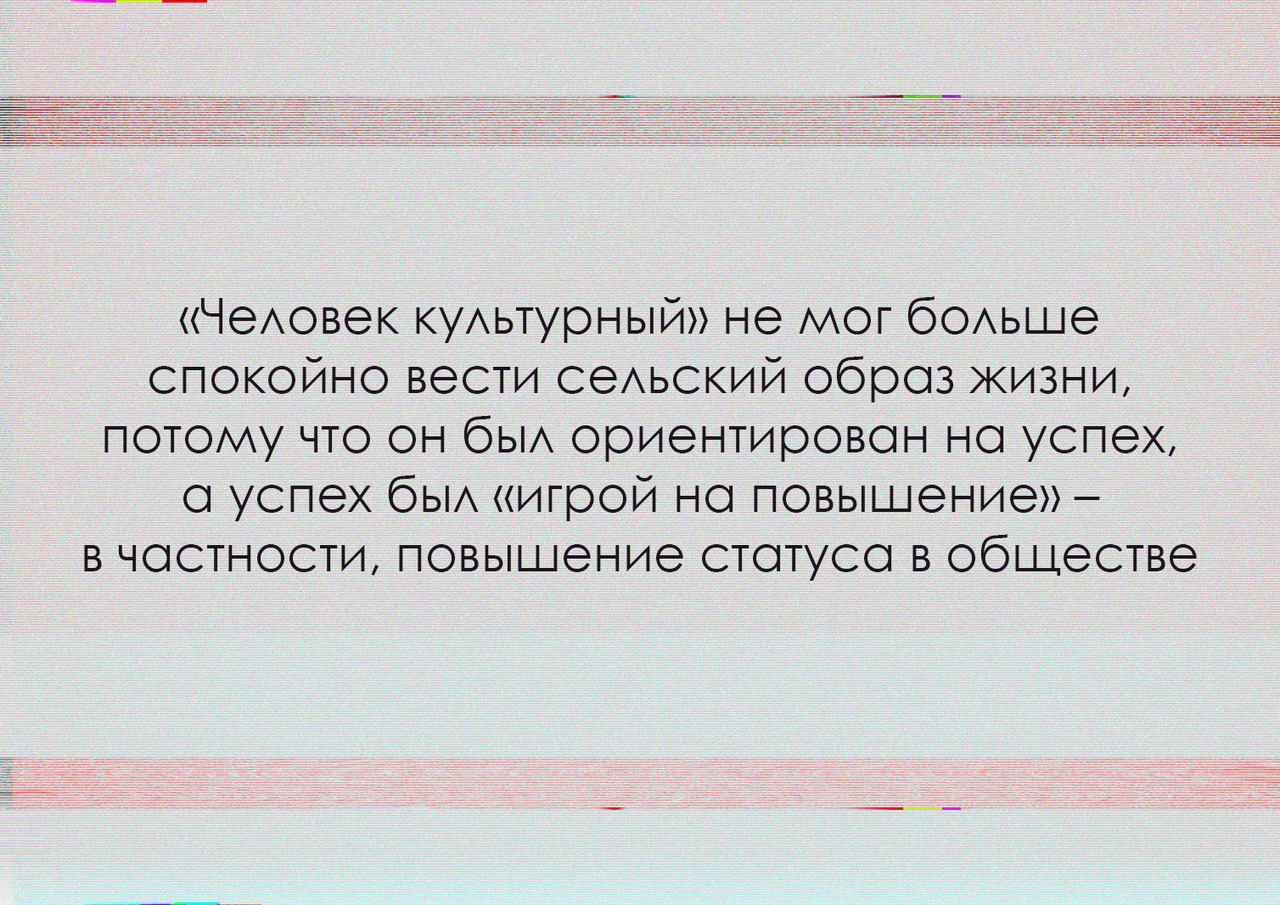
Устойчивость, повторяемость уклада играла наиважнейшую, говоря языком культурологии, структурообразующую роль в повседневной жизни. Она давала человеку ощущение опоры, уверенности в себе и в окружающем мире. Социальная дистанция определялась принадлежностью к социальному классу, войти в который можно было по рождению или за особые заслуги, и покинуть его можно было только символически, в знак протеста. (После революции академик И. Орбели, известный, кроме прочего, своим остроумием, комментируя то, что его назвали «бывший князь», сказал, что это то же самое, что «бывший пудель»).
ХХ век изменил ситуацию, заставив «человека этического» преобразоваться в «человека культурного». А точнее — в «человека интеллектуального», где в основе социальной дистанции лежала не принадлежность к сословию, а эрудиция и художественные предпочтения, личный выбор жизненной стратегии и множество других формальных характеристик, которые косвенно свидетельствовали о доминирующих ценностях. «Человек культурный» не мог больше спокойно вести сельский образ жизни, потому что он был ориентирован на успех, а успех был «игрой на повышение» — в частности, повышение статуса в обществе. Возможности повышения культуры были гораздо выше там, где были очаги формирования новой культуры, — в городах. Там же можно было достичь не просто успеха, но публичного успеха. Значимость публичности в новой системе ценностей оказалась значительно выше, чем было в культуре «человека этического».
Активно развивающийся город с его перспективой публичного успеха был для его новых обитателей царством неповседневности — неизвестным и неожиданным, подстерегающим человека на границах хорошо знакомого мира повседневности. Неповседневность, таким образом, автоматически становится не только целью, но и развлечением, она манит и пугает одновременно.
Интеллигент, стремящийся к образованности, публичности, активной жизненной позиции оказывается заложником «развлекательного» образа жизни, участником разного рода интеллектуальных кружков, публичных лекций, концертов, частью богемы. Эти культурные процессы описывает, в частности, А. Белый в книге «Между двух революций»: «кружки эти я посещал; и охотно работал в них; для одного только не было времени: для художественной работы; я носился как в вихре: из кружка в кружок, с выступления на выступление; бывали юмористики, когда разговор о смысле жизни переходил в попытки завязать флирт…». Справедливости ради следует сказать, что из этого интеллектуального Вавилона родилась не только русская революция, но и литература Серебряного века и русский авангард.
С другой стороны, в городах продолжала существовать повседневность в ее традиционном понимании, наполненная «людьми этическими», живущими по старым правилам. Они стремились обустроить свой быт по традиционным образам. Так, по воспоминаниям современников, на всем в доме профессора Московского университета, математика А. Ю. Давыдова лежал отпечаток старой Москвы: «Просторные комнаты, старинная мебель красного дерева, крытая зеленым штофом, темные портьеры на окнах и на дверях, картины и портреты в золоченых рамах и пожилая горничная, которую называли по имени и отчеству».
О другом подобном доме пронзительно пишет Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия».
«Много лет до смерти, в доме №13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади „Саардамский Плотник“, часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. <…> Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям…» (М. А. Булгаков «Белая гвардия»)
Без этих декораций трудно представить себе постановку пьесы «Дни Турбиных» или экранизацию романа. Они есть и в многосерийном фильме «Дни Турбиных» (1976, реж. В. Басов) и в сериале «Белая гвардия» (2012, реж. С. Снежкин). Оба фильма достаточно подробно воспроизводят предметную среду дома Турбиных («интеллигентского дома», ставшего символом потерянной России). Письменный стол в кабинете и зеленая лампа на нем, оленьи рога в прихожей, овальный стол и мягкая мебель с резными подлокотниками, часы и иконы в серебряном киоте, самовар и хрустальные бокалы и т. д., создающие атмосферу дома в фильме 1976 года, в сериале 2012 года оказываются лишь «фоном» и в эстетическом смысле, как часть мизанкадра, и с позиций психологии восприятия, полагающей, что фон — нечто непрерывно простирающееся позади фигуры, мало дифференцированное пространство, из которого вычленяется «фигура», воспринимаемая замкнутым целым.
Так, в фильме В. Басова «Дни Турбиных» часть предметов выступают как фигуры. Печка — на ней пишут послания и к ней жмутся герои, ищущие тепла среди холода революционной зимы». Кресло — мы несколько раз видим Алексея Турбина — главу семьи, отвечающего за благополучие дома — сидящим в кресле с поджатыми под себя ногами, в позе, напоминающей «позу эмбриона». Такая мизансцена превращает кресло в лоно матери и выдает зрителю состояние героя, пытающегося спрятаться не только в стенах дома, но и очутиться под защитой кресла. Подсвечник со свечами — фигура для фильма даже более значимая, чем лампа для текста романа.
Для сериала «Белая гвардия» такими фигурами оказываются новогодняя ель, которую наряжает Елена в первой серии, зеркала, отражающие героев, удваивающие пространство, дрожащие от взрывов, и стол, на котором стоят самовар и бутыль водки, которую принес Мышлаевский.
Если посмотреть на экранные версии интерьеров квартиры других интеллигентов рубежа ХХ века, например, профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце» (1988, реж. В. Бортко) или квартиру Громеко в сериале «Доктор Живаго» (2005, реж. А. Прошкин), то мы увидим очень сходный набор предметов. (Кстати, он существенно отличается от интерьера квартиры Громеко в британском мини-сериале «Доктор Живаго» (2002)).
Это связано не только с клишированным представлением художников-постановщиков о квартирах того времени. На самом деле, урбанизация в тот период уже принесла стандартизацию в оформление жилого пространства. Далеко не все дворяне, не говоря о представителях интеллигенции, имели в своем распоряжении художников и архитекторов, которые бы возводили дома, продумывая всю их обстановку. Более того, квартиры в городе в начале века, как правило, не покупали, а арендовали на время. Городские жители среднего достатка, как и сегодня, обустраивали жилище, используя специализированные журналы, на страницах которых давались рекомендации по домашнему устройству и бытовому этикету («Домовладелец», «Наше жилище», «Вестник моды», «Женское Дело»). Вопросы культуры повседневности обсуждались и в журналах более общей тематической направленности — «Городское Дело», «Петербургская жизнь».
Дворянская культура достаточно долго сохраняла в городской культуре доминирующее положение, поскольку это была единственная статусная группа внутри образованного слоя, которая обладала коллективной идентичностью, четкими представлениями о нормах поведения и правилах общения, и при этом внутри нее формировалась новая система ценностей — система ценностей разночинской интеллигенции и мещанства. Новые условия жизни делали необходимым постоянное взаимодействие (профессиональное, бытовое, матримониальное) с людьми других сословий. Со временем они должны были, как это произошло в Западной Европе, сформировать слой буржуазии, вобравший в себя потомков аристократии, университетский истеблишмент, предпринимателей, представителей свободных профессий, государственных служащих высшего звена. Этот процесс, прерванный революцией, позже продолжился уже в СССР, о чем мы будем говорить ниже.
На рубеже XIX — XX веков в России тот, кто должен был формировать новое «синтетическое» сословие, чаще всего попросту получал дворянство. Причем представители других сословий, получившие дворянство, во многом заимствовали образцы дворянского поведения и потребления. По мнению Б. Н. Миронова, «перемещения в дворянство из других сословий не нарушали, а наоборот, способствовали формированию дворянской субкультуры, сословных традиций, понятий чести, манер поведения, ментальности. Ибо никто не был так щепетилен в отношении соблюдений чистоты дворянской субкультуры, как новые дворяне».
Назревшая необходимость синтеза сословий, являвшаяся общей для всей европейской культуры, в России проявлялась в формировании интеллигенции. Этот процесс дал России целую плеяду деятелей искусства, происходивших из смешанных семей. Так, родители Марины и Анастасии Цветаевых были из разных социальных слоев. Иван Владимирович Цветаев (профессор, создатель и первый директор Музея изящных искусств) — из семьи бедного сельского священника. Несмотря на все свои звания и заслуги, он до конца жизни порой ощущал себя выходцем из социальных низов. Его жена — Мария Александровна Мейн (талантливая пианистка и художница) была дочерью Александра Даниловича Мейна, богатого и знаменитого человека, издателя «Московских губернских ведомостей», директора Земельного банка, по материнской линии — потомком обедневшего польского аристократического рода Бернацких. Именно эта социальная и национальная неоднородность, по мнению исследователей, во многом повлияла на формирование личности Марины Цветаевой и предопределила противоречивость и особенности ее поэтического дарования.
Мать Максимилиана Волошина — Елена Оттобальдовна Глазер, выпускница Института благородных девиц, по материнской линии была праправнучкой выходца из Германии лейб-медика при дворе Анны Иоанновны Зоммера. Недолго прожив в браке, она разорвала отношения с мужем, стала курить, носила мужичью рубаху и шаровары, потом нашла себе мужское увлечение — гимнастику с гирями, а затем устроилась на службу в контору юго-западной железной дороги. Ее муж — юрист, член киевской палаты уголовного и гражданского суда, коллежский советник был из семьи помещика, владевшего большим имением под Киевом — не слишком понимавший исканий супруги, с семьей он не жил.
Отец Андрея Белого, Николай Васильевич Бугаев, заслуженный ординарный профессор математики Московского университета, родился в 1837 г. в городе Душет (Тифлисской губернии) в семье военного врача кавказских войск. Мать Андрея Белого Александра Дмитриевна Егорова происходила из московской купеческой семьи. Она получила домашнее образование, не пожелав заканчивать гимназию, и знала, и любила, в основном, музыку. Они совершенно не подходили друг другу, по мнению самого Белого, но каждый по-своему повлияли на литературное творчество сына.
В предгрозовой атмосфере того времени брачные узы все чаще оказывались непрочными, что было совершенно несвойственно дворянской интеллигенции недавнего прошлого. Женщины отстаивали свое право на свободу строить свою жизнь не по традиционным канонам, а по собственному усмотрению. Так, родители Александра Блока, хотя и происходили из одной среды (университетской профессуры), не смогли жить вместе и разошлись сразу после рождения сына. На примере биографий многих знаменитых людей и мемуаров мы видим, как молодые женщины решительно рвали узы тяготившей их повседневности, стремясь реализовать себя как творческую личность не в домашнем быту, а на поприще искусства — литературы, музыки, живописи.
Это настроение замечательно передают стихи Черубины де Габриак (псевдоним Елизаветы Дмитриевой), выдававшей себя за наследницу древнего аристократического рода, таинственную поэтессу, боящуюся опозорить знаменитую фамилию, но стремящуюся к творчеству. Она присылала стихи в редакцию журнала «Аполлон» и сумела заочно влюбить в себя всех, во главе с известным петербургским искусствоведом и издателем Сергеем Маковским.
С моею царственной мечтой
Одна брожу по всей вселенной,
С моим презреньем к жизни тленной
С моею горькой красотой.
Царицей призрачного трона
Меня поставила судьба…
Венчает гордый выгиб лба
Червонных кос моих корона
(Черубина де Габриак, «С моею царственной мечтой…», 1910).
Аристократизм стихов Черубины де Габриак оказался так привлекателен во многом потому, что в поэтах и художниках, группировавшихся вокруг журнала «Аполлон», так же, как и в Елизавете Дмитриевой, происходившей на самом деле из бедной дворянской семьи, все еще были живы воспоминания и мифы о славном прошлом, высоком призвании оскудевающей аристократии.
Однако восхищение дворянским укладом было свойственно только части «синтетического» сословия. Остальные же горожане, представители демократических слоев, активно вовлекавшихся в общественную жизнь во второй половине ХIX века, по мнению исследователей, «в большинстве своем не получили достойного воспитания, не имел манер, гигиенических привычек, и в одночасье приобрести культурный навык не могли. Для них дворянская культура являлась не просто чужой, но, более того, воспринималась как враждебная. Ненависть к барству, к элите, переносилась и на дворянскую культуру во всей ее совокупности. „Новые люди“, противопоставляя себя элите, культивировали свои недостатки, возводя их в ранг достоинств. <…> Расхлябанность и неряшество культивировались как признак богемы, чистота и опрятность воспринимались как признак ограниченности, бюргерски однообразной жизни». Пренебрежение к быту в сознании этой части общества должно было компенсироваться причастностью к высокой культуре, в частности, к искусству и литературе.
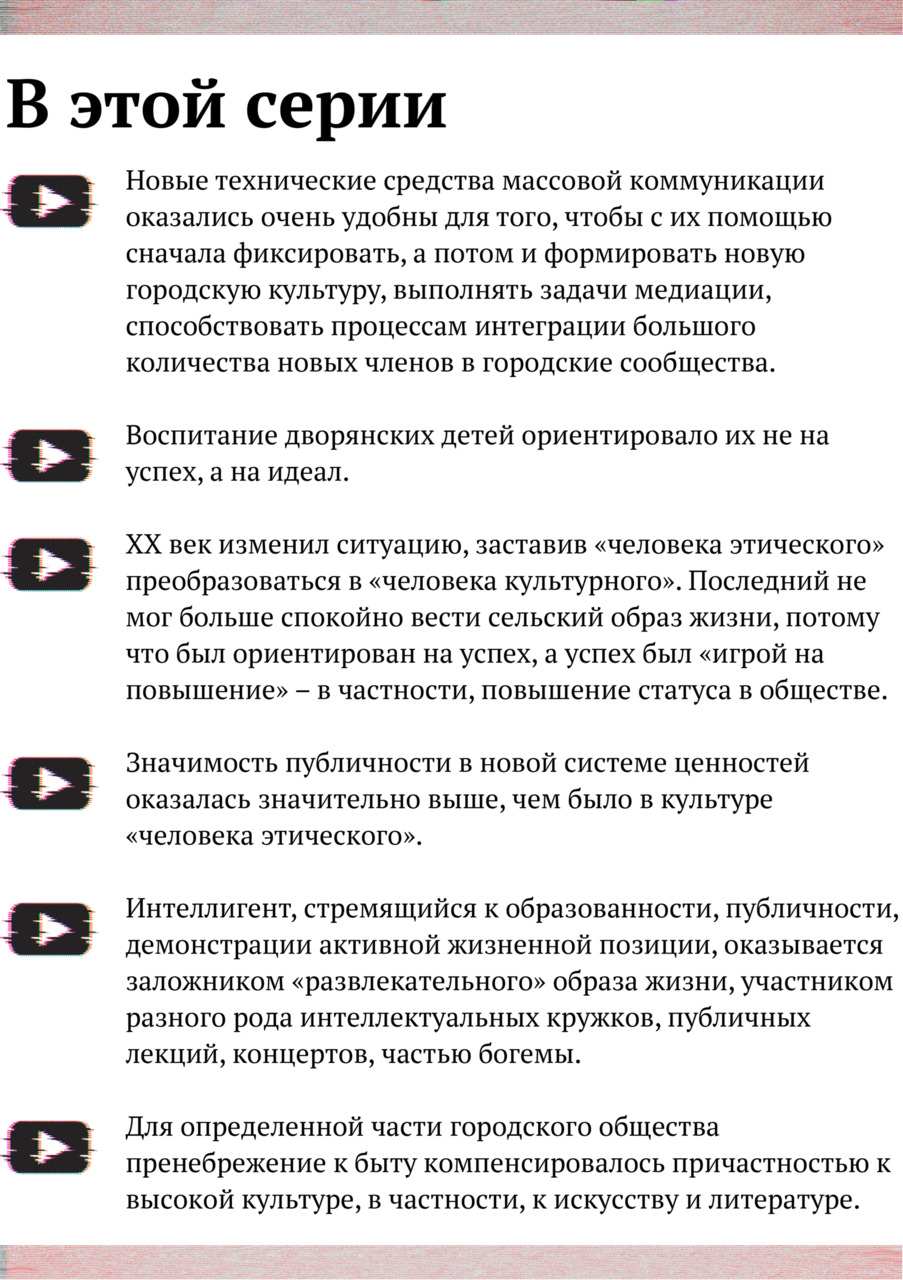
Серия 4. Смена высот. Круг чтения
Действующие лица:
Сашенька — девочка девяти лет, героиня романа А. Бруштейн «Дорога уходит в даль»;
Читатели и издатели журнала «Нива», «Журнала для всех», газеты «Русское слово» и «Петербургская газета».
Излюбленным времяпрепровождением культурного сословия было чтение. В дореволюционной России иметь собственную библиотеку стремились не только дворяне, но и купцы, небогатые разночинцы, бедные студенты, причем не только в крупных городах, но и в провинции, и в отдаленных усадьбах. «Всякую свободную минуту папа читает газеты, журналы, книги, последние новинки медицинской литературы», — пишет о своем отце (провинциальном враче) в автобиографической повести А. Бруштейн.
О книгах, завораживавших детское воображение, о кабинете отца, который был для детей святыней, вспоминают практически все мемуаристы. Книги были важной частью жизни детей русской интеллигенции. В своих воспоминаниях Н. И. Пирогов писал: «Я помню, с каким восторгом я ждал книги в подарок от отца: „Зрелище вселенной“, „Золотое зеркало для детей“, „Детский вертоград“, „Детский магнит“, „Пильпаевы и Эзоповы басни“ и все с картинками, читались и перечитывались по нескольку раз и все с аппетитом, как лакомства».
Ироничный гимн книжному шкафу, который произносит Гаев в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад», мог бы без всякой иронии звучать из уст любого культурного человека того времени:
«А ты знаешь, Люба, — спрашивает Гаев, — сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак книжный шкаф. <…> Да… Это вещь… (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания». (А. П. Чехов «Вишневый сад»).
Культурное сословие традиционно читало не только русские книги, но и книги на иностранных языках, а также отечественные и иностранные толстые журналы и газеты. Описывая свое детство на Волчьем Хуторе (в поместье Воронежской губернии, далеком от городской цивилизации, где не было ни электричества, ни водопровода), С. С. Куломзина отмечает:
«Культурный уровень нашей жизни был очень высоким. Моих родителей интересовало очень многое, поэтому мы не чувствовали себя оторванными не только от столицы, но и от всего мира. Книжные шкафы с русскими, английскими, французскими и немецкими книгами стояли и в коридоре, и в столовой, и в кабинете, и в гостиной. По почте приходили русские и иностранные газеты и журналы».
И такой образ жизни отнюдь не был исключительным для поместного дворянства. Быть в курсе последних мировых новостей и полемики, которая вокруг них разворачивалась, было не столько модно, сколько должно.
«Брат его [Павел Петрович Кирсанов — А.Н.] сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. <…> Он держал в руках последний нумерGalignani, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя…» (И. С. Тургенев «Отцы и дети»).
А отказ от этой традиции расценивался как признак духовного неблагополучия:
«На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями; но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха» (И. А. Гончаров «Обломов»).
«Великолепный письменный стол поразительной чистоты. На нем — очень красивая чернильница: бронзовый медведь обнимает лапами древесный пень. Чернильница — без чернил. На столе — ни одного карандаша, ни одной ручки. Однако мое внимание привлекает не это, а два внушительных книжных шкафа, битком набитых книгами.
— Твои книги?
— Нет! — Любочка энергично мотает головой. — Я не люблю читать. Это папины…
— А можно посмотреть?
— Только через стекла. Шкафы заперты, а ключи у мамы.
Я чувствую уважение к Любочкиному папе. Вон у него сколько книг! И, даже сидя в своей ссудной кассе, он читает!
Я говорю это Любочке, но она меня разочаровывает:
— нет, папа этих книжек не читает. А так внизу, в кассе, у него молитвенник. <…> Эти книги, со шкафами вместе, папа достал по случаю. Немецкие, французские, английские. Найдется покупатель — папа продаст…“ (А. Бруштейн „Дорога уходит в даль…»).
Поразительно, но такие разговоры ведут между собой девятилетние девочки. Причем, главной героине — Сашеньке — увиденного достаточно, чтобы прекратить общение с потенциальной подружкой — Любочкой, отца которой (владельца ссудной кассы), она сравнивает с пушкинским скупым рыцарем.
Особую роль в формировании литературных вкусов образующегося «синтетического сословия» играли, безусловно, «толстые» журналы. Именно они первыми оказались на передовой разворачивающейся битве «низкого» с «высоким». На страницах журналов формировался дискурс, ставший основой интеллигентского дискурса, о котором мы говорили выше. На рубеже ХХ века «толстые» журналы практически полностью заменили собой литературные салоны, столь популярные в предшествующую эпоху. Культурное сообщество вполне довольствовалось чтением полемики, разворачивающейся на журнальных страницах. Острота революционных бурь на время отступила, и толстый журнал, которому предрекали гибель, вновь оказался на гребне волны, подтверждая, что остается удобной формой для углубленного анализа пережитого.
О роли социал-демократических журналов в развитии революционных настроений народных масс (на самом деле имеет смысл говорить не о народных массах, которые не читали политические дискуссии, разворачивавшиеся на страницах прессы, а об интеллигенции, формировавшейся под влиянием этих дискуссий, становившейся одной из движущих сил революции) писали в советское время достаточно много, начиная с В. И. Ленина (например, «Задачи русских социал-демократов»). Однако «массовые журналы» играли в то время не менее важную роль.
Особую роль в формировании представлений о культуре у небогатых людей (так называемого мещанского сословия, выходцами из которого были многие представители интеллигенции) играл журнал «Нива» и его литературные приложения. «Нива» создавалась как еженедельный литературный, иллюстрированный журнал, в котором основное место отводилось беллетристическим произведениям. Кроме того, в нем были познавательные материалы: биографии знаменитых людей, путешествия, популярные статьи о науке и технике, искусствах, этнографии народов России и т. д. Мы бы сейчас сказали, что в концепции журнала был использован принцип инфотейнмента.
Достаточно быстро «Нива» превратилась в своего рода символ провинциальной России. Цветные репродукции из журнала украшали стены вместо картин, в качестве приложений издавались как собрания сочинений русских и иностранных писателей (12 книг литературных приложений в год в хорошем оформлении), так и календари, художественные альбомы, журнал «Парижские моды» (12 номеров в год). Во многом благодаря этим приложениям, а также низкой цене на подписку журнал имел самый высокий тираж среди всех журналов России. Уже через год после основания журнала его тираж составлял 9 тыс. экземпляров. Это было в два раза больше, чем тираж популярных толстых ежемесячников, таких как «Вестник Европы». «Нива» опережала по количеству подписчиков даже ежедневную прессу.
Несмотря на обилие ироничных отзывов со стороны интеллектуальной элиты, которые презирали «Ниву» за потворство низким мещанским вкусам, а также на бдительное внимание цензуры к журналу (журнал транслировал вполне консервативные идеи, претензии цензоров касались, преимущественно, популяризации научных знаний), его тиражи росли из года в год. В 1904 году он набрал 275 тысяч подписчиков, абсолютный рекорд популярности, который так и не удалось превзойти ни одному изданию прежней России. В книге Е. Динерштейн «Фабрикант читателей: А. Ф. Маркс» автор приводит многочисленные примеры широты социального состава подписчиков журнала «Нива». Отзывы о нем читателей, людей незаурядных, оставивших свой след в истории отечественной культуры свидетельствует, что журнал сыграл роль первоначальной школы для многих писателей и художников, вышедших из народных низов.
Почти 50 лет (с 1869 по 1918 гг.) этот иллюстрированный журнал для семейного чтения, носивший подзаголовок «Журнал литературы, политики и общественной жизни» формировал картину мира российского читателя. Н. И. Полетика вспоминал:
«Бабушка не выписывала газет, но каждый год подписывалась на „Ниву“ с приложениями. Велика заслуга издателя Адольфа Маркса в истории русской культуры! Ведь он дал небогатой русской интеллигенции собрание сочинений классиков, изданных хорошо и дешево. Мы с братом читали „Ниву“ и приложения взахлеб, жадно дожидаясь очередного номера журнала. <…> Могу сказать, что первые понятия о том, что хорошо и что плохо, что честно и нечестно, справедливо и несправедливо, мы получили не только от матери и бабушки, но и от великих классиков русской литературы. „Нива“ знакомила нас с наиболее крупными событиями русской и заграничной жизни. Пояснения матери, очень начитанной и умной женщины, весьма помогли нам в понимании событий».
Страницы изданий «Нивы», включая журнал и приложения, имели сквозную нумерацию страниц для последующей брошюровки годовых комплектов, обложки к которым рассылались редакцией.
Н. Б. Ветошникова рассказывала о жизни своей семьи в 1920–1930 годы:
«В квартире была комната, примерно 24 метра, библиотека. Говорили раньше библиотека. В этой комнате стояло два огромных, громадных даже, шкафа с книжками, несколько стеллажей, один шкаф невысокий был. Было очень много книг. Все классики были — русские и зарубежные. Было очень много журналов. Я помню, был „Огонек“. С тех пор, как он начал издаваться, с 1902 года. Очень интересный был журнал, там было много познавательных статей. Детские журналы были, по мере взросления детей. Были „Светлячки“, потом „Задушевное слово“. Причем, надо сказать, что дедушка научил мальчиков и мою маму, они сами переплетали эти журналы. До меня эти журналы дошли уже в переплетенном виде».
Большой популярностью пользовалась и продукция издательства «Знание», выросшего из деятельности объединения, получившего название «Среда». Участники этого кружка, собиравшегося по средам в доме писателя Н. Д. Телешова, приняли активное участие в выпуске журнала под символичным названием «Журнал для всех». Его издатель В. С. Миролюбов достаточно быстро превратил иллюстрированный журнал для народного чтения с религиозно нравственным уклоном в достаточно серьезное издание, печатавшее не только лучшие рассказы русских и иностранных писателей, но и научно-популярные очерки, рассказы о путешествиях и этнографические заметки, жизнеописания замечательных людей прошлого и настоящего.
Кроме того, «Журнал для всех» имел традиционные для толстого журнала отделы: «Политическое обозрение», «Внутренняя хроника». С журналом сотрудничали А. П. Чехов, Л. Н. Андреев, А. И. Куприн, В. В. Вересаев. По мнению современных исследователей, «Журнал для всех» выполнял сложную двойную задачу:
«с одной стороны, „усложнял“ содержание популярной литературы для народа; с другой стороны, демократизировал „интеллигентскую“ литературу добиваясь простоты, ясности, доступности изложения применительно к широкому читателю».
На наш взгляд, эти журналы и их издатели брали на себя одну из важнейших функций интеллигенции — функцию коммуникатора между «высоким» и «низким», «старым» и «новым», «традицией» и «прогрессом» и т. д. Являясь популяризаторами культуры, адаптируя «высокое» к восприятию массами, они претендовала и на то, чтобы определять, что достойно быть адаптированным. В результате этой деятельности формировались те особые отношения доверия между журналистами и читателями журналов, о которых мы писали выше. Практики читательской домашней полемики по поводу газетно-журнальных публикаций сохраняются второе столетие, в значительной мере переместившись сегодня в социальные сети. Старые журналы, как дореволюционные, так и советские, в бумажном виде, а не оцифрованные, до сих пор хранятся в некоторых семьях, если не в городской квартире, то на дачных чердаках. Читательские практики взаимодействия с бумажными изданиями, которым исследователи пророчили полное исчезновение, сохраняются до сих пор, порой приобретая премиальный статус.
Еще раз подчеркнем, что все эти журналы, к которым так бережно относились несколько поколений русской интеллигенции, совсем не были элитарными. Это была качественная продукция, рассчитанная на массового читателя, носителя традиционных представлений о красоте и этике. При этом они оказали огромное влияние на формирование целостной и общей для значительной части россиян картины мира — нового мира, расставшегося с традиционным обществом и формирующего общество индустриальное.
Появление массовой прессы и массовой литературы, превращение части элитарной литературы в массовую стало поводом для формирования социального мифа о литературоцентричности российской культуры. Мифа, сохранявшего свое воспитательное значение и после революции, практически в течение всего ХХ века. Этому немало способствовало активное сотрудничество русских писателей с газетами и журналами, что оказало серьезное влияние и на литературный процесс в целом.
Журналы и газеты отражали ускоряющийся ход времени, заставляли литературу подстраиваться под этот ход. Они вынуждали писателей организовывать повествование серийно (чтобы большое произведение выходило в журнале и газете частями) и формировать новые жанры. Продолжением этой тенденции стал «короткий роман» или «микророман», о котором размышляли исследователи чтения конца ХХ века: «Микророман — сегодняшняя реальность, компактный жанр, поспевающий за нашим быстротечным временем. Беллетристика с вымыслом, пружинистой интригой, новым сюжетом. <…>. Интернет принимает микророман как жанр, удобный для чтения на компьютере. Рождается „автомобильный микророман“ — на 90 минут слушания аудиокассеты на работу и обратно. Что бы ни предрекали скептики, никакие жанры не умирают. Можно предположить, что следующий век уделит микророману большее внимание: есть жанровая ниша, в которой замысел романа аккумулирует энергию на площади два печатных листа».
Феномен «цифрового чтения», о котором идет речь в приведенной цитате, лишь один из этапов рефлексии по поводу изменяющейся практики чтения под влиянием технологий. Газетные издатели и редакторы начала ХХ века не хуже наших современников ощущали новые веяния эпохи и специфику медиа. В частности, В. М. Дорошевич, согласившись редактировать газету «Русское слово», понимал, что газета влияет на повседневность больше, чем журнал, и писал об этом в одном из писем:
«Газета… Утром вы садитесь за чай. И к вам приходит добрый знакомый. Он занимательный, он интересный человек… Он рассказывает вам, что нового на свете. Рассказывает интересно, рассказывает увлекательно… Но то, что он говорит, должно быть основательно, продумано, веско… Вот, что такое газета. Газета… Вы сидите у себя дома. К вам приходит человек, для которого не существует расстояний. Он говорит Вам: „Бросьте на минуту заниматься своей жизнью. Займитесь чужой. Жизнью всего мира“. Он берет вас за руку и ведет туда, где интересно… И, полчаса поживши мирной жизнью, остаетесь полный мыслей, волнений и чувств. Вот что такое газета».
Поразительно похоже на то, что в середине 1950-х годов будут говорить о телевидении!
После революционных событий 1905–1907 годов тиражи газет резко увеличиваются, они все больше ориентируются на сенсации, любопытные толпе. На это сетуют многие известные публицисты тех лет. Но остановить процесс нельзя — время ускоряется, и ситуация становится все напряженнее. На провинциальных железнодорожных станциях люди ждут поезда с газетами, газеты быстро расхватываются. То же самое происходит около почтовых контор. Газеты выписывают вскладчину, читают по очереди или вслух. Времени на осмысления событий становится все меньше, а с ним уменьшаются и возможности прогнозировать будущее.
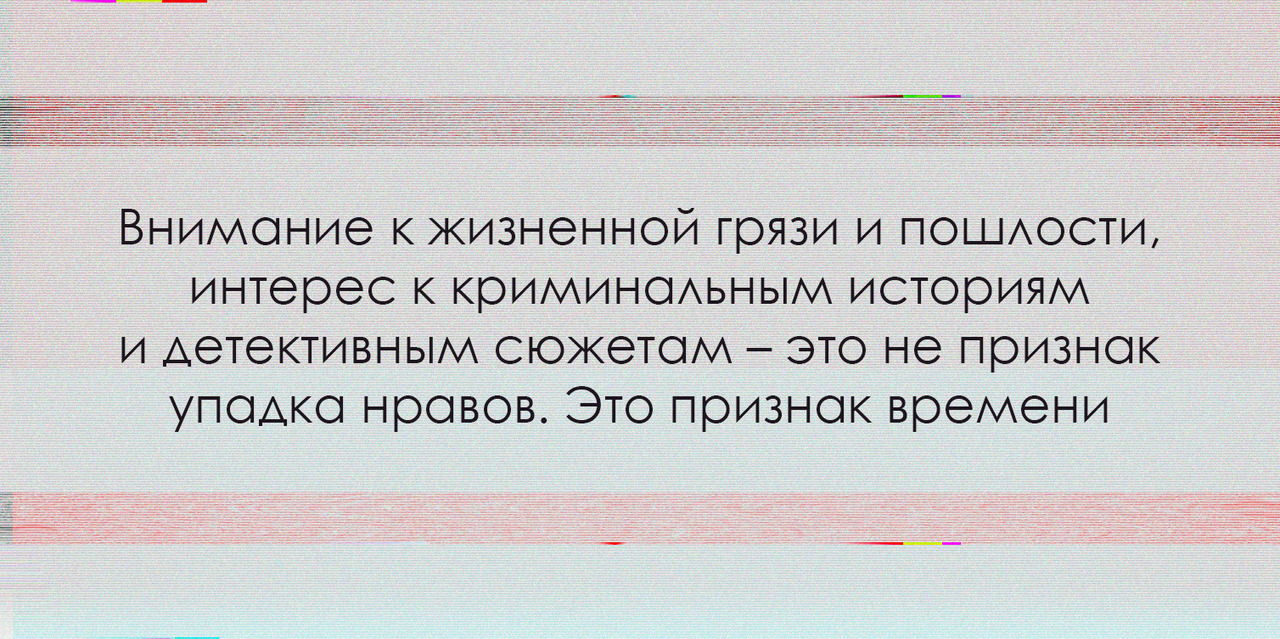
Несмотря на то, что в начале ХХ века в России существовало несколько типов газет: «большая» (аналог современной качественной), «малая» (массовая) и «дешевая» (бульварная), а также чисто информационная газета — все они сосредотачивались на информации о «низких» сторонах жизни. Как и сегодня, газеты уделяли много времени криминальной и судебной хронике. Причем, внимания удостаивались и громкие процессы политического характера, и бытовые преступления:
«Воронеж, 19, VIII. В полицейский участок явились две до крайности изможденные девочки, дочери бывшего железнодорожного кондуктора Гусева, и со слезами на глазах просили полицию защитить их от истязаний отца. Как выяснилось из дознания и опроса соседей, Гусев постоянно пьянствует, развелся с женой и жестоко истязает дочерей. Он часто бьет их железным прутом и веревками, затыкая рты, чтобы крик их не услышали соседи. После побоев он запирает девочек на замок и морит голодом. Обе девочки освидетельствованы врачом. На теле у них оказались большие кровоподтеки и ссадины. Дознание вместе с заключением врача переданы судебной власти» (Отец-зверь // «Русское слово», 2 сентября 1909 г.).
Внимание к жизненной грязи и пошлости, интерес к криминальным историям и детективным сюжетам — это не признак упадка нравов. Это признак времени. Г. Честертон в 1901 году, выступая в защиту детективной литературы, говорил о том, что детектив играет немалую роль в сохранении нормальной жизни общества: «Прежде всего детективы — единственный и первый вид литературы, в котором как-то отразилась поэзия современной жизни». «В детективном романе, — Честертон говорит о „Записках о Шерлоке Холмсе“ Артура Конан Дойля, — нам открывается большой город, дикий и независимый от нас», ощущается романтика современного города. Он сравнивает популярные детективы с балладами о Робин Гуде — «такие же грубые и освежающие». Да и отношение к преступному миру у него далеко не однозначное, ведь преступление в большом городе, по его мнению, часто — бунт против автоматизма цивилизации, которому человек противопоставляет развал и мятеж. Полицейские же — удачливые странствующие рыцари, защищающие нас: «Рассказ о недремлющих стражах, охраняющих бастионы общества, пытается напомнить нам, что мы живем в вооруженном лагере, в осажденной крепости, а преступники, дети хаоса — лазутчики в нашем стане. Когда сыщик из детектива несколько фатовато стоит один против ножей и револьверов воровского притона, мы должны помнить, что поэтичен тут и мятежен посланник общественной справедливости, а взломщики и громилы — просто старые добрые консерваторы, поборники древней свободы волков и обезьян. Да, романтика детектива — человечна».
Криминальная хроника в газетах, разумеется, тоже передавала «романтику современного города», но далеко не всегда она была очень человечна, хотя и прикрывалась охраной бастионов общества. В поисках скандалов газеты не щадили ни коронованных особ, ни их приближенных. Так, например, Григорий Распутин долгое время был героем или антигероем весьма различных газет, которые полемизировали о его месте в жизни России. В газетной полемике тех лет одни рассматривали Распутина в народной традиции странничества и старчества, другие — рисовали его страшным развратником, хлыстом, пьяницей:
«Думаем, что мы не будем далеки от истины, — писала в 1914 году газета „Московские ведомости“, — если скажем, что Распутин — „газетная легенда“ и Распутин — настоящий человек из плоти и крови — мало что имеют общего между собой. Распутина создала наша печать, его репутацию раздули и взмылили до того, что издали она могла казаться чем-то необычайным. Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою тень».
Не щадили журналисты и всенародно любимых артистов, ведь рассказ об их жизни привлекал внимание публики. Так газета «Русское слово» (по нашим представлениям, информационная газета) писала:
«Ф. И. Шаляпин попал в несколько неловкое положение. Какой-то уличный издатель (уж не пресловутый ли г. Максимов — можно узнать по ушам) издал книжку: „Таинственный случай с Ф. И. Шаляпиным“. Целая стая мальчишек сует их прохожим и оглашает воздух своими выкриками. <…> Наш читатель уже догадывается о каком „случае“ идет речь в книжке. О спиритическом „чуде“, происшедшем в его имении» (Торгашеская беззастенчивость // «Русское слово», 22 (09) сентября 1905 года).
Если же речь шла не о русской жизни, а о заграничных происшествиях, газеты и вовсе позволяли себе опираться на слухи.
«В Мадриде очень много говорят о загадочном происшествии, едва не стоившем жизни королю Альфонсу. Король прогуливался с одним из своих учителей по парку. Вдруг раздался выстрел, и пуля пролетела мимо головы короля. Кто выстрелил — не установлено. Одни говорят, что выстрел был сделан в кролика; другие утверждают, что был арестован какой-то изящно одетый господин, револьвер которого случайно разрядился» («Новости дня», 1 февраля (19 января) 1901).
Информация, опубликованная в газете под сенсационным заголовком, вполне могла оказаться недостоверной. Это вовсе не воспринималось как трагедия. Несколько дней спустя газета могла дать опровержение, написанное таким же «легким» тоном, как и сама статья. Так 10 декабря 1903 года «Петербургская газета» опубликовала статью «Принцесса-убийца»:
«Принцесса Елизавета, жена принца Оттона Виндшгрец, дочь эрцгерцогини Стефании (ныне графини Лоней) и покойного эрцгерцога Рудольфа, внучка австрийского императора и бельгийского короля, совершила в Праге покушение на убийство актрисы Циглер. Принцесса знала, что эта особа была любовницей принца Оттона. Подозревая, что муж и разлучница встречаются на вилле Вельшовельц, в окрестностях Праги, принцесса отправилась туда. Лакей, охранявший дверь, пытался не впустить ее. Принцесса вынула револьвер и выстрелила. Легко раненый «страж» постыдно бежал. Тогда принцесса свободно вошла в комнаты и нашла мужа и актрису в весьма легкомысленных позах. Раздались два выстрела, и любовница принца упала тяжело раненая. Принцесса хотела стрелять в мужа, но тот со страху спрятался под кровать и принялся плакать, умоляя разъяренную супругу пощадить его жизнь. Принц просидел в своем убежище более часу. Наконец принцесса сама вышла из виллы и заявила о своем преступлении.
— Я хотела убить и мужа, но он оказался чересчур жалким трусом» («Петербургская газета», 10 декабря (27 ноября) 1903 года).
А через три дня история получила продолжение:
«Как оказывается, вся история с попыткой принцессы Виндишгрец, внучки императора Франца-Иосифа, убить любовницу своего мужа и актрису Циглер — вымышлена от начала до конца. Автор выдумки одна из товарок г-жи Циглер. «Убитая по-прежнему выступает на театральных подмостках. С другой стороны, «убийца» готовится вскоре произвести на свет ребенка, т. е. не покидает своей комнаты, а тем более не может совершать экскурсий для выслеживания своего мужа. Все хорошо, что хорошо кончается» (Скандал с принцессой // «Петербургская газета», 13 декабря (30 ноября) 1903 года).
Разумеется, подобные статьи были чрезвычайно далеки от высоких просветительских идеалов российской интеллигенции. Издательское дело в России, пытавшейся в начале ХХ века встать на капиталистический путь развития экономики, становилось бизнесом. И конечно, акционерные общества, делавшие деньги на таком священном для интеллигенции «товаре» как книги, журналы и газеты, не могли не вызывать настороженное отношение, а порой и гнев, у русских журналистов и общественных деятелей. Ведь попирались два важнейших идеала интеллигенции: презрение к богатству и самоотречение ради просвещения масс.
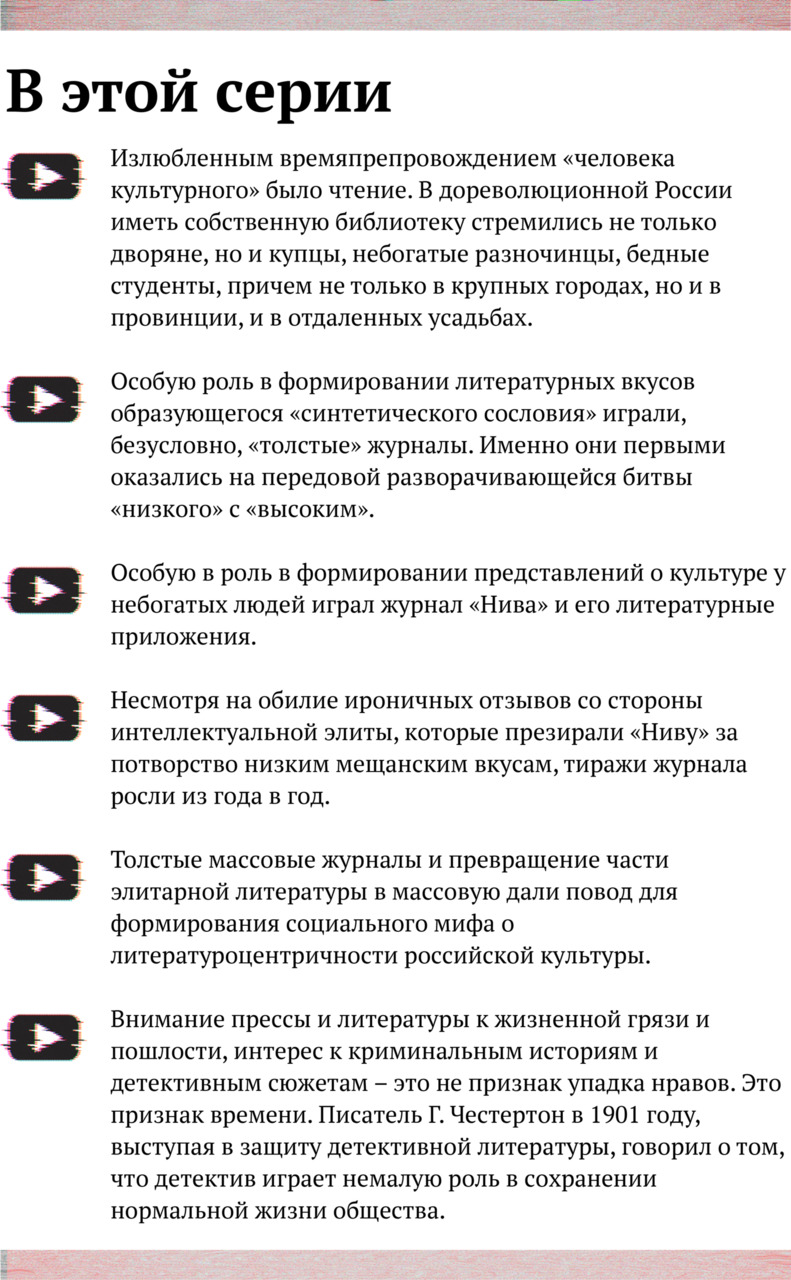
Серия 5. Публика балаганов и синематографа
Действующие лица:
Александр Блок — поэт;
Максим Горький — писатель;
Александр Ханжонков– кинопромышленник;
Александр Дранков — кинопромышленник;
Яков Протазанов — кинорежиссер;
Горожане, посетители синематографа.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
