
Бесплатный фрагмент - Волчий лог
Вступление
Эта книга посвящается памяти моего отца, его друга детства и всем мальчишкам, чьи лучшие годы юности выпали на это тяжёлое, военное время. Всё, что здесь написано, имело место быть в данной местности и в данное время. Записано мною с рассказов моего отца о его военном детстве. Имена героев вымышленные, но… дорогие мои земляки, если кого и задел, обидел чем — простите Христа ради, не для славы писал, а для памяти, что — бы помнили, как всё это было на самом деле.
Всё, что касается деревни — всё правда. Всё остальное — домыслы основанные на фактах и архивных документах того времени.
С уважением и низкий Вам поклон.
Валерий Голев.
Имя Сталина в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталина нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
8 марта 1953г.
В. С. Высоцкий.
…жители живут довольно хорошо; занимаются скотоводством, ловят в борах много тетеревей, стреляют белку. Для них в том нет неудобства, что далеко от погоста, что кругом их пустыня; для их счастья немного нужно: было бы в избе тепло, был бы кусок хлеба, скот в загоне, да подать была оплачена — и они счастливы в этой глуши.
Исследователь В. Н. Латкин, побывавший в 1843 году в верховьях реки Ижмы.
Глава 1
Почтальонша пришла поздно, мать её уже не ждала, стукая и прокатывая доской-рубелем по намотанной на скалку утирке, гладила на обеденном столе стиранное и подсушенное намедни бельё. Бах, трррр…, бах, трррр… глухо разносилось по избе. Ребята как всегда легли на полу, единственная сестрёнка Маша, сидела на кровати, она ложилась с матерью. На печи кряхтел и тихо покашливал дед Вова. Вместе с почтальоншей зашёл сосед, Тихон Васильевич, старый, Верхнедонской казак, воевавший ещё в «германскую» с австрийцами. Он до морозов ходил в синей фуражке с красным околышем и в шароварах с лампасами, заправленными в латаные валенки. На селе его дразнили дедом «Тишуней», он не обижался, в вопросах мировой политики он был первым дипл матом, дед всегда говорил это слово, раздельно, считая, что так, как он выражался, глубсвенней.
«Я… новостей с фронта послухать. Дозволь». — Обратился он к матери и, не дожидаясь ответа, опустился на корточки у притолоки двери. Ванька одиннадцати лет и Володька восьми лет средний и младший братья, продолжали пихаться под старым лоскутным одеялом, на полу, на подстилке, стараясь занять, как им казалось, лучшее место, с краю у печки. Старший брат Мишка, тринадцати лет, вылез из-под овчинного тулупа, под которым он любил спать и сел на пол, обняв руками колени.
«Ну, будя, будя!». — Прикрикнул он нарочито зло, на расшумевшихся братьев. Возня под одеялом прекратилась, но Ванька и Володька не стали высовываться из-под цветастого одеяла, они очень не любили когда тараканы, ползающие по потолку, падали им на головы и шибуршались в подстилке. Уж больно долго их приходилось вытряхивать, а тараканы, рыжие, прусаки и большие чёрные уже проснулись и вовсю шуршали под газетами, которыми был оклеен потолок и стены избы. Ходики, висевшие на кухонной перегородке, мерно тикали покачивая маятником, стрелки показывали без четверти одиннадцать. В углу на восход, перед Образами, янтарной капелькой горела лампадка. Иконы, стоящие на полке, были накрыты, аккуратно расправленной, белой, расшитой красными узорами, утиркой. Под стеклом икон, лики Святых обрамлены дутым стеклом золотистого и серебристо-зеркального цвета, по краям украшены красными, синими и жёлтыми бумажными цветами. Мать, сложив выглаженное бельё на кровать, выкрутила побольше фитиль керосиновой лампы, пламя загорелось ярче и повесила лампу над дубовым столом, они с почтальоншей сели на лавку, бережно развернув треугольник и положив письмо на стол, мать начала читать.
«Здравствуйте милые и дорогие мои родные папаша Владимир Архипович и любимая, дорогая супруга Анна Владимировна и милым, дорогим деткам: Мани, Миши, Вани, Володи от супруга и папаньки вашего Петра Михайловича, шлю я вам свой сердечный привет и с любовью низкий, дорогой поклон и желаю я вам от Господа Бога доброго здравия и всего наилучшего в жизни вашей. Ещё шлю я сердечный привет и с любовью низкий, дорогой поклон своячнице Дуне с Толей и мамане Аксинье Фёдоровне и желаю я им от Господа Бога, доброго здравия и всего наилучшего в жизни их ней. Ещё передавайте пламенный привет от меня всем моим родным и знакомым, и желаю я им от Господа Бога, доброго здравия и всего наилучшего в жизни их ней. Во первых, спешу сообщить я вам дорогие мои папаша В. А. и милая, дорогая Анюта, что я, пока по милости Божьей, нахожусь жив и здоров. Письмо я ваше получил, которое послано вами 30 июля, за которое я вас сердечно благодарю со товарищами. Мы все трое вмести, Дубовской Тишаков и Кривополянский Погонин.»
Почтальонша достала из сумки, какую ту металлическую штуку, похожую на карандаш и стала ковырять её булавкой, отстегнутой от отворота своей кофты.
«Что это?». — Спросила мать.
«Да вот, нонче на дороге нашла». — Ответила та и продолжала тыкать булавкой. Мишка увидел непонятную штуковину, поднялся с пола и подошёл к столу.
«Дай мне». — Сказал он и протянул руку. «Дай, я гляну». — Громко попросил он. Мать перестала читать и зло сказала:
«Зараз ложись спать, завтра в школу вас не подымешь». Мишка, недовольно ворча, стал опять укладываться.
«… Милая и дорогая Анюта новостей у нас пока нет, ни каких. Ждём, нонче или завтра пошлют в бой. Дорогая, ещё написать письмецо вам придётся или нет, также и от вас, не — то дождуся, не — то нет. Таперече видно, что Господь пошлёт, его Святая Воля, какая моя судьба никто не знает. Дорогие детки, слухайте дедушку, он вас научит добрым делам. И маманькю слухайте и помогайте ею. Дорогие сынок Миша, Ваня, Володя рвите коровке сор, кормок. Я на вас надеюсь, потому, что вы стали большие. Милая и дорогая Анюта, пока писать больше не чего, остаюсь жив и здоров, того и вам желаю быть здоровыми на всегда. Получите письмо, пишите ответ, я буду ждать. Ещё терпение и пропишите, какие новости и как живёте.
За тем, будьте здоровы, и до свидания, и прощайте».
Тихон Василичь, внимательно слушал и, прищуривая левый глаз, молча крутил козью ножку. Скрутив, засыпал в неё с желтой, морщинистой ладони махорку и завернув края, чтоб махра не высыпалась, встал кряхтя, прикурил от лампы.
«Да…, не сладко им там, не всё таперече дозволено им гутарить, немец прёт на нас, силой великой». — Раскурив козью ножку, подытожил он услышанное. Только он сел, раздался взрыв, звон стекла и сильная вспышка озарила избу. Какое-то время была жуткая тишина, только тараканы продолжали шуршать в полной темноте, и было слышно, как керосин булькает, вытекая из лампы, валяющейся на полу.
«Боже милостивый, что это. Царица Небесная?». — Прошептала мать, подняла лампу и стала её разжигать, трясущимися руками чиркая спичкой.
«ААА…». — Заорала почтальонша нечеловеческим голосом.
Она вскочила с лавки и бросилась к ведру с водой в стряпку, за перегородку. В тусклом свете керосинки, коптившей без стекла, было видно, что кисти левой руки у неё нет. Она окровавленную культю окунула в ведро, вода тут же окрасилась в алый цвет. Мишка вскочил, резко отбросив тулуп под лавку.
«Доигралась, я говорил, дай, доигралась». — Кричал он почтальонше. Она сунула культю во второе ведро, вода тоже стала красной от крови, подняв изуродованную руку кверху и обхватив её здоровой рукой со страшным криком, толкнула ногой дверь и выскочила в сени там, грохнув задвижкой выбежала на улицу громко крича.
«ААА…». — Голос её удалялся. Мишка, в одних кальсонах, босой, бежал за ней хлеща не завязанными штрипками по земле.
«Доигралась, доигралась». — Кричал он. Ванька и Володька молча, лежали на полу, только глаза были видны из-под одеяла. Маша приподнялась с подушки, с белым, как пшеничная мука, лицом от страха. С печки, отодвинув цветастую занавеску, крестился и дрожащими губами, шептал молитву Николаю Чудотворцу, дед Вова, удивлённо смотря вниз. Тут раздался тихий стон Тихон Васильевича.
«Анюта…, Анют, глянь-ка». — Тихо прохрипел он. «Всё, настал мой час». — Еле выдавил он из себя. Мать взяла лампу, поднесла её к лицу деда. Шея у него была в крови, рука, которой он держался за шею, тоже была в крови и из неё, торчал кусок мяса.
«Боже ж ты мой. Царица Небесная». — Причитала мать. Она тихо отняла его руку от шеи, кусок мяса, звучно чмокнув, упал на деревянный пол. Мать взяла полотенце, намочила его и аккуратно провела по шеи. «Нет тут ничего, хрыч старый, напугал до смерти. Кусок прилип просто». — Закричала мать на него. «Иди домой, убраться мне здесь надо». Дед кряхтя встал держась рукой за шею и медленно вышел в сени.
«А всё немцы проклятущие. Чтоб им… повылазило». — Пробурчал он себе под нос.
Утром, Ванька вышел из дому, как всегда последний, братья не любили ходить вместе, учились они в разных классах и поэтому ходили порознь. Из-за кустистого холма за речкой на горизонте, где был деревенский погост, вставало большое, жёлтое, как яичный желток, солнце. Деревянные и железные кресты, поблёскивая крашенными глянцевыми гранями, пускали в сторону деревни солнечные блики. Ванька, прищурившись, посмотрел на погост и нехотя, закинув школьную сумку за спину, подумал:
«Трошки там не оказались, во ка». И поплёлся в школу. Когда он подходил к колючей проволоке охраняемой зоны поста воздушного наблюдения, расположившегося не далеко от школы на краю села, его догнал закадычный друг Володька, сосед.
«Слыхал, как у нас давеча бабахнуло. Почтальонше руку оторвало». — Начал взахлёб рассказывать Ванька.
«Слыхал». — Прервал его Володька. «Мать твоя утром к нам приходила за стеклом для лампы. Что же это так рвануло а?».
«Мишка, брат, гутарил, что взрыватель от гранаты, аль от мины». — Ответил Ванька. «Наверное, солдат, какой-нибудь потерял, а может немцы сбросили с самолёта, они нам нарочно такие штучки подбрасывают, когда летят над нами. Помнишь, нам капитан ПВО в школе рассказывал». Над головой ребят, раздалось прощальное, журавлиное, курлыканье. Неровный, неспешно перестраивающийся клин серых журавлей медленно летел в далёкие, невиданные, тёплые края. Мальчишки, задрав головы вверх, придерживая руками кепки, стали считать. «Сорок восемь». — Сказал Ванька.
«Не… сорок девять». — Не согласился Володька. Так споря и пихаясь, они шли вдоль колючей проволоки и, дойдя до угла, где стоял часовой, остановились. «Во… глянь, ну и морда, как у кабана». — Засмеялся Володька, пальцем показывая на солдата. Тот, держа в одной руке открытую, поблёскивающую жирной смазкой банку, другой рукой ел свиную тушёнку алюминиевой ложкой. «Кабанчика этого, да на фронт, там бы жир с него быстро вытек». — Не унимался Володька. «А таперече, как хорошо, стой под навесом и жри тушёнку».
«Точно, во отожрался». — Ехидно процедил сквозь зубы Ванька и метнул, в кучу пустых банок из-под тушёнки, грудкой — куском ссохшегося чернозёма. Раздался звон пустых консервных банок.
«Ну-ка, пошли отсюда, я вам дам кабана». — Часовой вышел из-под «грибка» и взял в руки самозарядную винтовку Токарева СВТ-40, стоящую до этого у визира, на котором определялся курс пролетающих самолётов: «Быстро пошли отсюда, а то стрелять буду». Ребята засмеялись и побежали дальше, в школу.
«Есть дюже захотелось». — На бегу прокричал Ванька.
«Ага, от пустых банок так вкусно тушёнкой пахнет». — Согласился Володька.
В школе все болтали только об одном; взрыв в избе. Мальчишки спорили, от какой гранаты был взрыватель. Мишка, Ванька, Володька и даже Маша были героями каждый в своём классе. Ещё, одноклассники рассказали Ваньке и Володьке, что на другом конце деревни дезертиры у глухой Матрёны забрали козу и чуть её самою не убили. Всю избу перерыли, искали самогонку. Что хоронятся они в логу, якобы кто-то их там видел. В этот день, во время занятий, Ванька со своим другом, опять довели молодую училку до слёз. Её направили, к ним в школу, преподавателем русского и литературы, перед самой войной по распределению. Всё лето она помогала, красила, белила печь, мыла полы, окна, оттирала парты от каракуль, вместе с другими учителями готовила школу к новому 1941—1942 учебном году. Молодая, с косичками, в очках, в общем настоящая училка. Директор и остальные учителя, видя в ней желание и умение работать, приняли её в свой коллектив. С ребятами, у неё было сложнее, надо было каждый день доказывать им, что она, не слегка повзрослевшая городская девчонка, а настоящий, серьёзный преподаватель.
На этот раз, два неразлучных дружка, додумались…, во время перемены, привязали нитку к тряпке, прибили гвоздь к потолку, загнули его и продев нитку, к другому концу, привязали рыболовный крючок. Когда училка взяла тряпку, чтоб вытереть доску, перед началом урока, они прицепили крючок ей, сзади, к юбке. Все мальчишки покатывались от смеха, когда она вытирала доску, махая тряпкой вверх-вниз. Край юбки тоже поднимался и опускался, показывая белые, батистовые панталоны с кружевами внизу. Девчонки тоже смущённо хихикали, опустив глаза. Поняв в чём дело, училка оборвала нитку, заплакав, выбежала из класса и прямиком к директору.
Директор школы, в какой раз уже выведя Володьку и Ваньку за шиворот на улицу из класса, остановился в нерешительности, размышляя, что с ними делать. То патроны, неизвестно откуда принесут и подбросят в топку школьной печки, то портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса снимут со стены и повесят вверх ногами, то воробьёв притащат и выпустят в классе, теперь это. На встречу шёл командир поста отдельного взвода ПВО капитан Иванов. Бойцы этого взвода отслеживали пролетающие немецкие самолёты: курс, количество, тип, время. Вся информация, с таких постов ВНОС — воздушного наблюдения, оповещения и связи, сразу передавалась по рациям и полевым телефонам на головной пост штаба фронта, где она обрабатывалась и принимались контрмеры.
«Здорово Петрович, куда ты этих оболтусов». — Спросил капитан.
«Здорово, да вот… довели учительницу, та аж в школу боится заходить. Веду к председателю, может он на них управу найдёт».
«Погоди, не ходи, у председателя итак делов хватает». — Капитан хитро прищурился и не спеша доставая из кармана галифе кисет с табаком из другого, демонстративно поправив кобуру с пистолетом ТТ — Тульский Токарева, вытянул газету для самокруток. «Они ведь не выполняют указание товарища Сталина». — Сказал капитан, подмигнув директору и оторвав узкую полоску от газеты, стал скручивать «козью ножку». «Товарищ Сталин, что сказал? Школьники должны, в это тяжёлое, для страны время, учиться и хорошими оценками наносить удар по немецко-фашистским захватчикам». — Он ещё раз незаметно подмигнул директору и расправив свои Чапаевские усы, нагнулся, что бы прикурить от спички, зажженной директором школы. «Выходит, они не выполняют указание товарища Сталина». — Кашлянул он и продолжил. «Значит они саботажники, а по закону военного времени саботажники подлежат расстрелу». — Сурово проговорил он и махнул рукой, как будто перерубил невидимую нить. «Так, что Петрович передавай их мне. Михельсон!». — Позвал он, мешковато одетого, толстого солдата проходившего мимо. «Ты сменился, свободен?».
«Так точно товарищ капитан». — Отчеканил солдат, смешно вытянувшись подобрав живот.
«Слушай приказ. Этих саботажников». — Он затянулся и обслюнявленным концом самокрутки, показал на Ваньку и Володьку. «Отведи за большак и расстреляй». Капитан, повернулся спиной к ребятам и незаметно, показав кулак, подмигнул уже солдату. «Ты всё понял?». — Строго спросил он солдата.
«Так точно!». — Еле сдерживая улыбку, ответил тот.
«Выполняй приказ, а я пойду за лопатой, там их… и зароем».
«Ну-ка, шагай зараз вперёд». — Прикрикнул красноармеец на ребят и примкнул штык-нож к винтовке. Те, постоянно озираясь, молча, пошли в сторону большака по пыльной, разбитой автомобильными колесами и тракторными гусеницами, дороге.
«Патронов у тебя сколько?». — Прокричал им в след капитан.
«Таки не полная обойма, семь штук». — В ответ крикнул солдат.
«Хватит». — Капитан махнул, ему рукой, в сторону большака.
«Думаешь, поможет?». — Спросил директор.
«На какое-то время поможет». — Ухмыляясь в усы, ответил капитан. «А там…, живы будем, придумаем, что ни будь ещё». Ребята еле волочили ноги, они — ноги были как ватные от страха, цеплялись, за каждый ком высохшего чернозёма, сбитыми носами ботинок, но им казалось, что дорога под их ногами не медленно движется, а летит. Большак…, расстрел…, были всё ближе и ближе. Светило ещё теплое сентябрьское солнце, дул слабый ветер, в поле бил зажиревший перепел подь — полоть, подь — полоть, в деревне какой раз, устроив перекличку, на разные голоса кукарекали петухи, на чьём — то дворе лаяла собака, на лугу привязанная к вбитому калу, мычала требуя пить, телушка «Ларионычей», у ближнего к школе двора две бабы — соседки на растланной на земле дерюжке деревянными цепами обмолачивали просяные снопы, за базой, в низине перед логом, слышался ровный рокот пашущего трактора, эти родные, знакомые с рождения звуки, лились от деревни и растекались по огородам, садам, заливным лугам, выпасам и покосам, тихой, ласковой материнской песней.
«Неужели я этого больше не когда не услышу? Не когда не увижу всего этого? Неужели всё, темнота, смерть». — По телу у Ваньки пробежали здоровенные мурашки, ни когда раньше ему не было так страшно, как в эти минуты. «Этот злой, толстый ведь жахнет, не задумываясь, из-за какой — то ерунды, подумаешь…, увидели трусы у училки». — Думал Ванька. Примерно такие же мысли пронеслись в голове и у Володьки.
«Я вам таки покажу зараз, как издеваться над часовым». — Покрикивал с одесским говорком сзади солдат. «Я вам и толстую морду и жирного кабана, щас, семью патронами, припомню». Ванька незаметно перекрестился и начал шёпотом читать «Отче Наш», его жалкие, мокрые глаза от слёз смотрели в небо, туда, на медленно плывущие, белые облака, которым не было ни какого дела, на то, что происходило здесь, внизу.
Только Ванька прошептал:
«…а избави нас от лукавого».
Солдат вдруг запнулся и начал матерится. Ребята обернулись. Часовой, споткнувшись о глыбу ссохшейся земли, растянулся на дороге, подняв облако пыли, винтовка валялась в стороне, котелок, соскочив с расстегнувшегося ремня, с грохотом катился в колею. Ребята, не сговариваясь, рванули по стерне скошенного ржаного поля в сторону деревни. Так быстро они не бегали ни когда.
«Погоди…». — Почти у самой базы, перед старым овином, в зарослях высохшего бурьяна задыхаясь, крикнул Володька.
«Я, чуть было не обделался». — Запыхавшись, проговорил Ванька.
«А я уже…». — Кряхтя произнёс Володька, спустив штаны, садясь в лопухах. «Ванятк, меня три дня запор мучил, а тут…». — Он закряхтел от удовольствия. «Во…, здорово!». — Бросив смятый лист лопуха, надевая штаны, довольный, проговорил Володька.
«Я тоже неделю не могу просраться замучился булавкой гавно выковыривать, всю жопу изодрал, а зараз…, думаю получится». — И Ванька, сорвав ещё зелёный верхний лист лопуха помягче, расстегнул штаны и тоже сел на корточки.
На самой базе, посреди тока, где стояла старая запылившаяся молотилка, быстро идущих в сторону деревни ребят окриком остановил председатель. Он подъехал на подводе запряжённой «Самолётом», этот жеребец — полукровка на одну половину Дончак на другую Калмыцкая лошадь. У него была большая горбоносая голова, чуть свислый зад и немного растянутый корпус на крепких мускулистых ногах в белых чулках докален, окрас рыжей масти золотистого отлива. Красивый жеребец, настоящий Калмыцкий степняк было в нём, что-то дикое, вольное, степное. «Самолёт» кусал всех, кто подходил близко к нему, не трогал только председателя и его жену. Из-за этой непомерной злобы его и не мобилизовали в армию, оставили в колхозной конюшне вместе с семилетней жерёбой кобылой и старым мереном, который должен был сам помереть вот-вот. Когда председатель напивался «в дым» «Самолёт» вёз его, прямо домой, следя чтоб тот, не свалился с телеги.
«За вами, что волки гонятся?». — Крикнув, остановил их председатель.
«Да мы…, это…». — Начали было, запыхавшись, ребята.
«В общем, вы оба, завтра, после школы прикреплены к Кузьмичу, на отвал. Матерям хоть поможете, черти. Отрубями платить буду, а может… даст Бог, мукой». Ребята не верили своему счастью. Только что их чуть не расстреляли за саботаж, а тут работа да за муку. Председатель смачно чмокнул губами, коротко выругался и крикнув: «Но…, «японский городовой», поддёрнул ногой вожжи на которых сидел — обеих рук у него не было. Конь, скрипнув гужами, натянул упряжь, задний ремень шлеи чуть провис, жеребец мягко сделал два шага, плавно стронув телегу с места, с шага, ходко перешёл на рысь. Телега загремела окованными колёсами, которые поскрипывая в ступицах, подняли с земли невесомую как дым серую пыль.
«Во здорово. Аж есть захотелось». — Поглаживая себя по животу, на распев проговорил Ванька.
«Пошли к Ларионычу, может, цыплока утащим». — Предложил Володька.
Ко двору «Ларионычей» подкрались сзади, через высохший вишенник и заросли крапивы. У дороги надёргали ещё зелёного, сочного подорожника — куроеда, мелко его порубили складным ножом на толстом, сухом, суку старой яблони. Крадучись, подошли к кучи навоза, земля в этом месте была вся изрыта и загажена курами. Перед плетнём, вымазанным коровьим помётом перемешанным с соломой, за которым был скотный двор, рассыпали подорожник, разложили петлю из суровой нитки и спрятавшись в лопухах, стали ждать. Цыплята были уже большие и ходили без наседки. Ждать пришлось долго, дни стояли тёплые и возле навоза, было много, ещё не заснувших, мух, которые, чувствуя свои последние деньки, надоедливо жужжали и очень больно кусались. Наконец появились три, серо-пёстрых цыплёнка, они постоянно останавливались, деловито копались в унавоженной земле своими жёлтыми, трёхпалыми лапами, подолгу, разглядывая, раскопанное место. Увидев рассыпанный подорожник, замахали крыльями и наперегонки, кудахтая, подбежали и стали его клевать.
«Ну… Давай…». — Толкая в бок, шептал Ванька Володьке.
Тот ждал и когда два цыплока зашли в петлю, резко дёрнул за нитку. Петля затянулась на ноге у одного цыплёнка, второй выскочил, в последний момент. Раздалось хриплое кудахтанье цыплока. Володька быстро подтащил его за нитку, схватил двумя руками и прижав локтем к пузу, быстро свернул ему шею. Убедившись, что тот затих, сунул его за-пазух, оттопырив ворот рубахи. Цыплёнок показался Володьке очень горячим, он чуть ли не обжигал кожу на животе. Воровато оглядевшись, они помчались на своё заветное место у речки, мимо поповского сада, мимо дубовых свай бывшей мельницы, по деревянному мосту, проторенной тропинкой на противоположный берег. Там…, у воды, в кустах ивняка, они достали спрятанный чугунок, быстро ощипали цыплёнка, опалили его на зажжённом пучке соломы, выпотрошили и промыв в речной воде тушку, разрезанный и очищенный от внутренней плёнки желудок, а так же печёнку, предварительно аккуратно вырезав ножом желчь, поставили вариться на разведённый тут — же костёр. От цыплёнка, на примятой траве, осталась только кучка рябых перьев, комок кишок и пара желтых, трёхпалых лапок. В чугунок Ванька бросил, булькнув золотистую луковицу и несколько верхних листьев лебеды. Володька достал из кармана тряпицу, развязал узелок, развернул и аккуратно высыпал из неё соль в чугунок. Пока Володька подкладывал сухие ветки ивняка в огонь, Ванька достал из кустов припрятанную удочку из лещины, размотал лесу сплетённую из конского волоса надёрганного из лошадиных хвостов и насадив на крючок кусок кишки цыплёнка, отщипнув его ногтями, забросил наживку в воду. Сильно пахло пожухлым, ивовым листом, который наполовину осыпался, на половину висел на тонких серо-зелёных ветках. Ветер, как бы балуясь, тихо шуршал ими. Во рту сильно выделялась слюна от горьковато-кислого запаха ивняка и готовящейся еды. Ванька сплюнул на воду, слюна, белым комочком пены, тихо поплыла вниз по реке. Когда поплавок, из гусиного пера, подхваченный течением, выпрямился, он, задумчиво произнёс:
«Ты бы как…, как все…, в военкомат и на фронт, или как эти, в логу, в волчьей норе отсиделся бы? Я бы… в военкомат». — Не дожидаясь ответа, рассуждал Ванька. «Попросился бы в танкисты, в танке не так страшно». В кустах, завидя поживу, застрекотали сороки и теперь, гоняясь друг за другом, определяли между собой очередь, пожирания цыплячьих кишок. Над берегом реки, заросшим старыми, кривыми оскарями и густым лозняком, медленно кружил, ловя восходящие потоки воздуха, чёрный ворон и от туда, из бескрайней синевы, из-под белых облаков, раздавалось его громкое, басовито-гортанное, «кру». Чёрные бусинки зорких врановых глаз сразу разглядели причину сорочьего гама, но ворон даже и не снизился, маленький жалкий комок желто — зелёных, цыплячьих, кишок и не одной капли крови, не та добыча, ради которой стоило спускаться с таких высот. Он ещё раз издал своё двойное «кру, кру», и полетел в чернеющие пашней поля, в бескрайнюю жёлтую степь, искать большую кровь и большую поживу.
В этот момент поплавок покачнулся и резко скрылся под водой. Ванька подсёк и стал выуживать рыбину. По согнутой удочке и звенящей лесе было понятно, рыбина не маленькая. Володька подскочил к Ваньке и стал хватать за удильник.
«Отвали, не мешай». — Заорал Ванька. Володька схватился за голову руками, присел на корточки и только шептал покачиваясь:
«Слабину не давай, слабину не давай». Рыба долго сопротивлялась и Ванька не сразу, выволок её на прибрежный песок. Это был окунь, тёмно-зелёный, с чёрными полосками, настоящий горбач, фунта на два, а может и два с половиной. Володька схватил шершавого окуня двумя руками и поднял к верху. «Ух ты, ух ты…». — Орал он. «Давай, давай, забрасывай ещё». Ванька насадил свежий кусок кишки и забросил снова. Володька в этот момент взял толстую палку и два раза ударил окуня по хребту, в место, которое сразу, за головой. «Во растрещались проклятущие». — Ругнулся он на сорок. Окунь затих и он, сорвав лист лопуха, обвернул его им. «Я бы тоже пошёл в военкомат». — Начал прерванный разговор Володька. «Но ведь убьют, же и в танке убьют. Вон у Саньки «Синяка» отца убили».
«Брешешь». — Не поверил Ванька.
«Сам брешешь, надысь похоронку получили, ребята в школе гутарили. Не слыхал, что ли? А он, в танке воевал».
«Всё равно в логу прятаться не стал бы. В вонючую нору не полезу». — Сев на песок, задумчиво ответил Ванька. Поплавок опять покачнулся и пошёл в сторону. Ванька подсёк и стал выводить. В этот раз клюнул подлещик.
«Во… прёт сегодня». — Довольный проговорил Володька.
«Чё каркаешь, сплюнь». — Осёк его Ванька. «Поди, глянь, как там супчик?».
«Да готов, вон мясо от костей отстало ужо». — Склонившись над чугунком, ответил Володька.
«Давай есть, а то кишки от голода уже слиплись». — Ванька воткнул удочку в песок и подсел к костру. Вынули дымящегося, белого, аппетитно пахнущего цыплёнка и обжигаясь, разорвали его на две половинки. Съев цыплёнка, они выхлебали весь бульон одной, деревянной ложкой, глухо стуча ей о край чугуна. Остатки выпили через край. Перекусив, рыбалили до темноты. Пойманную рыбу разделили поровну. Каждый свою долю решил отнести домой.
Глава 2
Через деревню шли уже потемну.
«Зайдём к дяди Макару — трактористу, чего он нам скажет». — Предложил Ванька.
«Зайдём». — Согласился Володька. «Только давай вдвоём каждый день работать, будем лучше подменять друг дружку, а то тяжело весь день одному».
«Ладно». — Согласился Ванька.
«А, что заработаем, потом пополам».
«Договорились». — Ванька кивнул головой.
Дом Кузьмича находился у речки «Раковая Ряса», не далеко от колхозной базы.
«Во, глянь…». — Толкнул в бок Ванька Володьку. По дороге, со стороны деревни Мелеховое, вброд через речку, проезжала телега председателя. На середине реки жеребец остановился, ему было здесь покалено, он, фыркая, понюхал воду и смешно, топорща верхнюю губу, медленно цедя воду сквозь зубы, стал пить, позвякивая уделами. Зыбь заиграла на речной глади от тонких струй, стекающих с мокрых, бархатистых губ, поднятой головы жеребца. Телега выехала на песок, ребята хотели подойти к ней, но жеребец, скося назад глаза, страшно сверкнул белками, не поворачивая головы, заржал и прибавил ходу. Председатель лежал на телеге, пьяный «в дым» и что-то бурчал себе под нос. В первые дни войны он получил ранение обеих рук, перебило пулемётной очередью. Пока по жаре добирался до госпиталя, началась газовая гангрена — «Антонов огонь», руки пришлось ампутировать, его и… комиссовали. Здесь, в колхозе, сразу выбрали председателем, больше не кого, в деревне с начала войны остались только старики да бабы. Когда трезвый, он мотался по колхозу — руководил, чем мог, помогал односельчанам. В деревне теперь часто можно было наблюдать такую невесёлую картину. Хозяйка сама стояла за плугом, держась за чапыги, председатель шёл впереди, ведя коня за уздечку, зажав её во рту зубами, пустые рукава телогрейки безжизненно болтались на ветру. За помощь; кому сена привести, кому дров, кому огород вспахать, картошку окучить, деревенские бабы угощали его самогонкой, водкой, денег он с них, не брал.
«С солдаток, денег не беру». — Сурово повторял он. Наливали ему сразу полный, двухсотграммовый, граненый стакан, ставили на стол. Он подходил и говорил: «Спаси Христос». Пригнувшись, резко выдыхая, брал стакан зубами, приподымал над столом и поддерживая правой культёй, выпивал его весь, без остатка. Потом, аккуратно ставил на стол, уткнувшись носом в пустой рукав телогрейки у плеча, шумно занюхивал. Пока он проделывал фокусы со стаканом, хозяйка брала со стола сырое, куриное яйцо, ножом пробивала вверху дырочку и выковыряв скорлупки, подносила ему ко рту. Тот, выцеживал его до конца, пока не лопнет внутренняя плёнка, потом, он отпрянув, восклицал: «Хорошо…, „японский городовой“!». К концу дня напевался в «дымину», когда он чувствовал, что вырубается он, цеплял вожжи ногой, накручивал их на неё и падал в телегу на спину. Жеребец сразу понимал, что надо ехать к дому. Подъехав ко двору, «Самолёт» тихо ржал, жена председателя выходила и причитая, начинала распрягать лошадь. Потом отводила коня в стойло, стаскивала председателя с телеги и всё, причитая, тащила его на себе, в дом. Это повторялось почти каждый день. Все бабы на селе всё равно считали её счастливой. Муж её, хоть и без рук, зато вернулся живой с этой, всех и всё, пожирающей войны. В селе, уже многие семьи, получили похоронки.
В доме Кузьмича была слышна ругань, шум. Ребята подошли к окнам и стали прислушиваться.
«Не ходи Макарушка, не ходи Богом тебя молю». — Плача просила жена Кузьмича.
«Всё равно добьюсь». — Орал Кузьмич. Слышно было, как в избе заплакал ребёнок.
«Бронь, бронь, на хрена мне эта бронь. Люди там жизни свои кладут, а я тут, на тракторе катаюсь». — Продолжал орать он. «Ты, нам здеся… нужён, мать их…». — Передразнивая кого-то, не унимался Кузьмич.
«Пошли отсюда». — Тихо сказал Ванька.
«Не…, давай зайдём, за муку же». — Возразил Володька. Он тихо постучал по двери петлёй пробоя. В избе замолчали.
«Заходь. Ну, кто там?». — Зло прокричал Кузьмич. Ребята, прошли через сени и осторожно, открыв дверь, вошли в горницу. В избе было жарко натоплено, пахло тимьяном, мятой и хозяйственным мылом. В углу у кровати на низенькой скамеечке, которую используют для дойки коров, сидела бабка, она ногой, нажимая на деревянную педаль, раскручивала колесо прялки, руками, растягивала и выравнивала шерстяную нить, накручивая её на веретено. Прялка ритмично постукивала. Рядом сидела пушистая кошка, вся чёрная, только на мордочке белая полоска по носу и чуть шире между глаз. На груди белая манишка, кончики лап, тоже белые. Кошка, видно прошлась по мокрому полу и теперь, вылизывая передние лапы, умывалась. Жена Кузьмича, тётка Наталья мыла детей, босая, в коричневой юбке с зелёной оборкой по низу, мужской рубахе, косоворотке и клеёнчатом переднике, с покрытой головой, белым платком, завязанным на узел сзади, под волосами. Посреди горницы на двух табуретах, стояло оцинкованное корыто, на половину заполненное водой с мыльной пеной. В корыте сидела младшая дочка Кузьмича, мать мыла ей голову, Варька — старшая, красавица девка семнадцати лет, поливала из липового ковша. Варька была в летнем простеньком, ситцевом платье, тоже босая, на голове, узлами вверх, повязана васильковая косынка, из-под которой выбивались чёрные, как враново крыло, мокрые, вьющиеся волосы. Платье намокло и прилипнув к упругому животу у пупка и ниже где завлекательно темнело, не скрывало девичьей красоты. Когда Варька поливала двухлетней Клаве на голову, та смешно ахала открыв рот, жадно хватая им воздух и закрыв глаза, часто, часто махала ручонками. На лавке вдоль окон сидели уже помытые, в белых платочках и с чистыми, розовыми лицами. Крайний с лева сидел Петька, одноклассник Ваньки и Володьки, увидев ребят, он стал стягивать с головы платок.
«Оставь, волосы ещё не высохли». — Сурово сказала ему мать, и тот стыдливо опустив глаза, уставился в пол. Ребята, перекрестившись на Образа, поздоровались.
«А, это вы». — Проговорил Кузьмич, сидевший в углу за столом, под лампой. Перед ним, на газете лежал располовиненный карбюратор от колхозного трактора СХТЗ-НАТИ, в одной руке он держал отвёртку, в другой, жиклёр, который продувал губами и просматривал на свет. Из угла тянуло керосином. «Давай, в общем завтра, после школы, подходите, я за базой пахать буду, до большака, там где „Волчий лог“ начинается. И чтоб не спали за плугом, свалитесь под нож, что я матерям гутарить буду». — Закончил инструктаж Кузьмич. Ребята, молча, кивнули и собрались, было уходить, но Кузьмич их остановил. «Куда вы? Щас Варька мыться будет».
За кухонной перегородкой, куда та пошла набрать воды, грохнула крышка чугуна, звякнул ковш о край оцинкованного ведра. Варька вышла и поставив ковш на лавку, съехидничала:
«Зараз…, только платье сброшу». Она, скрестив руки внизу, взялась за низ платья и задрав его выше кален, сделала вид, что снимает совсем. Ребята рванули к двери, Ванька споткнулся о порог, Володька кубарем перелетел через него. Раздался громкий смех Кузьмича:
«Га, га, га…». Петька тоже засмеялся, вереща как кастрированный поросёнок.
«О…, ну будя, дурак старый. А, ты тоже, бесстыжая». — Мать шлепнула по Варькиной плотной, круглой заднице, намыленной рукой. «Постойте, куда вы, зараз вечерять будем». — Остановила ребят в сенцах Варькина мать.
«Не, спасибочки тёть Наталья, мы домой, поздно ужо». — Смущённо переглядываясь, ответили те и выбежали на улицу. Было уже совсем темно, всё небо было усыпано звездами. На деревне лениво перебрёхивались собаки. У «Ларионычей», с насеста, под железной крышей, звонко прокричал петух. Ему ответил другой, потом третий, четвёртый и кочетиная песня понеслась, покатилась по всей деревни, по всем дворам, где хозяева, ещё могли прокормить кур. Где-то далеко, пролетая над болотами, противно прокричала серая цапля. Стайка чирков над речкой пронеслась со свистом, рассекая чистый, прохладный воздух.
«На „Пупкинские болота“ полетели». — Задумчиво сказал Володька.
«Ты был там?». — Спросил Ванька.
«Был. Мы с батяней, в начале энтого лета аккурат перед войной, белый мох там драли, на новый сруб, по грудки в трясине полные корзины тягали». И Володька, приложив правую ладонь ребром, чуть ниже горла, указал, докуда доходила болотная жижа. Ванька подумал и спросил:
«Слыхал, чего Кузьмич гутарил?».
«Чё…»
«До „Волчьего лога“ пахать будем».
«Ну».
«Боишься?».
«Чё бояться-то».
«Чё, чё… „Волчьего лога“ дура».
«Зараз как дам, в нюх. Сам дура. Чего его бояться?».
Ванька задумался и тихо добавил:
«Там, кости человеческие, черепа, каждую весну вымывает. Помнишь, дед Вова рассказывал? Раньше, торговых людей, какие ехали по большаку за товарами на Липецк, Воронеж, Елец их в логу грабили лихие люди, убивали, потом закапывали, а каких так бросали. Волки там живут…, ты же знаешь. Таперече эти…, дезертиры».
Володька не чего не ответил, поднял воротник, своего старенького, драпового пальтишки и пошёл, напрямую, через жнивьё, по стёжке.
«Кошка!». — Вдруг вскрикнул Володька. По полю не спеша, скакал серо-рыжий, ушастый, зверь.
«Какая кошка. Заяц». — Ответил Ванька.
«Во здоровенный…! А их едят?». — Задумчиво спросил Володька и кинул в зайца грудкой, тот наддал веселее.
«Едят. Я в книжке читал. Да и дед „Тишуня“ рассказывал, что в „германскую“ они их ели, в Польше и в Австрии. Больно уж их австрийцы уважают». — Вспомнил Ванька.
«Во подстрелить-бы. Мяса то сколько». — Мечтательно произнёс Володька.
«Как подстрелишь? Ружья аккурат как войну объявили так у всех и позабирали». — Сердито пробурчал Ванька.
«А давай у сержанта у „Сибиряка“ спросим, он охотник, наверняка знает, как их ловить». — Загорелся Володька.
«Давай». — Согласился Ванька. За разговорами не заметили, как подошли к дому Ивана. «Ну, всё, давай. До завтря». — Тихо произнёс Ванька.
«Давай». — Ответил Володька и поплёлся к своему двору.
«Ну…, зараз начнётся». — Прошептал Ванька и толкнул рукой дверь в сени.
«Ах…, ты поразит, ах…, ты охальник. Ирод, царя небесного, ишь…, чего в школе удумали. Не кому тебя бить дьявола окаянного». — Начала причитать мать. «Твоё счастье, отец на войне. Вот подожди, вернётся, он тебе даст». Втолкнув Ваньку, из сенцев в избу, мать зачерпнула кружкой воды из ведра в стряпке и стала поливать ему на руки. Все уже улеглись, Мишка только сидел на полу и обняв руками колени ехидно улыбался.
«Пускай он бил бы меня каждый день, только бы вернулся». — Думал Ванька умываясь и начал читать про себя слыханную от деда Вовы старинную молитву о спасении ратников и переиначенную им самим во спасение отца. Вода, стекая с рук, с лица, стучала о дно таза, стоящего на полу. Ваньке казалось, что он читает молитву под самый красивый перезвон. Такой перезвон колоколов, он слышал на Пасху, на колокольне Михайло — Архангельской церкви, в Кривополянье до того как её закрыли в 1938 году. «…От пуль прицельных и от пуль шальных. Аминь». — Закончил молитву Ванька и перекрестился.
«Чего ты там бормочешь?». — Спросила мать.
«Мы завтра с Кузьмичом пахать будем». — Прошептал он. Мать успокоилась, повернулась к Образам, перекрестилась и тихо произнесла:
«Слава Тебе Господи». Вздохнув, встала на колени и стала молиться на образа. Под тихий шёпот материнской молитвы Ванька засыпал теперь каждый вечер с начала войны. Засыпая Ванька думал, почему его отец не дожидаясь повестки, пошёл на войну, ведь его там могут убить немцы, а эти…, в логу, решили в волчьей норе отсидеться, они ведь могут там всю войны просидеть и останутся живы. Всегда спокойный и тихий отец на «кулачках» на «маслину неделю» немало выпив, бил всех подряд, без разбора. Каждый год до войны, на масленицу на льду реки Раковая Ряса собирались на «кулачки» Мелеховские против Истобенских. Правила были простые, бились до первой крови или пока с ног не собьют, главное чтоб бойцов было поровну с той и другой стороны. Поэтому бывало, чтоб уровняться Истобенские вставали на другой берег, за Мелеховских и на оборот. Были и приглашённые, иногда за выпивку или ещё за что и те и другие нанимали мужиков поздоровее из других деревень, дрались и Буховские и Колыбельские и Дубовские бывало очень жарко. После драки лёд на реке был похож на кровавую снежную кашу с начинкой из пуговиц от рубах вперемешку с выбитыми зубами. Оказавшись на разных берегах отцы, братья, свояки, кумовья, сыновья, зятья лупили друг друга без разбора, в кровь. И неважно, какого ты сословия, неважно православный ты, или какой другой веры, неважно какой ты национальности, встал на этот берег всё…, дерёшься за этот берег, встал на другой…, дерёшься за другой. И если на противоположном берегу против тебя оказался брат или даже отец, всё равно махаться против них должен по настоящему, потому, что ты сам встал на этот берег. Перебегать с берега на берег было нельзя, раз встал, стой до конца пока с ног не свалят или ты не свалишь всех других. На следующий праздник, на другие кулачки можешь встать куда хочешь, а в этот раз куда встал, за тех и дерись. Думая обо всём этом Ванька и не заметил, как уснул. Как поговаривал его отец в таких случаях:
«Поееехал… в деревню Храпово».
На следующий день, после школы, друзья, побросав школьные сумки дома, переоделись в одёжу поплоше. Похлебав пустых щей из лебеды с сухарями, размочив их в щах, поев немного жареной рыбки пойманной вчера и запив всё это кислым молоком, помчались бегом по дороге к базе. Там за базой, чернел распаханный клин, на огромном, бескрайнем ржаном поле. Это поле, одним краем доходило до «Волчьего лога», а другим, уходило аж за горизонт. Трактор Кузьмича было слышно издалека. Добежав до пашни, ребята пошли шагом, на краю, там, где Кузьмич делал разворот, они остановились. Был погожий солнечный день, ветра почти не было и было видно, как от чернозёма, колыхаясь как мираж, поднималось марево — тёплый, степной воздух. Вокруг стоял пьянящий запах свежевспаханной земли. Трактор Кузьмича двигался в сторону ребят, за ним, постоянно каркая и перелетая с места на место, кружила стая грачей. Кузьмич доехал до края поля и остановился. За плугом седела молодая девка, хотя лицо её было замотано платком аж по глаза, ребята все равно узнали её сразу. Это была Варька, старшая дочка Кузьмича, первая красавица на селе. Варька лихо спрыгнула с седёлки, развязала платок, закинула руки за голову и сладко, со стоном потянулась. Ребята, смотрели на неё разинув рты.
«Ну, что мелюзга, принимай рабочее место. Седушку я вам оттёрла, аж до блеска. Садись не боись, задницу не замараешь».
«Чего вдвоём?». — Спросил Кузьмич, высунувшись из дверного проёма кабины. Дверей, у тракторов этой модели, не было.
«А мы по очереди, по одному прогону, дядь Макар, чтоб не уснуть». — Ответил Володька.
«А…, ну давай». — Кузьмич довольный кивнул головой.
«Ну, пока мелюзга». — Варька махнула рукой и пошла в сторону деревни, красиво виляя бёдрами.
«Матери подсоби». — Крикнул ей в след Кузьмич.
«Ладно». — Взмахнув платком, ответила Варька. Первым за плуг сел Володька, он поёрзал на сидении, поставил ноги на опоры, упёрся спиной в железную спинку и взял в руки палку — чистик для очистки лемеха от налипающей земли, корней, травы.
«Ну, готов?». — Прокричал Кузьмич. Володька кивнул головой. «Поехали!». — Скомандовал Кузьмич, перекрикивая рокот мотора. Трактор взревел, выпустил облако чёрного дыма вверх из выхлопной и рванул вперёд. Прицепное лязгнуло и плуг, скрепя одним колесом, двинулся. Володька закричал:
«Ура!!!». И замахал чистиком как шашкой. Ванька рассмеялся, потом оглядевшись, стал искать место, где можно было бы присесть, дожидаясь своей очереди. Не далеко, у бурьяна, лежала прошлогодняя копна соломы. Ванька пошёл к ней. На краю поля он нашёл два, не скошенных, колоска ржи. Сорвав и положив их между ладонями, с силой стал перетирать затем, пересыпая из одной ладони в другую, стал дуть на зерно, что бы сдуть мякину. Когда зёрна ржи стали чистыми он, запрокинув голову, высыпал их себе в рот. С начала зёрна были твёрдые и хрустели на зубах как камни, потом они превратились в некое подобие теста. Ванька с наслаждением стал живать это тесто, оно вкусом напомнило ему ситный пирог. Большой, круглый, зажаристый каравай хлеба, с выпуклой, треснувшей верхней корочкой, который, мать выпекала в печи по большим праздникам. Вдруг, прямо из под ног, с грохотом взлетела стая серых куропаток и рассыпавшись веером, не далеко отлетев, опустилась в заросли лапчатки. Ванька вздрогнул и аж присел от неожиданности.
«Во здорово, эх… было б у меня ружьё». — Подумал Ванька. «Двух, я точно сбил бы, мать потушила б их в печке, с картошкой». — Размечтался он. В животе у Ваньки забурчало от голода. Он подошёл, пнул ногой копёшку, из-под неё, с писком, выскочили две полёвки. Он хотел было прижать одну мышь ботинком, но она шустро проскочила сквозь высохшую траву и шмыгнула в нору. Внутри ржаная солома уже подгнила, но сверху, копёшка была сухой. Ванька, плюхнулся спиной на солому и растянулся на ней, подложив руки под голову. Вверху, над ним, над полем, над всей землёй было бескрайнее голубое небо и если бы не облака, медленно плывущие по небу, было бы страшно думать насколько оно бескрайнее. Ветер со степи доносил горьковатый запах шелковистой полыни и тонкий, нежный аромат высохшего на летнем солнце дикого шафрана. Осенняя, засыпающая степь, имеет свой несравненный, незабываемый аромат. От копёшки попахивало гнилой соломой и мышами. Ванька закрыл глаза и хотел — было вздремнуть, но каждый раз, как он закрывал глаза, перед ним возникал образ потягивающейся Варьки. Его бросало в жар, кровь приливала к голове, всё тело охватывало непонятное волнение, он встал и пошёл искать норы сусликов, просто так, чтоб отвлечься и убить время.
Быстро темнело, солнце опускалось за горизонт. Над полем беззвучно, как тень, пролетел домовой сыч. Ванька нашёл четыре сурчины.
«Завтра надо захватить ведро». — Подумал он. «Зараз, четырёх ужо отлил бы». Ванька вспомнил, как они с Володькой, летом, отливали сусликов. За день, по семь, когда и по десять. Володька, лил из ведра потихоньку воду, а он держал у сурчины, наготове растопыренную кисть руки. Как только мокрая, рыжая голова суслика, отплёвываясь и чихая, высовывалась из норы, он хватал его за горло и быстро сворачивал ему шею. Сусликов складывали в холщовую сумку. Потом менялись, Володька хватал, а Ванька лил. За водой, правда, приходилось далеко бегать, летом, в полях, её трудно найти, только в больших мочажинах, по глубоким ярам, а так — бы ещё больше налавливали. Один суслик за лето съедает около пуда зерна, к тому — же это основной переносчик таких страшных для человека болезней как бубонная чума, туляремия, бруцеллёз. Ребята тушки сусликов сдавали учётчику — бригадиру, он записывал сколько, потом, матерям начислялись трудодни за уничтоженных вредителей. Десяток сусликов, половину трудодня. Они за лето, по два мешка отрубей заработали, каждый на свою семью. Матери были очень довольны. Послышался рокот трактора, Ванька пошёл на встречу. На потемневшем поле трактора почти не было видно, но Кузьмич включил единственную фару, которая, тряслась на каждой кочке и казалось, что он специально мигает. Володька спрыгнул на ходу, Кузьмич подъехал к краю поля и стал разворачиваться. Ванька выхватил из Володькиных рук чистик и догнав плуг запрыгнул на седло. Кузьмич, видевший это, довольный улыбнулся и прибавил газу. При развороте плуга, надо было обязательно спрыгивать. Трактор, разворачиваясь, дёргал и задирал плуг, он сильно кренился, усидеть на нём было не возможно, можно было свалиться под нож. Ребята всегда спрыгивали с плуга при развороте. Работать чистиком, очищать отвал плуга от земли и травы, приходилось не часто. Это поле было почти без сорняков, а стерня ото ржи очень короткая и не цеплялась за отвал. Совсем стемнело. Из лога потянуло прохладой. Ванька поежился, и трясясь на седушке, чтобы согреться, стал вспоминать жаркое лето. Он вспомнил, как они купались на реке. В жаркие дни после полудня, мальчишки и девчонки, освободившись от домашних дел, ну там, воды принести, навоз убрать, постирать, полы помыть, травы нарвать поросёнку, сено ворошить, да мало ли дел в деревне, собирались у речки, на обрывистом берегу. В этом месте на реке был перекат, сразу за ним глубоченная, яма, на дне которой били ключи. Под обрывом, край ямы уходил резко вниз в глубину метров на пять в глиняной отвесной стене которого, было много рачьих нор. Мальчишки, ныряя, лазили руками в норы, доставали от туда колючих чёрно-зелёных раков, а иногда, если повезёт, залёгшего на днёвку холодного, скользкого налима. Дальше по течению, за ивняком, появлялся песчаный берег и становилось мельче. Там купались девчонки да бабы. В общем, к обрыву приходили все, кто умел плавать и не умел, девчонки и мальчишки, но купались каждый на своём месте, купальник в, то время был роскошью, купались голиком. Так вот, в один из таких жарких дней Володька и Ванька с другими ребятами купались на яме. Вдруг, кто-то крикнул:
«Девчонки идут»! Ребята у кого были трусы, натянули их, у кого не было, попрыгали в воду. Через огороды, по стёжке, к речке шли девчонки. Впереди шла Варька Кузьмича с подружкой Наташкой, за ними одноклассницы ребят, а дальше мал мала меньше. Они весело о чём-то болтали, в руках у них были полевые цветы: ромашки, алтайский колокольчик, клевер, рябчик русский, василёк, бурачок. Некоторые на ходу плели венки, примеряя их на свои маленькие, русые головки. Когда они подошли к обрыву, ребята стали играть в догонялки в воде. Они плавали друг за другом, ныряли под воду, кто был в трусах, выскакивали из воды, забегали на обрыв и прыгали с него. Кто бомбочкой, кто рыбкой. Каждому хотелось произвести впечатление на девчонок, тем более, что среди них были те, которые им очень нравились. У Ваньки и Володьки тоже были подружки, и они тоже пришли. Валька и Ирка, в красивых венках на головах, стояли, чуть в стороне и о чём-то шептались и хихикали. У Ваньки трусы были тёмно-синего цвета, ситцевые, покалено и он, не стесняясь, выскакивал из воды и прыгал с обрыва рыбкой, широко раздвигая ноги под водой, чтоб не потерять свои модные трусы. У Володьки трусов не было и он, из воды не выходил. Ваньки стало обидно за друга, и он шепнул Володьки:
«Давай козёлика покажем».
«Давай». — Обрадовался Володька, и они оба нырнули. Под водой Ванька спустил трусы, прижал колени к животу и всплыл кверху попой. Даже под водой Ванька услышал девчачий визг. Когда он вынырнул, он увидел рядом с собой белую не загоревшую Володькину задницу. Ванька засмеялся и чуть не нахлебался воды. Володька вынырнул и тоже расхохотался. На берегу стояли только взрослые, Варька и Наташка, Варька держала за руку свою младшую сестренку.
«Дураки». — Ухмыльнувшись, сказала Варька и они с Наташкой, перешёптываясь и хихикая, не спеша пошли на своё место купаться.
Ваньку здорово тряхнуло, он очнулся, трактор тянул плуг на подъём и от того рычал зло и натужно. Ванька огляделся, они приближались к «Волчьему логу». Вечерняя заря уже совсем потухла и наступила тёмная осенняя ночь. Ему стало не по себе. По телу побежали мурашки от страха, увеличенные холодом. Ванька с силой вглядывался, в темноту и ему казалось, что там, в логу, за бурьяном, горели волчьи глаза, двигались какие-то тени, слышались непонятные звуки, он хотел остановиться, свернуть, но трактор неумолимо, тащил его к «Волчьему логу». Его охватил жуткий страх, и он спрыгнул с седушки. Оказавшись на земле, он стоял, какое-то время в оцепенении, потом медленно сел на корточки. Трактор все удалялся и удалялся, становилось тише. Ванька смотрел в сторону лога, волчьих глаз он не видел, но ему слышались шаги в траве, какие-то вздохи, чье, то пыхтение. Страх не уходил и он лёг в межу, что бы стать, как ему казалось, невидимым. От распаханной земли шёл сильный запах, этот запах, живой земли, усиливал волнение и возбуждал внутри непонятные, неведомые для мальчишки, чувства и он же, напомнил ему о смерти. Так же пахло землёй от выкопанной могилы на погосте, когда летом, хоронили деда Михаила и он же, мельком, напомнил ему запах весны, начало всему живому в степи. Воистину, из земли вышли, в землю и уйдём, вспомнил Ванька слова из Святого писания. Странный запах, запах начала и конца. Стало не по себе, внутри, всё как-то сжалось и заныло. Ванька перевернулся на спину и стал смотреть на звёзды.
Звёзд было много, они мигали бело — жёлтым светом, хорошо был виден и млечный путь. В этой, бесконечной массе звёзд, Ванька быстро нашёл «Большую медведицу», отсчитав пять расстояний по направлению края ковша, как научил его Степан «Сибиряк», показал пальцем на «Полярную звезду», в хвосте «Малой» и опустив руку до линии горизонта, тихо прошептал:
«Там север». Ванька приподнялся из межи и определив, где юго-запад, подумал: «Там деревня, там дом». В животе опять забурчало от голода. Ванька опять стал вспоминать тёплое довоенное лето, когда он с другими ребятами сидя на берегу наблюдали как Дубовской дядя Коля Тишаков с сыном Федькой подпиливали дубовые сваи у самого дна под водой, оставшиеся от старой мельницы. Немного посидев в тенёчке ивового куста на берегу реки в одних трусах и докурив «козью ножку» дядя Коля вставал и произнеся:
«Ну… пошли». Брал в руку большую двуручную пилу, заходил в воду и тихо погружался без брызг, как заправский пластун. Федька же вскакивал с места и под весёлый хохот ребят нырял за ним почти плашмя поднимая кучу брызг как огромный сазан во время нереста. Дальше мальчишки сидя на берегу могли только представлять, что происходит там под водой, а здесь с берега они видели только всплывающие пузыри воздуха и желтоватые опилки которые медленно относило течением вниз по реке. Минуты через две, они оба выныривали, шумно отфыркивались и выходили греться на горячий песок. Так продолжалось до заката солнца. Спиленные, тяжеленные дубовые сваи деревенские мужики верёвками выкатывали по дну из реки и погрузив на телегу увозили на колхозную базу. Там их распиливали на пеньки под углы новых срубов, мочёный дуб не гниёт лет триста. Тишаков дядя Коля теперь вместе с Ванькиным отцом воевал с немцами на фронте, сын его Фёдор погиб. Ещё в августе получили похоронку, в ней сообщалось, что погиб смертью храбрых где-то под Старой Руссой на Новгородчине. По Ванькиным щекам смывая серую чернозёмную пыль, текли слёзы. Смахнув их, тыльной стороной ладони размазав этим по щекам грязь, он стал вспоминать Варьку как она, поливала младшей и страх потихоньку улетучился.
Трактор Кузьмича приближался. Ванька встал и перебежал подальше от края пашни, чтоб Кузьмич не заметил его. Он снова улёгся в борозду. Когда плуг проходил мимо него, Ванька вскочил, догнал плуг и запрыгнул на сидение. Металлическое сидение уже остыло, и он ощутил, холод металла всей задницей, через парусиновые штаны, через хлопчатобумажные кальсоны. Так он спрыгивал с плуга каждый раз, когда трактор Кузьмича приближался к «Волчьему логу», страх перед этим местом был не преодолим для Ивана.
«Всё, будя на сегодня». — Услыхал Ванька долгожданные слова от Кузьмича. «Идите домой, а то уж поздно». — Добавил он. Володька подпрыгнул от радости, подбежал к плугу и сунул палку под сидение, подёргал её рукой, проверив, не выпадет ли. Убедившись, что она держится крепко, помахал Кузьмичу кепкой. Ребята ещё постояли немного, наблюдая как трактор, с плугом уезжал в темноту. Вот он полностью растворился в ней, только слабый свет от фары прыгал по полю вверх, низ, влево, вправо, как будто искал чего то. Ребята пошли по краю пашни, в сторону деревни. Иван долго не решался спросить друга, боялся ли он «Волчьего лога», или нет. Наконец собравшись, спросил:
«Вовк ты, когда у „Волчьего лога“ пахал, боялся?»
«Ещё чего». — Быстро ответил Володька.
«Побожись». — Предложил Иван. Володька остановился, молча постоял немного, потом ответил:
«Ещё как, аж кишки в узел скручивались».
«А перед логом с седушки спрыгивал?». — Спросил Ванька.
«Пока видно было держался, а как стемнело, будто чёрт меня с плуга сбивал». — Признался он.
«И я тоже». — С обидой проговорил Ванька. «Выходит мы трусы, а на фронт собрались, отцам помогать, немцев бить». — Подытожил он.
«А давай, завтра до лога пахать, не спрыгивать». — Предложил Володька.
«Давай». — Радостно подтвердил Ванька. И они почти бегом двинулись к дому.
Глава 3
Холодной, осенней ночью в степи при лунном свете было видно, как волки сплошной, серой тенью бежали рысью, ступая след в след. Старая волчица вела своих четверых волчат, в свою школу, школу волчьей жизни. Следом шёл матёрый, он изредка останавливался, поднимал морду к верху и втягивая ноздрями холодный, осенний воздух, подолгу прислушивался, поворачивая уши в разные стороны. В лунном свете он казался огромным и седым, будто присыпанный утрешней печной золой. Дойдя до распаханного клина, волчица остановилась и села, подождала, когда подбегут волчата. Те подскакали к ней, радостно виляя хвостами и тихо повизгивая. Она рыкнула на них, дескать, не до игрушек, они притихли, и стали молча смотреть на неё. Волчица, подняв морду вверх стала нюхать воздух. Определив направление ветра, она встала и побежала прямо по распаханному полю. Прибылые потрусили за ней. Вдруг, на пашню как из-под земли выскочил из межи на половину перелинявший, здоровенный русак серо-рыжий с белым брюхом и рыжими лапами, сделав красивую «свечку» -прыгнув вверх, заяц, помчался по пашне, подбрасывая растопыренными когтями задних лап небольшие комья липкого чернозёма. Волчица рванула за ним. Когда прибылые догнали её и стали обгонять, визжа от возбуждения, она остановилась, ещё раз понюхала воздух, определив направление ветра, и не спеша потрусила на край пашни в ту сторону, куда будет крутить заяц. Выбрав место в некоси, у края ещё не распаханного поля, за будылями высохшей белены, она легла и стала слушать. Матёрый всё это время стоял там, на краю лога и сверху наблюдал за происходящим, пока в лунном свете мог видеть волчий глаз. Потом резко фыркнул, мотнув головой и безразлично помахав «поленом» — хвостом, потрусил, в сторону колхозной базы. Там, в старой овчарне с соломенной крышей, были овцы и оттуда, так вкусно и призывно пахло овечьей шерстью и свежими котяхами. В это время заяц, делая большой круг, нёсся в сторону волчицы, он сошёл с пашни и перешёл на ржаную стерню, по которой скакать было на много легче. Он легко отрывался от молодых, отбежав метров на сто, останавливался, вставал на задние лапы и вглядываясь и прислушиваясь вокруг, подпускал прибылых, потом подскакивал и как-бы играя, опять легко отростал от волков. Она никогда не ошибалась, и в этот раз заяц бежал ей прямо в лапы. Так охотится, на зайцев её научила её мать, а её, её мать и так волки охотятся тысячи и тысячи лет. Когда русак, делая большую петлю, добежал до края ржаного поля, волчица молнией рванула ему наперерез. Схватив зайца раскрытой пастью, поперёк туловища, она резко мотнула головой, раздался душераздирающий крик обезумевшего зайца и хруст позвонков, большеухий дернулся и обмяк, повиснув тряпкой в волчьих зубах. Она не сразу отдала зайца волчатам, какое-то время ходила кругами, держа, его в пасти тихо рыча на них. Потом подбросила его кверху и отпрыгнула в сторону. Прибылые в один миг, набросившись, разорвали русака и съели его без остатка.
Уже семь лет волчица выводила в этом логу потомство. Да и сама она родилась здесь в логу, тихой апрельской ночью. Только гнездо у них было тогда ближе к человеческому жилью. Свою нору, она вырыла подальше от деревни, большую, с двумя отнорками, на южной стороне лога в зарослях непролазного тёрна и чапыжника. Основной добычей для волков в этой местности были зайцы русаки, полёвки, куропатки, изредка им перепадала падаль. Если в округе издыхала старая лошадь или корова, от какой болезни, их везли за большак и бросали в лог. По несколько дней волки пировали на падали. Зимой, таскали в деревнях собак, кур, гусей, кошек всё, что могли утащить и сожрать. Осенью матёрые волки приводили прибылых к деревням и забирались в овчарни, конюшни, свинарники, летние ясли, туда, где содержалась скотина. Матёрые учили прибылых резать овец, телят, свиней. Вот где молодые волки, заливаясь кровью, становились настоящими волками. Правда потом, приходили люди с собаками, с ружьями, устраивали облавы в логу и в живых, от стаи, иногда оставалась лишь одна, хитрая волчица. Потом, в январе, феврале, во время гона из степи, приходили другие волки, грызлись между собой, за право, кому остаться в логу. И хитрая волчица заводила новую семью, растила и учила охотится, новую стаю. Цепочка эта не прерывалась веками. Не было и года, чтоб в «Волчьем логу» не жила семья волков, а то и две, три, места хватало. Широкий и глубокий «Волчий лог» тянулся от полей Истобного за большак на запад в сторону Верхнего Дона, через ещё не кем не паханные бескрайние луговые степи, густо поросшие типчаком и пыреями.
«Дохлый» и «Кривой», этой — же ночью, тоже как волки шли друг за другом, стараясь попадать кирзовыми сапогами след в след.
«Дохлый» — молодой парень двадцати трёх лет. Худой, длинный как жердина, за, что и прозвали его «Дохлый». Очень суетной, жадный. Пил всегда за чужой счёт, а когда выпьет, так сладу нет, на любого в драку лезет. Часто нарывался на здоровых ребят, били его крепко. Девки на селе, его не любили, боялись. На вечёрке на пяточке на танцах мог к любой при всех под юбку залезть. Безудержно — бесстыжий до девичьих прелестей, аж спасу нет. «Кривой» — тот постарше, под тридцать, женат. Двое детишек, парень и девка. Работать не любил, с ленцой мужик, ему — б погулять да к вдовым бабам, да и не вдовым ночью на сеновал залезть, пока мужика нет. Жена его часто ловила на этом, ух…, и дрались они потом, всё в доме перебьют, пока не успокоятся. Вскоре — прощала, через месяц, два, всё повторялось. «Кривой и «Дохлый» оба из одной деревни Пупки, что в низине у болот между речками Становая и Хавёнка.
В воскресение 22 июня 1941 года в 12 часов 13 минут на Вознесенской площади города Раненбурга из репродуктора прозвучала прямая трансляция речи члена правительства, Народного комиссара иностранных дел — Молотова Вячеслава Михайловича о нападении фашистской Германии на СССР и уже потом, из всех динамиков страны, в течение всего дня, её многократно повторял зачитывая громовым голосом диктор Юрий Левитан.
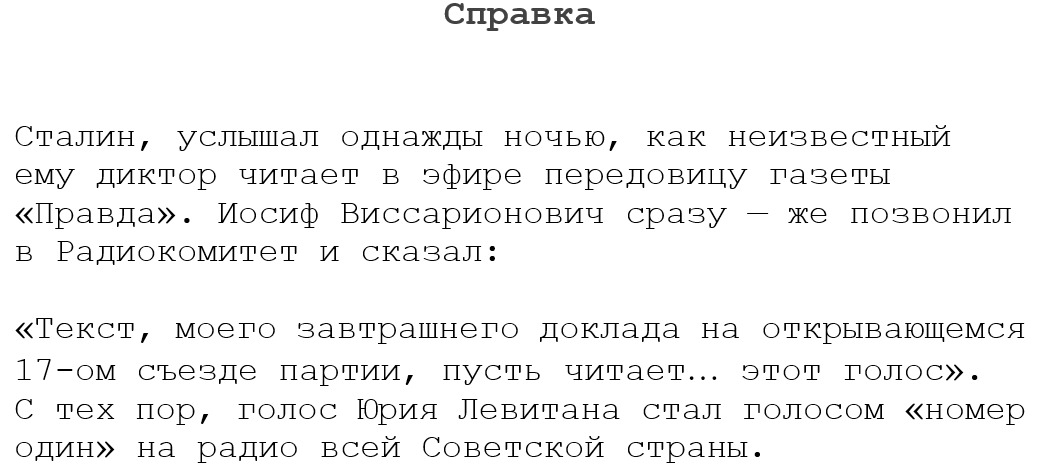
Нарядно одетые люди по случаю воскресения и праздника «Всех святых в земле Российской просиявших», внимательно выслушав срочное правительственное сообщение молча разошлись. К вечеру на площади стали собираться военнообязанные и добровольцы. Здесь-то… пока определяли кого — куда «Дохлый» с «Кривым» и сговорились бежать.
Пока шли вдоль лога — молчали, когда впереди стали прорисовываться, подсвеченные лунным светом, строения колхозной базы «Дохлый» прошептал:
«Курить охота».
«Курить, курить». — Передразнивая, повторил «Кривой». «Мне бабу охота мочи нет. В баньку б за-рас с жинкой, ух… я б её и попарил, да и провоняли мы в энтой норе как волки, псиной небось за версту несёт».
«Не жрём не хрена, с чего тебя на баб тянет». — Удивился «Дохлый». «К жене пойдешь парить, а там тебя НКВДешники поджидают. Ух…, они тебя и пропарят, лучше, чем жена». — Продолжил он и захохотал.
«Тихо ты, чего ржёшь как мерин».
«А кто тут услышит?». — Захлёбываясь от смеха, спросил «Дохлый».
«Забыл, надысь двух малых у лога видали».
«Так это днём, ночью они в лог не сунутся». — Успокоившись, ответил тот и сунул сверкнувший в лунном свете, потёртым воронением, кулацкий обрез за ремень брюк. «Потом, одного я точно знаю, это сын Анны, солдатки, та, что рядом с дедом „Тишуней“ живёт. Второй, тоже на том конце деревни. Они с Кузьмичом поле у лога перепахивают. Баба твоя точно пожрать принесёт, или опять сами будем рыскать?».
«Должна принесть». — Ответил «Кривой».
«Опять в старой бане?».
«Да».
«Надо сменить место. Какой раз туда шныряем».
«В воскресение встречусь со своими, договоримся о новом схроне. Светится нам нельзя, а то облаву устроят».
«Может продмаг грабанём. Люди гутарили туда водку завезли, муку, консервы какие-то». — Предложил «Дохлый».
«Нет. Вот, что, давай к Ларионычу зайдём, с ним и посоветуемся. Он мужик тёртый, отсидел. Может, что и подскажет, как, нам дальше быть». — Рассудил «Кривой».
«Не выдаст?».
«Нет. Он, с Советской властью, теперь до смерти „на ножах“».
Дом «Ларионычей» был на краю деревни сразу за ямой у дороги от большака. В деревне их так и дразнили — «Ларионычи» и самого, и жену, и детей. Большой двор, изба с мазанкой под железной крышей, сараи для скотины и другие строения — крыты шифером. «Ларионычи» и до «гражданской» держали много скотины. Всегда у них было по две коровы пара тёлок пяток — другой поросят с три десятка овец индюшки, куры, гуси, утки, две — три собаки. Старший Ларионыч в 19-ом году, после того как их раскулачили, примкнул к «Антоновцам», состоял в самой крупной банде в округе. Заправлял тогда этой бандой отец «Кривого». Банда занималась грабежами, погромами, уничтожали колхозное добро, угоняли скот, жгли сельсоветы и избы партийных, убивали, вешали активистов. Летом 1921 года силами 17-ой Кавалерийской дивизии под командованием Григория Ивановича Котовского банду взяли, самых отъявленных у кого руки по локоть в крови вместе с главарём расстреляли здесь же у лога. Ларионычу тогда, дали пятнадцать лет. До лета 1929 года валил лес под Архангельском, затем был переведён в состав Ухтинской экспедиции Управления северных лагерей особого назначения — УСЕВЛОНа ОГПУ.
Утром 8 июля 1929 года к причалу Архангельского порта, оцепленному вооружённой охраной, пришвартовался пароход «Глеб Бокий». Тот самый пароход, на котором 20 июня 1929 года привозили на Соловки писателя Максима Горького и где четырнадцати летний мальчишка — заключённый Детколонии, оставшись с писателем наедине, рассказал Горькому всю правду о Соловках. Из комнаты, где около двух часов писатель слушал заключённого — мальчишку, Максим Горький вышел, вытирая слёзы платком. Ягода Генрих Григорьевич — Заместитель Председателя ОГПУ, сопровождавший писателя в той помпезной поездке, был в бешенстве, багровея от злости и брызгая слюной полчаса орал в канторе управления на Эйхманса — начальника Соловецкого лагеря, Дегтярёва — начальника охраны и на Успенского — начальника Культурно — Воспитательной Части. Мальчишку расстреляли на следующий день после того как ушёл на «большую землю» пароход «Глеб Бокий».
На борту парохода находилось буровое оборудование, всевозможное снаряжение и сто двадцать семь пассажиров; заключённые — политические, уголовники, «бытовики», раскулаченные, священнослужители, ссыльные и охранники с вольнонаёмными, прибывшие через Белое море из Кеми, что на Соловках. Здесь — же на причале, команду заключённых Соловецкого лагеря особого назначения — СЛОНа пополнили Архангельскими «лесорубами», Ларионыч оказался в их числе, и сразу — же началась перегрузка на пароход «Умба». Вечером, этого — же дня пароход «Умба» с оборудованием, продовольствием, заключёнными, конвоирами и вольнонаёмными загруженный выше ватерлинии, отчалил и пошёл из Архангельска морем к устью Печоры. Это и была, никому не известная Ухтинская экспедиция УСЕВЛОНа ОГПУ — начало грандиозного по тем временам освоения Печёрского бассейна Западной Сибири.
Без штормов обогнули мыс Канин Нос, с юга обошли остров Колгуев, прошли с севера сквозь острова Гуляевские Кошки и на четвертые сутки вошли в Печорскую губу. Ещё, полдня, пыхтели по Печоре до населённого пункта Белощелье — впоследствии рабочий посёлок Нарьян-Мар. Дальше…, опять перегрузка и уже на двух деревянных баржах, которые буксировал пароход «Советская республика», шли вверх по Печоре до села Щельяюр. Там, три дня отдыхали, искали проводников, лодки. Ловили рыбу, собирали грибы, ягоды, продуктов не хватало, голодали, рекой и тайгой кормились. Некоторые, на этом этапе ещё пытались бежать, но куда…? Кругом тайга. Несколько заключённых застрелили при попытке к бегству, а каких ловили и тех, что после скитаний по тайге возвращались сами, сажали в карцер устроенный в трюме на барже. Да и местные — зыряне, сразу сдавали беглецов властям. Как при царе сдавали каторжных, так и при Советской власти сдавали заключённых, им ведь всё равно какая власть — власть и всё, лишь — бы эта власть не мешала им охотиться и ловить рыбу — не мешала им жить.
Затем, в селе Ижма перегрузили семьдесят пять тонн оборудования на деревянные лодки, обменянные на топоры, гвозди у местных ижемцев и на пятнадцати шнягах — узкие, длинные лодки с низкой осадкой — волоком как бурлаки, на лямках, месяц тащились вверх по рекам Ижме и Ухте, до небольшого ручья Чибью. 21 августа 1929 года, на бывших нефтяных промыслах, экспедиция начала строительство посёлка. Посёлок так и назвали Чибью, впоследствии рабочий посёлок Ухта. Ларионычу повезло, он не попал в команду, которая занималась «Водным промыслом». Там, на открытом в 1912 году нефтяном месторождении «Северного Нефтяного Товарищества по вере А. Г. Ганзберг, А. П. Корнилов и Ко» после революции 1917 года национализированном Советской властью, на скважине №1 — «Казённая» и №3 — «Ярега», надо было добывать радиевый концентрат из минерализованных вод. Больше двух — трёх лет, при работе с конечным продуктом — твёрдыми солями содержащими миллиграммы радия — никто не протягивал, мёрли как мухи. Хотя сами заключённые называли промысел «курортной зоной», работали там по шесть часов, кормили лучше, давали молоко, как лекарство от лучевой болезни — сырую говяжью печень. Со складов первичных радиохимических заводов большие всегда тёплые даже зимой от выделяющегося излучения дубовые бочки, наполненные радиевой солью испускающей в темноте склада жуткое бледно — голубоватое свечение, перевозили на ЗПРК — Завод Переработки Радиевых Концентратов который находился в самом посёлке Водный. Там соль перерабатывалась, обогащалась, полученные кристаллы бромида радия RaBr2 запаивали в стеклянные пронумерованные ампулы и под охраной отправляли в Москву на завод «Редких элементов Главцветмета». Годовой выпуск радия с «Водного промысла» УСЕВЛОНА ОГПУ составлял 15,5 — 17,5 грамм радия. В этом 1941 году завод произвёл руками заключённых рекордные 21 грамм 541 миллиграмм радия. Производство радия во время войны не прекращалось не на один день.
Создавался завод при непосредственном участии и руководстве заключённых ГУЛАГА — заведующего химлаборатории Гинзбурге Илье Исааковиче осуждённого по статье 58 часть 7 на десять лет впоследствии освобождённом и оставшемся на вольном поселении в посёлке Водный, главным технологом радиевого промысла — Тороповым Федором Алексеевиче осуждённом по статье 58 части 8,10 на десять лет, умер от рака не отбыв срок, начальником промысла №2 Хомякове Дмитрии Григорьевиче осужденном по статье 58 в 1932 году его освободили и оставили на вольном поселении, химика — технолога Башилова Ивана Яковлевича создателя всех радиевых производств в Советской стране, не имеющих аналогов в мире, арестованного в 1938 году и осуждённого на пять лет, отбывать которые пришлось на созданном им — же радиевом производстве в Ухте. Это по его указаниям и чертежам при налаживании «водного промысла» Ларионыч вместе с другими зеками делал многокилометровые деревянные водотоки трубы — желоба, по которым перекачивалась радиоактивная вода от скважин на первичные заводы.
Весь радий, произведённый в Советской России, объявлялся собственностью государства и его, надлежало хранить в созданном в 1922 году Ленинградском Радиевом институте, где специально для этих целей одновременно с институтом был создан Государственный радиевый фонд. Первым директором этого института стал его основатель, учёный с мировым именем Вернадский Владимир Иванович, заместителем — Хлопин Виталий Григорьевич учёный химик — разработчик и организатор всей радиевой программы СССР. Весь процесс производства радия от начала и до конца контролировался органами ОГПУ впоследствии НКВД. В одной тонне минерализованной воды содержалось приблизительно 0,003 грамма радия, в одной тонне соли — концентрата 0,03 грамма. В начале 20-ого века один грамм радия стоил как двести килограмм чистого золота, дороже радия на земле, в то время не было ни чего.
Ларионыч, хорошо владел топором и его после строительства и успешного пуска «Водного промысла» определили в бригаду по заготовке и распиловки леса. Строил бараки, хозяйственные постройки, кантору, карцер, клуб — театр. Вскоре Ухто — Печорский трест ОГПУ по окончанию беспримерного строительства через непроходимую тайгу и непролазные болота тракта Усть-Вымь — Чибью, названного начальником строительства для смеха, что ли «Весёлый Кут», начал не менее героическое строительство железной дороги, тянули от станции Котлас до открытых Ухтинской экспедицией угольных месторождений на речке Воркута. Ларионыча перевили в бригаду по заготовки шпал. Там было повольнее, хотя тоже не сахар, нормы запредельные. Летом — гнус: мошка сгрызающая кожу с рук, с лица до мяса, комары высасывающие последнюю кровь, энцефалитные клещи, оленья кровососка и непролазные топи. Зимой — морозы под минус пятьдесят, беззубые рты от цинги. Жили в землянках, шалашах. За то, всегда у чистых, таёжных рек: Айюва, Вис, Кабантывис, Сэдзьвож, Малая Пера, Лемью, Войвож, Рыбница, Каджеромка, Чикшина, Кожва, Большая Сыня, Косью, Кожим по ним и сплавляли лес до «железки». Эти реки и спасали от голода. Ловили сига, хариуса, семгу, омуля, таймень, ряпушку, гольца. Выше по течению пелядь, нельму, чир, ну и ерунду всякую; щук, язей, налимов, окуней. Половину отдавали охранникам, половину оставляли себе, чего-чего, а рыбы хватало всем. Охранники с лодок из трёхлинеек били оленей на переправах, лосей, медведей — сплавом, глухарей на галечниках. Заключённые разделывали туши, солили, вялили мясо, рыбу, заготавливали впрок ягоды, грибы. Как-то зимой, на Кожиме у «шпалареза», где первая родовая нерестильная яма сёмги местных коми, валили ель на распиловку, нужны были доски для нового барака, вальщики — два уголовника не рассчитали, ель пошла на Ларионыча, а может, и нарочно на него направили. К тому времени он стал бригадиром, а уголовники раскулаченных, политических и бело — бандитов не любили и понятно почему. Кулаки с ворами расправлялись по-свойски, без судов, да… и из «бывших» считали ниже своего достоинства иметь дело с уголовниками. Снег был глубокий и Ларионыч не успел отскочить, завяз в снегу, упал на спину, ель грохнулась на него и сухим суком вырвала ему правый глаз. Два месяца пробыл в лагерном лазарете. Ни новый начальник ГУЛАГа ОГПУ — НКВД комиссар госбезопасности третьего ранга Берман Матвей Давыдович, сменивший старшего майора госбезопасности Когана Лазарь Иосифовича, ни его заместитель — Плинер Израиль Израилевич, не стали подписывать прошение, о досрочном освобождении по получению тяжёлой травмы на производстве, поданное им от старшего майора госбезопасности начальника УСЕВЛОНа ОГПУ Мороз — Иосема Якова Моисеевича.
«Нам…, такие специалисты здесь нужны, для выполнения государственных задач ОСОБОЙ… важности!». — Заявил Матвей Давыдович, укладывая в посылку на большую землю; банки с красной икрой, вяленую рыбу, медвежью желчь, сушёный золотой корень и… не стал подписывать.
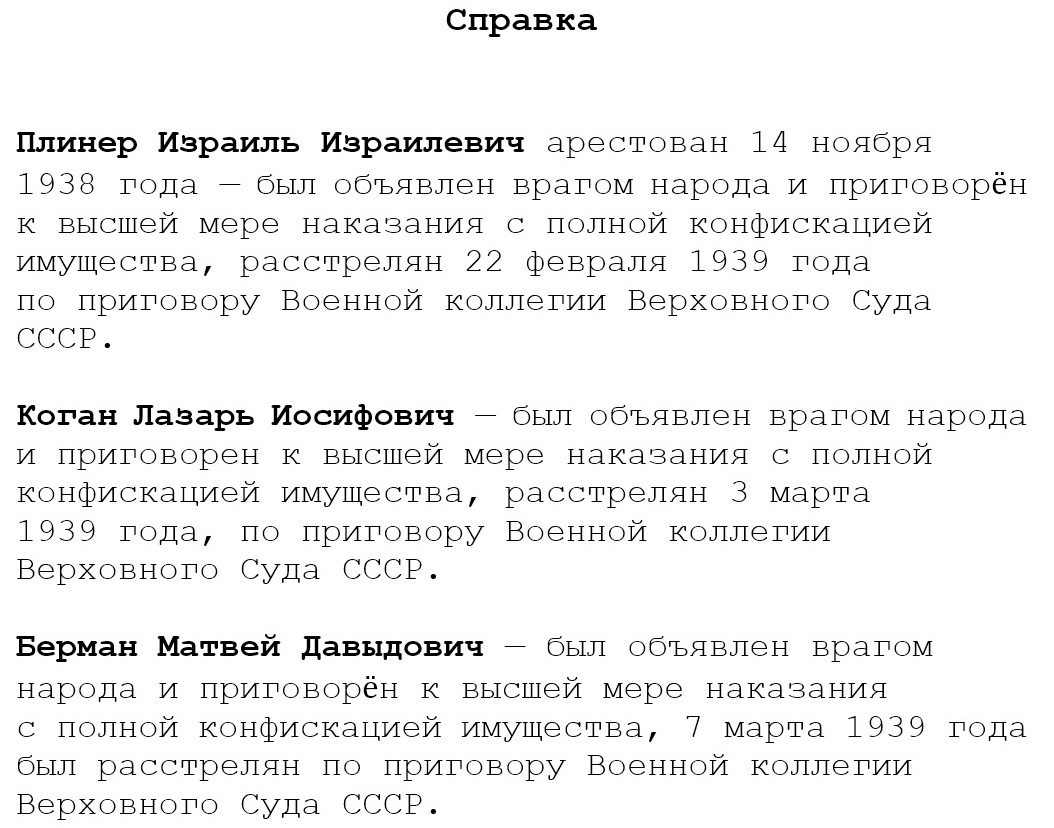
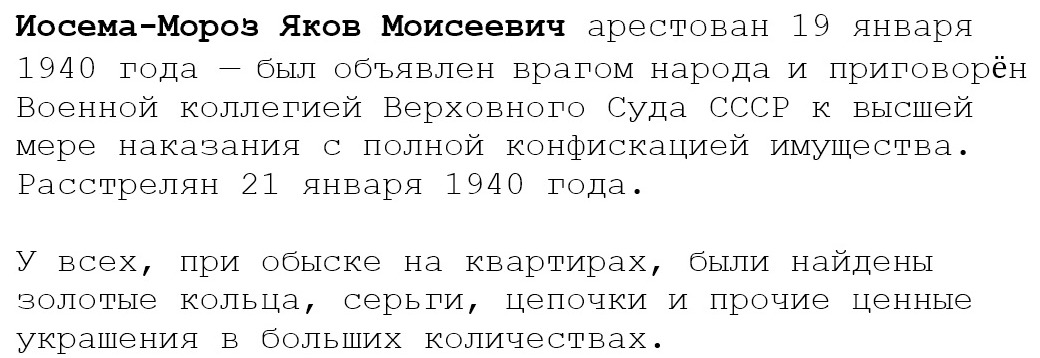
Как пустая глазница зажила, Ларионыча отправили опять строить железную дорогу. Дошёл до разведанных, угольных, месторождений у речки Большая Инта. Уголь с этих шахт теперь отправляли по построенной заключёнными УСЕВЛОНа ОГПУ железной дороге в блокадный Ленинград.
Жарким, засушливым летом 1936 года после смерти Максима Горького 18 июня и начавшегося на следующий день полного лунного затмения которое накрыло практически всю Россию, срок заключения Ларионыча закончился, но его и не думали отпускать. Только в конце сентября после снятия Иосифом Виссарионовичем Сталиным Ягоды Генриха Григорьевича и…
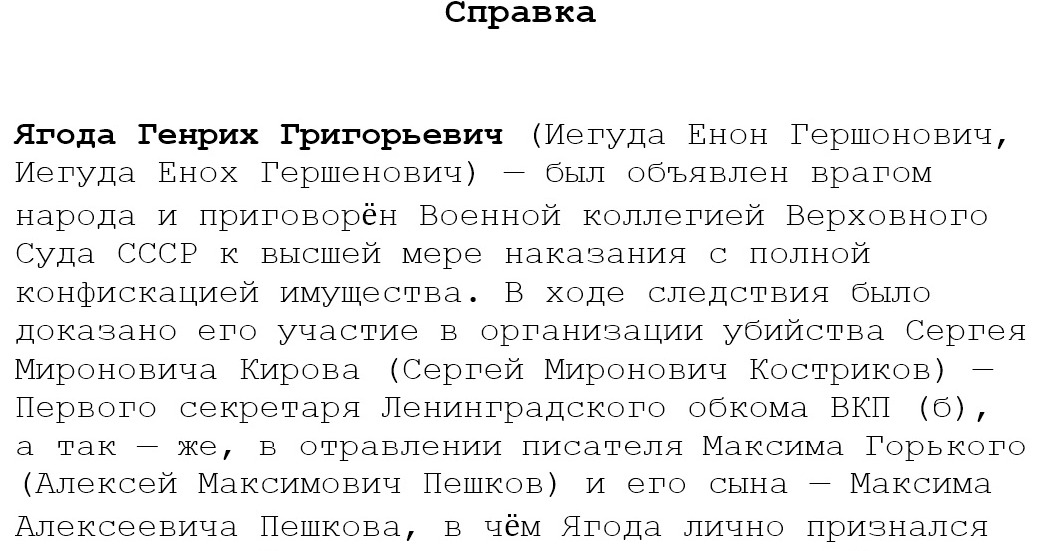
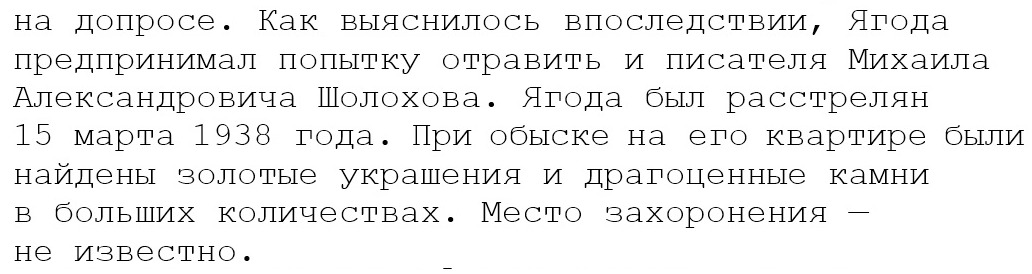
…назначении Первым Народным комиссаром Внутренних Дел СССР — Ежова Николая Ивановича, Ларионыча сразу — же освободили и он смог вернуться в деревню. В чём отбывал срок, в том и приехал — рваный ватник, тюремная чёрная роба, тяжёлые, жёсткие ботинки, из вещей привёз только небольшую картину — натюрморт. На листе фанеры, был изображён букет цветов в вазе на столе. Стол, покрыт белой скатертью на скатерти, лежало расписное, фарфоровое блюдо. На блюде — сочные, спелые, южные, фрукты; лимоны, персики, абрикосы, виноград, инжир. Рамка картины была сделана из лакированных распиленных вдоль ножек от этажерки. Эту картину подарил один заключённый — художник, Ларионыч его как-то от уголовников спас. Картина висела на стене в бараке над нарами Ларионыча и грела ему душу длинными, холодными, тоскливыми ночами. В колхоз он не вступил, хотя и звали, решил остаться единоличником, но работать в колхозе не отказывался, вкалывал за троих, больше любого колхозника. И на посевной, и на покосе, и на уборочной работал как оглашенный, да и пять сыновей помогали. Старшему семнадцать, средним пятнадцать, четырнадцать, двенадцать, младшему шесть, были ещё две девки, старшая двадцати лет и младшая, родилась по возвращению, четырёх лет. Жена Ларионыча ездила к нему семь раз. В 1923 году приезжала два раза, свидание не разрешали. В следующем году, собрала денег, кольца золотые, серьги — отдала, кому надо и свидание разрешили, выписали пропуск на зону. Правда всего на три ночи, но она и этому была рада. Каждый раз после возвращения, через девять месяцев, она рожала и каждый раз парня. Деревенские бабы, аж завидовать стали.
«Мы рожаем, всё девки, да девки, а ты как под Архангельск уедешь, так оттуда, с парнем. Может и нам до Архангельска билеты взять». — Смеялись они.
«Так, какая девка такое выдержит, две недели туда, две недели обратно, а с мужем…, всего-то одна дельная ночь». — Отшучивалась она. В этом, 1941 году на фронт Ларионыча не взяли, по инвалидности, какой из него солдат без правого глаза. Жена поняла это по-своему. Бабам, довольная, объясняла, что это… ей: «За пятнадцать лет без мужицкой ласки».
Ларионыч, с сыновьями, не какой работы не гнушались, зарабатывали трудодней больше всех в колхозе. Мешки зерна, отрубей — за трудодни, увозили телегами от колхозных амбаров. Для себя накашивали сена на всю зиму, оставалось и на продажу. Сажали много картошки, проса, свеклы, собирали много яблок в своём саду, вишни. Лишнее продавали, продавали мясо, яйца, сдавали молоко. Деньги тратили на лес, кровельное железо, в общем, жили не плохо, но в деревне их не любили. Другие не то, что хуже работали, нет, вкалывали тоже, будь здоров, но жили как-то проще, спокойней. Накормил детей, сам поел, скотину покормил и слава Богу. А завтра? А завтра, как Бог даст, а эти…, гребли всё под себя, да для себя. Некоторые в деревне всё — же завидовали им, но большинство нет…, просто не любили и всё. Братья, «Ларионычи», в школе часто дрались. Ваньке с Володькой от них тоже доставалось, с ними сладить, было тяжело, если только всемером или даже десятерым на них навалиться, что ребята и делали. Но, «Ларионычи» — братья, отлавливали потом каждого, по одиночки и дубасили будь — здоров, не кому не прощали, помнили обиды очень долго.
«Дохлый» и «Кривой» подошли к деревне за полночь.
«Зайдём со стороны сада». — Предложил «Дохлый».
«У него собаки злющие, брёх подымут на всю деревню. Лучше с улицы, в окно постучим». — Шёпотом ответил «Кривой». Подошли к дому. «Кривой» постучал в окно ближнее к крыльцу. В избе завозились, зажглась керосинка. Грубый, хрипатый, мужской голос спросил:
«Кого ещё там, черти несут?».
«Ларионыч, это мы, Пупкинские». — Тихо ответил «Кривой». Скрипнула дверь избы, послышались шаги в сенцах, грохнул затвор, дверь в сенцы, отварилась.
«Ну…, кто там». — Ларионыч, держал керосиновую лампу левой рукой выше головы. В правой, аж до белизны в пальцах, сжимал топор.
«Здорово живёте. Извиняй, что поздно, мы к тебе, погутарить». — Поздоровался «Кривой». Ларионыч, опустил лампу, оглядел улицу, там ни души, только ветер тихо шумел в голых ветвях оскаря и у кого — то на дворе с голодухи жалобно выла собака.
«Ну, проходите, раз пришли». — Заметив обрез, у одного из ночных гостей, он с силой вонзил топор в косяк входной двери. Прошли в избу, сняв шапки и перекрестившись на Образа, гости сели на лавку за стол. Ларионыч принёс из горницы бутылку самогонки, заткнутую газетной пробкой, три стакана, из резного буфета достал хлеб, шмат сала, соль. Из загнетки печи, достал ухватом и поставил на стол, горячий чугунок с картошкой. Молча, разлили, выпили не чокаясь.
«Вы, я слыхал на войну не пошли, в дезертиры определились». — Начал непростой разговор Ларионыч, догадавшись, зачем те пришли. «Это…, считай, как нож в спину Советской власти воткнули. Вы, таперече хоронитесь ребятки, она вам, власть — то, этого не простит…». Ларионыч взял из чугуна горячую картофелину и стал не спеша чистить. «Дюже хоронитесь…, а ко мне, дорогу забудьте, я, хоть своё и отсидел, но всё ровно мне не простили. Я, так в неблагонадёжных и числюсь, СВЭ — социально вредный элемент, так в справке и написано, во ка…. Милиционер из города ко мне нет-нет, да и заезжает, чего, да как». Он высыпал немного соли из солонки на стол, разломил картофелину пополам и обмокнув в соль одну половинку, отправил её целиком себе в рот.
«Может он к дочке твоей подъезжает. Люди гутарют, нравится она ему дюже». — Попытался пошутить «Кривой».
«Дурак! Дочка, это одно…, а меня пощупать, с кем вожжаюсь — это совсем другое. Он хитрый… этот капитан, тутошний, деревенских всех знает, всё нутро до кишок видит. В дом зайдёт…, перемены разом примечает, чего да как. У соседей выпытывает, куда ездил, с кем видался, о чём, гутарили. Так, что ребятки, дорогу ко мне, забудьте. Хоронитесь пока тепло, в логу, а к зиме, в какую — не будь баньку, на окраине перебирайтесь. Да, чтоб ни гу-гу. Если, что…, но это по крайней нужде, если вас дюже припрёт…». — Ларионыч криво ухмыльнулся, прищурив свой единственный глаз. «Подсоблю, чем смогу, но только из уважения к твоему покойному папаши». — Обратился он к «Кривому», вытирая руки утиркой. «Всё, идите с Богом. Луна зараз полная, могут увидеть вас, у моего двора». Молча, выпили ещё по пол стакана. «Дохлый» и «Кривой» встали и попрощавшись злые на самих себя, а теперь и на Советскую власть, вышли на тёмную, пустую, подсвеченную «волчьим солнышком», деревенскую улицу.
Глава 4
До ноября, ребята бегали помогать Кузьмичу. Разнарядка из района пришла серьёзная, все поля колхоза «Красный трудовик» должны были быть вспаханы. Весной, предполагалось, все земли, засеять рожью и овсом. Фронту нужен был хлеб, нужен был фураж. Украина, часть Кубани были уже под немцами и вся тяжесть по снабжению фронта хлебом, легла на чернозёмные, задонские земли. Райком партии делал всё, чтоб задача по снабжению фронта хлебом, фуражом, была выполнена. В район вместе с танками и другой военной техникой прибывали, с Челябинского тракторного завода, новые гусеничные трактора, впервые в СССР с дизельным двигателем МТ-17 в шестьдесят пять лошадиных сил. Новый ЧТЗ-С-65 «СТАЛИНЕЦ» который, на Всемирной Парижской выставке 1937 года, был отмечен высшей наградой — «Гран-при», помог выполнить эту непосильную задачу. Все хорошие трактористы получали бронь, от призыва на фронт. Их фронт был здесь, за рычагами тракторов, на колхозных и совхозных полях.
Ребята сильно уставали. Домой приходили поздно, быстро поев, валились спать, не чуя ног. Утром, с трудом вставали в школу. Училка была довольна, два неразлучных друга сидели на уроках тихо, прикрыв глаза, клевали носом. Она их не трогала. В классе воцарилась тишина и спокойствие.
С Покрова на полях уже лежал снег. Земля местами промёрзла, не когда так поздно, не пахали в колхозе. Колхозный трактор СХТЗ-НАТИ с пятьюдесятью двух сильным, карбюраторным мотором, работающим на керосине, еле справлялся с подмороженной землёй. Кузьмич выбирал дни для пахоты сырые с ростепелью, когда отпускало. Как-то в один из таких дней, на последнем прогоне, Ванька, как всегда сменил Володьку. Было уже темно, трактор подъезжал к логу, Ванька, злясь на себя, за вновь охвативший его страх, перекрестился и стал читать молитву, с трудом пересилив себя, он усидел на плуге до самого лога. Трактор подъехал к логу, Ванька спрыгнул, Кузьмич стал разворачиваться и когда плуг стал опять нарезать жирные пласты чернозёма, переворачивая их, Ванька, хотел — было запрыгнуть на сидение, но ноги не слушались его, в мышцах ощущалась слабость и мелкая дрожь. Он с трудом сдвинул себя, тяжело побежав по вязкой, мокрой земле, догнал плуг и влез на седёлку. Ехать лицом к логу, оказалось не так страшно, как спиной. Когда плуг двигался от лога, Ивану казалось, что его сзади схватит, какая-нибудь лохматая рука, волчья оскаленная пасть или жуткая, огромная, бородатая голова в чугунном рыцарском пернатом шлеме, из фильма «Руслан и Людмила» по сказке Пушкина который он смотрел в летнем кинотеатре, до войны, с отцом в городе. Он постоянно оглядывался и забывал очищать отвал лемеха. Палку держал так, чтобы в любой момент, отбить внезапное нападение. Трактор удалялся и удалялся от лога, не кто, не гнался, не кто, его не хватал. Ванька потихоньку успокаивался и видя, что он движется в сторону дома, совсем смелел. Когда они закончили прогон, Ванька спрыгнул с седла. Володька подбежал, хотел было сесть, но Кузьмич махнул им рукой, что всё, дескать, хватит и крикнул:
«Я ещё попашу».
Ванька и Володька радуясь, шутейно обнялись и по плюхали усталые домой.
«Где база-то? Темень, не черта не видать». — Спросил Володька. Ванька взглянул на небо, звёзд не было видно, всё небо затянули плотные, низкие облака.
«Кажись там». — Он вытянул вперёд руку. Как бы в подтверждении этого там, что-то бабахнуло. Залаяли все собаки, какие были на деревни.
«Кто-то стрельнул». — Сказал Володька.
«Кто? Дед „Тишуня“?». — Ванька задумался. «Волки опять полезли в овчарню, вот он и бабахнул. Не… у деда дробовик». — Продолжал рассуждать Ванька. «Дробовик бухает гулко и раскатисто, а этот выстрел сухой, хлёсткий, как у винтовки, но не винтовка, другой звук».
Дальше ребята шли, молча, напряжённо вглядываясь в темноту.
У самой базы, Володька схватил Ваньку за рукав и потянул к земле, сам тоже приседая на корточки.
«Ты чё?». — Присев, шёпотом спросил Ванька. Володька, молча, показал рукой вперёд. Там в темноте, у куста высохшего волчеягодника, Ванька заметил огонёк от самокрутки, он, то разгорался ярко, то бледнел, было понятно, что на них кто-то идёт и курит на ходу. Потом они услышали приглушённую речь, с матюгами.
«Давай тащи, чего не тащишь?». — Шептал кто то.
«Ты стрелял му…, вот и тащи». — Зло прошипел, ему в ответ, другой.
Ребята, прижимаясь к земле, перебежали на распаханное поле, упали в борозды и поползли в сторону базы. Когда они доползли до края пашни, они встали и побежали пригибаясь. Добежав до сараев базы, пошли шагом.
«Кто это?». — Спросил Ванька счищая грязь с локтей телогрейки, с кален, подобранной с дороги палкой.
«Не знаю, но верно не наши. Не деревенские». — Задумавшись, ответил Володька.
«Слухай, так это дезертиры. „Дохлый“ да „Кривой“». — Остановившись, шёпотом проговорил Ванька.
«Точно». — Протяжно прошептал Володька.
Ребята подошли к овчарне. Сильно пахло свежим навозом, овцы, заслышав чужих, нервно забегали в катухах и тихо заблеяли.
«Кто тута?». — Вдруг из темноты раздался окрик деда «Тишуни».
«Это мы, это мы». — Вместе ответили ребята.
«Володька и Ванька дедуль».
«Чего шастаете по ночам?». — Вроде как зло, спросил дед.
«Да мы, дедуль, пахали с Кузьмичом, зараз домой идем». — Объяснил Володька. От сарая, из темноты, отделилась фигура деда. Он был одет в старый овечий тулуп, в руках он держал дореволюционную курковую двустволку ТОЗ-Б, 16-ого калибра.
«А…, это вас черти носят». — Узнал ребят дед.
«Дедуль ты никого здеся не видал?». — Спросил Ванька, Володька толкнул его в бок.
«Ты чё?». — Прошипел Володька. Ванька оттолкнул его и переспросил:
«А, дедуль?»
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.