
Бесплатный фрагмент - Вина
Повесть об интеллигенции
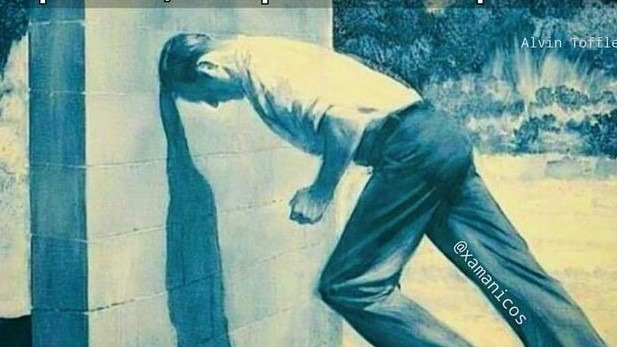
Предисловие.
Эта книга о судьбах интеллигенции, уникального русского явления в XIX—XXI вв.
Старый поэт — интеллигент начала XX века оказался в «обнуленном» мире нашего времени. Его поразило, что ожидания его друзей «очистительной революции» обернулось более страшными потрясениями — мир стоит перед ядерной войной. Старая интеллигенция, проповедовавшая гуманизм, исчезла, но остались деловые интеллектуалы, занятые умножением средств потребления.
Неужели исчезнут люди с больной совестью, могущие спасти гармонию на планете, и история человечества может подойти к концу? И каким будет мир, если минет чаша сия?
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
А. С. Пушкин
1
Он открыл глаза.
Поразила чистая комната, нежно-молочный свет светильника из витых фосфоресцирующих трубок над головой, блестящие никелированные приборы вокруг. Он обнаружил себя в розовом больничном халате. Лежать было мягко, словно матрас надувной.
Над ним наклонилась сестра в голубом халате, с маской на лице, над которой светились сострадающие глаза ангела, и осторожно раскинутыми, как крылья, руками в синих перчатках.
— Как вы себя чувствуете?
— Где я, в раю?
Она засмеялась с облегчением.
— У вас восстановилось сознание.
Чувствовал себя странно, словно восстал из бездны.
Как привык раньше, начал делать физические упражнения. Вроде бодр, только бока и поясница болели. «Оказывается, я еще жив!» — думал он. Какая удача! Неужели преодолел смерть?» Но когда поднимался, чувствовал постоянную усталость.
В палате рядом с ним лежал больной профессор. Он спросил:
— Как вас величать?
— Андрей Людвигович — представился тот. — Поэт.
— А меня Федор Калинович. Философ.
Типичный профессор с бородкой и усами, в таком же халате, но в академической шапочке.
— Какое сейчас тысячелетье на дворе?
Профессор смотрел на него странно.
— А вы из каких времен?
И в шутку предположил:
— Похоже, из начала XX века.
— Так и есть, — удивился вопросу поэт. — И родом из Петербурга.
Судя по виду, поэт и вправду казался слишком старомодным. Похож на старенького грустного Пьеро из сказки. Узкое лицо со страдальческими глазами, манеры интеллигента нескольких поколений. И разговаривал он так, словно жил в позапрошлом веке.
— Где ваш дом?
— Последний? В Москве на Никольской. Знаете, заметный особняк.
— Так этой улицы давно нет. Есть улица 25 Октября.
Поэт зашевелился, широко раскрыв тревожные глаза.
____
Как-то естественно профессор поселил поэта у себя в поселке «Перестройки».
Это было место отдыха для работников культуры. В середине XIX века это место купил помещик, покровительствовавший искусству. Усадьба поражала –двухэтажный дом в форме куба, нанизанного на широкую деревянную скрипучую музыкальную лестницу. Дом был построен по принципу золотого сечения, заложенного в «Троице» Андрея Рублева, и напоминал русскую икону и супрематисткий памятник, который в послесоветское время отстояли от бизнесменов и разных проныр, желавших снести усадьбу и построить свои замки нуворишей. С тех пор там перебывали многие знаменитые писатели, поэты и художники, а позже построены дачи советской литературной элиты.
Тропинка от станции вела к даче профессора, рядом со знаменитой усадьбой. Покосившийся двухэтажный дом с колоннадой и флигелем, заросший сиренью, похожий на древний заколдованный мир.
Здесь, в «башне из слоновой кости», или келье под елью, как называл ее профессор, для поэта было много от знакомого старого мира, и не так резко воспринимались приметы нового.
Живущие в поселке творческие люди, «инженеры человеческих душ», совсем отличались от тех, кого знал поэт. Они были «социалистическими реалистами», принципом которых было «приподымание действительности», то есть выделение чудесных здоровых плодов от уродливых дичков реальности. Уродливыми дичками было все то, что противостояло генеральной линии.
Профессор предложил поэту свой гардероб, и тот выбрал старомодный костюм и галстук-бабочку. В нем он и ходил, даже косил траву в саду.
За столом, обслуживаемым горничной (жена умерла, а дочь живет за границей), они с профессором вели странные разговоры.
— Мне кажется, — говорил поэт, — наступила иная, бодрая эпоха. Закончилось безвременье, в котором мы не слышали духа музыки. Родилась новая Личность…
— Вы так думаете? — усмехался профессор. — У нас по-прежнему не любят разнообразия.
Он был себе на уме, отрешенный от происходящего в мире, чем-то похож на дореволюционных друзей старого поэта.
Где-то далеко бýхали взрывы.
— Что это? — удивился поэт.
— А, это дроны-камикадзе прилетают, — равнодушно сказал профессор. — Гибридная война.
— Что такое гибридная война?
Профессор не нашелся, как определить это.
— Ну, когда как бы случайно залетает бомба за границу чужой страны. И все не готовы к настоящей войне. Не бойтесь, к нам не прилетит, бьют по центрам.
Поэт ничего не понял. Он удивлялся странным выражением лиц увиденных людей. В их глазах была повседневная озабоченность, ничего окрыляющего.
Вспоминал молодость в своей деревенской усадьбе, мамочку в пенсне, и как мечтал о неземной любви. Он со своим другом Александром верил в Софию — Вечную женственность, предвестие «мирового очищения», обещанного любимым философом В. Соловьевым. Друг, поэт Прекрасной незнакомки, встретил Вечную женственность в виде земной конкретной девушки, женился, но не мог оскорбить свою музу вульгарной любовью, опускаясь до плотских удовольствий. Только платоническая связь может быть без измен. Но она этого не понимала, и у друга начались нелады в семейной жизни. Так он стал нарушителем норм морали. Сам же поэт так и не женился.
Когда-то он ждал очистительной революции, в муке прощался с эпохой гуманизма, в смысле индивидуализма, в котором был воспитан, понимая, что интеллигенты страдают в тупике отчаяния, предвидя разрушение их бесцельного существования. Спорил с друзьями философами, доказывая, что время индивидуальной личности проходит, ее сметает бурный массовый поток, где массовидная личность, от усмешки которой интеллигенция сжималась в страхе, обретет новую роль. И знал, что вместе с разрушением наступит удивительная новая жизнь. Ибо новое всегда разрушает одряхлевшее.
____
Никому не сказав, старый поэт поехал на электричке в город — познакомиться с новой эпохой. И сразу влез в грохот и разноцветье небывалого мира, как бюргер из средневековья. Поразился, насколько упорядочено устройство ухода за людьми.
Дороги, по которым движутся похожие на сигары гладкие автомобили, ровный гладкий асфальт, по бокам чудесные бордюры, постоянно перекладываемые, наверно, на лучшие. И неслыханные подземные дороги с дворцами станциями — метро.
Он заглянул в универсам, и выскочил, ничего не понял: незнакомые товары с яркой кричащей рекламой, из разных стран мира, больше восточных.
По бокам проспекта высокие здания, «высотки», как ему сказали. А внутри них, как ульи, квартирки, горячая и холодная вода из крана, ванная и туалет, — он сам побывал в подобной квартирке, и даже мылся в душе. Удобства, что и не снились в его время.
Мимо старика над ухом пролетел парень в ярком спортивном костюме, стоя на дощечке с двумя колесиками, чуть не сбил с ног.
Люди не те, одеты как-то необычно просто. Никто не здоровается, проходя мимо. Мимо приостанавливались одиночки, разговаривающие сами с собой. Это было диковинно — как инопланетяне. Только потом он узнал, что они общаются с кем-то через микрофон в ухе.
Как все тут сконцентрировано, слаженно действует! И связи между людьми стали мгновенными через небывалые устройства — гаджеты. Да, цивилизация невероятно продвинулась вперед!
Дома у профессора обрадовались — паниковали, куда он делся?
____
В поселке старый поэт познакомился с литераторами.
Писатели, создатели «секретарской литературы», как охарактеризовал их профессор, почему-то были не в моде до недавнего времени, и доживали здесь в своих усадьбах, когда-то крепких, подаренных властью, ныне кажущихся ветхими лачугами, а в последнее время снова воспрянули. Они благожелательно отнеслись к его появлению.
И эти тоже почему-то были возбуждены, как будто надеялись на что-то грозно близящееся, ожидаемое. Сердитый писатель, давно забытый, ставший религиозным, ворчал:
— Они всегда хотели уничтожить нас. Вспомните ледовое побоище, наступления против Советской России. А теперь отбросили даже ими установленные «правила» своего лидерства.
Что происходит? Еще в свое время поэт знал, что индивидуализм Европы, высокомерный к грубой невежественной толпе, к дремучему Востоку, всегда враждебно относился к России. Это уже не был тот гуманизм любимых Петрарки, Эразма, Гуттена, французских и английских гуманистов, германских «Бури и натиска», Шиллера и Гете, Вагнера и Гейне.
Но другие, более молодые, посещавшие писательский поселок, презирали старых мастеров «приподымания действительности».
Старый поэт познакомился с одним из них, последователем «шестидесятников», о которых он узнал от профессора. Не тех, которые бесталанно прозябали в шестидесятых XIX века, а в разваленном «перестройкой» Советском Союзе в XX веке. Это был поэт и рецензент Горюнов.
— Больше слушайте этих мастодонтов! — фыркнул тот. — Они снова подняли головы, хотят вернуть страну во времена массового сознания, клеймившего интеллигенцию как предателей и изменников.
— Что это было за время? — подозрительно спросил старый поэт. — После очистительной революции?
— Вот-вот, оно самое.
2
Старый поэт, или Старец, как прозвал его Горюнов, с удивлением узнал, что этот мальчик будущего в юности поклонялся тем его друзьям из прошлого, кто яростно защищали индивидуальную Личность. Тем, кто вырос из идей всемирной Афинской школы, широко распространившейся по миру и охватившей тысячелетия.
«Понаехавшие» еще со времени Петра иностранцы, адепты всемирной философской школы, привнесли западный рационализм, разрушая русскую религиозность. Интеллигенция вышла из прорубленного им окна в Европу, вместе с западным воздухом, одновременно живительным и ядовитым, как говорили его друзья, создавшие сборник статей о русской интеллигенции «Вехи».
В России во времена старого поэта эти учения обернулись народолюбием — народничеством. Тогда было (впрочем, так было всегда) не до исканий абстрактных высших смыслов, божественной истины, надо было освобождать от рабства угнетенный народ. Этот взгляд на общественные отношения с конца XIX века так и остался до сих пор.
Старец вспоминал острую полемику друзей-философов из «Вех» по поводу интеллигенции, у которой личность выродилась в эгоистический индивидуализм и рациональность, потерявшую «дух музыки». Они критиковали интеллигенцию, жившую «вне себя» с юных лет, то есть, признавая единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто выше личности — народ, общество, государство.
— Сколько было визга вокруг сборника! — взволновался Старец. — Ополчились все, из-за, якобы, поклепа на интеллигенцию, якобы, принижающую личность. Для «веховцев» главной ценностью человеческого бытия было признание каждой свободной личности с ее внутренним миром и творческими силами.
— Да, это был провидческий сборник философов, — отозвался Горюнов, читавший старое издание сборника. — Диссидент Солженицын считал, что они «как бы присланы из будущего». Сейчас уже очевидно, что они были правы.
Старец оживился:
— Да, они обвиняли интеллигенцию в том, что она все объясняла внешним неустройством человеческого общежития. Якобы, вся задача — преодолеть это внешнее неустройство путем революции и реформ. Отсюда героизм самообороны. Максимализм, фанатизм, глухой к голосу жизни. Пренебрежение к инакомыслящим, к инопартийцу. Российская интеллигенция оказалась беспомощной перед грозящей революцией, которая их смела. Она игнорировала национальные и религиозные интересы России, не уважала право, хотела разжечь в массах самые разрушительные инстинкты. Она была чужда собственному народу, который ее ненавидел, и никогда не разумел.
И сам Андрей Бернгардович, порождение этой интеллигенции, с болью и надеждой предвидел разрушение ее в новой буре революции и приход необыкновенного Деятеля, человека массы, которого его умершие друзья обзывали «грядущим хамом».
И вот новый знакомец, потомок революционной бури, снова рассуждает о воспитании сознательной Личности, без которой революции превращаются в пустой круговорот истории, пожирающий своих детей. Правда, в его словах не было энтузиазма.
— Интеллигенция, совесть нации, — говорил он, — уникальное явление, могло появиться только в России. Она вышла из особенностей русского характера — духовной открытости, щедрости и совестливости, тоски по духовной близости людей. Такого явления не возникло больше ни в одном из народов, там элиты — из интеллектуалов, то есть создателей продуктов потребления.
____
Веня Горюнов был инстинктивным романтиком, наверно, с рождения.
Помнил самое раннее, перед весенней грозой:
Под листвой на аллее-улице — меркнет в глазах,
Темнота небывалого мира упала мгновенно!
Воздух первою зеленью, пылью пропах, —
Что-то помнит душа в этом темном лоне блаженном.
Это было! Как в раннем — глубокая теплая тень
Меж стандартных коробок домов, от времени грязных,
Это жизнь вернулась в начало, где нету потерь.
Это было! И не исчезнет напрасно
Откуда это у него? Ведь, родился на краю земли, где люди возделывали землю и забирались далеко в море, чтобы добыть пропитание. В семье счетовода, мнившего себя интеллигентом, и безграмотной матери, дочери нищенки.
Откуда впервые прилетело в его юность мгновение божественной веры, высшего смысла, не заслоненного зловещим дымом борьбы добра со злом? Казалось, в заброшенной далеко дальневосточной земле на берегу океана эмбрион Вени до рождения уже впитал с молоком времени веру в будущее счастье всех.
В этой спящей «глубокой теплой тени» чудилась Афинская философская школа, изображенная на фреске Рафаэля. Эта школа давно исчезла, но конспиративный заговор мыслителей разнесли по миру многочисленные ученики, кого коснулся ее магический жезл, даже до дальнего уголка земли, до рождения Вени. Вот это все уже было в родившемся Вене — не зная, он оказался ее учеником. А может быть, это природное свойство вновь просыпающейся жизни?
Это была, конечно, и библиотека, доставшаяся отцу после реквизиции имущества ученого, сосланного после революции, которую Веня пожирал, — откуда эта жажда в глубоко провинциальном пареньке? Там были старые издания Гоголя, Белинского, дореволюционные потрепанные журналы и книжки стихов, издания старых философов, сборник «Вехи». Веня жадно читал их все, смутно чувствуя смыслы и, кажется, все понимал.
____
Горюнов сразу ощутил «глубокую теплую тень» в старом поэте, уравнивающую их в вечно юном возрасте, и, не спрашивая, из какого времени взялся этот странный старомодный старик, как поэт удовлетворился поразительным сведением, что тот писал стихи еще в начале XX века. И старик тоже почувствовал в молодом друге «новую музыку».
Они бродили по окрестностям, среди поваленных деревьев и зарослей (последствие давнего урагана) по вымощенной тропке с фонарями и стендами, рассказывающими о знаменитых художниках и писателях, гостях поселка.
Старый поэт, перешагивая через трухлявое поваленное дерево, жадно расспрашивал, что случилось со страной после «очистительной революционной бури».
Он что, с Луны свалился? Горюнов неохотно пояснял ему, как младенцу, старые, давно известные каждому события.
После Октябрьской революции интеллигенты, обожествлявшие народ и боявшиеся «пугачевщины», вырвались на Запад, другие расстреляны или оказались в лагерях.
— А мои друзья? — ужаснулся старый поэт, и споткнулся о камень. Горюнов придержал его.
— Их вывезли «философским пароходом» в эмиграцию после большевистского переворота.
Старый поэт помолчал, и потом сказал скорбно:
— Может быть, ей не хватало доверия народа, но она искренне любила Россию. У нее было чувство родины.
Отвлекаясь от горьких мыслей о трагической судьбе друзей, он спросил:
— А что было потом?
— Позже, во время «диктатуры пролетариата», многие снова бежали на Запад, или тоже были расстреляны или замучены в лагерях.
— А остальные?
— Жить-то хочется. Так было во все времена — приспосабливались всегда. Верили живым лозунгам «Вся власть — трудящимся!», «Мир народам! Земля крестьянам! Заводы рабочим!» Только потом лозунги стали привычными, давно отработанными обветшавшими и приемлемыми, как телесериалы об Изауре. Оставшиеся старые интеллигенты вынуждены были стать «попутчиками» одной партии.
— Вон оно как обернулось! — вздохнул старый поэт. — Очистительная буря революции, о которой мы мечтали, изнывая в застое самодержавия, снова ввергла в еще большую реакцию?
Старец часто дышал, словно ему не хватало воздуха.
— Все повторилось! Откуда это?
— Оттуда же! — неохотно сказал Горюнов.
— Потеряли музыку?
— Музыку вашего абстрактного Бога, перед которым все равны? Так он и был, рябой и с усами, строптивый грузин, окончивший лишь семинарию. Вообразил себя вождем новой оптимистической страны, со знаменем народной справедливости шагавшей к светлому будущему, хотя продолжал разреживать ряды строителей коммунизма, не веря никому.
— И что, настоящей интеллигенции не стало? Той, у кого больная совесть, и чувство социальной ответственности?
— А вам не рассказали? Сколько ее выкосило во время мировых войн?
Старец помрачнел.
— Мой друг Александр Блок говорил мне о землетрясении в Мессине. При внезапной вспышке подземного огня проснувшегося вулкана явилось лицо человечества — на один миг! И мы увидели то, от чего нас систематически отрывают несчетные «стилизации» — политические, общественные, религиозные и художественные личины человека. Того лица, подлинного, отдельного человека, которое мелькнуло в ярком свете, можно было испугаться, до того мы успели от него отвыкнуть. Ничем не заменимое чутье потерял человек, оторвавшись от природы, утратив животные инстинкты.
Когда они пришли домой, к профессору, старый поэт был по-прежнему мрачен. Выискал в богатой библиотеке профессора синий томик из собрания сочинений А. Блока, и восхитился, что собрано все, даже неопубликованное (не знал, что лишь то, что не противоречит линии партии). «Так ценят моего друга! — радовался он.
— Да, это был пророк. Вот маленькая заметка о взрыве вулкана в Мессине: «В минуту катастрофы люди были охвачены паникой, безумием, несчастнее зверей… Но какие чудеса человеческого духа и человеческой силы были явлены потом! Какое мужество умирающих!.. Того лица, подлинного, отдельного человека, которое мелькнуло в ярком свете, можно было испугаться, до того мы успели от него отвыкнуть. Таков обыкновенный человек. Он поступает страшно просто, и в этой простоте сказывается драгоценная жемчужина его духа. Истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до смертного края».
Горюнов совсем недавно перечитывал собрание сочинений А. Блока, и казалось, все духовные стадии любимого поэта он пережил, и сейчас поэт казался ему устаревшим перед грядущей близкой катастрофой.
— Что ваша Мессина! Произошли такие мировые события, что не могли присниться вашим друзьям. Великая отечественная исказила лик человечества так, как они и представить себе не могли. Хорошо, что они не узнали этого.
— Да, мне рассказали, — опять помрачнел Старец. — Страшнее первой мировой.
— Тогда выкинутая революцией за границу интеллигенция и открыла свое подлинное лицо, она стояла за Россию. Многие вернулись, после смерти диктатора, время стало мягче — не расстреливали. Но уже была «рабочая интеллигенция».
Старец обрадовался.
— Неужели пришла новая интеллигенция, о которой мы мечтали?
— Да, — усмехался Горюнов. — В нее попер глубинный народ. У меня на даче — сплошная макулатура бывших маститых авторов «из рабочих и крестьян», девизом которых было «приподымание действительности», отделение здоровых плодов от уродливых дичков. Если бы вы знали, сколько дичков уничтожено, и сколько вот этого леса потрачено впустую на изготовление бумаги, на которой написаны эти оптимистические мифы!
Старый поэт искал в себе и не находил своей постоянной болезни. Словно отвалился больной член, тяжелое безвременье, раздираемое взрывами отчаянных народовольцев. То прошлое было настолько мелким перед тем будущим, которым ужасаются нынешние люди, что его старая боль исчезла. Да, пришли новые печали, но уже совсем другие.
Он с интересом наблюдал за новым другом — наяву увиденным будущим. И увидел это будущее совсем не таким, как представлял.
3
Кажется, другой жизни не было.
То было сплошное тревожное зарево, в которое была погружена вся судьба Горюнова. Зарево, длившееся со времени заливающего Помпею вулкана, или черной смерти, выкосившей треть Европы, или великих переселений народов (VI—VII вв.). Зарево двух мировых войн, миграции народов в XX—XXI вв., исковеркавшие и его род. Перемалывались целые государства, этнические сообщества, в муках рождались новые.
Детство Вени Горюнова было временем, когда народ жил единой тревогой, чтó там на фронтах, ради победы. Само собой разумелось, Веня хотел сбежать на фронт, чтобы отодвинуть что-то небывало страшное, накатившееся на страну. Хотел пасть жертвой за родину (правда, так, чтобы не было слишком больно).
И даже после войны преобладало единство кучкующихся вместе, наверно, так легче прокормиться и выжить, хотя тиран продолжал разреживать ряды строителей будущего.
В холодное небо бездомно смотрел —
Эпоха войны в нем темнела жестоко.
Я знал — надо жить, для неведомых дел,
Теплушкой продленья несомый к востоку.
И поезд разорванных вер уходил
В какие-то трудные снова начала.
И одинокий, с сиротством в груди,
Обрел ли я снова все, что потерялось?
Его детство не было похоже на дни барчука, его нового друга, проводившего время в большой любящей семье, в играх живых солдатиков-холопов в войну. Скорее, это была жизнь ребенка в древних Помпеях, рано начавшего тяжело трудиться. Или в арабской семье, скитавшейся по Средиземному морю, чтобы добраться до земли обетованной — Америки или Европы.
____
Помнил Веня, отец искал место, где можно было, наконец, обосноваться навсегда — свое Эльдорадо. И, как многие глупцы, в разоренной после страшной войны стране решил уехать с насиженного сытого места туда, где можно поесть яблочек.
И вот семья — отец, мать, он с братом и сестрой, с бедным скарбом, уже томились в теплушке поезда, двигаясь с востока на юг, в поисках хлебных мест, в долгих стояниях на станциях, со сдвигами вагонов.
Но везде был голод. Мать собирала дикие груши в горах и черемшу, которую они, дети, пытались пережевывать и глотали, и она болезненно вылезала из зада стеблями, которые приходилось вытаскивать.
Однажды он пришел с улицы и увидел мать, макающую в блюдце с подсолнечным маслом корку и поспешно сующую в рот. И шевельнувшееся было подозрение залила такая жалость за маму!
Маленькая сестра заболела скарлатиной, ее увезли в больницу. Вскоре отец, дежуривший у постели дочки, вернулся растерянный.
— Нет больше нашей Светочки.
И заплакал.
Наверно, из-за великих переселений народов, разрыва родственных связей и возникает в душах пустота, которая чревата эгоизмом, враждой и войнами. Главным становится все, кроме любви, — добывание хлеба, инстинктивный патриотизм, негодование на претендующих стать властителями мира…
____
И во мне был ужас — детской раны,
Когда боль сиротства в нас скулит.
Но всегда был связан с миром ранним
Рода, что спасет и сохранит.
Что же было в год послевоенный?
Мой побег из дома — в никуда,
Чтоб в семье хватило хлеба — ели,
И не умирали никогда.
И детдом — жестокий мир и взрослый
Дал мне выжить, смерти вопреки.
Время нас не бросило в сиротство,
Пусть и кто-то отнимал пайки.
Веня с братом сбежали из семьи в город, чтобы спастись от голода и смерти.
До побега Веня наелся овса с шелухой, растертого в самодельной крупорушке (цилиндре с ручкой для кручения, одетой на ребристый конус). Прятались под деревянными тротуарами, он маялся от запора и боли в желудке, пока через неделю не разрешился где-то под забором.
Их выловила милиция на рынке, когда он выхватил из кастрюли торговки пирожок и сунул в рот, быстро сжевав, чтобы не отняли. Как бездомных, их определили в детдом где-то на юге.
В теплушке они впервые жадно ели большую осетинскую лепешку, разрывая ее на сладкие части. Поезд то останавливался, содрогаясь вагонами, то набирал скорость.
В детдоме их встретила толстая тетка, ворча, проводила в казарму, где разношерстная ватага детей встретила их подозрительно.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.