
Бесплатный фрагмент - Вдруг вспомнилось
Памяти моих родителей
От автора
Назвав свою книгу «Былое и думы», Герцен не столько дал ей заголовок, сколько обозначил жанр. Можно ли лучше определить мемуары, в которых воспоминания о событиях перемежаются вольными размышлениями, легким философствованием, аналогиями и отвлечениями?
А роман Александра Герцена — великий роман. Да много ли в литературе такого, что перечитывают полтараста лет спустя? — Доли процента. В чем секрет Герцена? — В искренности, в необычном для нашей эпохи раскрытии себя. За сто лет до того — «Исповедь» Руссо. Но ведь и еёе помним и перечитываем.
«Вдруг вспомнилось» — это тоже скорее обозначение жанра, чем название. Это из покойного Бенедикта Сарнова, хотя, разумеется, не он здесь первооткрыватель. Да ведь так и движется наша мысль. Часто без связи с предыдущим, без всякого невидимого стержня, на который всё нанизывается, без причины и без морали. Просто вспомнилось.
И я хочу вспомнить всё, что есть во мне и скоро вместе со мною исчезнет. Не только пережитое лично, но и прожитое и рассказанное моими родителями, родственниками друзьями. Ведь всё это — тоже моё. И еще… Мне всегда хотелось написать книгу в которой биографическая литература соприкоснется с научно-популярной…
Первым моим читателем, критиком и корректором была моя жена Лариса Рудкевич (1946—2019), которой я очень благодарен.
Все подстрочные примечания принадлежат автору.
Часть первая. Урал
Звезды над прудом
Темный зимний вечер. Уральский городок, втиснутый в неширокое пространство между заснеженными холмами. Мы со старшей сестрой идем вдоль пруда и смотрим на звезды. Пруд представляется мне огромным. Я приеду сюда через сорок лет и не поверю глазам: это в самом деле он, тот громадный водоем, по которому часами катались на лодке, за которым — обширный незнакомый лес, населенный неведомыми племенами? С мостика я увижу небольшое озеро с темно-зеленой водой, по соседству с металлургическим заводом демидовской эпохи. Три гигантских фаллоса прокопченных доменных печей и кисловатое зловоние, сопровождавшее годы моего детства.
К пруду было привязано всё, и вся жизнь вертелась вокруг него. У каждого была вёсельная лодка. Появлялись первые моторки. А зимой по его льду ходили в центр городка, в кино и магазины.
Но тогда, над вечерним прудом, я еще не знаю, что он маленький. Сестра показывает мне Большую Медведицу, потом — созвездие Лебедя. Лет через десять я пойму, что сестра перепутала. То, что в ее представлении было Лебедем, на деле оказалось Орионом. Зимою «небесный охотник» виден очень хорошо. Впрочем, сдается мне, что он хорошо виден всегда и везде. Про южное полушарие не скажу, никогда там не был. Но на девятом градусе северной широты, в тысяче километров от экватора, Орион не менее красив, чем в наших средних широтах.
Никак не могу понять, что за неведомая связь существует между мною и тем мальчиком. Почему он — это я? Они совершенно непохожи друг на друг друга: четырехлетний мальчик с санками на берегу уральского пруда и грузный пожилой мужчина с блестящей лысиной, паркующий автомобиль возле небоскреба на другой стороне земного шара. За много лет сменились все клетки тела, поменялись в нем все молекулы. Были одни — стали другие, и их явно больше. Сохранилось только нечто неосязаемое и эфемерное: структура. Таинственные связи, взаимное расположение каких-то элементов, топология тех путей, по которым проходят электрические сигналы. Только они и отождествляют меня с тем, давним. Не сами материальные сущности, но отношения между ними.
Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Человек есть совокупность отношений, и только отношения важны для человека».
Алгебра отношений
На мехмат, на мехмат, господа! Приобщитесь к полумистическому процессу возникновения и развития идей. Ежедневное восхищение: «Это ж надо было додуматься!» Знаю, что говорю. Не только я сам, но все мои дети прошли через мехмат. Теперь старшие внуки повторяют их путь.
Там — абстракции, там — «игра в бисер». Но разум противится абстракциям. Он ищет опоры в образах.
Из всей университетской премудрости более всего запала в душу теория отношений. Она менее абстрактна, чем арифметика. Вот, например, отношение «быть братом». Или сестрой? Кстати, почему в русском языке нет такого простого слова, как английское sibling: «брат или сестра»? Итак, «быть сиблингом». Если Вася — сиблинг Оли, то и Оля — сиблинг Васи. Это называют симметричностью. А если Саша — сиблинг Маши, а Маша — сиблинг Кати, то и Саша — сиблинг Кати. Это транзитивность. Итак, все они — братья и сестры. И совсем по-другому выглядит отношение «любить». Если Саша любит Таню, то из этого — увы — совсем не следует, что и Таня любит Сашу. А если Саша любит Таню, а Таня любит Колю, то это не означает, что Саша любит Колю. Скорее, совсем наоборот!
Или взять известную байку о шести рукопожатиях. Некто А пожал руку В, и этот В жал руку С… Словом, «я встречал того, кто видал того, кто Ленина помнил». Говорят, что все люди Земли отдалены друг от друга не более, чем шестью рукопожатиями. Я в этом сильно сомневаюсь. Теория говорит лишь о том, что все люди разделены на отдельные группы «рукопожателей». И группы эти немалые. Иногда хочется отречься от своей группы, такие в ней попадаются уроды. Этот уральский мальчишка с саночками всего тремя рукопожатиями (через дядю и И.В.Курчатова) отделен от Сталина (что само по себе грустно). А стало быть — пятью рукопожатиями (через Риббентропа) — связан с Гитлером. Надеюсь, никто не осудит за такую «связь с Гитлером», а все равно неприятно…
После окончания универа, я подумал, что алгебра отношений вполне подойдет для представления знаний о мире в памяти электронно-вычислительной машины (слово «компьютер» тогда только входило в обиход). Стал что-то придумывать и программировать, потом порылся в иностранных научных журналах — и обнаружил, что лет за пять до того великий (да, теперь его считают таковым — и вполне заслуженно) американский информатик Эдвард Кодд уже разработал и теорию, и первые системы, которые теперь называют реляционными базами данных. («Реляционный» и означает: «построенный на отношениях»). Вскоре они буквально вытеснили все прочие системы поиска данных.
Первые впечатления
Лев Толстой помнил себя с годовалого возраста, может и раньше. Даже помнил, как его пеленали. Верю. Почему бы и нет? Но как мало Толстых! Как плохо люди помнят свои первые годы, первое десятилетие жизни! Какие уж там пеленки! Мне кажется, люди стали бы лучше и добрее, если бы память первых лет не уходила…
Память каждого человека, как и память человечества, — ненадежна, прихотлива и глупа. Запоминается не то, что важно и существенно, не выдающиеся события, не славные деяния, а мишура всякая. Психологи утверждают, что в первую очередь запоминается то, что связано с сильными эмоциями. Роясь в затхлых чуланах собственного мозга, начинаю в этом сомневаться. Почему застряло то, а не иное? — Шут его знает!
Первые жизненные ощущения неясны, размыты. И не скажешь, было ли это на самом деле или, возможно, возникло уже потом, после рассказов родителей о твоем раннем детстве…
Одно из первых впечатлений. Снежная равнина, серенькое небо и на нем — черная галочка. Буква V. Палочки часто сдвигаются и расходятся. Я и не знаю, что это птица. Я вообще не задаюсь вопросами. Для меня это просто деталь неба. Видимо, так воспринимает мир животное.
Вот опять серый фон (вечер? сумерки?) и какие-то темные фигуры. Я лежу (вероятно, в коляске) и просто смотрю на них. Мыслей, вопросов, сознания еще нет…
Доказательное начинается лет с двух… Ощущение движения, непрерывного покачивания, темная деревянная скамья, темное мужское лицо надо мной. Потом меня несут, и я вижу домик с забором…
Года через два-три мы поехали в соседний город, к маминой приятельнице тете Кате и ее мужу. Поднялись на третий этаж обычного многоквартирного дома «сталинской застройки», и я спросил:
— А где домик?
И мама вспомнила, что мы ездили в гости к тете Кате, когда мне было два года. Только тогда они жили не в квартире, а в своем доме. И сопровождал нас в поездке, муж тети Кати, азербайджанец дядя Сеня…
Зима. Гуляю с дедушкой. Мне скоро три. В овражке у больницы сидят бородатые цыгане и лудят котлы. Потом бабушка рассказывала, что я очень боялся, что они меня украдут. Идем к фотографу. Меня поднимают подмышки и ставят на какие-то кирпичики в уголке. И тут (я это отчетливо помню), что-то накатывает, подходит к горлу, захлестывает все мое естество — и я начинаю реветь. Тогда рядом с дедушкой ставят стульчик, ставят меня на него. Я уже успокоился. Стою и думаю, что вот ведь — не плачу. Стою и не плачу! Потом дедушка кому-то рассказывает, как меня фотографировали и как я сперва заревел и как пришлось поставить меня на стул. А карточка сохранилась…
Цыгане почему-то облюбовали окрестности больницы. Часто ставили табор неподалеку, промышляли гаданием, мелкой работой, вроде лужения котлов, возможно, и воровством. Помню, как весь табор внезапно заполнил больничный двор. Шумно. Цыганята вертятся, ссорятся, орут. Женщины с сосущими грудь детишками, бородатые и курчавые мужики в черных жилетах. Все движется, волнуется…
Потом мама рассказала. Одного из цыган пырнули в драке ножом. Мама сделала ему операцию, а он, отйдя от наркоза, выпрыгнул в окно палаты — и был таков. Соплеменники впихнули его в телегу и всем табором привезли назад в больницу.

Вокруг политики — 1. Смерть Сталина
Смерти Сталина я не помню вообще. Это странно, если принять во внимание, какой стон и вопль стоял по всей земле советской. Вероятно, в нашей семье никакого траура и плача не было. Я уверен, что для моих родителей, людей весьма культурных и осведомленных, событие было отнюдь не печальным. Знали ли они, от какой страшной участи избавилась в тот день наша семья? Но не станешь же праздновать! Папин брат дядя Саша, весельчак и балагур, говорил картавым голосом Ленина (по поводу внесения трупа Сталина в мавзолей):
— Вот уж не п’едполагал, что ЦК подложит мне такую сви’гнью!
Через две недели после достопамятного события мне исполнилось три, а еще через неделю умер дедушка, и это я уже помню.
А вот помнит ли кто-нибудь, что такое песенник? А ведь городская семья без песенника в пятидесятые — это же реже и необычнее, чем семья без кошки. Песенник — это просто сборник песен, чаще всего без нот. Застолье было немыслимо без пения. Пели обычно очень фальшиво, перевирая слова, но с большим энтузиазмом. Песни в сборнике — самые разные. Про Родину, партию, вождей (такие, кстати, тоже пелись), военные, лирические, шуточные. Уже начавши читать, я натолкнулся в песеннике на песню о Ленине и три песни о Сталине. Взял у бабушки ножницы и удалил один лист с двумя «сталинскими» песнями. Не потому, что знал нечто, а просто из чувства справедливости: одна песня о Ленине, одна — о Сталине.
«Величаем мы сокола, что всех выше летает,
Чья могучая сила всех врагов побеждает.
Величаем мы сокола, друга лучшего нашего,
Величаем мы СТАЛИНА, всенародного маршала».
Это Исаковский. В то время в русской орфографии существовали такие правила: одно имя нарицательное — Родина — пишется с заглавной буквы, одно имя собственное — СТАЛИН — всегда пишется большими буквами. Советская пропаганда вообще творчески развивала традиции египетских фараонов. Фараон, как известно, всегда изображался гораздо крупнее окружающих. Так же должен был изображаться Сталин, и, как помните, Брежнев. Уже в семидесятые годы замечательные были в «Правде» фотографии с заседаний политбюро ЦК. Фотографировали длинный стол с «заседателями», затем делали фотографию сидящего Брежнева — в более крупном масштабе — и «сажали» генсека во главе стола.
А еще года через два я подслушал, как родители взволнованно разговаривают.
— … Говорят что и это всё — из-за Сталина.
— И не только это…
На меня не обратили внимания, и я с большим интересом выслушал почти весь разговор. Так вот и узнал…
Трамплин над прудом
Он стоял посередь лесочка, что представлялся мне джунглями. Старый, с тридцатых годов, наверное. Шаткий, но вместе с тем прочный. Покачиваются скрипучие доски-ступеньки. Лезем наверх: папа, мама, сестра и я. Высоко, но совсем не страшно. Интересно, это мои родители первыми обнаружили, что здесь очень здорово загорать? Сверху виден пруд. Виден лес. Зеленый? — Нет. Большие прогалины. Скукожившиеся лапы больных елей. Желтая пожухлая трава на полянах… Заводы — рядом. Магнезитовый, чугуноплавильный, они и окрашивают лес в желтоватый цвет…
Однажды мы с Юркой попробовали швырять с трамплина бутылки. Чудо: они падали на землю и не разбивались. То ли почва была мягкой, то ли сам трамплин был не столь высок, как мне тогда представлялось? Вероятно, за время жизни изменилась шкала восприятия расстояний. Теперь всё видится раза в три меньшим.
А зимою на пруду проходили соревнования. Вон он летит, черная закорючка на фоне белого снега. Летит, как птица, дальше, дальше… Эх, сорвался! Закорючка обратилась человечком, сползающим по склону, раскинувши руки и ноги с лыжами. Папа смеется: ничего страшного, съезжают и на спине, и на боку. Вероятно, он смотрит на происходящее глазами врача: лишь бы травмы не было.
Говорили, что с этого трамплина можно прыгать аж на пятьдесят метров. Мировой рекорд в то время — 82 метра. Прыжки с трамплина — один из немногих видов спорта, где результаты выросли втрое за время жизни одного поколения. Сегодняшний рекорд — 253 метра. Даже с половиной.
На том же пруду — соревнования в беге на лыжах. Гляжу на лыжников — и удивляюсь: почему кто-то отстает? Они что, не знают, что нужно просто быстро-быстро двигать ногами — и всё? Мне уже четыре года, и этой осенью папа купил мне лыжи. Когда первый снег покрыл кое-где почву, я начал скандалить и требовать, чтобы мне немедленно дали мои лыжи. Я хотел сейчас же кататься. Отец проявил твердость и лыж мне не давал аж до самого декабря. А на следующий год я их нацеплю, встану поближе, выбегу на трассу и конечно же обгоню всех. Потому что я знаю, как это делать.
Любое достижение казалось мне не результатом умений, не венцом изнурительной тренировки, а продуктом знания. Нужно лишь познать некий секрет. Примерно так же смотрит на мир герой «Детства Никиты» Алексея Толстого. Он уверен, что если быстро и правильно двигать ногами, то полетишь. Надо только знать, как двигать.
Может быть, есть такое место, что войдешь в ворота — и тут же очутишься где-нибудь в Челябинске. Надо только знать, где это место…
Домашние вещи
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин…
Арсений Тарковский
Вещи преобразились не сразу. Это теперь я не могу разглядеть душу вещей сквозь их утилитарную сущность. А когда-то почти все кругом было кантовской вещью в себе. Старое кресло в стиле ар-нуво смотрело на меня глазами своих завитков по бокам спинки. И то был взгляд одушевленного существа. (Надо же! Во времена моего детства еще попадались в обычных квартирах предметы мебели начала века. И ими пользовались. Мама периодически приглашала кого-нибудь сменить обивку).
Узоры на коврах и занавесках принимали диковинные формы: смеющиеся или грустные рожи, неведомые звери, людские фигуры. Они даже беседовали друг с другом.
Ковры — это вообще особ статья. На самом старом, из бабушкиного приданого, можно разглядеть коня, вылинявшую усатую физиономию всадника и длинное женское платье, висящее вдоль крупа. Бабушка сказала, что это гусар прощается с девушкой. Но меня не занимает этот сюжет. Я вглядываюсь в проступающий на заднем фоне лес. Из него вроде бы кто-то выглядывает. Из цветов на переднем плане выползают бледными лентами какие-то змеи. Даже в бессюжетном ковре, что висит рядом с моей кроватью, можно многое разглядеть, когда не хочется спать. Вот палка с набалдашником. С другой стороны ей отвечает такая же. Нет, не совсем такая. Она сдвинута немного вниз, и цвет набалдашника — чуточку другой. Это нехорошо, это раздражает и смущает что-то в сознании…
Старые газеты складывают в матерчатую висячую папку. На ней вышит крестиком пестрый большой попугай. Папка так и называется: попугай. «А где эта газета?» — «Наверно, уже в попугае». Этот попугай — тоже живой. Он — незаметная часть интерьера, но сам замечает всё.
Две серебряных чайных ложечки — загадки. На одной выгравированы буквы «СЕП», что означает «Савва Ефимович Петров». На другой — «УСП», «Ульяна Саввична Петрова». Савва Ефимович — бабушкин отец, а Ульяна — бабушкина сестра, которая умерла совсем молодой от родов.
Вещи всё еще были спутниками. Когда их заводили, то и готовились прожить с ними жизнь, ну, в крайнем случае, полжизни. Не скажу, что все теперешние вещи служат меньше (хотя в большинстве случаев это так). Просто, отношение к ним — иное.
Мои нынешние вещи — это просто вещи. Не «хищные вещи века» и не живые творения прошлых лет. А те, давние, облачены в прозрачный ореол романтических воспоминаний. Они все еще живут.

Пруд-убийца
Утро. Я всегда поднимался рано. А сегодня мне скучно. И вообще тягостно. Слишком серо это небо, слишком холоден ветер. Почему всё так мрачно? И ни души кругом, и волны вон как ходят…
На берегу появляются трое мужиков. Помню их мутные глаза, одутловатые лица. Один выделяется и ростом и повадками. Он крупнее тех двоих и разговаривает командирским тоном.
— Ладно, остальное на острове допьем.
Проходят нетвердой походкой по мосткам, опускают в лодку большую сумку. Сразу двое сели на весла. Прогромыхала цепь и брякнулась на дно лодки. «Главный» сел ближе к носу. Островок с торчащим над ним древним телеграфным столбом был в трех сотнях метров от берега. Я следил, как лодка прыгает по волнам цвета мокрого асфальта, пока она не уткнулась в кусты возле столба. («Мокрый асфальт» — это сегодняшнее сравнение. В ту пору мне еще не доводилось видеть асфальт).
К полудню распогодилось. Когда я вновь пришел к пруду, на воде играли веселые солнечные блики, а женщины на мостках полоскали белье. Но, похоже, сегодня им совсем не до белья. Все страшно возбуждены. Кричат, жестикулируют, обсуждают что-то. Да о чем это они?
— Прямо в лодке и подрались… Один замахнулся — да и свалился в воду. Они все трое лыка не вязали… А тот хотел его в воде стукнуть веслом. Навалился на борт — лодка и перевернулась. Двое вроде бы друг в друга вцепились, а один малость в стороне. Пока мы тут сообразили да опомнились — уже и голов не видно. Только лодка перевернутая плавает. Вон, вытащили её.
Вызвали водолазов, и к вечеру на мысочке возле больницы лежали два трупа. Люди подходили, любовались, отпускали шутки относительно состояния извлеченных тел. Видно, это были те двое, что вцепились друг в друга. Третий труп вытащили только через две недели и принесли в больничный морг.
Этот морг (в просторечии — мертвецкая) был одним из главных развлечений окрестных жителей. Он практически всегда был открыт для публики. Видимо, исходящие из мертвецкой неуловимые флюиды вызывали в местном народонаселении легкую некрофилию. Туда бегали и дети, и взрослые поглазеть на новые поступления.
За две недели тело сильно распухло и казалось просто громадным. Я сразу понял что это тот, кого мысленно называл «главным». Кожа стала белой, как бумага, вся пошла глубокими складками и кое-где свисала лоскутами. Уже немного позднее моим любимым чтением стал учебник судебной медицины профессора Н.В.Попова. Там были фотографии трупов, пролежавших в воде. Отдельно — рисунок руки с такими же складками на коже и подписью «Перчатка смерти». (Кстати, нынешний виднейший эксперт в области судебной медицины и автор новейшего учебника — тоже профессор Попов, но уже другой: не Н.В., а В.Л.).
Возле тела утопленника причитала жена, выдумывая усопшему все новые эпитеты. Собравшиеся внимали и со смехом ее передразнивали.
— «Дяденька хороший!» Ой, не могу!…
Они понимали, конечно, что покойный много пил и почем зря лупил жену.
Нам, мальчишкам, эта картина вскоре надоела, и мы пошли с больничного двора на нашу улицу, которая так и называлась: Больничная.
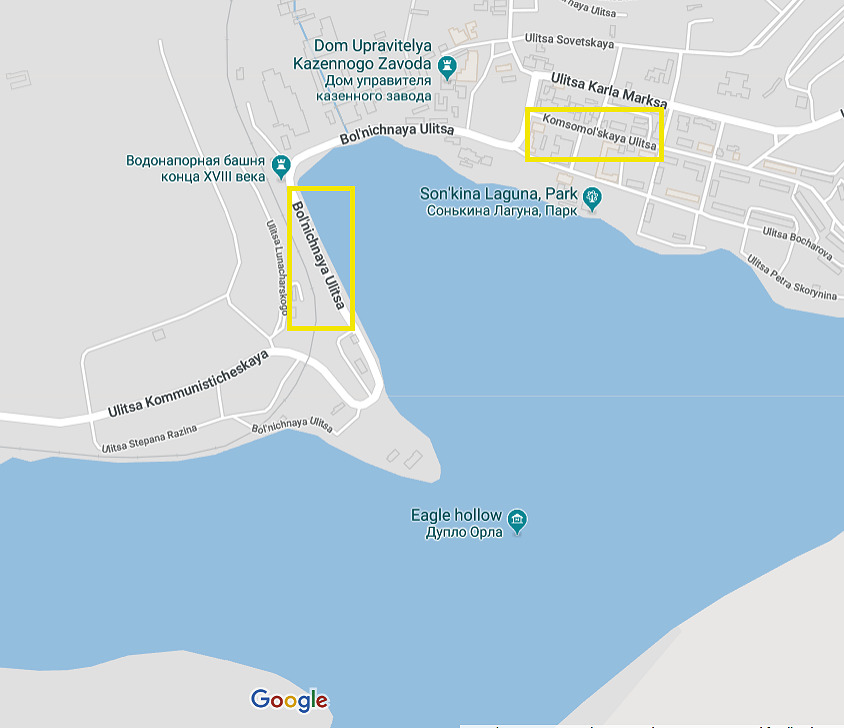
Больничная улица
Мне иногда снится эта коротенькая немощеная улица. Одним концом она упирается в железнодорожную станцию, другим — в мысок над озером, на котором стоит городская больница. Там работают мои родители. Летом посреди больничного двора пылает огромная и алая маковая клумба.
Иногда мама оставляет меня подождать ее где-нибудь в помещении для дежурных врачей или в раздевалке процедурных кабинетов. Там всегда стоит удивительный запах. Нигде больше я не встречал такого. Кажется, у этого запаха есть цвет. Запах — ярко-синий. Позднее узнал, что так пахнет озон, трехатомарный кислород. В природе он образуется после грозы, а в больнице — от ультрафиолетовых ламп. Кстати, озон в газообразном состоянии — голубой, а в сжиженном — именно ярко-синий.
На углу, рядом с больницей, живет Слепая Клава. Наверно, не такая уж старая, но мне представляется старушкой. «Темная вода», атрофия зрительного нерва. Тут никакая операция не поможет.
— А вы умели читать до того, как ослепли?
— Конечно. Вот, хотите, напишу ваше имя? Дайте-ка карандаш.
(Она меня почему-то называет на вы). И довольно четко выводит на листочке: «САША». Буквы, правда, наползают немного одна на другую.
Однажды во двор Слепой Клавы въехала телега, груженная книгами. Книги были необычные. Большие, толстенные и с плотными желтыми листами. Внутри — никакого текста, только выпуклые точечки. Все страницы ими покрыты.
Позднее Слепая Клава показывала мне эти книги у себя дома.
— Вот четыре точки. Это «Г»…
Так я познакомился со шрифтом Брайля. Теперь я часто вижу такие тексты: в лифтах, на табличках монументов, на указателях в парках. Иногда думаешь: «Да сколько же у нас слепых? Ведь единицы!» Моя страна преподносит мне урок: делай не для большинства! Делай для каждого!
Часть дома Слепая Клава сдавала квартирантам…
Мы сидели с бабушкой возле открытого окна, когда со стороны пруда раздались жалобные с подвыванием крики:
— Не бу-у-у-ду! Не бу-у-у-ду!
— Бьют кого-то, — спокойно заметила бабушка.
— Как это «бьют»?
— Да обыкновенно: ремнем али вицей…
Вопил шестилетний мальчик, сын квартирантки. Он потом заходил к нам во двор. Очень бледный и худенький. Кожа на его лице казалась мне полупрозрачной. И всегда — виноватая улыбка. На людей он смотрел немного заискивающе, немного снизу вверх. Даже на меня, хоть и был чуточку меня постарше.
— У меня два папы: дядя Миша и дядя Сережа. Дядя Миша меня бьет, а дядя Сережа — нет.
Мамаша его была невысокой крепко сбитой бабой, широкой в плечах, с узкими глазенками. Неизвестно, что в ней находили все те мужики, от одного из которых и был этот ребенок. Когда обнаруживала, что сын ушел к пруду поиграть с ребятами, хватала хворостину и, нахлестывая, гнала его домой.
— Бестолковый, — вздыхала Слепая Клава. — Ну, вы понимаете, что это такое. Ничего не знает. Уж в магазин не пошлешь: считать не умеет.
Потом показывает висящую в дальней кладовке длинную гладкую веревку.
— Она его вот этим била. А я вот взяла да и спрятала.
Я разглогольствовал с соседскими девчонками, что надо идти в милицию, что надо подать жалобу. Дальше разглогольствований не пошло. Я не знал, как это делается. К тому же, происходящее было в порядке вещей. Шестьдесят лет спустя в России приняли закон, по которому дозволяется бить домашних только раз в год. В противном случае могут и дело возбудить. Так что не надо рассказывать мне байки про ужасы ювенальной юстиции, про то, как без всяких оснований отбирают детей у несчастных родителей. Да, в сегодняшней Канаде этого ребенка в мгновение ока изолировали бы от матери. И правильно бы сделали.
Мы занимали верхний этаж следующего дома, а внизу жили две семьи. В одной половине — застенчивый и тихий Ефим с женой и двумя детьми, отнюдь не застенчивыми и не тихими. Видно, пошли в мать. Бабушка звала жену Ефима хамкой. Я сперва думал, что это имя такое. В другой половине — Дядя Степан и Тётка Авдотья, пожилая мордовская пара, раскулаченная и высланная с Волги на Урал во время коллективизации. Дядя Степан — худой пожилой мужик с большой аккуратной бородой и в серой толстовке. Все делал основательно, а говорил не торопясь, степенно и совершенно свободно, не делая ошибок в русском языке. Такие, как он, и сколачивали крепкие крестьянские хозяйства. За то и поплатился. Дядя Степан работал совсем рядом, в учреждении «Заготзерно». Там был «ссыпной пункт» — большой сарай под дырявой крышей. Мы туда иногда забегали и катались со склонов пахучих горок из кукурузных или пшеничных зерен. При конторе был конный двор (лошадь была самым обычным средством транспорта). Коней купали в пруду, и мы купались рядом с ними. Никаких аналогий со знаменитой картиной Петрова-Водкина. Наверно, потому, что кони были не красные, а больше гнедые. Один раз Дядя Степан посадил меня верхом на лошадь (прямо на круп, без седла) и привел ее к нам во двор. С тех пор я ездил верхом всего несколько раз и всегда — с большим удовольствием. Может, стоило заняться верховой ездой? Как пишет Ромен Гари, жизнь полна упущенных возможностей.
А Тетка Авдотья была маленькая, быстрая. Говорила тоже быстро и неправильно, путая рода и падежи. «Вчера Ленка приходил». И часто вставляла непонятное слово «мерян».
— Бабка Авдотья, ты где творог купила?
— Мерян, под банкой.
(По дороге к центру был дом где на первом этаже — продуктовый магазин, а на втором — госбанк. Магазин называли «подгосбанком»).
Моя сестра решительно не хотела называть эту женщину Теткой Авдотьей, как все прочие, и звала тётей Дуней.
Домов на улице — ровно десять. Номера домов идут подряд, без разделения на четные и нечетные. Ибо на другой стороне — только «Заготзерно». На уральском языке сторона улицы называется «порядок». На Больничной только один порядок.
Через дом от нас — Анна Алексеевна и Иван Григорьевич Титовы. Это не соседи, это скорее часть нашей семьи. Они потом к нам еще не раз приезжали за тысячу километров. По очереди.
У Титовых — большая русская печь. Она всегда теплая. Я обычно торчу наверху, на ее лежанке. Вот Анна Алексеевна, вынув из устья горшок с топленым молоком, снимает темно-вишневую пенку, кладет ее на блюдце и протягивает мне наверх. Честно говоря, пенку я не люблю, но отказываться мне неловко. Иван Григорьевич иногда ложится рядом со мной и рассказывает про войну. Как Гитлер начал нападать на другие страны и захватывать их. Как потом напал на нашу страну и как Иван Григорьевич пошел на фронт.
У Титовых есть стереоскоп времен японской войны. Две линзы, вставленные в добротную деревянную оправу со складной ручкой. К стереоскопу прилагается пачка картонок с двойными картинками. Подписи — с ятями и твердыми знаками. Вставляешь картонку, подносишь стереоскоп к глазам — и видишь одну картинку, но объемную. Вот джунгли. Под пальмами висит над костром огромный котел. Возле него — симпатичные людоед и людоедка в набедренных повязках из травы. Рядом с ними — европеец в костюме, штиблетах и с галстуком. Покорно стоит на четвереньках, ожидая, когда его треснут дубиной по затылку. Подпись: «Мой милый! Я привела этого господина к нам на обед».
Через несколько лет прочитаю «Занимательную физику» Якова Перельмана. (О да, и мне можно было поставить тот пресловутый диагноз: «острый перельманит мозга»). Оказалось, что достаточно иметь две почти идентичных картинки (изображения чуть сдвинуты) — и никакого стереоскопа не надо. Скосил немного глаза — картинки слились и приобрели объемность. Два сереньких многоугольника превращаются в ярко блестящий многогранник.
Единственный кирпичный дом на улице принадлежит родителям моего друга Юрки. Кладка старая, добротная. Этот дом построил Юркин дед в самом начале прошлого века. Иногда к ним наезжает пожилая тетка. Наверно, даже двоюродная бабушка. Теперь я чувствую: не иначе как в гимназии училась. Сидит с книжкой на стульчике прямо посреди двора. Вот заглядывает прохожий и спрашивает о чем-то.
— Нет-нет, это не поликлиника. Здесь жилой дом.
Мы прямо со смеху покатываемся. «Живой дом»! Это надо же!
— Мальчики! Не грызите так много семечек! У вас непременно случится воспаление слепой кишки.
Мы снова хохочем: «Слепая кишка, живой дом!» И что она еще придумает?
А вот мы начинаем рыть яму рядом с дорогой.
— Что вы делаете! Здесь же ходит публика…
Улица уходит вдаль, как дорога в романе Александры Бруштейн, и заканчивается домом Цепелевых возле вокзала. Вокзальное здание — небольшое, но вокзал — самый настоящий. Сюда приходят товарные и пассажирские поезда. Когда я был совсем маленький, их тянули страшные черные разбойники-паровозы. В товарняках было примерно по тридцать вагонов. А теперь сюда прибывают интеллигентные электропоезда. У них и голос другой. И в товарных составах мы насчитываем уже по пятьдесят вагонов и платформ. И объявляет женский голос: «Поезд Имярек вышел с соседней станции. Прибывает на первый путь». И призывает плакат у вокзала: «Больше лома стройкам шестой пятилетки!»
Кончается улица, но не кончаются обиталища ее жителей. Сразу за нею — запасные пути с теплушками железнодорожников. В такой теплушке живет Колька. Мы заходим к нему иногда. Внутри тесно, но ничего, жить можно. Колька зажигает спичку и засовывает ее — прямо горящую — себе в рот. Огонек просвечивает сквозь щеку.
— Она что, горит там внутри?
— Погорит немного, потом гаснет.
Колька знает, где повернуть рычаг, чтобы покатился вдоль путей большой козловый кран. Над колесами крана — жестяные чехлы. Колька включает, и в этот момент надо прыгнуть на чехол и вцепиться в штангу. Проезжаем аж метров тридцать.
В России и сейчас женщин больше, чем мужчин. Если нынешние российские мальчишки такие же, какими были мы, то это неудивительно, хоть и очень жалко.
Мои бабушки
Что общего между двумя моими бабушками, кроме того, что они были матерями моих родителей? Обе они родились в 1888-м и умерли в 1971-м. У обеих было три класса образования. Обе говорили по-русски, однако их языки были несхожи. Сусанна Саввична, мамина мама, говорила на сибирском диалекте со множеством прибауток и неправильностей. Папина мама Штерна Лазаревна (тоже сибирячка) разговаривала рафинированным языком петербургской интеллигенции, который при этом не был ее родным.
Сусанна Саввична была женщиной массивной и рыхлой. Носила простенькие темные платья, которые виделись мне не платьями, а особого рода бабушкиной одеждой. Передвигалась медленно: были проблемы с ногой. Застудила её после войны, в Караганде, поехавши туда к мужу, высланному по выходе из лагерей Гулага. Если я поднимался рано, то слышал, как она медленно выхрамывает из своей комнатки в кухню, позевывая: «Охо-хо, да не дома! Дома, да не на печке!» Потом варит на всех кофе и жарит гренки. Про то, что кофе может быть в зернах, и что его можно молоть самим, никто, кажется, и не ведал. Бабушка всыпает из картонных пачек в кастрюлю три части суррогатного кофейного порошка и одну часть «натурального молотого», заливает смесью воды с молоком и доводит до кипения.
До моего трехлетия бабушка размещалась в этой комнатке вместе с дедом. Помню, как ползал по его груди и как посасывал его мундштук. Потом дедова кровать опустела, и я любил сидеть или лежать на ней, рядом с полукруглой голландской печью, и разглядывать картинки в журналах.
Все свободное от домашнего хозяйства время бабушка сидела на своей кровати за швейной машинкой. Иногда шила, но чаще читала какой-нибудь роман. Была она верующей (по крайней мере, считала себя таковой), но в церковь не ходила и икон не держала. «Я верю, что какая-то сила управляет нами». Видимо, религия её походила на ту, что ввели французы во время революции. Впрочем, священную историю почитала и частенько вспоминала, как изучала ее в школе, как сдавала экзамен. «Я им всё как сказку рассказала».
— Учитель к нам приходил. Упрашивал отдать меня дальше учиться. Да куды там! Како ученье, кода работать надо.
От нее я впервые и услышал библейские истории: об Адаме, Еве и их сыновьях, о Ное, о Моисее в нильских тростниках. Разумеется, о Христе, Деве Марии, апостолах, Понтии Пилате. А самым поэтическим из всего этого собрания была молитва старца Симеона: «Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко, по глаголу твоему…» Она завораживала, как музыка. Лет через пятнадцать Иосиф Бродский напишет свое гениальное «Сретенье»:
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
Бродский понимал, конечно, разницу между иудейским храмом и христианской церковью, но слово «церковь» здесь действительно более к месту. Это, кстати, последнее стихотворение из написанных им в России.
Библейские персонажи были бабушкиными добрыми знакомыми. Кому-то сочувствовала, кого-то осуждала. И всегда — как своих современников и чуть ли не сотрапезников.
— Ведь говорила ж Пилату жена: «Это не человек, это бог. Спаси его!» Да где ему жены послушаться!
Зимой Сусанна Саввична надолго уезжала в Москву, к сыну Ивану. Тогда к нам приезжала из Ленинграда Штерна Лазаревна, чтобы приглядывать за мной и вести хозяйство. Сухопарая, быстрая, она тоже кормила меня библейскими преданиями.
— Манна небесная могла приобретать любой вкус, какой захочешь. Хочешь — вкус кофе, хочешь — шоколада.
Только ее рассказы звучали по-другому. В отношении к сюжетам постоянно прорывалась ирония. Словно хотела сказать: «Как забавно придумано!»
Бабушка происходила из довольно известной в Сибири семьи религиозных сионистов. Очень гордилась тем, что в юности сама пораскинула умом, рассудила и поняла, что религиозная вера просто нелепа.
— Если в классе были еврейские девочки, то на урок закона божьего класс разделяли. К русским приходил священник, а к нам — раввин.
«Штерна» на идиш означает «звезда». И родители ласково называли ее «божья дочка».
— Я и вправду верила, что я — божья дочка. Как-то меня обидела соседская девочка, и мне стало ее жалко: ведь теперь ее бог накажет. А один раз испугалась, что и меня накажет: нечаянно уронила в уборную молитвенник.
Бабушки друг друга недолюбливали. Оно и понятно, при их-то непохожести.


Вокруг политики — 2. Маленков и Берия
Мой друг Юрка бежит вдоль глубокой колеи по нашей изувеченной всеми видами транспорта улочке и распевает:
Берия-Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
Я с большим удовольствием подхватываю. Про Берию я уже что-то слышал. Взрослые разговаривали. Читать я еще не умею, но очень люблю слушать, что говорят взрослые. Через полгода я, уже научившийся читать, вижу интересную газету. Ее принесла нам соседка, Анна Алексеевна. Принесла не ради самой газеты, конечно, а ради завернутого в нее черемухового пирога. Вы не ели уральские пироги из черемухи? Её перемалывают вместе с косточками, и начинка сладкого открытого пирога похрустывает на зубах. (Кстати, в Канаде не знают черемухи, хотя она здесь растет кое-где. Но ее не ставят в вазы и тем более не делают из нее пирогов. Даже английского названия bird cherry не слыхали). Но речь не о пироге, а все-таки о газете. Вся она — четыре страницы — «Речь товарища Л.П.Берия». Сестра прямо зашлась смехом, увидев эту газету, призрак ушедшего вождя. Я попробовал почитать, но стало скучно. А потом прошла вечность (напоминаю, что четыре года в том возрасте — это нечто близкое к вечности). Разоблачили «антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова».
— Ну вот, — усмехнулась бабушка, — теперь и Маленкову надавали пинков.
(Бедный Маленков! Из всех четверых он умрет самым молодым, даже до девяноста не доживет).
Пройдет еще половина вечности (года два) — и я узнаю, что аккурат в 1953 году — как по заказу — вышел пятый том «Большой Советской Энциклопедии» с огромной статьей о верном сыне партии Лаврентии Павловиче Берия. Часть тиража уже разослана. Что делать? Пришлось послать всем подписчикам письмо, рекомендующее вырезать четыре страницы. Об этом рассказал мне друг и одноклассник Сашка, сын профессора Воропаева. Поневоле Оруэлла вспомнишь. А еще через десяток лет я увидел тот самый пятый том в нашей университетской библиотеке. И без всяких купюр.
«Колчак мобилизовал»
Рыжеусый старик сидел на скамеечке перед домом Цепелевых, грелся на весеннем солнышке и нюхал табак. Он сгребал темную табачную пыль к центру такой же темной ладони, потом брал из получившейся горки щепоть порошка и отправлял в розовую ноздрю. Вдыхал с большим удовольствием, далеко не всегда чихая при этом. Я знал, что табак не только курят, но и нюхают, попадалось в книжках. А вот видеть, как это делается, не приходилось. Сдается, что не видел и после. Получается, что вообще никогда этого не видел, кроме того теплого вечера поздней весны. А почитаешь русскую классику — так люди вообще с табакерками не расставались. Нюхали табак даже пушкинские красавицы. Императора Павла пристукнули первым подвернувшимся под руку предметом: табакеркой.
Я присел рядом со стариком, чтобы получше разглядеть процесс. Потом спросил:
— Это табак?
— Да. Нюхаю вот, — доброжелательно ответил старик, — еще с империалистической войны привык. Я тогда на бомбардировщике летал. Механиком. Нас там четверо было.
Я притих, боясь прерывать старика. Мне было ужасно лестно, что вот я сижу и внимаю воспоминаниям настоящего ветерана давних войн. А тот снова вдохнул табачного порошка и продолжал:
— Самый большой самолет был в то время. Четыре больших мотора. И бомбы мы кидали немаленькие на немецкие позиции. По нам, конечно, тоже стреляли. Мы как приземлимся, сразу начинаем самолет осматривать да пробоины считать. И по десять бывало, и по двадцать. Один раз уж и не знаю, как сели. Машина была просто изрешечена.
Ребята звали меня играть, но я отмахивался: я был ужасно горд участием в этой серьезной беседе. Что для меня какие-то детские игры!
— А уж потом, в Гражданскую, — продолжал старик, — меня Колчак мобилизовал.
Он перестал рассказывать, задумался немного, потом повторил: «Колчак меня мобилизовал».
Я не знал, что такое «мобилизовал». Я только знал, что Колчак — командующий белогвардейской армией. Стало быть, если «мобилизовал» означает что-то нехорошее, значит старик этот — наш, и Колчак как-то навредил ему. А если наоборот, то получается, что мой собеседник — и сам белогвардеец. Я не стал больше размышлять об этом, осознав, что все равно не разберусь.
А фотография самолета, на котором летал сосед, довольно скоро попалась мне на глаза в детской книжке про авиацию. «Илья Муромец», российский многомоторный серийный бомбардировщик. Первый в мире. Я сразу понял, что это он и есть. А разрабытавал самолет и был его первым пилотом И.И.Сикорский, тот самый, что потом стал создателем первого американского вертолета. На Западе каждый знает, что вертолет был изобретен выдающимся американским конструктором Сикорским в самом начале второй мировой войны.
В семнадцатом году Сикорский сразу понял, что от большевиков ему ничего хорошего ждать не приходится, и при первой же возможности уехал в Париж. Там он продолжал конструировать бомбардировщики, но война закончилась, и его работа оказалась ненужной французам. Переехал в США, основал свою авиационную фирму, а в напарники взял… Сергея Рахманинова. В критический моммент, когда банкротство казалось неминуемым, Рахманинов выручил: одолжил Сикорскому пять тысяч долларов. Сейчас эта сумма — аккурат моя месячная зарплата, а в ту пору пять тысяч были примерно как нынешние сто. Впрочем, композитор не прогадал. Фирма встала на ноги, и Сикорский вернул деньги с процентами. Такая вот музыка.
Мои первые книжки — 1. Том Сойер и букварь
Так называлась книжная серия для дошкольников. Тоненькие такие книжечки, в одну тетрадку. Сказки, стишки, рассказы с иллюстрациями. Хорошая была серия. Думаете, я ею очень увлекался? Вот уж нет! Вероятно, рано перерос ее. И дети мои, научившись читать, предпочитали нечто более солидное.
Пока был совсем маленький, часто приставал к отцу, чтобы он почитал мне. Папа, видимо, решил развивать мой литературный вкус. Он читал мне Чехова («Мальчики», «Каштанка», «Детвора») … Имя Чехова мама произносила с придыханием. А папа просто показал портрет человека с бородкой на титульном листе зеленого тома и сообщил, что это — Антон Павлович Чехов. Так я узнал и запомнил имя «Антон». Имя напоминало об антенне — высокой палке с проводом на нашей крыше. Корней Чуковский непременно включил бы по этому поводу абзац в главу «Новая эпоха и дети» своей знаменитой книжки. Представляете? Ребенок запоминает самое обыкновенное имя по ассоциации с радиоустройством, а не наоборот.
А потом папа принес белую книжку в бумажной обложке. На ней — какие-то люди в странных позах. Тетка с закатанными глазами. Ничего не понятно. Я взгромоздился на папину грудь, и он начал читать:
— Том! — Ответа нет.
Вот так Марк Твен стал на всю жизнь моим любимым писателем. Для русского читателя Марк Твен — это прежде всего Том Сойер. Американцы более всего ценят его за «Приключения Гекльберри Финна». Эту книгу отец тоже купил. Она выглядела солиднее: серьезный картонный переплет. И прочитал я ее уже сам и позднее: года через два-три. Я понимаю американцев. «Том Сойер» — это весело, это остроумно, это здорово. И детям интересно, и взрослым. А вот «Гекльберри Финн» — это серьезный роман. С показом характеров и жизненых коллизий, с философией и политикой, с кошмаром североамериканского бытия середины позапрошлого века. И сделано это исключительно средствами литературы, без всяких там авторских разглагольствований. Не то, что здесь у меня. Другой жанр. Так я ведь и не Марк Твен. Уж извините. Чем богаты, тем и рады.
…Мне — четыре с половиной. Ранняя зима. Ранний закат. Ранний мороз. И мы уже вовсю катаемся с горки: от больницы и прямо до пруда. Вроде бы уж и домой пора. Но подходит соседка Анна Алексеевна и берет меня за руку.
— Пойдем!
— А куда?
— К Кругловым. Поищем для тебя букварь.
И мы проходим мимо больницы и стучимся в дом Кругловых.
— У вас остался старый Катин букварь? — спрашивает Анна Алексеевна.
— Есть. Только Катя из него картинки повырезала кое-где.
— Ничего, пойдет.
Вначале приходим к Анне Алексеевне, и она проглаживает утюгом страницы букваря: мало ли какая зараза может прилепиться внутри. Меня нисколько не огорчало, что не хватает некоторых картинок. И тем более не огорчало, что не хватает части текстов на обороте бывших картинок. Текст я все равно не понимал.
Ужасно довольный, прибежал домой и продемонстрировал букварь отцу. Папе букварь тоже понравился, и он быстренько показал мне, как складывать буквы в слоги и слова (буквы-то я уже давно знал). Простые коротенькие слова у меня сразу начали получаться, а с более длинными или сложными я еще долго плюхался, регулярно обращаясь к отцу.
— А посмотри-ка! Здесь написано, как эту девочку зовут, — говорит папа.
И я с большим усердием начинаю разбирать подпись под картинкой, не тронутой ножницами Кати.
Мои первые фильмы — 1. Капитан Грант и другие
Летний день. Мне четыре. Мама натягивает на меня темно-синюю матроску. Мы собираемся в кино на «Детей капитана Гранта».
— Мам, а что там будет?
— Ну, там будет большой орел…
Сели на стулья. Много других людей кругом. Стало темно, а впереди засветилась большая хорошо натянутая простыня. Словом, всё как бывает дома, когда смотрим диафильмы. Только изображение двигалось. Помню механизмы, машины, огромные зубчатые колеса, конвеерную ленту. «Это журнал», — объяснила мама.
Дальше стало интереснее. Море, корабли, какие-то разговоры. И вот он, наконец, обещанный мамой большой орел. Парит в светлом небе, неся в когтях Роберта. (По сюжету это был кондор, который, впрочем, тоже не смог бы поднять в воздух живого мальчика). И наконец бородатый солидный мужчина — капитан Грант — опускается на диван в кают-компании яхты «Дункан». Его страдания кончились. Все счастливы.
Лет десять назад пересмотрел этот фильм. Непонятно, как такое вообще можно смотреть. Страшный примитив. Ни лиц, ни характеров. Даже Николай Черкасов в роли Паганеля не блещет. А уж остальные актеры вообще играют хуже некуда. Что осталось от фильма восемьдесят лет спустя, так это музыка Дунаевского. Сергей Прокофьев говорил, что на тему увертюры к фильму он мог бы написать симфонию.
В следующий раз меня водила в кино бабушка Штерна. От нее узнал, что простыня, на которой показывают фильмы, называется экран. Это немного походило на «Грант» и потому показалось мне вполне естественным.
А потом уж мы ходили в кино самостоятельно, чаще вдвоем с Юркой. Интересно бы проследить и как-то классифицировать то, что запомнилось. Может быть, я неправ, говоря о непредсказуемости памяти? Может быть, запоминается как раз высокое искусство? «Думу про казака Голоту» смотрели зимой, перейдя пруд по льду. Я запомнил только попадью. Как ходит она по дому и беседует с птичками и поросятами: «Дети вы мои родные! Дети вы мои дорогие!» Это была чистая импровизация Фаины Раневской в ее первой роли. Фактически еще до съемок, в кинопробе. Режиссеру Игорю Савченко импровизация так понравилась, что ее вставили в фильм не переснимая. А из «Путевки в жизнь» зацепились в памяти две сцены. В первой избивают голодного мальчишку-беспризорника, укравшего что-то с лотка. Вот он поднимает голову. Лицо — во весь экран, и по этому лицу текут слезы, смешиваясь с кровью из разбитого носа. В этом месте мне захотелось плакать, и я почти разревелся. Вторая запомнившаяся сцена — заключительная. Все с ликованием и торжеством ждут первого поезда на только что построенной железной дороге. Поезд подходит. Раздаются крики ура — и вдруг обрываются. Наступает тишина. На паровозе везут тело убитого Мустафы.

Пожар над прудом
Проснулся ночью. Родители стоят у окна, отодвинув занавески. Мама — в своем любимом халатике. Китайский шелк, а на нем — раскидистые могучие деревья.
— Да… Есть на чем повеситься… — задумчиво протянул папа, когда мама в первый раз его продемонстрировала.
Подбегаю к окну, вклиниваюсь между ними. Вижу огромное зарево. Пламя устремлено вверх исполинской рыжей змеей. Это горит торговая база на той стороне пруда.
— Как бы на пожарку не перекинулось, — говорит папа.
Здание пожарной команды действительно стояло буквально во дворе базы. И воды в пруду вроде бы достаточно. Тем не менее, база сгорела дотла. Поджигатели, видимо, хорошо постарались, дабы не пойти под суд за растрату.
Точка-тире
Отец подносит лупу к газетной фотографии.
— Видишь?
И я вижу. Вся фотография состоит из отдельных маленьких точек. Вернее, из точек и просветов между ними. Там, где точки ближе друг к другу, изображение темнее, а там где их нет вообще, — светлые пятна. Фотография может быть хоть на целый газетный лист. На ней может быть целый город или завод, или много людей. Но все равно: там нет ничего, кроме этих микроскопических черных капелек краски. Только черное и белое. Папа сказал, что эти точки и просветы между ними можно передать по телеграфу, как огромную телеграмму. Картинка придет из одного города в другой за считанные минуты.
Я и не знал тогда, что отец демонстрирует мне самое главное технологическое достижение эпохи. Оно обеспечит технический прогресс на столетия вперед. Мало кто понимал это в те времена. «Оцифровка», или, на иностранный манер, «диджитализация» — этих терминов тогда еще не было. За шестьдесят пять лет громоздкие машины, превращавшие фотографии в ряды малюсеньких точек, обратились обыденными сканерами. Сканируют картинки и тексты, музыку и фильмы. Но принцип — все тот же: разбить целое на миллионы и миллиарды маленьких частей и пометить каждую частичку: черное или белое.
А ведь эта потрясающая идея уходит корнями в первую половину девятнадцатого века…
Среди ребят моего поколения было модным заучивать азбуку Морзе. Хвастались познаниями, обмениваясь записками из точек и тире. До сих пор помню: А — точка-тире, Б — тире и три точки… И венец всего — сигнал SOS, тревожный, зовущий, кричащий. Три точки — три тире — три точки. В нем — свист морского ветра, голос отважных мореплавателей, исследователей и первопроходцев, взывающий о помощи. Словом, весь трагизм и вся романтика открытия мира. Разумеется, в самом сигнале — ничего особенного, даже никаких Save Our Souls — «спасите наши души». Но сколько накручено-наворочано вокруг него!
Натягиваю во дворе нитку с навешанными на нее бумажными флажками морской азбуки. Флажки симпатичные, но морская азбука меня занимает мало: с кем тут флажками переговариваться? Важно, что на каждом флажке — буква и её код Морзе. Сиди себе во дворе на скамеечке да выстукивай…
Самюэл Морзе закончил Йельский университет в девятнадцать лет. А потом еще учился в Лондонской академии художеств. Судя по всему, он был не бог весть каким великим художником. Парадные портреты да рядовые картины на классические сюжеты. А обессмертило его изобретение телеграфа. Рассказывают, что решение заняться передачей сигналов пришло к художнику в 1825 году, после семейной трагедии. Морзе поехал в Вашингтон писать портрет великого революционера маркиза де Лафайета. Когда портрет был уже закончен, перед домом Лафайета спешился всадник и вручил Морзе записку, в которой сообщалось, что его жена Лукреция умерла от родов. Морзе немедленно выехал домой, в город Нью-Хейвен, что неподалеку от Нью-Йорка. Когда он прибыл туда, Лукрецию уже похоронили. Вот тут-то Морзе и задумал изобрести способ мгновенной передачи сообщений. Думаю, что это — такая же легенда, как и яблоко Ньютона. Но телеграф он все-таки построил, преодолев множество технических и административных трудностей. Впрочем, идея передачи сигналов носилась в воздухе. Морзе нашел самое главное: информация должна передаваться в двоичном коде. С помощью точки и тире можно закодировать всё, что угодно.
Лет пять назад стоял я в очереди на нашей почте. Подошла какая-то женщина, явно не из коренных канадок, и спросила служащего, где и как можно отправить телеграмму. Тот удивился, пожал плечами и признался, что понятия не имеет. Телеграф умер, но дело его живет и побеждает.
Сегодня мы кодируем символы с помощью нулей и единиц. А ведь это — в точности то же самое. Наши нули и единицы — условны. Нету в вашем компьютере никаких кругляшков и палочек. Никто их туда не пишет. И точек с черточками нет. А есть, например, микроскопические кусочки магнитного материала. Каждый кусочек намагничен в одном из двух возможных направлений. Программистам и электронщикам просто удобно иногда записывать содержимое памяти компьютера в виде чисел. Как писал родоначальник советской школы программирования Андрей Петрович Ершов, «программист должен обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все что угодно из нуля и единицы».
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Николай Гумилев
И ведь верно! Как передать эмоции, оттенки чувств, видения, ароматы и дурман воспоминаний — хоть в компьютере, хоть на бумаге? А вот смысл любых сообщений прекрасно представляется с помощью тех же нулей и единиц. В середине позапрошлого века английский философ и математик Джордж Буль применил «точки-тире» к логике. Процесс рассуждений стало можно свести к манипуляциям с теми же нулями и единицами.
Но об этом — в другой раз.
Музыка над прудом
Песни шли парами. Поодиночке они не существовали. «Летят белокрылые чайки» — а что на другой стороне? Законный вопрос. И я вам скажу, что на другой стороне. Нудная и неинтересная песня «Мы с тобою не дружили»! «Мы с тобою не дружили, не встречались по весне, но глаза твои большие не дают покоя мне». Как можно эти глупости помещать на той же пластинке, что и «Летят белокрылые чайки с приветом родимой земли. И ночью, и днем в просторе морском стальные плывут корабли»?
Ну да, это для вас сейчас обе песни одинаково глупы. Вторая, возможно, даже глупее первой. А вот для меня, пятилетнего…
«Дождик» и «Вьется вдаль тропа лесная». А почему эти две забыты, кстати? Хорошие ведь песни!
Вы представляете граммофон в виде ящичка с большим раструбом? Торчит волнистая труба, и никуда ее не денешь. Это вам внушил наш кинематограф. Раз граммофон — значит, труба. Уже с двадцатых годов прошлого века в Англии появились портативные граммофоны. Их, как водится, вначале выпустили только для армии. Скоро они распространились повсеместно. Ведь удобно-то как: небольшой чемоданчик, набор пластинок весом всего в несколько килограммов — и слушай музыку где хочешь. Первой стала поставлять граммофоны в СССР французская фирма Патэ. Новинку так и назвали: патефон.
«Завели патефон, льется вальс „Осенний сон“…» заводили не только сам патефон (надо было вставить и покрутить изящную рукоятку). Заводили пластинки, заводили песни и арии, заводили просто музыку, и никто не замечал в том несуразности речи.
Хорош он был, этот чемоданчик. Еще не пластиковый, еще фанерный и коленкором покрытый. А на боку его — треугольный выдвижной ящичек со стальными иголками. Прослушал пару пластинок — выкидывай иглу и вставляй новую. Иногда — от плохой ли иглы или еще от чего — на звуковой дорожке образовывалось малюсенькое углубление. Дойдя до него, патефон, выражаясь современным языком, «входил в бесконечный цикл». В этот момент надо было слегка толкнуть звукосниматель. Так случилось с моей любимой песенкой «Любитель рыболов». Она заканчивалась двустишием «Как песня начинается, вся рыба расплывается». А получалось: «Как песня начи- начи- начи- начи- крпр- расплывается — тра-ля!» Это явление называлось «заело». Была и песенка с таким названием. Ее исполняли знаменитые куплетисты Шуров и Рыкунин. На одной стороне — «Заело», на другой — «Манечка».
Мы недавно купили пластинку,
Захотели послушать новинку.
Завели патефон,
Льется вальс «Осенний Сон»,
Но зае-зае-зае…
— Шуров, заело пластинку!
— Нет, это качество иголок заело.
Куплетисты в ту пору были сатириками. Они «боролись с тем, что пока еще мешает нам жить». Как говорила моя бабушка, «продергивали». Крепко доставалось от них служащим-бюрократам, разводящим бумажную волокиту, председателям колхозов, не жедающим внедрять передовые методы хозяйствования, директорам предприятий, не выполняющим плана.
Есть отдельные мужчины — носят баки для красы,
А в отдельных магазинах нет отдельной колбасы.
(Это из пародии Масса и Червинского).
А в песне про Манечку рассказывалось о колхозной девушке, посланной учиться в Москву и отказавшейся возвращаться в родное село.
Наш рассказ вполне серьезен:
Родилась в одном колхозе,
Расцвела подобно розе
Манечка…
Дальше повествуется о том, как девушку отправили в московский институт, «агрономом стала чтобы Манечка». Но Манечка бросила этот институт и вышла замуж за москвича, чтоб остаться в столице.
Позабыла, чья ты родом,
РазорвАла связь с народом —
Ну так всё, живи уродом,
Манечка!
Напомним, что в ту пору колхозники были крепостными: у них не было паспортов, и формально им не разрешалось «самовольно менять местожительство». Только либо по особому разрешению властей, либо женившись (выйдя замуж). Можно было еще получить разрешение на учебу в городе и как-нибудь там зацепиться. А разница между жизнью в Москве и жизнью в колхозе была невероятной. То были не две разные страны, то были разные планеты, разве что языком схожие. В колхозе — серые избы без всяких удобств, лавки и полати, бесконечное копание в земле, грязь и антисанитария, скудное питание и примитивные развлечения. Жизнь тогдашнего среднего москвича, если отбросить нынешние технологические и строительные достижения, не слишком радикально отличалась от сегодняшней. И Манечка должна была быть круглой идиоткой, чтобы не воспользоваться шансом и не «разорвать связь с народом».
Вечерами папа, мама, сестра и я катались на лодке. Кто-нибудь из нас садился на корму с патефоном и заводил пластинки (лет в пять я уже умел это делать). А на носу, подобно ростру, возвышался лохматый Джек, Юркин пес. Он по вечерам поджидал, пока мы выйдем, и тут же мчался к нашей лодке. Он прекрасно знал, где она стоит. Как-то раз прозевал. Отплыли без него. Джек долго не раздумывал. Прыгнул в воду и поплыл к нам. Помогли ему забраться. Отряхнулся, уселся на носу и уставился вдаль. Настоящий впередсмотрящий.
Летящая над вечерней темной гладью музыка была явлением необычным. Портативных приемников еще не было, а патефоны были далеко не у всех.
Но настало время — и патефон умер. Не вдруг. Его погубило пьезоэлектричество. Еще в восьмидесятые годы девятнадцатого века французский физик Жак Кюри и его брат Пьер (да-да, тот самый великий Пьер Кюри, который получил Нобелевскую за исследования радиактивности) обнаружили, что некоторые кристаллы способны генерировать электрический ток при изменении формы. Сдавишь немного такой кристалл — и стрелка подключенного к нему вольтметра отклоняется. Подключи такой пьезокристалл к патефонной игле — и он начнет вырабатывать электрические сигналы в соответствии с колебаниями иглы, бегущей по звуковой дорожке пластинки. Тогда и трубы никакой не надо, ее заменит электрический динамик.
И вот мы с папой, ликуя, везем на саночках через пруд только что купленный электрический проигрыватель. Это довольно большая тумбочка. Сам проигрыватель — в верхней части, в выдвижном ящике, а внизу — место для пластинок. Сотню дисков уместить можно.
— Царапины, — вздыхает папа. — Сейчас закрасим.
Выдавливает немного масляной краски на свою палитру, сделанную из крышки от посылочного ящика. (На обороте — химическим карандашом: «Больничная 10»).
— Эта краска называется «Капут мортуум» — «Мертвая голова».
Я уже достаточно видел мертвых голов, и они никак не не хотят ассоциироваться с этим вишнево-коричневым цветом. Но позднее мне пришло на ум: «Если „капут“ — это „голова“, то, может быть, и слово „капуста“ того же происхождения? Ведь кочан похож на голову». И сам засмеялся нелепости предположения. А еще позднее узнал, что так оно и есть.
Проигрывателю не нужны стальные иглы. Появились розовые корундовые. Их меняли редко. И рукоятку никакую крутить не надо. А главное: слева от диска был рычажок «78 — 33». На скорости 78 оборотов в минуту играли обыкновенные пластинки. А на скорости 33 оборота в минуту проигрывали новомодные долгоиграющие. Они быстро вытеснили старые. Если на старой пластинке помещалось по одной песне минуты на три на каждой стороне, то на долгоиграющей — с десяток песен общей продолжительностью до получаса. К тому же диски были гибкие, и не разбивались. Винил. (Этого слова мы не знали). Любимое развлечение: запустить долгоиграющую пластинку на семьдесят восемь оборотов. Тогда она начинала верещать тоненьким визгливым голоском. Или наоборот: закручиваем старую пластинку на тридцать три. И она завывает гулким густым басом. Аж мурашки по коже.
Это была революция. Стали записывать и продавать то, что раньше записать было просто невозможно: симфонии и фортепианные концерты, оперы и оперетты, кантаты и оратории.
Теперь уже не песни, а целые концерты пошли парами. На одной стороне — Уральский народный хор, на другой — концерт Клавдии Шульженко.
Жаль, даже нынешние технологии не позволяют надежно вмонтировать звукозапись внутрь текста. (Я ж не знаю, дорогой читатель, в каком он у вас формате. Может, даже просто на бумаге). Так что не слышите вы сейчас тех мелодий, что звучат в моей памяти.
Вот пир души: оперетта «Корневильские колокола», четыре пластинки в картонной коробке. И композитор-то не бог весть какой знаменитый: Робер Планкет. Но какая музыка, какие арии! А сюжет! Замок с привидениями в Нормандии, капитан дальнего плавания и спасенная им красавица (разумеется, капитан оказывается сыном владельца замка), комичный городской староста (дряхлый старикашка, ему по сюжету целых шестьдесят три года). А как поставлено на московском радио! Какие актеры! Слушали всей семьей, арию за арией, диск за диском.
А вот странная пластинка. Тоже долгоиграющая, но красного цвета и маленькая. (Года через два-три я увижу еще более странные, сделанные на рентгеновской пленке). На ней — «Баллада и песенка Томского» из «Пиковой дамы».
Графиня, ценой одного рандеву
Хотите, пожалуй, я вам назову
Три карты, три карты, три карты!
Я, конечно же, не знал, что такое рандеву, да еще в таком пикантном смысле.
Их смело поставив одну за другой,
Вернула свое — но какою ценой!
Тут я совсем недоумевал. Какою такой ценой? Про цену вроде бы вообще ничего не говорилось. Пардон, не пелось.
Конечно, для выездов на природу продолжали пользоваться патефоном, пока не появились транзисторные радиоустройства на батареях.
Китайский орешек
Арахис называли китайскими орешками, потому что привозили его на Урал из Китая. То было время «великой дружбы». Ежедневно в четвертом часу по радио раздавалась забавная музыка, словно звенят колокольчики, настроенные по черным клавишам. Потом вступали два голоса, мужской и женский: «Говорит Пекин. Говорит Пекин. Здравствуйте, дорогие советские друзья!»
Я разделял мнение маленького мальчика из книжки Чуковского: «китайцы добрые, они в каждый орех кладут по два зернышка». Иногда и по четыре попадалось.
Впрочем, в тот раз я еще не мог разделять это мнение: мне и трех лет не было. Помню, как вдруг пришло в голову засунуть розовое ядрышко в нос. Я был уверен, что тут же его вытащу. Но странно: орешек не вытаскивался. Почему не пришло в голову тут же призвать на помощь родителей? Они ведь сидели рядом и лущили эти орешки.
Дня через два мама заметила, что с моим носом не все в порядке. Она решила, что у меня насморк. Надумала закапать мне капли — и увидела, что ноздря чем-то забита. Нос распух, и вытащить орешек в домашних условиях не было никакой возможности. Меня потащили в больницу. Помню белые халаты, помню, как со мной что-то делают. А вот детали процесса не зацепились в ненадежной памяти. Да и шут с ними.
— Эх, задница короблена! — ворчала бабушка.

Фокстрот под абажуром
«Всё пропало: а) — фокстрот под абажуром, черно-белые святыни».
Для Иосифа Бродского фокстрот под абажуром — это «пункт а)». Может, и для него детство начиналось с абажура и с фокстрота?
Абажур был красный, с тесемочками бахромы, похожими на сережки лещины.
Гости танцуют факстрот. Папина партнерша значительно ниже его, но все равно здорово получается. Руки на отлете. Влево-вправо. Раз-два-три-четыре-разворот. И снова: раз-два-три-четыре. Бабушка Штерна одобрительно кивает и шепчет мне:
— Видишь, какое трудное па!
Я ничего трудного не вижу. Да и вообще, танец как танец. А потом — танго «Брызги шампанского». Отец угрожающе шагает к партнерше. Та отступает, пятится, а потом — раз! — руки сплетены и вскинуты вверх, и партнерша ложится талией на папину правую руку. Еще два резких шага вперед, потом выпрямляются и начинают кружиться. И опять — резкие шаги вперед, уже бок о бок, с выброшенными вперед сплетенными руками.
Не представляю, как такое танцевальное великолепие помещалось в небольшой в общем-то комнате (мама называла ее «зала») с прямоугольным громоздким столом, на котором стоят тарелки и большая супница с обязательными уральскими пельменями.
(После нашего отъезда квартира показалась кому-то из начальства слишком большой, и ее разделили надвое, поставив стенку посреди комнаты, в которой и проходили танцы. Теперь не потанцуешь).
А на кухне, где бабушка Сусанна достает из печки пироги, стоит, опершись о косяк, дядя Сеня и рассказывает:
— Ах, бабушка! Начальство на работе воровало, а на меня написали какую-то бумагу. Я и знать ничего не знал. Пришли, забрали меня. Так вот десять лет и отсидел.
Потом выяснилось, что всё было не совсем так, как в его печальном рассказе. Сеня зарезал свою первую жену, разрубил ее тело на куски, сложил в мешок и бросил в горную реку. Когда после десяти лет лагерей вернулся к матери, она взглянула на него — и упала замертво. Инфаркт. (Об этом рассказывала мне бабушка Штерна). В ту пору миллионы людей сидели без всякой вины, и все, кроме самых последних дураков, прекрасно были осведомлены об этом. Потому любой преступник мог свободно выдавать себя за жертву беззакония и произвола. Верили.
Сенина жена тетя Катя была робкая, тихая женщина. Мама познакомилась с ней при каких то печальных обстоятельствах, чем-то помогла ей. Говорили, что Сеня угрозами вынудил ее выйти за него замуж.
Интересно, что после раскрытия всех обстоятельств взаимоотношения между нашими семьями не изменились, и мама, бывало, весело провозглашала тост «за Сеню, нашего десятилетника!»

Вокруг политики — 3. Булганин и Хрущев
Отец несет знамя партийной организации городской больницы, а я сижу у него на плечах. Людей много, и снежок громко скрипит под их ногами. Помню цифру «37» на транспаранте. Тогда она мне ни о чем не говорила, а сейчас я понимаю, что то была тридцать седьмая годовщина Октябрьской революции. Стало быть, мне четыре с половиной года, и уже полтора года, как нет диктатора.
Все понимали, конечно, что в стране должен быть некто главный. И не просто какой-нибудь там премьер-министр, как у буржуев, а настоящий вождь. Неуютно и пусто русской душе без батюшки-царя. Кто мудро укажет, как надо жить? Кто защитит от произвола вельмож? Кто твердою рукой расправится с врагами Отечества?
Но кто у нас «шишку держит», было не совсем понятно. Вроде бы главный — все-таки Маленков. Это ведь он «надавал пинков» Берии. Кстати, разговоры о том, что Хрущев «по пьяни подарил Крым Украине» — это ерунда, конечно. Не мог он в ту пору единолично распоряжаться территориями, ни по пьяни, ни трезвым. Организовал процесс передачи Крыма все тот же Маленков, а уж какие там карты выпали и как складывались группы в этом террариуме с его непрерывными интригами, — не мне судить. Да и не так уж это важно.
А потом вдруг выплыла идиома «Булганин и Хрущев». Во-первых, Маленков отошел на второй план. А во-вторых, вроде бы, коллективное руководство появилось. Но для Российской империи «коллективное руководство» — оксюморон. Понятно: то было состояние неустойчивого равновесия.
В кинотеатре показывали длиннющий документальный фильм о том, как оба руководителя ездили в Индию. Попытки Булганина завладеть сердцем Галины Вишневской в кино не демонстрировали. Думаю, случись это лет на пять раньше — и Ростроповича просто отправили бы на лесоповал.
И уже висят в том же самом кинотеатре транспаранты: большие белые буквы на красном фоне: «Достойно встретим ХХ съезд КПСС!» Вот после двадцатого съезда и стал Хрущев первым и единственным.
Расформировали кучу министерств, а вместо них появились территориальные Советы Народного Хозяйства. Сокращенно СНХ. Эти три буквы стояли на любом коробке спичек. «Иркутский СНХ», «Томский СНХ». Знатоки расшифровывали: Стране Нужен Хозяин. И справа налево: Хозяин Нашелся Сам: Хрущев Никита Сергеевич.

Мои первые книжки — 2. «Легенды и мифы»
— Не понимаю, как можно давать ребенку читать такие книги! — говорит Регина Александровна. И неодобрительно глядит на «Легнды и мифы Древней Греции» профессора Куна в моих руках. На картинке — пышнотелая Афродита. Римская копия с греческого оригинала. Отец пожимает плечами и улыбается.
Регина Александровна заходит к нам иногда, чаще когда папа болеет, и больше общается с ним, чем с матерью. Мать ее не любит. Позднее я нашел несколько забавных открыток, присланных ею отцу.
— Бывшая его пациентка, — объясняла позднее мама. — Лечил ее от туберкулеза. Мне после нее всегда приходилось посуду кипятить.
Как-то папа купил мне кортик. Оружие морского офицера. Игрушечный, разумеется. Регина Александровна поджала губы и сказала, что запретила бы детям играть такими игрушками. Отец снова улыбнулся и снова ничего не сказал.
А книга Куна была прекрасно издана. Папа купил её незадолго перед тем. Издательство Учпедгиз, 1955. (Следующее издание появилось много лет спустя. Ощущение было такое, что разучились не только хорошо издавать книги, но и бумагу делать). Это была первая книга, прочитанная мною самостоятельно. Еще долго потом я с жаром рассказывал взрослым, как Крон глотал своих детей и какие подвиги совершил Геракл.
Книжный магазин был в центре городка, как раз перед той булыжной мостовой. Загадочный магазин, странные продавцы. В другой магазин придем — строгая продавщица за прилавком спросит:
— Что вам?
Отвесит докторской колбасы или сыра, молча завернет, положит на прилавок, возьмет деньги, отсчитает сдачу…
— Следующий!
А заходим в книжный — продавцы улыбаются во всю ширину физиономий:
— А вот и клиенты наши пришли!
— Пап, они что, наши знакомые?..
Обучившись чтению, я не перестал приставать к отцу, чтобы почитал мне. Только теперь я требовал, чтобы переводил мне с немецкого, английского или французского. А книжки на иностранных языках казались еще интереснее именно из-за их недоступности. Картинки смотришь, а прочитать не можешь.
«Матушка Гусыня» на английском. Тонюсенькая, потрепанная, но какие интересные картинки! Какие-то ребята, сидящие в огромной галоше, страшные старухи, комичные люди с карикатурно огромными головами. Все это обещало головокружительно захватывающие сюжеты. А папа говорит, что мне это будет неинтересно.
— Ну, почитай! Мне интересно.
И папа равнодушным голосом читает о девочке Мэри, у которой был маленький барашек, и о том, как он пришел вслед за ней в школу. О каком-то нехорошем мальчике Джонни, пытавшемся утопить киску в колодце. Да, кажется, папа был прав.
Лет через пять впервые прочитаю отрывки из мемуаров Сергея Прокофьева. С ним в детстве было буквально то же самое. На картинке — медведь, обезьяна, осел, коза. Ожидаешь интересной сказки. А вместо этого — скучное повествование о том, как четыре музыканта никак не могут рассесться.
А вот сказки Гауфа на немецком — это да! «Халиф Аист». Скажешь «Мутабор» — и ты уже птица. А дальше такое происходит! Или приключения Маленького Мука. А «Рейнеке Лис» Гете в детском переложении — не особенно интересно. Ну, судят там звери хитрого и жестокого Лиса, а он все равно выпутывается. Где справедливость? Обидно.
Басни Лафонтена, которые отец переводил с французского, тоже казались мне порядком скучными.
Кажется, отцу самому ужасно нравилось переводить мне эти книжки.
Мои первые фильмы — 2. Цветное кино
В кинотеатре идет новый фильм «К нам едет комбайнёр». О нем почему-то много разговоров. Не говорят, про что фильм, только говорят, что он цветной. Я вообще не понимаю, о чем речь. Отправился поглядеть.
Довольно скучная история. В каком-то богатом колхозе одновременно ждут и нового комбайнера, и делегацию из Чехословакии. Как водится, прозевали и приезд комбайнера (он оказался женщиной, чего никто не ожидал), и появление делегации из города Кладно. И вот ходят по праздничному колхозу и комбайнерша в красивом крепдешиновом платье с яркими узорами, и ребята из Кладно. Знакомятся с кем-то из сельчан, участвуют в празднике на полную катушку. Всё это — на фоне какой-то любовной истории местных девушки и парня…
— Ну как, — спросил отец, — понравилось?
— Ну, ничего, смотреть можно…
— Нет, как тебе цветное кино?
— ?
— Так картина была цветная?
— Не знаю, я не заметил.
— Хм… И что там еще было.
— Ну, была там одна модница. Вырядилась, голубые бусы надела…
— Ага! Так бусы были все-таки голубые?
— Да, — сказал я. И только тут до меня дошло, что такое цветное кино.
Вообще-то, это был далеко не первый советский цветной фильм. Еще в конце войны появился «Иван Никулин — русский матрос». Но если в США цветное кино, управляемое законами рынка, прочно утвердилось с конца тридцатых («Унесенные ветром» — это 1939 год), то в СССР, управляемом волей одного человека, оно еще было экзотикой даже в начале пятидесятых. А вскоре, что говорится, прорвало. Цветные фильмы пошли косяком. Режиссерам, операторам, художникам очень понравилось это новое средство художественного самовыражения. Развернулся Александр Птушко с его фантазиями на русские темы и пышным псевдорусским стилем: богатыри, красны девицы, кащеи и горынычи. «Илью Муромца» смотрел три раза, каждый раз — с тем же восторгом.
На карикатуре тех времен жеманная западная актриса заявляет: «Вначале появился звук — и мне пришлось научиться говорить, потом появился цвет — и мне пришлось научиться краснеть».

Тротуары и мостовые
— А мы с папой пойдем медведя покупать! Плюшевого.
— Так у тебя же есть медведь! — удивляется тетя Маша. Мама иногда приглашает ее помочь в уборке. — Вот же он.
— Какой же это медведь? Это же обезьяна.
Солнечные зайчики играют на зеленой поверхности пруда — глазам больно. Деревянный тротуар ведет вдоль церкви к центру города. Массивная такая церковь с колокольней и луковицами куполов наверху. В ней, как и положено, склад. Здание казалось мне древним. Потом узнал, что ему в ту пору было сорок лет, в начале Первой Мировой войны закончили.
Тротуар — из трех широких досок. Волнистые линии деревянного узора с неровностями и углублениями от многолетнего хождения. После дождя, особенно по осени, в пустотах под досками скапливается жидкая грязь. Если как следует топнуть по доске, то грязь с чавканьем разлетается. Иногда и на пальто попадает. Бабушка потом ее соскабливает и ворчит.
Пьяненький нищий спит на лужайке прямо возле тротуара. Рядом с ним — пустая бутылка из-под «Московской». Говорят, она тогда около пяти рублей стоила, как четыре буханки хлеба.
Вдоль тротуара высажены деревья. Есть молодые, а есть такие старые, что не обхватишь. Даже папа не обхватит. Папа сказал, что дерево называется тополь. И начинает мурлыкать:
— Тополи, тополи, мы по лужам топали…
А вот щит с плакатом «Не играй на мостовой!»
— Пап, а что такое мостовая?
— Да вот же она! Мы по ней идем.
Смотрю на булыжники под ногами. Значит, у нас в городе есть мостовая. Вот это да! В слове этом — дыхание большого мира, огромных городов. Нечто книжное. «Постовой на мостовой» уже попадалось — в книжке ли, в журнале…
И вот уже мишка торчит из папиного кармана и улыбается.
А солнце — такое маленькое, но такое жаркое! Интересуюсь, как такое маленькое солнце может так сильно греть.
— Солнце большое. Солнце очень большое.
— Что, как вон тот дом?
— Что ты, гораздо больше!
— Что, как вот отсюда до той улицы, — говорю, задыхаясь от собственной наглости, в полной уверенности, что уж теперь-то отец перестанет добавлять размеры.
— Больше. Солнце гораздо больше всей земли.
Это открытие поражает сильнее, чем поразило оно потом Незнайку в книге Носова. Такого я представить не могу. Больше всей Земли!
И еще одно я никак не мог представить. Папа сказал, что в лампочке нет воздуха. Для меня слово «воздух» означало пространство. Я же усвоил, что воздух — это то, что нас окружает. Изо всех силенок пытался представить отсутствие пространства. Не получалось.
— Ну, если не воздух, то что там внутри? Ведь должно там что-то быть!
— Ничего там нет. Пустота. Это называется вакуум.
Я готов был зареветь.
Время
В каком возрасте человек начинает осознавать время? Не ощущать, а именно осознавать. Понимать, что он сам движется невесть куда, несомый невидимым потоком, оставляя позади всё сущее, всё окружающее: предметы и людей в их сиюминутном состоянии, собственные мысли и ощущения, снимок сегодняшней картины мира. Не сразу приходит знание о неподвижных буйках в этом потоке: датах, часах, минутах. Но еще до того, как научишься прикладывать линейку к предметам, незаметно обучаешься ожиданию событий: послезавтра — день рождения, завтра — воскресенье, через час придет с работы отец.
Для нашего поколения измерение промежутков времени связано с движением стрелок по круглому циферблату. Интересно, как для нынешних малышей?
Вначале я научился определять, сколько времени остается до следующего часа.
— Сколько время? — кричит бабушка с кухни. (Убедить ее, что надо говорить «сколько времени?» или «который час?» было невозможно).
Гляжу на большие часы с маятником, что висят над пианино, и отвечаю:
— Без сорока пяти десять.
Сестра фыркает: «Без сорока пяти!»
Ну, не мог я понять, что надо отсчитывать число минут, прошедших от предыдущего часа! Сестра пыталась объяснить — все равно непонятно. Но однажды увидел, как бабушка вошла в комнату, глянула на часы и сказала:
— Ого! Уж десять минут одиннадцатого.
И всё стало на свое место.
Заходит раз Тетка Авдотья. Спрашивает о чем-то отца и тут же удаляется, вполне удовлетворенная.
— Пап, зачем она приходила?
— Спросила, сколько сейчас времени.
Не понял. Хлопаю глазами.
— Понимаешь, у нас несколько часов. Если одни остановились, то можно на других посмотреть, сколько времени. А у них — всего одни ходики. Остановились — и неоткуда узнать, который час. Сейчас она их заведет и поставит правильное время.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.