
Бесплатный фрагмент - В тоске по идеалу
Избранные пародии
Предисловие
«Корявый образ, загибающая не в ту сторону строка, непродуманность или надуманность посыла, вымученность и выспренность, пошлость, безвкусица и всякий иной поэтический «третий сорт», а то и откровенный брак — традиционная «дичь» для охотников-пародистов. Ну, а действуют они каждый по-своему. Кто-то одиночными прицельными выстрелами, кто-то автоматными очередями, кому-то по душе силки и капканы…
Любимый приём у Олега Соколова — нагнетание абсурда, или, пользуясь определением Салтыкова-Щедрина — «медленное ошеломление». Тут в пору заметить, что обратной стороной такого подхода может стать «делание из мухи — слона». Да, может, но не у Олега Соколова. Он всегда знает, почему, как и куда нам «плыть». Так что и сам выплывет, да еще, глядишь, и автора пародируемого за волосы вытянет на спасительный — то есть, на добротно-поэтический берег.»
(Русский литературный журнал в Атланте «На любителя», №30, 2007 г.)
«Ознакомившись с книгой Соколова, я стала лучше понимать свою дочь, которая сбежала от этого „пародиста“, оставив ему на память сына, дочь и совершенно невоспитанную собаку. Пусть помучается!»
(Тамара Ракитина, актриса, покойная теща автора).
Что выросло, то выросло
(Владимир Лапшин)
Мои стихи — боровички
Под сочной шляпкой манят ножкой.
К ним тянут пальчики руки
И стан сгибают понемножку.
Они — боровички на зуб,
И на душе от них светлеет.
С кряхтением сгибая стан,
Весьма талантливо и споро
Поэты сеют тут и там
Стихов невидимые споры.
И вырастает среди леса
Строчок строки, сморчок куплета,
Свинушка модной поэтессы,
Валуй известного поэта.
Бывает стих червив, ужасен.
Его с трудом берут в журнал.
Вот сыроежку нудных басен
Слизняк-редактор обкорнал.

И пародисты-червячки
Свою поэзию лелеют:
На зуб кладут боровички
И на душе у них светлеет.
Но чаще, прочитав стихи,
Поганку укусив за ножку,
В рот тянут пальчики руки
И вызывают «неотложку».
Самовозгорание
(Юрий Кузнецов)
Когда приходит в мир поэт,
То все встают пред ним.
Поэт горит… и белый свет
Его глотает дым;…
Когда он с богом говорит,
То мир бросает в дрожь.
Своей персоне зная цену,
Поэт, изящно ставя ногу,
Жар-птицей выпорхнул на сцену
И начал жарить понемногу.
Он выступал, искрясь стихами,
Пожаром творческим томим…
Из искры возгорелось пламя
И повалил по залу дым.
И в том дыму, сверкая слогом,
Чертовски, дьявольски хорош,
Он начал разговоры с богом…
По залу пробежала дрожь.
Читал с горящими глазами,
Глаголом сжечь сердца хотел…
Но зал в оцепененьи замер
И как-то быстро опустел.

Стихи в угаре не кончались.
Поэт горел бы до утра…
Но тут пожарные примчались
И окатили из ведра.
Весенняя дума
(Алла Медникова)
Пришла весна. Чешу угрюмо
Коробки черепной забрало,
Под коей притаилась дума,
Как вошь под мышкой генерала.
И застываю насекомым
В янтарной капельке заката.
Пришла весна. Меня пробрало.
От странной мысли нет покоя.
Я раньше не подозревала,
Что в голову придет такое! —
Мой череп посетила дума!
Есть от чего чесать затылок.
Она вползла, как вошь, без шума,
И затаилась средь опилок.
И вот я, мрачно и угрюмо,
Хожу, терзаема вопросом:
Как поступить со вшивой думой?..
А может спрыснуть «Диклофосом»?
Беру его… Как все знакомо!
Вдыхаю прелесть аромата…
И застываю насекомым
В янтарной капельке заката.
Расплата
(Алексей Зайцев)
Я сдал тетрадку на проверку!
Не ту! Трагедия! Провал!
Я в ней писал стихи! Про Верку!
Я Верку в ней нарисовал!
Как ей теперь
Смотреть в глаза-то?
Я завтра в школу не пойду.
Меня не ждите послезавтра.
Приду в трехтысячном году.
Простите, люди, изувера!
Мой грех ужасней, чем Ковид.
Им оскорбились чувства Веры
И личных данных ее вид.
Как ей смотреть теперь в глаза-то?
Слова я дурно подбирал…
Теперь достоин газавата,
Как атеист и либерал.
Я экстремист! Я уголовник!
И стало вдруг не по себе:
У Веры папочка — полковник,
Полковник служит в ФСБ.
Я был им встречен и допрошен.
Он напророчил мне беду,
Что если сочинять не брошу —
«Приду в трехтысячном году».
В ломках творчества
(Виктор Липатов)
Водку пить и курить гашиш
Стану. Брошусь в объятия бреда,
Но зато не пойду в торгаши,
Не предам по планете соседа,…
На планете нас только двое
Непродажных и гордых поэтов.
Мы друг друга читаем запоем,
Подливая друг другу при этом.
И приняв поднесенные граммы,
Как культурные люди планеты,
Друг на друга строчим эпиграммы
И друг другу слагаем сонеты.
А когда я от водки устану
И другого запросит душа,
Он предложит мне марихуану,
Я ему предложу гашиша…
И в бреду завершая все это,
Где больничных палат чистота,
Я воскликну: «Мы с другом — поэты!»
Санитар возразит: «Наркота!..»
Яйца неглиже
(Илья Резник)
Степан Авдотьевич Писдрюкин,
Мужик отчаянных кровей,
Носил огромнейшие брюки
Ввиду количества мудей.
Мудей в них было вдвое больше,
Чем у обычных мужиков.
Писдрюкин яйцами гордился.
И т. д. и т. п.
(Народная поэма «Мужик»)
Культурный русский иудей
Илья небезызвестный Резник,
Вдруг опустился до мудей
И сочиняет как скабрезник.

В тоске по идеалу
(Александр Вергелис)
Сидящая напротив женщина
пестра, как елка в Новый год.
О Боже, сколько же навешано
на ней, как красен этот рот!
Сладка, наверно, как пирожное.
Сидишь и думаешь с тоской:
какая пошлость невозможная
была б жениться на такой.
Поэт — совсем не деревенщина,
имеет вкус и важный вид.
Не всякая, поверьте, женщина
его собою соблазнит.
Под новый год вхожу беспечно я
в метро и вижу пред собой —
сидит, помадой изувечная
фемина с челкой голубой.
Румяны щечки, как пирожное,
тулуп украшен мастерски…
Ее общупал осторожно я
глазами полными тоски.
И грёзы понеслись стоп-кадрами:
алтарь, застолье, простыня,
запой, свиданье с психиатрами…
Тут кто-то дергает меня.
Пришел в себя и вижу, — дурочка
мне эта нежно говорит:
«Не бойтесь, милый, я снегурочка,
а не какой-то инвалид!
Смахните с глаз тоску тревожную
и скройте, Боже, поскорей
во взгляде пошлость невозможную
в мой адрес. Будьте подобрей!»


Восточное осенение
(Алексей Машевский)
Утренней листвы невнятный шорох,
Осени дыханье из окна.
Я с самим собою в разговорах
С четырех часов лежу без сна.
Мне теперь как будто только снится
Все, что происходит в эти дни.
А у нас работают узбеки,
Строят так же нехотя сарай.
Слышен гул трудящихся узбеков,
Азии дыханье из окна,
В ожиданье творческих успехов
Я лежу на склонах топчана.
Сам с собой, как в караван-сарае
Навои, Хафиз иль Рудаки,
Я рублю, не торопясь, рубаи,
Как Бабур, вбиваю ритм строки.
Стройки заоконной слышу ритмы,
Трудоночь сменяет трудодни.
Я во сне сколачиваю рифмы,
Я такой же пахарь как они!

Так и спал бы… Но походкой шефской
Подошел и, гадя в реноме,
Гаркнул бригадир: «Акын Машевский!
Ваши тексты — не Бабур-намэ!»
Муть
(Алексей Черников)
В мясе большой воды не утаить прожилки,
Кто это тонет — ты ли, немой Господь?
Рыбы идут на дно — розовые опилки,
В черных кругах превозмогая плоть.
Топотом черных волн вдоль новгородских сказок,
Хвойных проказ, вылинявших лампад,
Господи! — разреши музыку или муку,
Милый мой! — разреши сбыться такому звуку,
Чтобы и Китеж твой помнил мои следы.
В мареве хвойных проказ шепчет «Аминь!» осина,
Кто это стонет там? Его ли немой Господь
глушит галоп перед долом? Так глина
кроет собою цветы, превозмогая их плоть.
Господи! — разреши китежскою франшизой
френии молодой ставить свои следы.
Манит, на букву «П», пастырь с белесой ризой,
Линькой своих лампад, горечью лебеды.
В мутности водяной не заострожить рыбку,
Щерится лик сома на лягушачный квак.
Нежно, как комара, давит Перун улыбку,
Глядя на чудский сказ, смачный, как бешбармак.
Библейский мемуар
(Инна Лиснянская)
Помню я сны Авраама и Сары,
Вопли Ионы в кипящей волне.
…Нет, не желаю писать мемуары,
Это занятие не по мне.
Мой светлый путь заслугами усеян.
Вот первая приходит мне на ум —
Как я вела народы Моисея
Пустынями, без карты, наобум…
Я не теряла даром время Оно:
Пророк Иона мною был спасен,
Я вдохновила к песням Соломона
И пел мне песни умный Соломон.
Я предрекла расплату за грехи
И божий гнев в Содоме и Гоморре,
Но были все к пророчеству глухи
И города исчезли в Мертвом море.
Да, иногда я поступала скверно,
Из прошлого не выбросить главы:
Я голову вскружила Олоферну
И Олоферн лишился головы…
На прожитое вновь бросаю взгляд,
Но мемуары не увидят света, —
Сюжет украли! Сделан плагиат
Под видом книг из Ветхого Завета.
Обмылок любви
(Елена Зырянова-Ронина)
И даже музыка пуста.
Как капли, слезы на затылок.
Любви желтеющий обмылок
Ушел на пену возле рта.
Как лист страдает от чернил,
Я пострадала от невежды:
Наставив пятен на одежде,
Меня мой милый очернил.
Он соблазнял, читал стихи…
А после улыбнулся мило
И бросился кусочком мыла
Свои замыливать грехи.
Но я не Моника Левински!
И в пене, словно Афродита,
Я наказала паразита,
Который поступил по-свински:
Ругаясь, с пеною у рта,
Зажав в своей руке обмылок,
Ему начистили затылок
И все доступные места.
Насупя в поединке бровь,
Мы мылили бока друг другу…
В тот день узнала вся округа:
Любовь без мыла — не любовь!
Марсианский хроник
(Марс Гисматулин)
Я влюблю тебя до пыток,
До бессудных сновидений,
В изначалье, до бескрылок
Средь разбросанных камений.
Среди разбросанных камений,
В душе сатир, походкой барс,
В плену бессудных сновидений
Охотился на женщин Марс.
Певец амурных приставаний,
Бескрылки нимфам теребя,
Путем забавных рифмований
Пытался их влюбить в себя.
Раз вдохновенье накатило —
Его не оттащить назад.
Он был немного Чикатило,
Но кончил как маркиз де Сад:
Закона зоркие сатрапы
На Марса дело завели…
И набежали эскулапы
И в «изначалье» увели.
Прощальная трель
(Стефано Гардзонио)
Выпал снег, и старый зуб
Тихо заболел.
Я стою, как старый дуб,
Слышу птичью трель.
Пой, скворец моей души,
Песню в честь страстей.
Дева, нежно обними
Жгучий ствол скорей.
Выпал снег и тает вдруг.
Старый зуб гниет.
Улетел скворец на юг,
С девой — самолет…
Был я стройный кипарис,
А теперь как дуб.
Листик на сучке повис,
Словно желтый cтруп.
Усыхаю, как стерня.
Зуб болит, гниет.
Там в дупле внутри меня
Червячок снует.
Но я гордый менестрель —
Буду век творцом!
Верещу губами трель
Молодым скворцом.
Вижу деву меж людьми,
Подлетаю к ней:
«Ну ка, нежно обними
Жгучий ствол скорей!»
Дева глянула тепло,
Но умчалась ввысь,
крикнув — «Залепи дупло!
К дятлу обратись…»

Пессимистическая комедия
(Вадим Ямпольский)
Мысли, как нетрезвые матросы,
дверь снесли, ввалились в кабинет
к жизни неприятные вопросы
накопились, а ответов нет.
Их приход понятен и банален,
пусть палят со злости в потолок…
за кордон давно уехал барин
и со страху вывез все, что мог.
В голове жужжали мухи сонно.
Тишь, застой, мещанский мрак и тлен.
Вдруг вломились в череп беспардонно
мысли с предложеньем перемен.
И давай штормить девятым валом,
ковырять в извилинах штыком,
потрясая своды небывалым,
образным, матросским языком.
Что искали злые недоумки?
Золото талантов, перлов склад?
Их давно увез в дорожной сумке
подлый барин, трус и ренегат.
И с тех пор я не блистаю в верстке,
нету злата в сером веществе.
Я, как жид, раздет по продразверстке,
и без царя страдаю в голове…

Лесная жуть
(Максим Жегалин)
Какие сосны, прадед вырос дубом,
А дед — орешником, я этот лес
Целую в листья, корешки и губы.
Здесь можно много: я могу летать.
Но как ужасно ожиданье мертвых:
Они скучают в темной древесине
И тянут ветки к тем, кто ходит
В лесу живых, качается, потеет.
Я в лес влетел и сразу впился в листья,
Как будто в губы. Сосны хороши!
Я дуб люблю, как прадеда родного,
Орешник — словно деда своего.
Я жук-типограф, вязью графомана
Покрыл стволы, вершки и корешки.
Теперь повсюду сухостой, валежник
И лишь лесник от ужаса потеет.

Евреи
(Евгений Минин)
Цветные порхают гурами —
наложницы в пёстром гареме.
Порхают порочно гурами,
неведомым чувством горимы,
в стеклянном искусственном храме,
где нет необычного, кроме
печально скользящих гурами,
в качающей их полудрёме.
(автор живет в г. Иерусалиме)
По миру порхают евреи —
поэтами в пёстрой богеме.
Лишь в Северной нет их Корее,
но верю — придет это время!
Из Рима и Гипербореи
обратно в Иерусалимы
порхают порочно евреи,
неведомым чувством горимы
к стене в главный храм Иудеи,
где нет необычного, кроме
печально смотрящих евреев,
качающихся в полудрёме.

Литературные встречи
(Александр Кушнер)
О «Бродячей собаке» читать не хочу.
Артистических я не люблю кабаков.
Ну, Кузмин потрепал бы меня по плечу,
Мандельштам бы мне пару сказал пустяков.
Я люблю их, но в книгах, а в жизни смотреть
Не хочу, как поэты едят или пьют.
Мир поэзии — нежный и сказочный мир.
Там царит дух фантазий и музы парят…
Я так думал пока не увидел трактир
Где гуляли поэты, не чуя преград.
Побледнел бы от ужаса Литинститут,
Ведь открылся их истинный менталитет!
Оказалось — поэты едят или пьют,
Матерятся и ходят порой в туалет!
Книжный рай превратился в кабацкий притон,
Где ярился кумиров доподлинный мир.
Каждый третий из них был отпетый филон,
Горький пьяница, бабник, драчун иль сатир.
Я не мог находится решительно там
И претензии горьким стихом рубанул…
Тут какой-то товарищ, лицом — Мандельштам,
пробурчал: «Пустяки!», а Кузмин — …потрепал.
Самооценка
(Ольга Аникина)
Стихотворение может
управлять человеком.
Вот почему
люди не очень-то любят стихи:
они видят в стихах
акт насилия.
Чем мощнее воздействуют слова,
тем сильнее поэт
И голос разума затих.
Я горько плачу от бессилья,
когда читаю чей-то стих
и ощущаю акт насилья.
Когда ж свои прочту, друзья,
то чувствую себя уютно, —
они нестрашны донельзя
и безобидны абсолютно.

Плоды одиночества
(Василий Нацентов)
Что сказать о светлой боли,
странной боли о былом?
В помертвевшем чистом поле
я один, как в горле ком.
Остается след цензуры
черной тушью из письма.
Это не литература.
Это музыка сама.
Что сказать? Я странно болен
светлой болью о былом.
Что там было — я не волен
говорить, трясти быльем.
Я один, как в поле воин,
я один, как в фиге перст,
На бумажном чистом поле
я влачу свой тяжкий крест.
Я один, как спинка в кресле,
я один, как в горле ком…
Я в миноре, — это если
музыкальным языком.
Я страдаю, как на зоне
поминает счастье зек.
Я один, как хвост в питоне
и варюсь, как в супе хек.
Нет печальней этой саги,
но дела не так плохи —
излагаю на бумаге
и на волю шлю стихи.
Чифирем подстроен сенсор,
в голове стихов сума…
Их вымарывает цензор
черной тушью из письма.


Метаморфоз
(Юрий Кублановский)
«Metamorphosis»
Шустрящим сусликом,
медлительным червем
я в землю русскую
еще вернусь потом.
Подлещик с красною
под жаброй бахромой,
волну грабастая,
еще вплыву домой.
А лучше прилечу
гневливым вороном
На белом ослике,
на в яблоках коне
в страну, откуда сослан,
не воротиться мне.
Пролезу скромненько,
охрану обману,
граничной кромкою,
как хитрый кот-манул.
В черве и в суслике
крестраж души создам.
В пределы русские,
хотя бы по частям,
проникну аистом,
гневливым вороньем.
Закроют небо начисто —
лягушкой в водоем.
Шлагбаумы прокрустами
не режут глубину.
Подлещик устьями
вплыву домой по дну.
Могу смородиной,
ольхой врасти в овраг,
ведь тяга к родине
страшней всех прочих тяг.
Иду сквозь трудности
в метаморфоз
по разным сущностям,
но есть один вопрос.
А вдруг я, вороном,
поймавши в клюв червя,
на поле пойменном
съем самого себя?
Туманная сказка
(Святослав Кучер)
Туман седой поплыл над полем
И опустился над рекой.
На молоко похож он, что ли?..
Кисельный берег — вон какой!
Мне сказки сказывала няня,
Что на Руси бывало так:
Аленушка скрывалась с Ваней
В туман в кисельных берегах.
(стих сочинил в 10 лет)
Туман завесил брег периной
И всем в поселке угодил.
В нем тут же скрылись Глеб с Мариной,
И с Анжеликой Автандил.
Пастух Иван, хорош собою,
Туда табун доярок ввел.
Прошел десятый «А» гурьбою,
За ним физрук устало брел.
Шел председатель с сизым носом,
Главбух неслась навеселе…
Я к няне подбежал с вопросом —
Что манит их в молочной мгле?
Но няня душу не сгубила,
Прошла на грани нужных фраз…
А то, что там в тумане было
Укрыл туман от детских глаз.
Ошибка эволюции
(Александр Кушнер)
Дарвин совершил одну ошибку:
Что б ему сказать, что человек,
Не от обезьяны низколобой
На ее сомнительной стезе,
А произошел от антилопы
Или льва — довольны были б все.
Дарвину пусть верят остолопы!
Я ж супруге взгляд другой открыл:
Что ее предтеча — антилопа,
И, немного, — нильский крокодил.
Что исходных генов было много,
Но довольны будут все сполна:
Тесть произошел от носорога,
Буйвола и, видимо, слона.
А в себе, представь какая милость,
Я подозреваю гены льва…
Тут жена за скалку ухватилась
И пришлось ответить за слова.

Искушение
(Олег Гегельский)
Я оглох от вкуса твоей кожи.
Я ослеп от света твоих глаз.
Ты на десять лет меня моложе,
Но не годы разделяют нас.
В подворотне мы стояли двое,
Целовались, не жалея сил.
Ты меня задела за живое,
Я тебя в горячке укусил.
Жар любви, без копоти и пепла,
Опалил. Я вновь разинул рот…
И моя любовь к тебе окрепла.
Но твоя ко мне — наоборот.
Я ослеп от вкусного начала,
А потом, наверное, оглох.
Я не слышал, как ты закричала,
Подняла большой переполох.
Я пришел в себя немного позже,
И остался этому не рад:
Меня вел в наручниках, о боже,
Полицейский прибывший наряд…
Я теперь один в сыром подвале
Вспоминаю блеск любимых глаз.
Из-за них меня арестовали
И на годы разделили нас.
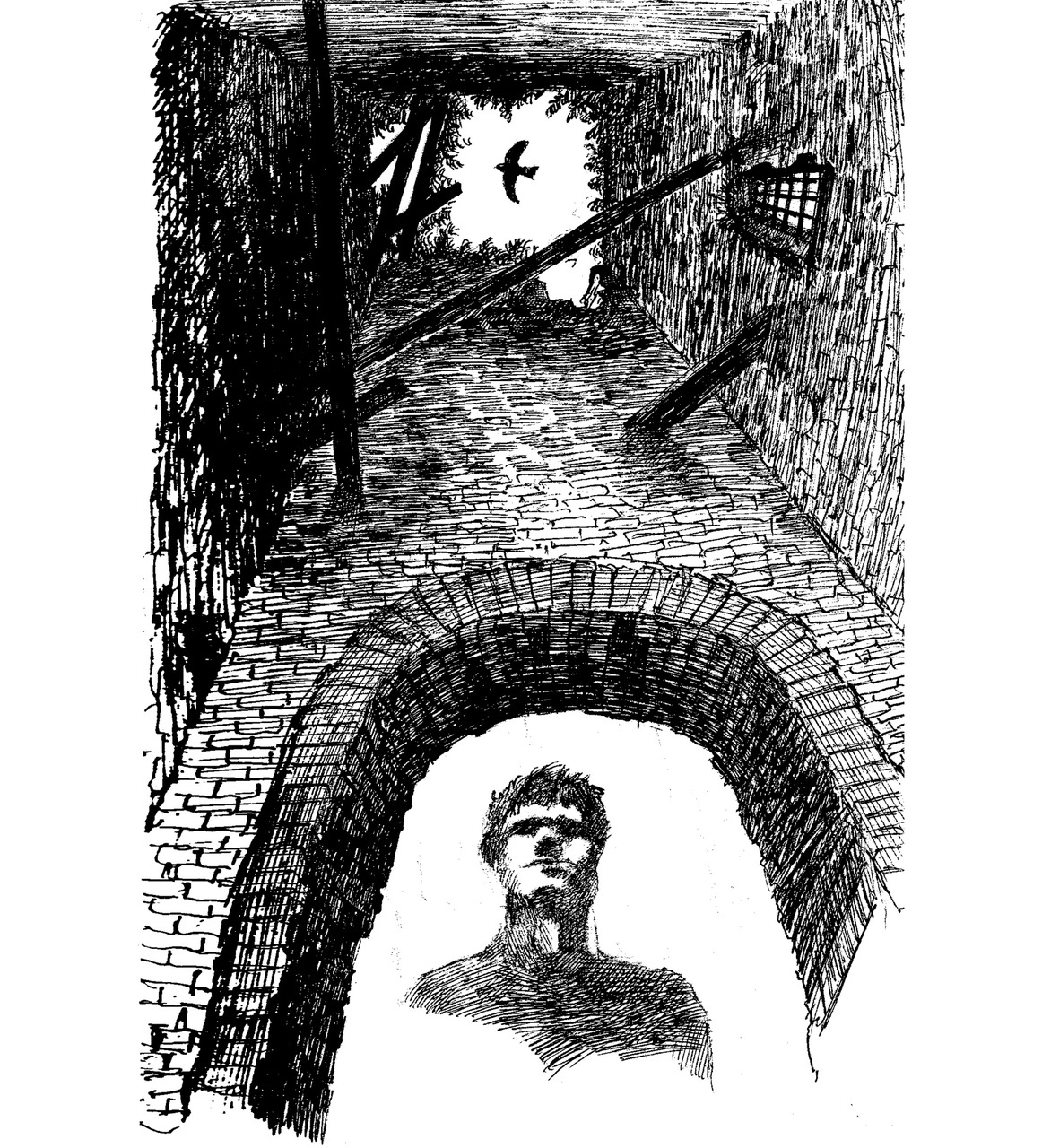
В женских чарах — дьявольская сила!
Я поддался чарам и пропал.
Ты меня собою искусила —
Я тебя за это искусал!
Несчастный случай
(Людмила Сухова)
Бездарный день, как выкидыш рассвета,
Остынет в звездах, силы исчерпав,
И призрачная ночь с бельмом запрета
Примерит света белый сарафан.
Раба поэзии, насочинив немало,
Неся в себе, что удалось зачать,
Вошла в редакцию известного журнала
Родить стихи и их отдать в печать.
Но вдруг начался выкидыш рассвета
С бельмом запрета… Жуткий натюрморт!
Дежурный критик осмотрел все это
И завершил начавшийся аборт.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
