
Бесплатный фрагмент - В поисках Вина и Хлеба
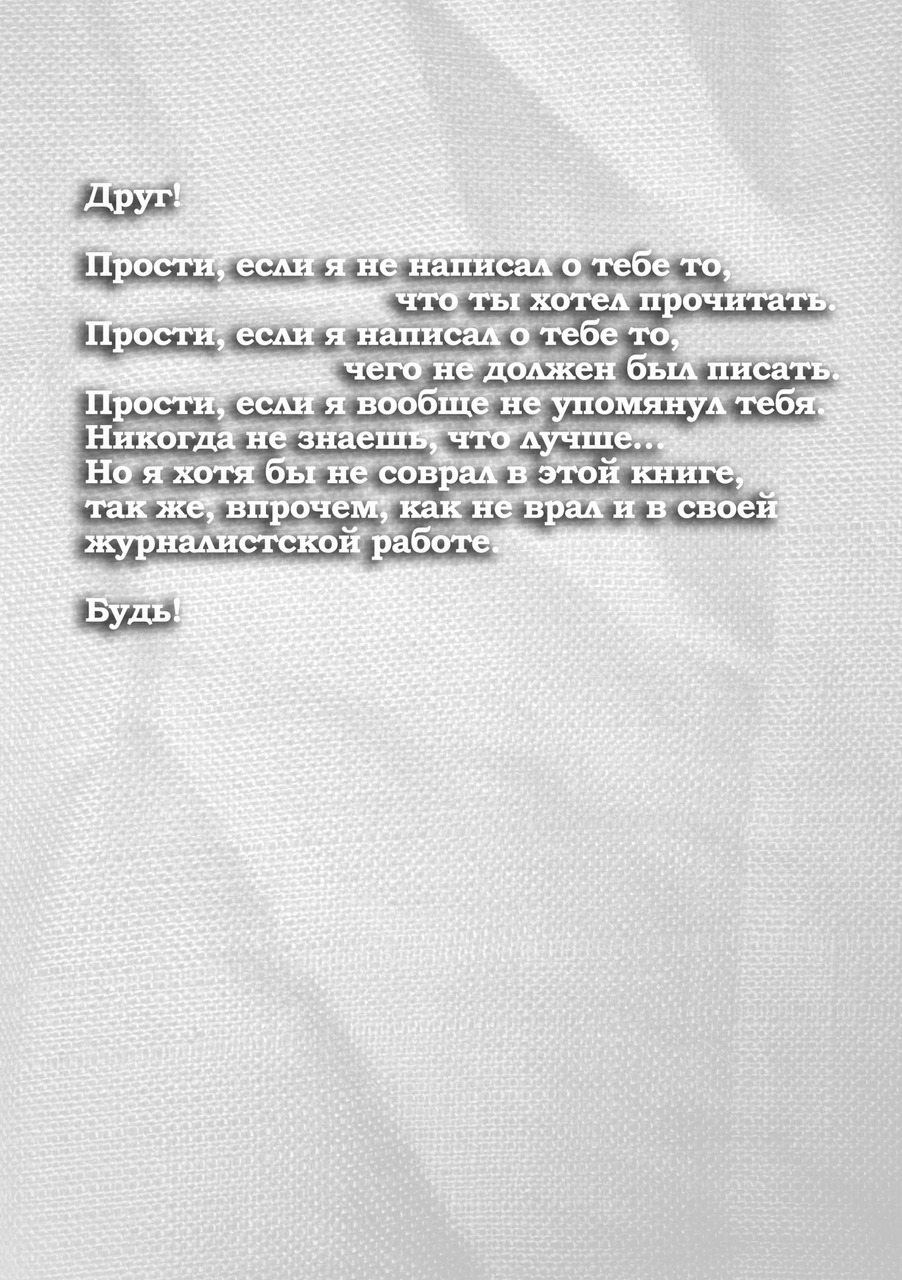
Из дембельского альбома
моим братьям по 804 ОБЗР КДВО

В странные времена мы живем, господа, в странные… Народ нищает, а праздников все больше. Взять, к примеру, юбилеи, которые посыпались на головы наши, как спелые яблоки на макушку товарища Ньютона… Он, правда, после этого открыл закон свой знаменитый, продвинув вперед науку физического естествознания, нам же остается разводить руками и праздновать…
И очень кстати вспомнилось мне, что и я имею право полное устроить маленький юбилейчик по поводу моего увольнения в запас («дембеля», если по-нашему, по-народному) из рядов Советской армии ровно четверть века назад.
А у дембелей самым заветным предметом был дембельский альбом. Предмет этот, напичканный фотографиями, перерисовываемыми из поколения в поколение карикатурами на кальках между страницами альбома и прочими всевозможными прибамбасами (от шинельного сукна на обложку до аксельбантов с надраенными боевыми патронами на переплете) готовили многие чуть не за год до дембеля.
Поскольку я знал, каким концом макать кисточку в краску, грядущие дембеля насели на меня почти с первых дней службы. Сколько я перенарисовал этих альбомов… Себе вот только не успел оформить по-человечески. Да и «Его Величество Случай» в несолдатских погонах помог: выцепил как-то мой будущий дембельский дипломат, выпотрошил альбом и все фотки распустил на клочки. Неуставные, видите ли… А кто ж в альбом вклеивает только уставные, с застегнутыми наглухо и без оружия и техники? Фотографии я, конечно, отчасти восстановил. А вот альбом оформлять сил уже не было. Потом, думаю, на гражданке, в спокойной обстановке.
Ну, да. Так и лежит, в прежнем виде.
Потому, в качестве частичной замены дембельскому альбому, я решил набросать некоторые эпизоды, воспоминания, записки на тему…
«До» и «после»
В том, что страна нуждается в солдатских массах, я убедился по той стремительности, с которой наша новобранческая толпа оказалась в «конечном пункте назначения»: в течение одних суток нас (на самолете через всю Россию-матушку) доставили «куда следует», помыли «как попало» и одели «во что положено». Начались героические будни исполнения воинского долга…
Отпускали нас через два года неохотно. Понравились, наверное. А, скорее всего, отслужившие и потому бесперспективные командармов интересуют мало. Четверо суток мариновались на «пересылке», в палаточном городке, дурея от неизвестности, ожидания и голода («сухой паек» был выдан на сутки, а вокруг — сопки да небо и ни одного магазина) … К чему это я? А ни к чему. Так, вспоминаю…
К армии привык сразу, видимо, был психологически готов. Да и режим «курса молодого бойца» («карантина», если опять же по-нашему) этому способствовал. Через неделю жизнь, прожитая до армии, казалась чем-то призрачным, далеким и отрезанным. Может, ее и не было никогда? У моих товарищей по оружию и портянкам было такое же ощущение.
«…Братаны, на гражданку идти не боитесь?» — спросил я у друзей за кружечкой максимально крепкого чаю в кочегарке, где-то за месяц до дембеля. Они, расценив мой вопрос как удачную шутку, громыхнули молодецким хохотом.
«Я серьезно. Тут все ясно: как говорится, получил приказ, ответил „есть!“, мысленно послал „на“, пошел и сделал по-своему. А там? Тут плохо, но одет, слегка, но накормлен, смысл жизни — дожить до дембеля — ясен. А там?» — «Тьфу ты…» — расстроились братаны и огорченно закурили… Нам еще предстояло вернуться совсем не в ту страну, из которой нас призывали…

К чему это я? А ни к чему. Так, анализирую прошлое…
В последние месяцы службы меня под утро часто терзал почти один и тот же сон: я возвращаюсь, меня встречают институтские друзья, и мы идем с вокзала… В этот момент я обычно просыпался, видел казарменный потолок, обшитый крашеным листом ДВП, и грусть моя, прорвавшись сквозь зубы тихим ласковым словом разочарования, заполняла казарму.
А после возвращения почти полгода в ночных кошмарах являлся мне наш командир роты — капитан Топорков — и своим перекошенным ртом посылал меня не то под трибунал, не то в уссурийские таежные дали… Но теперь пробуждение было блаженством…
Первые полгода «после» я не мог заставить себя зайти в кафе или столовую: мне казалось, что все будут смотреть, как я ем, потому кусок не лез в горло уже заранее, за полквартала до моего приближения…
Службы психологической реабилитации, которая могла бы помочь адаптироваться к нормальной жизни в человеческом обществе, как не было, так нет. А надо ли говорить, насколько такая служба необходима тем, кто возвращается домой с войны?
«Мы» и «они»
Уж не знаю, с каких пор это повелось, но это, действительно, были два противоположных лагеря. Со взаимной, как минимум, настороженностью, иногда переходящей в откровенную неприязнь.
Хотя среди них попадались весьма приличные люди. И даже настоящие мужики. Но вот офицеров (в полном исторически-энциклопедически-моральном смысле) среди них было немного, несмотря на наличие погон. И были они, как говорится, страшно далеки от народа.
В результате конфликтные ситуации возникали регулярно; страсти, порой, закипали нешуточные, доходя до руко- и ногоприкладства.
Вот был у нас в хозвзводе рядовой Евланов. По кличке, естественно, Евланыч. Спокойный, как танк перед переплавкой. Машину свою знал отлично, служил достойно. На бойцов хозвзвода распространялась негласная льгота: вернувшись поздно с выезда или из автопарка, они имели право не вставать по команде «подъем!» и не бежать на зарядку. А если приходили очень поздно, то спали до утреннего развода, игнорируя завтрак.
И пришел однажды Евланыч спатеньки в три часа ночи. Понятно, что поутру его никто не трогал, и он так мирно и посапывал бы почти до самого развода, если бы не приперся ответственный по батальону зампотыл капитан Голишников. Увидев под одеялом неопознанное тело, он приказал дневальному привести это тело в вертикальное положение. «Дак он же ночью, с выезда…» — попытался избежать смертельно опасного поручения дневальный. «Выполнять!» — рявкнул капитан и вышел.

Ну да. Конечно. Евланыч тогда уже был дедом, а дневальный — дух презренный. В такой ситуации выбор всегда не в пользу офицерских капризов. Дневальный походил туда-сюда и отправился на исходную позицию. А Голишников не думал отвязываться: вернулся проверить исполнение. Поняв, что дневальный лучше на гауптвахту пойдет, чем прикоснется к спящему дедушке, зампотыл решил действовать сам. Евланыч мутным глазом покосился на предмет его теребящий, повернулся на другой бок и снова засопел. Зампотыл выдернул из-под его головы подушку и бросил на пол. Ноль эмоций.
Ну очень расстроился Голишников, что на него, целого капитана Советской армии, откровенно забил какой-то водила из хозвзвода… И перешел в атаку: Евланыч спал на крайней койке второго яруса, и зампотыл опрокинул всю конструкцию на пол.
Евланыч был человеком патологически мирным, потому — он спокойно поднялся, поставил обе рухнувшие койки на место, педантично уложил на них постельные причиндалы и снова полез на свой второй ярус. Но и Голишников сдаваться не собирался: уцепился за майку не до конца проснувшегося Евланыча и сдернул того на пол.
Тут Евланыч проснулся окончательно. Встал, с развороту воткнул Голишникову кулаком в грудную клетку и залез обратно на свой второй этаж. Досыпать.
Сбежавшийся на грохот наряд по роте, с трудом сдерживая смех, вынул из-под груды тумбочек хрипло дышащего Голишникова и принялся наводить порядок на «поле Куликовом».
Евланычу дали пять суток «губы». Уходя, он протянул мне свои часы: «Пусть у тебя пока. Приду — заберу». Спустя пару месяцев ситуация повторилась. Хорошо, что Голишникова потом перевели в другую часть. Иначе, точно сломал бы Евланыч капитану позвоночник…
Вообще самые кризисные времена в армии — это первые полгода и последние. В первые полгода — случаются всякие неприятности с теми, кто к службе не готов и никак не может привыкнуть, в последние — с теми, кто к службе привык слишком, потерял инстинкт самосохранения и реагирует на раздражители молниеносно и бездумно.
…Мы — деды. Идет к концу наша вторая зима. Стоим в карауле. Утро. Моя очередь идти на пост. Караульный тулуп — один на всех, потому он с поста, можно сказать, не сходит всю зиму. Переодеваемся прямо на посту под присмотром начальника караула. А так как холодно — делаем это в комнатушке дежурного по КТП. Эту комнатушку недавно отремонтировали под руководством зампотеха капитана Лысакова. И вот в самый неподходящий момент, когда я уже почти переоделся и начал застегивать тулуп, в комнату ворвался капитан Лысаков…
Сцена на тему «молилась ли ты на ночь, Дездемона» в исполнении поселкового драмкружка. Капитан натуральным образом начинает нас выпинывать на мороз, попутно пытаясь сорвать с меня тулуп. Я никого не хотел убивать. Я просто хотел закончить застегивать тулуп. Я просто хотел выйти на пост в застегнутом тулупе. Я просто хотел, чтобы вот это, в погонах капитана, орущее и цепляющееся за воротник, замолчало и отодвинулось.
Я взял свой автомат, навел на вопящий звук, щелкнул предохранителем и передернул затвор. Звук прекратился.
Всё.
Тулуп застегнут, можно идти. Мельком смотрю на бледного капитана Лысакова, задумчиво вжавшегося в стену. Выходим на мороз. Идем молча.
«Шура, — тихо говорит начальник караула башкир Фаза (потому что Файзуллин), — патрон вынь…» — «Какой патрон?» — «Ты ж передернул…» — «Чего?»
Оттянув затвор, удивленно смотрю на патрон. Действительно… И когда успел? Отщелкиваю магазин, вытряхиваю на волю патрон и засылаю обратно в магазин. Иду на караульную вышку.
Через сутки мне перед строем объявляют пять суток ареста. «За нетактичное отношение к офицеру».
«Не боись! — подбадривают братаны, — все равно на складе спирту нет». А на «губу» в Уссурийске из нашего батальона принимали только в сопровождении весомого аргумента в виде пол-литровки спирта. Иначе никак. То ли традиция, то ли дурная слава. Так я и не побывал на «губе». Чего не было — того не было.
О братьях меньших…
«Зверьё, как братьев наших меньших, я никогда не бил по голове…»
Красиво сказал классик. Жаль, его наши дембеля и офицеры не читали.
Господа офицеры, откушав субботним вечерочком водочки и воспылав охотничьим азартом, время от времени выходили на тропу стрельбы. И если какой-нибудь болтающийся без дела тузик-бобик попадался им на этой тропе, то вполне рисковал расстаться со своей собачьей жизнью.
А дембеля…
Когда мы были еще духами и только свыкались с армейским бытом, те, кто готовились к дому и трудились на дембельском аккорде (то бишь строили что-нибудь общественно полезное типа бетонного забора вокруг части), начинали привыкать к жизни на гражданке. Как выяснилось, у всех было свое представление о том, что ждет их за воротами части. Объединяло одно: желание постепенного перехода с военного хавчика на гражданский чифан.
И вот эти самые дембеля долго присматривались к стаям бродячих шариков и бобиков. И в конце концов — решились. В автопарке запахло жареным. Вернее — жареной. Жареной собачатиной.
Проблема излишнего поголовья бродячих меньших была решена в течение месяца.
Дембелям следующего призыва оставалось довольствоваться дичью. На роль дичи были назначены голуби, которых тоже вначале было в избытке. Однако на них охотиться было трудней. Нужно было изрядно попотеть, прежде чем в котелке начинал побулькивать не совсем куриный бульон. Не то чтобы дембелям есть было нечего, просто кураж такой пошел.

Когда до дембельского аккорда дожили мы — на нашу долю не досталось ни собак, ни голубей: собаки заглядывать на территорию части больше не рисковали, а голуби перестали гнездиться на складах НЗ. Идти в тайгу за уссурийским тигром желания не возникало, поэтому мы были самыми буддоподобными дембелями за всю историю 804-го ОБЗР.
Мы перенесли все свое обостренное внимание на подготовку к дому. Тогда стали разрешать в порядке эксперимента (бедное наше поколение! все время на нас экспериментирует всякая дрянь!) уходить на дембель не в военной форме, а по гражданке. Это, кстати, оказалось делом сугубо полезным: не хватало еще по дороге к дому вскакивать при виде патрулей, застегиваться на все крючки и предчувствовать близкую гауптвахту за не по уставу расшитую форму.
Тогда писком моды на гражданке стали вареные джинсы. Джинсов у нас не было, зато вываривать с помощью хлорки всевозможные узоры на любом материале мы научились быстро. Тем, собственно говоря, и занимались в свободное время в карауле.
В караулке жили еще две разновидности меньших братьев проповедников дарвинизма. И что любопытно, съедать их никто не собирался. Зато общались с ними довольно часто.
Открываешь стенной шкаф, в котором стоит посуда и пайки сахара и масла, а на краю тарелки с рафинадом застыл серый столбик: мышь. Или мыш. Смотря по тому — женского рода или мужского. Стоит и смотрит умным глазом-бусинкой, гипнотизирует: «Тут никого нет! Ты никого не видишь! Слушай, будь человеком, дай поужинать спокойно! Что тебе, жалко, что ли?». Да не жалко, не жалко, жуй себе. К мышам отношение было спокойное и даже благожелательное. Уж не знаю почему, но они вызывали всеобщую симпатию.
А вот вторая разновидность, с длинными лысыми хвостами…
С крысами нелюбовь у нас была взаимной и искренней. В них летели табуретки, штык-ножи, гантели… Словом, все, что подворачивалось под руку. Иногда попадали. Чаще — нет.
Они, видимо в отместку, однажды, чуть не стали причиной народно-караульной трагикомедии.
В караулке, кроме караульных (рядовых), начальника караула (сержанта) и в недобрый час зашедших проверяющих (дежурного по части, комбата или ответственного по батальону) быть не должно никого и никогда. А раз не должно, то было. У старослужащих в этом заключался особый шик: попить чаю в караулке. Поэтому, с утра на завтрак они, как правило, не ходили, а их пайки сахара и масла передавались в караулку. И вечером начиналось.
Иногда в караулке вместо трех человек наряда оказывалось человек восемь. Пили чай, балагурили, психологически расслаблялись. На случай внезапного вероломного вторжения ненужных гостей в виде офицеров была разработана следующая схема.
Помощник дежурного по части, увидев, что в караулку направляется нежелательный объект, звонил по внутреннему телефону начальнику караула и говорил одно-единственное слово: «Атас!». Лишние люди с азартом впрыгивали в дыру под топчаном начальника караула: в полу было выпилено квадратом три доски, под которыми — яма для доступа к вентилям отопительной системы. В эту яму умещалось человек пять. И вот, когда в очередной раз в караулку притащился никому там не нужный замполит, все пошло по плану. Зайдя внутрь, проверяющий застал идиллическую картину: караульный отдыхающей смены мирно почивает, караульный бодрствующей смены прилежно изучает передовицу «Красной Звезды», а начальник караула заполняет постовую ведомость. Всюду порядок, тишина и покой. Замполит угрюмо прошелся по всем трем комнатушкам караулки и уселся заполнять свою графу в постовой ведомости.
Когда он уже готов был поставить свой автограф и убраться восвояси, одна из трех досок, прикрывающих убежище «нелегалов» подпрыгнула и шлепнулась обратно. Замполит насторожился. Тут доска подпрыгнула еще раз. Затем из-под топчана вылетели все три доски, и оттуда показалась бледная от стресса физиономия бойца по кличке Тёркин. Кличку эту он получил еще в первые полгода службы за неунывающий характер и почти вечную улыбку. Сейчас улыбки не было. Встретившись взглядом с ошалевшими глазами замполита, Тёркин побледнел еще больше и выдохнув: «Ой-ё!», — метнулся, было, обратно, но замполит ухватил его за шиворот: «Стоять! Ты откуда?». Уставший от неожиданностей Тёркин брякнул: «Дак это… Спросить… Зашел…»
Глаза замполита расширились, предчувствуя близкое раскрытие преступных секретов: «Ага! Значит, здесь есть подземный ход?!». И полез рукой в дыру под топчаном…
Выудив еще парочку «залётчиков», он удовлетворенно записал событие в постовую ведомость и увел «преступников» к дежурному по части.
Тёркина потом спрашивали: «Ты нафига выскочил? Отбоя тревоги-то не было!..»
«Ага… Отбоя… Сижу, смотрю… Глаза!.. Красные… Я, значит, — Тёркин показывает, как он протянул к глазам руку, — а там кры-ы-ыса!!!»
Последствия залёта были катастрофическими: командование приказало засыпать яму песком, а дыру заколотить.
Вопрос: «А что делать, если понадобится вентили покрутить?».
Ответ: «Вынете песок».
Думаете кафе «Караулка» перестало принимать гостей?
Развлеченьица с воспитаньицем
Что такое «стресс», наши отцы-командиры и замполиты знали вряд ли, но снимали его активно и регулярно, отчего на следующее утро страдали глубоким абстинентным синдромом (похмельем то есть).
Бойцам же в качестве «антидепрессанта» позволялось побывать в увольнении: посмотреть кино в местном клубе, посмотреть на людей в почтовом отделении и посмотреть на предметы роскоши (типа крема для бритья или тройного одеколона) в универмаге. Больше смотреть не на что, ибо деревня, в которой находилась наша часть, иными очагами культуры не располагала…
Однажды в рамках повышения военно-патриотического духа и общественно-политической зрелости, а также в связи с каким-то очередным празднованием чего-то нас согнали в столовую, погасили свет и на импровизированном экране стали показывать кино. Да-с…
Не знаю, кто замполита надоумил, кому спасибо сказать, только это была свежая копия недавно вышедшего «Завтра была война». Замполит, говорят, потом от досады на свою политическую близорукость сам себе звездочки с погон пооткусывал…
Короче, когда на экране первая советская «плейбой-звезда» и будущая «маленькая Вера» скинула халатик и осталась в одних панталончиках, на зал обрушилась липкая тишина. Было слышно, как стрекочет проектор, как матюгнулся на улице споткнувшийся о свою тень прапорщик, как хрустнула в сведенных судорогой челюстях моего соседа спичка… Героиня потянула панталончики вниз. Зал перестал дышать…
И тут все кончилось. Проектор замолк, зажегся свет, экран превратился в простыню. «Выходи строиться!» — попытался гаркнуть замполит, но вой ста с лишним глоток размазал тщедушную команду по полу, как окурок по плацу. «Выходи стро-о-о…» — «А-а-а!!!» — «Выходи…» — «А-а-а!!!». Топот, улюлюканье, свист и готовые полететь в сторону замполита тяжелые предметы столовской утвари заставили присутствующего при всем этом дежурного офицера принять срочные меры по спасению чести замполитовского мундира. Он не стал кричать. Он не стал стрелять в потолок. Он просто щелкнул выключателем. Сидевший за проектором рефлекторно запустил свой аппарат… Что любопытно: пленка оказалась перемотанной на начало и… Снова слышен только хруст спички, хриплое дыхание да: «От бэль…» — смачно не выдержал кто-то в конце этой безумно антисоветской сцены с панталончиками, но соседи аккуратно и предусмотрительно заткнули ему рот пилоткой…
Таким образом, беззаботно-патриотическое название фильма усыпило бдительность замполита, а дважды повторенное начало сконцентрировало внимание аудитории, сначала ожидавшей «чегонибудьещетакого», а затем погрузившейся в атмосферу сорокового года.
Сеанс дал неожиданный эффект: в замполите стали видеть воплощение НКВД, ВКП (б) и лично товарища Берия. Армия, кузница патриотов и верных ленинцев, где-то дала сбой: то ли молот поизносился, то ли наковальня порасплющилась, то ли исходный продукт не той марки пошел, но… Чрезмерно усердное замполитово стремление воспитать нас «преданными делу партии» дало обратный результат: никто из нашего призыва не обзавелся «красным билетом», хотя в армии сделать это было значительно проще, чем на гражданке…
Сережка
Между теми, кто вместе постигал премудрости выживания в армейских условиях, еще в «карантине» установилась какая-то странная, почти родственная связь: неслучайно друг друга у нас называли «братан», «братуха», «братишка». (Это потом, спустя годы, слово «братва» получило бандитский привкус, а тогда…). Видимо, ничто так не сближает, как совместное противостояние трудностям, бедам, опасностям…
Служил со мной с первого дня парнишка из Северодвинска Сережка Белозёров. После присяги нас разбросали по разным подразделениям: меня — в одну из рот, его — в отделение радистов водителем…
Дедовская иерархия была довольно строгой: припахивать новобранцев на различные работы позволялось только внутри своего подразделения, а если кто хотел по необходимости «прихватить» «чужого» молодого бойца, то следовало договориться с «родными» дедами, но такое бывало нечасто.
На радиостанции, где служил Сережка, дедов было полторы штуки, в связи с чем он, по-моему, испытывал некий комплекс вины перед нами, так как у нас дедов было больше и «шуршать» приходилось активней. Чего греха таить, ему немножко завидовали по этому поводу. Но он был добр и старался помочь если не делом, то хотя бы словом (а в армии слово — великое дело). Его вовремя сказанное добродушное (и словно извиняющееся за собственное относительное «благополучие») «все образуется» много раз становилось единственной поддержкой на грани отчаяния…
Время шло. С каждым месяцем наши глаза становились веселей, ремни — свободней, а дембель — ближе…
Когда мы отбарабанили год, Сергею дали отпуск по поводу похорон его родственника. Вернулся из дома более грустным, чем уезжал: и повод для поездки нерадостный, и после нескольких дней «воли» возвращаться обратно — удовольствие ниже среднего… Но на него тут же набросились с расспросами: «Как там? Что носят? Что слушают?». Новости свободы «из первых рук»…
…В августе 1987 года мы были уже почти дедами. Однажды я стоял в суточном наряде дневальным, а Сергей готовился на выезд (свозить нескольких наших бойцов по каким-то хозяйственным нуждам). Вдруг он попросил меня спеть. Мы зашли в батальонную ленинскую комнату, я достал гитару и затянул из Высоцкого:
За меня невеста отрыдает честно,
За меня ребята отдадут долги…
Посидели, помолчали. Потом его вызвали к машине, и он уехал.
Часа через полтора сообщили, что он утонул. Я услышал, но не сразу понял. Не хотел понимать. Потому что этого не могло быть. Исключено. Невозможно…
Все оказалось трагически пошлым. Когда возвращались — решили искупаться. Сергей плавать не умел и в глубину не лез, но… Когда заметили, что он как-то странно барахтается, его вытащили. Он уже не дышал. Искусственное дыхание толком делать не умел никто, включая сопровождающего прапорщика…
Когда приехала «скорая», врач сказал, что если бы сразу была оказана помощь, то…
На следующий день нас всех (и солдат, и офицеров) обучали делать искусственное дыхание.
«Что, козлы, закопошились?» — высказался я в пространство. (В расписании занятий у нас была графа: «медицинская подготовка», только в это время мы, как правило, убирали территорию, грузили кирпич, чистили оружие или бронетехнику, на которой выезжали раз в полгода).
«А нехрен было в воду лезть, не на курорте!» — отреагировал зампотех.
«Причем тут? Да у нас, вон, в парке в пожарную яму упасть можно! И что?» — удивился я неадекватности капитана.
«А тебе с твоим ростом там утонуть не грозит!» — гыгыкнул зампотех.
«Придешь ты ко мне на пост», — многообещающе пробурчал я себе в усы.
У ротного оказался хороший слух: месяц меня потом в караул не ставил. «На всякий случай».
Перед отправкой тела в Северодвинск нам милостиво было позволено с ним попрощаться. Не знаю, как назвать то чувство, которое я испытал, когда увидел Сергея, втиснутого в узкий и короткий цинковый гроб: плечи приподняты, ноги согнуты в коленях, лицо в черных и коричневых пятнах… Хотелось выть и стрелять, стрелять, стрелять… В воздух; в цистерны склада ГСМ; в боксы с техникой; в этих, по какому-то недоразумению именующих себя «офицерами»… Но армейская безответственность коллективна, часто не виноват никто конкретный, виновата система в целом… А всю систему не расстреляешь — патронов не хватит.
«Мы ежегодно отправляем пять тысяч гробов!» — в сердцах как-то выкрикнул генерал, член Военного совета, на очередном собрании в нашей части, посвященном неуставным взаимоотношениям. Его слова подтверждать не берусь, но если он не соврал… Пять тысяч ежегодно — не из-за боевых действий, а из-за дедовщины, командирского самодурства, солдатской глупости, «поиска приключений» и огромного числа несчастных случаев… Кто за это ответит?
Курс похудания
Угаром интернационализма нас никто не травил, наверное, поэтому мы были лишены сладости межэтнических конфликтов.
…Татарин с грозным античным именем Марс (и к тому же на момент описываемых событий — дедушка Советской Армии), проходя мимо тумбочки дневального, посмотрел на меня, дневалившего в тот день духа, и спросил: «Э, ты чё?».
А я чё? Я ничё… У меня тихо ехала крыша, казарма перед глазами трансформировалась затемпературенным сознанием в картины комиссации через 16-е отделение (отделение госпиталя, иначе именуемое «дурка»).
«Ну-ка, пошли…» — дедушка уцепился за мой духовской ремень и поволок в медпункт на буксире.
Фельдшер-туркмен Байрам флегматично сунул мне под мышку градусник, через мгновение выудил обратно и выпучил глаза.
«А?» — Марс заглянул через плечо Байрама.
Фельдшер помахал по воздуху градусником, словно намеревался вытряхнуть из него ртуть, и снова запихнул мне его под мышку.
«Э? Ты чё? Не веришь, что ли?» — возмутился Марс.
«Пагади, э?» — отмахнулся Байрам.
Снова вдвоем уставились на шкалу в очередной раз выловленного градусника. Фельдшер смачно, по-русски, но с богатым акцентом, выматерился.
«И-и… Укол делат нада… Сипирту — нэт… Табилэтка — нэт… Э, сылушай, иды койк ложис, да?»

Я покорно прошлепал к своей койке и хлопнулся в нее.
Братки после рассказывали, как Байрам поднялся на второй этаж, где у нас располагался штаб, зашел к комбату и с порога влупил: «Машин нада! Госпитал ехат!».
То ли комбат не понял остроты момента, то ли ему вообще было не до фельдшера, но он отмахнулся: «Машин нет!».
Байрам не любил, когда его не понимали и, хотя всегда просто тихо переживал это у себя на территории медпункта, но в этот раз — обиделся не на шутку: «Э! Я гавару, машин нада! Госпитал ехат нада! Э!».
Комбат тоже не любил, когда его не понимали и реагировал на это без промедления: «Сержант! Свободен!!!».
Байрам совсем обиделся: «Э! Он у тэба там савсэм падохнэт, ти отвечат будиш, э!!!».
Комбат задумался: «Кто — подохнет?».
…Короче, до госпиталя мы доехали засветло.
А к сумеркам я уже в полной мере ощутил, что значит веселый диагноз «дизентерия». Кстати, для желающих похудеть: десять кило за три дня. Легко. Правда — неприятно.
Вот так мне два нерусских парня жизнь спасли. Чего хихикаете? Дизентерия, между прочим, заболевание реально смертельное, если вовремя не лечить…
Контуженый
Он правда был контуженый. Пять лет капитан прослужил в Афгане, получил контузию, и его перевели в наш батальон. Назначили в отделение связи, но в первый же наряд поставили дежурным по части вместе с нашей ротой. Надо сказать, что обычно офицеры дежурными по части ходят со своим подразделением. И у нас дежурными были то взводные, то ротный. А в этот раз…
Пришел он в караулку часа в три ночи: проверить, как бойцы службу тащат. Заглянул в постовую ведомость: «Почему не заполнена?». В ведомость записывается время очередной смены и прочие формальности. «Да ладно, та-ащ тан, утром заполним…» — «Да вы что! Знаете в Афгане что за это было бы?» — «Да ла-а-адно, мы ж не в Афгане…» И пошла политинформация: два часа мы рассказывали о специфике службы в нашем батальоне. Лекция не прошла даром: наутро капитан сказал врачу, что у него разболелась голова и с чистой совестью сменился с наряда, не достояв полсуток.
Как-то в курилке он рассказывал о своей афганской службе. Как он первый раз поехал на выезд. В головном «Камазе». Водитель (без пяти — дембель) посоветовал необстрелянному офицеру не надевать бронежилет на себя, накинуть его на стекло дверцы, а стекло — поднять. «Мы всегда так ездим», — говорит. «А ты как?» — удивился старший тогда еще лейтенант, имея в виду отсутствие стекла со стороны водителя. «Нормально!» — хохочет тот. Поехали. Конечно же, попали под обстрел. Водила набросил свой бронежилет на руку, прикрыл голову, другой рукой крутит баранку, и одновременно курит и рассказывает анекдот.
«Какой анекдот-то?» — спрашиваем у капитана. «Чего? Какой, н-на, анекдот! Я как доехали не помню! Анекдот…»
Рассказал, как ордена в Афгане получают. Случай, конечно, уникальный. Шла колонна с грузом, как бы теперь сказали гуманитарной помощи. Один из «Камазов» сломался. А колонна торопилась. «Я починю и догоню!» — настаивал водитель. «Не положено!» — не соглашался командир. Потом связался с высшим руководством, решили, что из-за одной машины всю колонну терять негоже и дали добро. Колонна ушла.
Водила остался. Починил машину — и в путь. Всё бы ничего. Да доехал до развилки, а куда дальше? Из политических убеждений поехал направо. И, конечно, не угадал. Попал под обстрел. Машину сожгли. Сам отлежался в какой-то яме и по темноте пошел искать своих. Хоть каких-нибудь своих. Трое суток искал. Наконец, родное: «Стой, кто идет?». Ура! Наши! Ага. Щ-щас. Повалили на землю, скрутили и в штаб. «Кто такой? Откуда?». Так и так. Машину потерял, колонну потерял, трое суток шел. «А теперь объясните, та-ащ солдат, как вы прошли через минное поле? Кто инструктировал? Американцы? Душманы? Где карта?» Какое минное поле? Какая карта? Какие американцы? Сам я шел… «Ах ты сам шел? Хорошо. Вот тебе два сапера. Пойдешь впереди, покажешь, как ты по нашему минному полю прошел. Пройдешь — подумаем, что с тобой делать. Взорвешься — расстреляем!» Шикарно. Делать нечего. Пошел. Следом саперы с картой. Бледные.
Обошлось. И туда провел, и обратно вернулся. Саперы эту тропинку быстренько заминировали. Расстреливать пешеходного водителя не стали. Даже вовсе наоборот: представили к ордену Красной звезды…
…А вот дослужить до положенного досрочного дембеля у капитана не получилось. Конфуз вышел на учениях. Проводились некие маневры совместные. С участием командования одной из соцстран. Первый день прошел на высоте. И капитан наш афганский тоже в грязь ничем не ударил. И поэтому поводу заглянул вечерком в штабную палатку: а там вечер интернациональной дружбы с закуской и тем, с чем ее легче внутрь принять. Сидят степенно, принимают постепенно. Форма у всех полевая, да дело к вечеру, смеркается, и от закуски в глазах понемногу резкость пропадает: кто там майор, кто лейтенант — не видать… И вдруг какой-то мелкий с непонятными петличками и погонами на очень ломаном русском начинает афганскую тему. Ни к чему, дескать, туда влезать вам было, теперь попробуй, вылези… Капитан этой темы не любил. Очень не любил. Особенно не любил тех, кто эту тему поднимал. Привстал капитан над столом и хлопнул по узкоглазой морде говорившего от всей своей капитанской души. Брык… Только пятки узкоглазого вверх метнулись. А капитан в гробовой тишине вернулся к закуске…
Наутро его вызвал командующий. «Капитан, что вчера произошло?» — «Учения, та-ащ генерал-мъёр!» — «Не включай дурака, капитан! Это я без тебя знаю! Что вечером произошло, в штабной палатке?» — «А… Дак это… Так, посидели маленько…» — «За что ты ударил союзника?» — «А чё он, падла косоглазая, говорит, что нам в Афгане делать нечего? Давить, с-сука, таких надо!» — «Согласен. Одно хреново: это был начальник штаба наших союзников». — «Ой-ё… А я смотрю, чё-то он по-русски как-то… Не того…» — «Дурак! Смеется еще… Одно я могу для тебя сделать, капитан: садись и пиши. Сейчас пиши! Здесь! Рапорт по состоянию здоровья! Позавчерашним числом, понял?»
Нет, не все генералы — гады. Этот, например, нашего капитана от трибунала спас. Мало ли кто там в палатку забрел. Темно было… Нет у нас такого офицера. Уволился по контузии. Ищи-свищи…
Правда, теперь ему предстояло горбатиться на пенсию до шестидесяти лет, как любому гражданскому. Но он не унывал. Заедет в часть на своем «Урале» с коляской: «Ну что, пацаны? Служба идет?». — «Идет, та-ащ тан!» — «А у меня закончилась!» И фр-р-р — по газам…
Когда я уходил на дембель и поднялся в кабинет начальника штаба за оформленным военным билетом, увидел там на столе орденскую книжку и орден. Книжка была заполнена на двух языках. Арабская вязь и кириллица объясняли, что наш капитан награжден высшим орденом Демократической республики Афганистан. Уж не знаю, передали ему этот орден или нет…
Братаны
Шурик (у которого вместо прозвища использовалась его специфическая фамилия Закс), Юрик (к которому прозвища не прилипали, кроме попытки перевести его отчество на тюркский: получилось почему-то Хатмилыч), Игорёк (которого за его иссиня-черные волосы прозвали Бакелитом).
Они выручали меня неоднократно. Не могу сказать, что я с ними рассчитался той же монетой. Да они как-то никогда и не настаивали на взаимозачетах: этим дружба и отличается от банковского кредита. Кредить его в коромысло…

Не знаю, как теперь, но в те годы армейское братство ковалось в первые полгода службы. Когда до дембеля дальше, чем до Пекина (служили мы в сорока километрах от китайской границы).
…К исходу первого полугодия подвели меня ноги: распухла правая стопа, в сапог не влезает. Назначили постельный режим. Это, конечно, своеобразное вето на дедовские припашки, да и вид опухшей и посиневшей ноги раздражал, но рассеивал подозрения в недопустимой (по сроку службы) симуляции.
Что предпринимают мои братаны? Чтобы как-то утешить сослуживца, с которым тянули лямку с первых дней, они пустились на одно из тяжких (с точки зрения офицеров) солдатских преступлений: на «самоход».
В заборе была дыра, через которую деды по ночам смывались в «боевой поход» по деревенским подругам, а днем засылали духов за пивом или еще чем-нибудь, чего в гарнизонном чипке не продавалось по причине вредоносности для боевого духа и солдатского организма.
И вот через эту самую дыру, други мои слетали на вольную деревенскую волю и принесли оттуда щербету, пряников, еще каких-то сладостей, и мы устроили в послеобеденные свободные полчаса праздник желудка…
Это трудно объяснить, но слаще того щербета ни до, ни после мне ничего не подворачивалось. А ощущение того, что он достался с риском, на какой духи шли только из уважения (или из страха), выполняя дедовскую волю, делал его в моих глазах дороже вагона красной икры и цистерны коньяка. Это была та моральная поддержка, которую в трудную минуту не часто встретишь на гражданке.
…Потом мы почти полтора года все вместе ходили в караул. Несмотря на свой прогрессирующий алкоголизм, наш ротный был неплохим психологом и понимал, что в караул полезней ставить тех, кто хотя бы не питает взаимной неприязни. А лучше — тех, кто в дружбе.

И мы понимали друг друга, порой, без слов. Казахстанский немец Шурик, златоустовские мои зёмики Юрик и Игорёк, и я, призванный из Питера, рожденный в «Сороковке» на Южном Урале…
В караул ходили в режиме сутки через двое. Объектом несения службы был автопарк с батальонной техникой, который ночью освещался двумя тусклыми фонарями. «Освещался» — это громко сказано. Через несколько шагов из-под фонаря становилось темно, как у негра в бумажнике. И то, что нам регулярно зачитывали сообщения о нападениях на часовых (с целью завладения оружием), особого вдохновения не доставляло. После первых же нескольких караулов стало понятно, что нести службу по уставу — не полезно для здоровья.
В карауле уставом смена делится так: два часа спишь в караулке (караульный отдыхающей смены), затем два часа стоишь на посту (собственно часовой), а вернувшись, два часа сидишь с открытыми глазами, дожидаешься, когда можно будет из караульного бодрствующей смены превратиться в караульного смены отдыхающей, чтобы потом промучиться, пытаясь заснуть, и только-только сомлев, получить в ухо команду «подъем!» — и на пост…
Спать — вредно. Это мы поняли и боролись с естественной физиологической потребностью организма неестественно крепким чаем (пачка грузинского на кружку кипятку, вскипяченного чугрилом). Ой-ой-ой! Кто-то негодующе закатил глазки? «Это же чифирь!» Может и чифирь, дальше что? Два-три глотка из пущенной по кругу «кружки мира» вытряхивали из головы ночь, освобождали от необходимости спать в караулке и соблазна вздремнуть на посту, да и просто — поднимали настроение. И появлялась уверенность, что никакой урка, подкравшись к тебе полусонному, не ляпнет кирпичом по пилотке. А под пилоткой, между прочим, голова, которая вместе со всеми остальными предметами организма хочет вернуться домой и считает дни до дембеля. И такая злость закипала по отношению к вероятному противнику, что любое несанкционированное шевеление у забора или возле боксов могло вызвать душевную автоматную очередь. Патронов на тридцать.
Братаны это знали, поэтому при нужде договаривались заранее. Это официально на склад НЗ можно было попасть только через четыре ведра тупых армейских формальностей. А неофициально… Получает какой-нибудь боец из хозвзвода приказ: завтра в шесть утра — выезд. А у него на машине, скажем, карбюратор устал от службы и приказал долго жить. Боец — к зампотеху: «Та-ащ тан! Карбюратор нужен новый, завтра выезд!». Зампотех, сморщившись: «А я — что? Ищите, та-ащ солдат!». Боец, понятное дело, в караулку: «Братаны! Выручайте!». И по согласованию (которое юридически называется «по предварительному сговору»), в назначенный час, под покровом дальневосточной ночи, в сопровождении часового — к боксам НЗ. Позвякает там ключиками, и утром, как штык — на выезд. Для себя, что ли? Для службы… А что делать, если у нас всё, через… НЗ…

…Взводным у нас был лейтенант, которого никто из нас иначе как Олежкой не называл. С одной стороны — человек абсолютно не военный, лишенный командирского голоса на все сто, говорящий с характерным московским акцентом (на Вертинского похоже, только не картаво), с другой стороны — все в нем души не чаяли, потому что:
а) ротному никогда не стучал, что бы ни случилось во взводе (что, конечно, ужасно бесило нашего капитана и служило постоянным источником его конфликтов с Олежкой);
б) со взводным всегда можно было договориться о любом «неположенном» по уставу мероприятии.
Он на многое закрывал глаза, зная, что в главном — в несении службы — его не подведут. И не подводили.
…Когда он после женитьбы решил из каких-то своих соображений перевестись в другую часть, пришло время отплатить ему за его человеческое к нам отношение.
Стоим в наряде по роте. Я — дневальным, Бакелит (будучи сержантом) — дежурным по роте, а дежурным по части — Олежка. Смотрим, он — как в воду опущенный и вовремя не вынутый. Бакелит, щуря свои лукавые татарские глаза, глубоко после отбоя подкатил к взводному: «Та-ащ тнант, чё?».

Выяснилось, что зампотех и зампотыл решили ему подгадить: провели полную ревизию имущества взвода. Понятное дело: половина этого имущества растеряна на учениях, выездах и просто спёрта кем-то когда-то при невыясненных обстоятельствах. «Возвращай всё по описи или компенсируй деньгами. Три тыщи», — прозвучал вердикт сурово блюдущих неприкосновенность социалистической собственности. А верней всего, забухать им хотелось на халяву. И по-крупному. Или ротный настропалил, уходя в отпуск, чтобы без него — никаких передвижений по личному составу…
Соткать из ниоткуда фигову кучу всякого шанцевого инструмента, аккумуляторов, фонариков и прочей хренотени у Олежки шансов не было. Как не было и трех тысяч старых полновесных советских рублей (при получке в три сотни и долгах после недавней свадьбы). Потому грусть его не знала пределов.
«Хы… — усмехнулся Бакелит, — та-ащ тнант, вы в следующий наряд в караул нас поставьте. Делов-то…»
Бомбанули склад НЗ по высшему разряду. За час управились. Погрузили на комбатовский уазик и вывезли под покровом ночи Олежке в сарайку. (Знал бы комбат, куда по ночам его уазик ездит, удавил бы вместе с уазиком…)
Через недельку предъявил взводный «найденный» инструмент, замы поскребли затылки, да делать нечего. Подписали обходной лист, и Олежка с молодой женой упорхнули в неизвестном для нас направлении. То-то ротный бесновался, когда из отпуска вышел: не удалось Олежкиной крови попить на прощанье…
Однажды (было это, когда мы уже отслужили первый год), подходит ко мне один из дедов и спрашивает: «Слушай, ты откуда? Я забыл…». Я подумал, что он спрашивает, откуда призывался. «Из Питера», — говорю. «Да нет, родом откуда?» — «Из Челябинской области» — «А откуда именно?» — «Да ты не знаешь, зачем тебе?» — «Надо!» — «Ну из Челябинска-65» — «Во! Точно! Иди на КПП, там твой зёмик!»
Врет, думаю, зараза. Но пошел.

Сидит на КПП боец с погонами младшего сержанта. Из учебки прибыл, дожидается, когда в штаб отведут. Диалог повторяется. Но вопросы уже задаю я…
«Здорово! Ты откуда?» — «Из Челябинской области» — «А откуда именно?» — «Да ты не знаешь, зачем тебе?» — «Надо!» — «Ну из Челябинска-65» — «Да? А в какой школе учился?..» Поговорили, вижу — точно, наш, из «Сороковки». Познакомились.
«Широка страна моя родная…» Да где широка-то? На Невском проспекте в Питере одноклассников встречал, спустя годы после окончания школы. А тут: меня призывали из Питера весной 1986 года, его призывали из «Сороковки» осенью того же года, а встретились весной 1987 под Уссурийском…
Сейчас Антон работает на комбинате «Маяк». Город маленький. Иногда встречаемся на улице. «Привет, братан!» — «Здорово, братуха!.. Как жизнь?».
…Спустя годы, когда началась первая чеченская, я сразу сообразил, что это надолго. Режиссеры этой бойни знали свое дело. С одной стороны: чечены, у которых кровная месть — многовековая традиция; с другой стороны: пацаны-солдатики, в силу юношеского максимализма готовые за своего погибшего друга рвать этот мир хоть зубами — только назначьте и покажите виновного…
Любовь
…Итак, она звалась Татьяна…
Нет, ну, правда — Татьяна, что я могу сделать. Мы учились в одной группе Корабелки. На втором курсе я в полной мере ощутил все симптомы острой стадии заболевания, воспетого всеми поэтами, включая процитированного классика. И однажды, то ли набравшись смелости, то ли уж от отчаяния, попытался объясниться.
Она была чрезвычайно удивлена столь неожиданным проявлением ничем с ее стороны не спровоцированного признания и сразу же (без обиняков, кокетства и всевозможных моральных ёрзаний, столь свойственных доброй половине половины прекрасной) тактично, но твердо и прямо сказала, что между нами быть не может ничего, так как ее парень недавно ушел в армию, и она намерена его дождаться.
Я был не ее парень. Я тогда поскрипел зубами, написал пару-тройку новых песен, но где-то в потайном кармане души припрятал аварийно-спасательную надежду на то что… Ну, мало ли, как биография повернется…
То, что Татьяна пришла в военкомат меня проводить, не говорило ровным счетом ни о чем (потому что по этому поводу под стенами Кировского РВК собралось немалое количество моих одногруппников и друзей), но на душе стало теплее.
Я написал ей первое письмо уже из карантина. Она ответила, еще раз напомнив, что кроме дружеской переписки ничего иного мне предложить не может, но письма писать пообещала.
Сказано-сделано. И ее письма (так же как письма из дома) помогли не наделать различных армейских глупостей, наделать которых, порой, очень даже хотелось. Но в том самом потайном кармане души жил маленький котенок, своим мурлыканьем напоминавший о неизбежном, как крах капитализма, дембеле и о той весне, и той встрече, которая… может быть… будет совсем-совсем…
Когда я вернулся, мой друг по Корабелке — Валера Кленков — в первый же вечер огорошил меня…
Мы стояли на черной лестнице общежития (я тогда еще считал себя имеющим право курить) и некурящий Валера после долгой паузы уронил: «Она замуж вышла». Помолчали. «Почему не написали?» — выдохнул я вместе со струйкой дыма. Валера изумленно вскинул брови: «Зачем?!».
Так я понял, что у меня были настоящие друзья не только в армии, но и здесь, в Питере, которые ждали моего возвращения и со своей стороны тоже делали, что могли, чтобы оно случилось.
Без друзей выжить трудно.
…А с ней мы потом виделись пару раз, мельком, в толпе сокурсников, и я так и не поблагодарил ее за письма…
Тамбовский волк
Ночь. Синяя лампа дежурного освещения создает ощущение романтической таинственности: вот-вот привидение появится… Но сегодня привидений не ждут. Дембеля задолбали дежурного по части: «Тревога будет? Нет?». Да даже если и будет, нас это уже не колышет. Нам так и было сказано. Мы уже почти гражданские люди: на построениях — отдельно от всех, обмундирование — из подменки (заплата на заплате). Созидаем объекты для части. Дембельский аккорд. Построил — свободен…
Романтику весенней ночи поломал дежурный по роте: бум! по выключателям. «Баталё-о-о-н! Падё-о-ом! Тирево-о-ог!!!»
Духи пружинисто летят со своих коек, лихорадочно впрыгивая в сапоги, штаны и прочая, шнурки торопятся степенно, фазаны с коек не спрыгивают, а снисходят, деды недоуменно потягиваются, а дембеля…
«Юрик! — толкаю я своего соседа, — Слышь, братан, тревога, говорят…»
«Охренели, что ли? Три часа…» — Юрик поворачивается на другой бок.
Командуют построение. Приходится вставать.
Построились. Странная пауза. Я смотрю на дежурного по роте по кличке Буратино (уж очень этот киргиз был на Буратино похож): «Ружжо выдавать будешь?». Тот мотает головой и улыбается от уха до уха.
Недоуменно стоим. По строю проносится слушок, что сейчас будут проверять сапоги: кто-то бегал по посту и куда-то из чего-то стрелял… Тут влетает дежурный по части, хлопает по выключателям и орет: «Ложи-и-ись!».
Опа-на… Война, что ли? Как-то не во время… Перед самым дембелем…
Успеваю сообразить, что казарма со стороны плаца и поста простреливается насквозь. Валяться на полу вперемешку с духами как-то не по фасону: уходим с друзьями в коридор. Тут с обеих сторон — каптерки, да и стены толстые, если что…
Постепенно вырисовывается картина происходящего.
Стоял в наряде по КПП братушка по кличке Гаврюшка (производная от его ласково звучащей фамилии). И дёрнуло же его повстречать зёмика, прикомандированного в соседнюю часть. А землячество в армии — почти кровное родство. Нашелся, значит, у Гаврюшки земеля по Тамбову: слово за слово, рублём по столу. Добыли они бутылку сухого (деды, как-никак, можно и побаловаться), растянули на двоих и вполне довольные расстались. Да как всегда, по закону подлости проходил мимо нюхастый офицер из той самой соседней части, учуял амбре от Гаврюшки — обрадовался. Между частями, надо сказать, всегда идет незримое соперничество, порой выливающееся во вполне зримые поломанные носы и отбланшированные глаза.
Уцепился офицер-связист за нашего бойца и поволок его в нашу дежурку с превеликим наслаждением. Так, мол, и так, бухой ваш боец, та-арищ каптан… Дежурным по части в этот день стоял почему-то наш ротный — капитан. И поскольку стоял в наряде, был он трезв, что само по себе доставляло ему унизительные мучения, а тут еще залётчик по родной теме…
Остались один на один. «Ты чё, а? Я сегодня трезвый, а ты, сука, пьяный»? И тресь-тресь — Гаврюшке по мордасам. Тот, понятно, тамбовский волк, стоит, молчит, набычился. «Ты чё, сука, молчишь, а?» Тресь. Перестарался капитан. Разбил залётчику нос. Гаврюшка как-то расстроился: «Ты чё делаешь? Я ить щас в караулке автомат возьму, тебя грохну и сам застрелюсь…».
«Валяй!» — пошел ва-банк капитан.
Гаврюшка обернулся к проходящему мимо дежурки дневальному: «Слышь, Валера, смотри, он не верит, что я щас его положу и сам застрелюсь!». А кто в армии верит словам угрозы? Там этих слов, как дерьма за боксами в автопарке. Пожал плечами дневальный, мимо прошел.
«Чё стоишь? Валяй!» — подзадорил капитан.
Гаврюшка повернулся и вышел из казармы.

«Может вернуть?» — забеспокоился летёха-взводный.
«Не ссы, никуда не денется, пошляется и вернется», — отрезал знаток человечьих… — пардон! — солдатских душ — капитан Топорков. И позвонил в караулку, велев гнать пьяного Гаврюшку в три шеи.
А дальше было так.
Наш залётчик в караулку не пошел. Пошел прямо на пост. Там в карауле стоял молодой боец, для которого, по определению, дедушка Советской армии — реальная власть, воплощенная в дедовом кулаке, помноженная на непререкаемый авторитет.
«Спички есть?» — поинтересовался Гаврюшка у часового. «Не-а…» — помотал башкой воин вместо уставного «стой! кто идет!».
«А ты в карманах шинели посмотри», — осторожно приближаясь, посоветовал Гаврюшка.
Просьба была естественной, ибо шинель была караульная, передавалась от часового часовому, и в ее карманах могло быть все что угодно: от спичек и патронов до гранаты в презервативе. Часовой добросовестно полез в карманы, Гаврюшка легонько тюкнул его между ног, снял с плеча загрустившего часового автомат и пошел к выходу из автопарка.
Сообразив, что происходит что-то непоправимое, часовой, превозмогая боль, заковылял за похитителем. «Серег! Ты чё! Серег, отдай!» — чуть не плача, причитал пострадавший. Гаврюшка резко развернулся и выпустил над головой часового несколько пуль. Тот беззвучно нырнул под ближайшую машину.
Вот тут-то и была скомандована та самая тревога, которой не заказывали. Тут-то мы, полусонные и построились в шеренгу напротив окон, залитые светом всех осветительных конструкций. Не собирался Гаврюшка стрелять по своим, а вообще-то — мишень шикарная: полбатальона положить можно. Но Гаврюшка вышел за КПП и задумался.
Пока размышлял он над судьбой своей скорбной, скрипнула дверь и в проеме появилась причина Гаврюшкиных страданий в лице дежурного по части. «А-а-а! Тебя-то мне и надо!» — обрадовался уссурийский рэмбо тамбовского разлива и выпустил над головой нашего капитана полрожка. Тогда-то присыпанный побелкой капитан Топорков рванул на короткую дистанцию, убив все мировые рекорды, ворвался в казарму и, вырубая в прыжке свет, настоятельно посоветовал всем прилечь на пол.
А Гаврюшка печально остался стоять у КПП. Мысленно начал загибать пальцы: то, что выпил на дежурстве — это уже такая чешуя по сравнению с остальным, что можно и не считать, нападение на часового — вот это уже серьезно, завладение оружием — очень серьезно, стрельба в строну часового — пойдет за покушение — совсем серьезно, стрельба в сторону целого дежурного по части — совсем задница. Итого… Напрасно старушка ждет сына домой.
Хмель, причина всех причин, прошел уже давно, злость от разбитого носа — тоже… Уходить в бега? Без толку. Возвращаться в часть — позорно. Тут еще обезавтомаченный часовой приперся и ну гундосить: «Серег! А Серег! Отдай автомат, а?».
Гаврюшка развернул ствол на себя: «Стой! Застрелюсь на хер!». А у часового точно крыша поехала. Идет, лапки свои цыплячьи растопырив: «Серег! Отдай автомат…».
Ба-бах!
Гаврюшкин китель потом чуть не сутки в дежурке валялся. Мы смотреть ходили. Как в Эрмитаж. Одна пуля вошла в грудь — вышла под лопаткой: кусок вырвала с кулак. Вторая пуля бицепс пробила: как вошла, так и вышла.
Хорошая вещь автомат Калашникова. Серьезная.
Не успели Гаврюху до госпиталя довезти — в себя пришел. Курить попросил. «Какой тебе курить? Лёгкое пробито! Лежи молча!», — посоветовал фельдшер (уже не Байрам).
Чем дело кончилось — узнали мы уже на гражданке, через братков, что остались дослуживать свои полгода.
Отстояли Гаврюху, отмазали. Солдатская круговая порука — вещь для офицеров вредная. Видит дознаватель, что брешут все, как один, а сделать ничего не может. Приходит в палату. «Ну, что, воин? Садиться будем. И надолго». — «Не-не, спасибо, я полежу…» — «Чё — веселый? Щас я тебе статьи перечислю, еще веселей будешь!» — «А я один не сяду. Я выпил? Выпил. Виноват. Зачем нос разбивать? Свидетели есть. Капитан за мной пойдет, по неуставным отношениям. Нового комбата — на фиг, замполита — на фиг, начальника штаба — на фиг». — «Чё, грамотный? Да?»
Дознаватель матюгнулся и вышел.
Через два месяца госпиталей Гаврюшку комиссовали.
Поехал домой.
Не один поехал.
Жениться успел.
На медсестре из госпиталя…
Тамбовский волк.
Интер-национализм
У нас в батальоне в основном служили славяне, татары, башкиры, дагестанцы, городские грузины и армяне, немножко казахов, азербайджанцев, парочка прибалтов да и всё, пожалуй…
К нам старались брать людей мало-мальски образованных, потому что служба была связана и с электроникой, а тут все-таки нужны не только руки, но и мозги.
И, конечно, нам было интересно в первую очередь, чем мы отличаемся друг от друга. «А как у вас делается то-то и то-то?» — «У нас так. А у вас?»
Серьёзных раздоров на национальной почве не было. Может, потому что не было крупных земляцких общин, хотя, конечно, надо отметить, что все кавказцы и азиаты склонны сбиваться в группировки по национальному признаку и, в отличие от русских, своих в обиду не дают…
Бывали и комичные случаи.
Нодару, сержанту и по совместительству «директору» каптерки нашей роты, на двадцатилетие пришла посылка из дома. Из Тбилиси. Среди прочего праздничного и поздравительного — книга А. Дюма «Двадцать лет спустя». Класс! Одна из моих любимых книг, перечитанных неоднократно…
Через несколько дней говорю: «Нодар, братан, дай Дюма в караул почитать». А надо сказать, что кроме Устава и «Красной звезды» в караулке читать нечего. Нодар хитро так посмотрел на меня, но за книгой сходил: «На, дорогой. Читай».
«Ну, — думаю, — что-то тут не то…»
Неужели книжка на грузинском? Да нет… Всё, как обычно. Классическое издание…
В караулке я понял смысл коварной улыбки Нодара.
К этому времени мы отслужили уже почти по полтора года. Буквы еще помнили, но как ими пользоваться — уже смутно. И вот я после полуночного глотка «чайной жизни» уселся за книгу, которую еще со времен школьного детства помнил почти наизусть.
Пробегаю глазами по строчкам и ловлю себя на мысли, что не понимаю смысл. Каждое отдельное слово — понимаю. Словосочетания — тоже вроде бы затруднений не вызывают, но чтобы понять предложение, состоящее из этих «лингвистических единиц», приходится перечитывать его снова и снова. Что ж такое…
Когда одолел страницы полторы, голова моя, изумленная столь непривычным и изощренным насилием, решила положить конец безобразию и заявила о себе болью. Головной саботаж был настолько силен, что я решил временно приостановить свои отношения с произведением господина Дюма.

Когда через сутки возвращал книгу Нодару, он, всё так же хитро глядючи, поинтересовался: «Ну что? Почитал?».
«Ага, — говорю, — почитал».
По интонации Нодар догадался о результате моей борьбы с буквами и утешающе обронил: «Да ладно… Такая же фигня…».
Такая вот интернациональная проблема… Но вернемся ближе к теме.
Набрали как-то (видимо, из-за дефицита «расходного материала») в батальон азиатов: таджиков, киргизов да узбеков…
Через пару дней после прибытия они смотрят вокруг безумно-восхищенными глазами и восторженно изрекают: «Эт-тэ… Какой туты киныпля…» «Ну, — говорим, — конопля. И что?» «Э-э-э! — отвечают, — курыт можно, э!» «Зачем? Курева-то хватает!» «И-и-и, зачем курьва, э, киныпля-а-а-а…» «Да нафига вам конопля, сигарет в чипке завались!», — отвечаем, будучи непосвященными в тайны Востока. «И-й-ых… — выдыхают они разочарованно, что не нашли единомышленников, — рюськи чурка, а…» Это было сказано с таким неподдельным чувством печали, что мы расхохотались и только поэтому за «рюськи чурка» никто из них не наполучал по мордасам.

А конопля, действительно, там была чуть не с человеческий рост. И, как говорили знатоки — забористая…
Замполит однажды на выезде насобирал целый букет. «Чёй-то вы, та-ащ мъёр?», — поинтересовался водила, с которым замполит ехал с полигона. «А вот всех построю и объявлю, что если хоть одна сволочь будет собирать эту траву — посажу!», — гордо изрек замполит, чувствуя приближающееся исполнение долга. Приехали в часть. Понятно, что выходя из кабины вслед за водителем, замполит забыл про свой веник. Пройдя шагов пятнадцать, опомнился, метнулся к машине… Ищи-свищи! Ох, матерился замполит на потеху всему батальону…
Однажды наткнулся он на целый ящик уже насушенной конопли в автопарке. Кто-то к зиме готовился. Обрадовался. «Сжечь!» Вызвал дневальных, отдал приказ. Надзирающим поставил сержанта. Сожгли. Через полчаса пришлось менять дневальных вместе с сержантом: надышались дымка, пробило на хи-хи, идут неровно и хихикают характерным образом… Производственная травма. Ага. Что называется — пострадали при исполнении служебного…
На этом тему конопли и борьбы с ее естественным преступным произрастанием на территории Краснознаменного дальневосточного военного округа закончим. И вернемся к национальному вопросу…
Сидим как-то в караулке. Философствуем. Неожиданно всплыла тема мирного сосуществования союзных республик, и кто без кого прожить сможет. Уж не знаю, чем такая тема была навеяна…
«А что, Россия без Грузии проживет?» — «Проживет». — «А Грузия без России?» — «А хрен ее знает…» — «А прибалты?» — «Ну, эти-то, может быть…» — «А мы без них?» — «А на хрена они нам?» — «Слушай, а Армения — проживет?» — «Вряд ли… А вот мы без них — легко!» — «А Казахстан?» — «Этот — проживет. Целину мы им подняли, чего еще надо?..»
Никому тогда и в голову прийти не могло, что через три года советская империя разлетится, как карточный домик… И что еще через три года я встречу на кухне рабочего общежития старого армянина, который приехал погостить к дочери в Питер. Было ощущение, что старик почти трое суток не выходил из кухни: как ни зайду чайник поставить или кастрюлю — он сидит в углу, курит «Беломор», смотрит на огонь плиты и молчит. Лишь орденскими планками посверкивает.
На третьи сутки разговорились. «Э-э… Слушь, трэтий дэнь сматрю: цэлий сутки есть газ, целий сутки есть свэт, а? Так жит можна, да?» Его зять переехал с семьей в Питер, потому что в Ереване на его зарплату инженера можно было купить шесть буханок хлеба. А здесь он устроился к землякам шофером: товары по торговым точкам развозить.
«Жит можна, да?..»
Где-то теперь наши сослуживцы — дагестанцы, осетины, азербайджанцы, армяне, грузины?.. На чьей стороне были в годы ельцинской смуты? Живы ли?..
Вредные излишества
Наркотики и армия — две вещи несовместные… Да?
Кто это вам сказал такую глупость? Жизнь опровергает эту нелепую сентенцию…
Про конопляные перипетии я уже упоминал.
Перейдем, как водится, к более тяжелой теме…
В теории, конечно. Не дай вам бог практики в этом вопросе…
Теперь другая история. Были у нас на вооружении индивидуальные аптечки на случай войны. Из расчета: одна аптечка на одного бойца. Говорят, были. Сам не видел, врать не буду. И входили в этот медицинский боекомплект шприц-тюбики с «одурином». По одной штуке на одну аптечку. Для обезболивания в случае военной травмы.
А чтобы несознательным элементам было не с руки тянуть свои хищнические щупальца к социалистической военной собственности, собственность эта была изолирована и заключена в сейф. Под замок. Ключ — в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце… Ну, где-то так. В смысле: сейф — в дежурке, ключ — у дежурного офицера на связке, на замке — печать сургучная, у всех желающих — морда скучная.
Впрочем, никто про этих желающих и ни сном, ни духом, как говорится, пока не грянула очередная проверка.
Вскрыли сейф в присутствии высокой комиссии и… «О! Дайте мне парабеллум!» — должен был закричать тот дежурный офицер, на чью долю выпала честь вскрытия сейфа. Парабеллума не было. Криков — тоже. Была тишина. Гробовая. Ибо сейф был пуст. Нет, ну куда делась трехлитровая банка медицинского спирту — никого уже особо-то и не интересовало. На фоне пропажи почти трех сотен шприц-тюбиков…
И откуда?!! Из сейфа! В дежурке! Где постоянно находится либо дежурный офицер, либо сержант его заменяющий! Из-под печати!
Комбат — в шоке. Начальник штаба — в трауре. Замполит — в запое. Батальон — в экстазе. От морального удовлетворения…
Примчались особисты. Построили весь личный состав, кроме караула. Особисты притащили ищейку. Вислоухий щенок на толстых лапах вполуприпрыжку начал свой обход с обнюхом. Фамилию каждого, кого облаивало это несчастное животное, другое не менее несчастное существо (временно вышедший из запоя замполит) заносило в блокнот.
Обнюх закончен. Но животина (которая щенок) рвет поводок в сторону казармы. Особисты, чуть не хватаясь за кобуру, бросаются за псом. Тут на крыльцо выходит комбат, проветрить свое лицо. Щенок тявкает и на него.
«Ты что, с-с-сука, посадить меня хочешь?» — ревёт Григорич, непонятно к кому обращаясь: к щенку неразумному или к замполиту, который замешкался — то ли вносить комбата в список облаянных по подозрению, то ли — нет…
Но щенок тянет внутрь. Думать некогда. «Поисковая» команда грохочет сапогами за псом. На второй этаж. В штаб батальона… Час от часу не легче…

К посту №1… Кстати, я не говорил, что у нас в батальоне не было поста №1? Вернее, тумбочка с футляром для знамени была. Знамени не было. Не знаю, почему. Отстаньте. Сейчас не об этом. А раз не было знамени, то не было и собственно самого поста. Ну не футляр же охранять плексигласовый…
Тем не менее, ищейка тянула к этому самому футляру. С торжествующей мордой на лице начальник штаба запустил руку в нишу между футляром и стеной… И… И… И вытащил противогазную сумку с чем-то шуршащим. Щенок зашелся радостным лаем.
Начальник штаба медленно перевернул сумку вверх дном… И на пол высыпалось засохшее дерьмо. Натуральное. Человечье. Ну, или, может быть, в крайнем случае, солдатское. Кое-кто из бойцов секретной части вспомнил потом, как пару месяцев назад стояла по всему штабу вонь жуткая, происхождения неустановленного. Вот, значит, где был источник… Короче, не получил щенок сахару кусок. А комбат, замполит, начальник штаба, начмед — не получили облегчения.
На следующий день прибыл начхим округа. О его фантастической тупости, соединенной с фанатичным занудством профессионального бюрократа ходили легенды. Кличка у начхима была «почемучка». Из-за его любимой фразы: «Я не спрашиваю: зачем, я говорю: по-че-му-у-у-у-у-у-у-у?!!!». И не дай тебе злой рок оказаться у него на пути. Започемучкает до полусмерти.
Начались повальные обыски каптерок. С потрошением подвернувшихся под руку дембельских дипломатов. С раздиранием дембельских альбомов и с распусканием на клочки разного рода неуставных фотографий. Целью данного «лже-священнодейства» было создание ви-бур-де. То бишь ви-димости бур-ной де-ятельности. Надо же ж отчитаться: досмотрено столько-то, обнаружено столько-то, расстреляно столько-то. Правда, отчитаться могли только по первому пункту. Насчет «досмотрено».
«Вы чо, реально думаете, что те, кто умудрился из-под охраняемого замка столько дури дернуть — будут ее в части хранить?» — безадресно буркнул я, оскорбленный порванным дембельским альбомом.
«Молчи!!! — делая страшные глаза, прошипел замполит. — Только молчи!!!»
Я пожал плечами и сплюнул на клочки фотографий. Нет, восстановить альбом не сложно, благо дело — негативы целы. У этих дебилов мозгов на такие тонкости не хватало никогда… Просто опять возиться, почти вслепую печатая фотки, без красного фонаря, без красного стеклышка на фотоувеличителе… Нудно. Но что поделаешь… Армия, однако.
Не нашли шприц-тюбики. Не нашли… Как, впрочем, и автомат, который пропал во время очередной учебной тревоги во время весенней проверки. Но это, как говорят познеры всех времен и народов, уже совсем другая история…
Совсем другая история
С праздником вас, читатели!
Немедленно наливайте и ставьте на плиту!
Как это — что?
Чайник с водой, что же еще!
Почему? С какой такой пьяной радости?
А потому, что 15 декабря отмечается Международный день чая (англ. International Tea Day). Почему сегодня, если до 15 декабря как до Пекина Камасутрой? А кто праздничку рад… Тот заранее воду кипятит.
И вообще чай в России — больше чем чай. Впрочем, в России многое больше, чем то же самое в других странах.
Что же касается реалий российско-чайных…
Для обороноспособности страны чай играет исключительную роль, в армии чай — это особая страница…
Взять, к примеру, караул, о котором я уже рассказывал. Напомню, что по уставу положено «тащить службу» следующим образом: два часа на посту в качестве часового, затем два часа в караульном помещении в качестве караульного бодрствующей смены, потом два часа в качестве караульного отдыхающей смены (то бишь санкционирован как бы двухчасовой перерыв на сон). А потом на пост. В качестве часового. Со слипшимися спросонья глазами. С диким желанием «послать всю вселенную на…».
И, порой, в нашем славном КДВО это желание побеждало остатки здравого смысла, и боец зашхеривался куда-нибудь, чтобы покимарить часик, а там видно будет…
А видно потом бывало разное. То кореша подшутят, притырив автомат, то дежурный офицер развлечется, стуканув по инстанции о нарушении в карауле, но это всё пустяки пустяшные… Бывало и похуже: дадут по жбану местные урки, которых в Приморье, как икры в горбуше на нересте и уволокут автомат. А бойцу грусть и трибунал впридачу за утрату и прочая…
Если, конечно, боец на свою беду в живых останется.
Одним словом, когда стали мы в караул ходить, быстро поняли, что спать вредно. И на посту, и в караулке. И по уставу, и вовсе насупротив. Благо дело, служба наша проходила еще в начале перестройки, и чай грузинский в продаже был в неограниченных количествах. Потому, уходя в караул, мы брали с собой помимо курева стограммовую пачку чая (именуемую «большим квадратом»).
А дальше проходил ритуал. Чайная церемония. Китайцы плачут от зависти, размазывая слезы по узкоглазым щекам. Чугрилом кипятилась вода в солдатской кружке, затем в кипяток всыпалось содержимое пачки, и средство от сна — готово. На всю ночь ты свободен от тяги к койке (топчану, подушке и прочим провокационным пакостям природы).
Получившийся напиток потягивается под хорошую беседу, кружка идет по кругу. Но главное — не переборщить с дозой… А то возможны забавные случаи.
Пошел как-то с нами в наряд начальником караула сержант по кличке Немо. А надо сказать, что была у него нехорошая (можно даже сказать — пагубная) привычка: он всегда доводил начатое до конца. Что касалось еды. Или питья. Попросит пить, дадут стакан — выпьет стакан, дадут флягу — выпьет флягу. Однажды наивная местная крестьянка дала сержантику молочка. В трехлитровой банке. Нет, банку-то он, понятное дело вернул. Выпив все три литра…
Так вот, пошел он с нами в караул. Пока то да сё, пока меняли посты, сдавали-принимали караул, запарили мы чайку, да и поставили чуток настояться да малость охладиться. Не пить же кипяток, право слово…
А Немо наш ходит, как свежепостиранная портянка, вот-вот башкой стену проломит. Засыпает на ходу страшным засыпом. А ему еще на пост бойца вести. Потому как начальник караула до кучи еще и разводящий. Ладно, пожалели мы его. «Слышь, Немо, иди, хапни, там на тумбочке кружка…»
Ну забыли мы напрочь про его особенность… Ушел Немо бойца менять. И с концами. Полчаса нет… Минут сорок нет…
Решили мы без него за нашу церемонию китайскую садиться. Сели. Шасть по столу… Кружка пустая какая-то немытая есть… Кружка с нифелями есть… А кружки с напитком волшебным, сон изгоняющим — нету!
Что за наваждение… Да ну… Да не может быть… До нас медленно начинает доходить смысл происходящего. Весь трагикомизм ситуации.
Трагедия в том, что другого квадрата у нас уже нет и придется поднимать вторяки (заливать кипятком нифеля). А это уже форменное безобразие, потому как эффект от результатов этой процедуры уже не тот.
А комизм… Мы как представили, что сейчас испытывает бедный Немо… Что ж, как говорится, поделом.

Часа через полтора появляется в караулке тень отца Гамлета, в которой мы с трудом узнаем нашего сержанта. Румяный, как три рубля и стремительный, как вареная улитка, Немо со стонами падает на топчан.
«Собака бешеная! Ты чего ж весь караул засамолетил-то, а?» — участливо спрашиваем жертву недетского аппетита.
«Гады… Хоть бы кто предупредил…» — простонал Немо.
Выяснилось, что он ни разу еще в жизни не чифирил, а потому понятия не имел о технике безопасности: доза больше двух глотков приводит организм в удивление. И вместо ожидаемой бодрости и всплеска хорошего настроения ты имеешь дикую тошноту и мысль: «Всё!!! Чтоб я еще раз!!! Никогда в жизни!!! Ненавижу!!!». Тем не менее, объем глотка уставами не регламентируется, и каждый опытным путем приходит к выводу о собственной, индивидуальной порции чифиря.
Что пережил Немо я не хочу представлять даже на секунду. Но он уже до дембеля при слове «чифирь» вздрагивал и нервно закуривал. И чай не пил даже в солдатской столовой. Где пачка чая уходила для приготовления одноименной светло-желтой жидкости на два батальона…
Надо сказать, что «под чаёк» суточный наряд проходил спокойно, без залетов и без провокационного желания вздремнуть. Сменившись через сутки, после отбоя мы с трудом засыпали: хотя весь организм уже был готов придавить храпуна, но глаза категорически отказывались закрываться.
Не знаю почему, но наши офицеры при виде кружки с нифелями впадали в какое-то непонятное нам благородное негодование. Наверное, если бы они увидели на столе в караулке початую бутылку водки, забитый косяк и кружку со свеженьким чифирём, то, скорее всего, заорали бы: «Опять чифирите, сволочи!!!». И проигнорировав всё остальное, господа офицеры потащили бы выплескивать ни в чем не повинный чай в шамбу.
Предубеждение, однако. Считается, что чифирь — сугубо тюремный напиток, а значит, неуставная гадость, советского солдата недостойная.
Может быть, конечно, чифирь и тюремный напиток… В армии, кстати, очень много от тюрьмы. И в быту, и в психологии, и в жаргоне. Да и сама поддерживаемая офицерами дедовщина — тоже привет от зоны. Но лучшего средства для борьбы со сном, чем чифирь, я не встречал.
Кстати, на гражданке — такая же картина по отношению к крепленому чаю.
Мои друзья, обошедшиеся без армейской школы жизни, дегустировать подозрительный напиток отказались и на закрытом совете решили адаптировать меня к гражданской жизни. Путем заместительной терапии. Вытеснить из моей жизни чай, заменив его на кофе.
Нет, кофе в те годы в Питере готовить умели. Ничего не скажу. Особенно в «Сайгоне», что на Невском.
Но чай это чай, а кофе это кофе. Чайная церемония предполагает беседу, неторопливый разговор друзей, единение вокруг кружки, передаваемой из рук в руки…
А кофе… Кофе можно и в одиночку трескать сколько угодно. Равно как водку или коньяк… Нет, если, конечно, вы без предрассудков…
Короче, чифирь ушел из моей жизни вместе с армейской службой. А кофе…
Кстати, никто не знает, когда Международный день кофе?
Пот и порох
Командировка.
О, это сладкое слово…
Великая вещь!
Даже в гражданской жизни. Не говоря уж о жизни армейской… Возможность вырваться из серого колеса повседневности. Пусть даже и без отдыха в традиционном понимании командировки гражданской, но всё же…
Нас тогда забросили на артсклады. Ничего особенного: в качестве «живой силы». Точнее — рабочей скотинки. Погрузка-разгрузка-штабелирование.
Задача: ящики со снарядами с улицы доставить в боксы.
Техника безопасности на высоте. На армейской высоте. То есть никакая. На КПП всех досматривают с тщательностью самобытных пинкертонов. Дабы никто не пронес на территорию артскладов спички и табак. Ну да. Потому как — не положено, ибо во избежание.
Пару дней промучились с этим «не положено», потом увидели, как неподалеку трудятся среднеазиатские бойцы из «мазуты» (танкисты, значит) и в перерывах курят, сидя на ящиках со снарядами, и поняли, что поскольку воронка (если что) будет одна на всех, то и нам, значит, терзаться никотиновым голоданием не имеет смысла. Стали преодолевать КПП, оставляя курево и спички в «запасках» грузовиков, на которых и приезжали каждое утро на «трудовой фронт».
Конечно, не наглели и курили по очереди, прячась за боксами. Ротный наш — товарищ был лютый, мог башку вместе с сигаретой оторвать. Тогда не то что курить, есть нечем будет. А это уж совсем ни в какие ворота…
На дворе стоял март. Жили мы в палатке. Обогревались печкой-буржуйкой, состряпанной из двухсотлитровой бочки. Топили угольком. До вишневого свечения. Пока уголь горит — в апартаментах тепло. Прогорит — тут же наступают «бодряки» с зубной дробью. Спасибо хоть командование позволило не бриться, не подшивать подворотнички и не чистить сапоги. Ибо первое — на холоде муторно, а второе и третье — абсолютно бессмысленно.
Вообще, вид артскладов вызывал тихую тоску. Покосившиеся штабеля боеприпасов разного назначения, часть из которых откровенно поросла самым натуральным мхом, особого оптимизма не вызывали.
«Сюда бы саперов для начала», — пошутил кто-то из наших. Но саперов не было. Были мы. И «мазута». И весна.
И слякоть. Снег уже начал таять. И в каждом ящике — по снаряду. Отдельно гильза, начиненная пороховым зарядом, и болванка (спасибо — без взрывателя). Восемьдесят кило. Таскали вдвоем. Если днище ящика оказывалось прогнившим, то болванка вываливалась на свободу и с восторгом норовила хлопнуть по ноге «второго номера», идущего сзади. Иногда попадала, о чем свидетельствовала красноречивая тирада из одних и тех же слов, но повторяемых в разном порядке.
Отработав полмесяца, приноровились. Глядя на пыхтящих «мазутчиков», которые вчетвером таскали то, что мы тягали попарно, решили покуражиться: по ящику на спину и вперед. Запалу хватило ненадолго, но все же попробовали. Нет, все-таки восемьдесят кило лучше таскать вдвоем…
Как-то наш ротный прибыл с большого бодуна. Болеющий и вовремя не поправленный. Потому особо озлобленный и к чему докопаться ищущий. И докопался. То мы ему медленно работаем, то не так грузим, то грузовик в глиноземе застрял (глины под колеса мы ему накидали, что ли?!). Короче, процедил наш капитан Топорков сквозь зубы приговор: марш-бросок после трудового дня. Шесть километров. Ну, думаем, мало ли… Солнце еще высоко… Вдруг забудет…
Как же. Ждите. Не успели в палатку прийти: команда строиться… «Бего-о-о-ом… арш!»
Ну ладно, первые метров триста делали вид, что бежим. До поворота. Дальше плюнули. Да провались оно всё… Всех не расстреляют. Взводные попытались покомандовать, но наткнувшись на стену всеобщего непонимания, поняли, что и им, собственно, тоже рвать известное место на красные флаги незачем и угомонились в своем комсомольском порыве.
Но день этот мы запомнили надолго.
Как запомнили и жареное мясо, которое нам однажды приготовил наш повар-азербайджанец на печке-бочке…
А порох? Ну! У родника быть да не напиться? Конечно, распотрошили не один заряд, нанеся непоправимый урон боеготовности родной армии (хотя, на фоне тех кривых штабелей полусгнивших боеприпасов говорить о боеготовности не приходилось вообще). Да, солдаты — те же дети, только игрушки опасные да игры вредные для здоровья. Порох макаронинами очень забавно летает, если один конец заплющить, а второй поджечь… Долго еще в умывальнике родного химбата по ночам пахло порохом в прямом смысле слова…
Кстати, об умывальнике. Когда мы нестройным строем вошли на территорию части, глядя на нас не гоготали только тополя. Понять истоки этого приступа тотальной веселости мы смогли, увидев себя в зеркало в умывальнике. Поскольку нам (как я уже говорил) было разрешено не бриться (в том числе и по причине отсутствия зеркал в походных условиях), то и на отражения свои мы не любовались почти месяц. И почти месяц покрывались равномерным слоем угольной копоти в палатке. С большим, надо сказать, трудом опознали мы себя в тех шахтерских физиономиях, что изумленно глядели на нас из зеркала умывальника…
* * *
Другая командировка подкралась к нам через полгода.
Смысла в ней было еще меньше.
Забросили нас десятерых в новую часть. Строить забор вокруг нее. Да. Лучших, видимо, во всем Краснознаменном Дальневосточном военном округе специалистов по заборовозведению, чем бойцы отдельного батальона засечки и разведки ядерных взрывов, не было.
Всё бы ничего, но — сентябрь. Месяц приказа… Что? Не понятно? Поясняю. В сентябре (кстати, также, как и в марте) выходил приказ министра обороны СССР, означающий грядущую ротацию кадров: духи становились шнурками, шнурки — фазанами, фазаны — дедами, деды — дембелями.
Как такое событие не отметить? Тем более, что в нашей «заборной» команде, в основном, были две последних категории?
О празднике позаботились заранее. Договорились с начскладом, прапорщиком по кличке «Табуреткин», о бартере «работа в обмен на продовольствие». То есть за две восьмисотграммовые фляжки спирта мы два своих выходных потратили на наведение порядка в его складском кавардаке.
И вот — день «икс». Взводному летёхе, который был у нас за старшего, мы накануне выгрызли всю кокарду по поводу предстоящего вечера (и ночи) пятницы. В конце концов, он сломался. Дал добро на самоволку в деревенский клуб. Танцы танцевать. Но потребовал, чтобы мы его взяли с собой. Ага. Конечно. Очень он нам нужен. Продинамили мы его, и с чистой совестью рванули в деревню.
В качестве низкокалорийной закуски взяли с собой поллитровку водопроводной воды. Быстро она, однако, закончилась. Благо, по дороге встретился какой-то мутный ручеек. Закусили из него, попутно вспомнив сказочное «не пей, Иванушка, козленочком станешь!».
К клубу явились заблаговременно. До танцев еще оставалось времени на две драки. Проблем с конфликтами не было. Один из них тут же нарисовался, дыша своим праздником. Слово за слово… Воздух сгущался, народ вокруг нас рассасывался. Местный дебошир, сверкая вполне себе нетрезвым глазом, пёр буром. Тут на него наехал наш Вовчик по кличке «Тренчик»: белобрысый дед (пардон! без трех минут уже дембель!), натерпевшийся в свое «духовское» время от своих дедов и потому беспощадный ко всему, что угрожало его нынешнему положению и куражу.
«Да ты кто такой?!» — угрюмо процедил Тренчик, сплевывая под сапог. «Я?! Химик, кто!» — с гонором пикирующего камикадзе ответствовал дебошир. Бойцы химбата, не сразу прочувствовали мы истинный смысл, вложенный в его гордое «химик!».
«Во… — удивился Тренчик. — И мы!»
И тут же без паузы на логический переход: «Спирт будешь?».
«Буду», — ничуть не удивившись, кивнул угасающий конфликт.
Сделав несколько полновесных глотков и «закусив мануфактурой», бывший дебошир отсалютовал нам погасшей «беломориной» и направился к своему бараку.
Пора на танцы.
Заплатив входную мзду, мы восшествовали в тронный зал сельского Дансхолла. Да-с… Помещение метров двадцать квадратных. Местные барышни, испуганно жмущиеся к стенам, да кассетник, изо всех сил воспроизводящий «Музыка на-а-а-ас связа-а-ала…» — вот, собственно и весь ассортимент. Впрочем, когда выбирать не из чего, то и выбора нет. Большой плюс отсутствия демократии.
Мы честно потоптались сапогами под популярную тогда в деревнях группу «Мираж», отрабатывая «рупь за вход». Когда (прошу пардону за мой французский) дежурный дискжокей в четвертый раз перевернул кассету, цвет химбата в нашем лице уже почти потерял праздничный свет в глазах и, поняв, что ничего более прогрессивного здесь не ждет, направился обратно, в сторону части, вокруг которой громоздился нами возводимый неприступный забор.
Впрочем, отпускать нас в добром здравии никто не собирался. Не по деревенским это понятиям. Не успели мы отойти и двухсот метров, как услышали молчаливый топот. Отряд из двадцати рыл бежал за нами, размахивая кольями. Поскольку численное преимущество было явно не нашей стороне, мы припустили трусцой в сторону такой родной (как показалось в тот момент) части.
Замыкать парадное шествие выпало мне. Когда первый кол прошелестел мимо, мысль «городки, однако» смешной почему-то не показалась. Второй кол тоже прошел стороной. Третьего я не увидел. Я его услышал. Как он дребезжал, отлетая от моей головы. Ноги разъехались по сентябрьскому глинозему, равновесие было безнадежно потеряно, падая, я успел удивиться странной мысли, невесть откуда проникшей в сознание: «Сейчас добивать будут…»
Однако, братья мои, увидев глубокую грусть и печаль, постигшие меня, развернули оглобли.
Против русской солдатской бляхи да на кожаном дедовском ремне еще ни одна армия мира не могла устоять. Чпок! Чпок! «Они же с ремня-я-я-я…» Чпок!
Пока я вставал, воодушевленный мыслью «сейчасятожевамсвоимремнем», сослуживцы уже завершили разгон праздничной колонны демонстрантов. Мне оставалось с удивлением моргнуть вслед драпающим бывшим нападающим.
Заботливое: «Братан, ты как?» — вернуло в реальность. «Нормально, вроде…»
До части добрались без приключений. Правда, надо сказать, что одним из условий нашего полуофициального «самохода» в деревню было обязательство раскидать с утра в субботу машину гравия. Да не вопрос! Пацан сказал — пацан сделал…
Только нас никто не предупредил, что пить утром нельзя. Никакой воды. Ни под каким предлогом. Сцепи зубы и терпи. Иначе…
А мы не знали. И первым делом вместо абсолютно ненужного в то утро завтрака бросились к кранам умывальника. Процессы, происходящие в крови после этого водопоя, описывать?
Ну да. Гравий после этого мы раскидывали до самого обеда. Уныло и безысходно периодически промахиваясь мимо кучи и выпадая из действительности. Взводный, увидев эту «картину маслом», только выругался, махнул рукой и ушел тихо завидовать.
Через день заявился с контролем ротный. Увидев на моем виске следы дискотеки, угрюмо ткнул пальцем: «Откуда?».
«Дык, это… Та-ащ к-тан… В бане на мыле поскользнулся…»
Хорошо, что я уже стал дедушкой Советской армии. Был бы духом — замордовал бы ротный, допытываясь о происхождении бланша. А так, он просто сплюнул и процедил свое недоверие, которое, если перевести на язык нормативной лексики, звучит как «лжешь!».
Некоторые читатели (из не служивших) возмутятся: «Что вы там, в армии, только хулиганство безобразничали?». Да нет. Не только. Просто в юности всегда хочется приключений. Особенно, когда кругом серая и пресная рутина. Особенно, в армии. Потому околоалкогольные приключения имеют непростую структуру.
Ибо, во-первых, надо умудриться достать; во-вторых, умудриться найти укромное место, где употребить; в-третьих, умудриться употребить; в-четвертых, умудриться не «спалиться» во время употребления; в-пятых, умудриться не «спалиться» после употребления. А вы говорите… Это ж сплошная романтика! Когда тебе девятнадцать лет… Да и то — раз в год, на приказ…
Другое дело, когда тебе под сорок, ты — капитан и командир роты, а твоя ежедневная норма — пол литра… Да, тогда уж никакой романтики. Исключительно — к наркологу. Пока белочка в бубен не постучала…
Кстати, о музыке. С тех незапамятных пор сильно не люблю группу «Мираж». Ничего не поделаешь…
* * *
Впрочем, с употреблением неуставных напитков военнослужащими срочной службы руководство части вело беспощадную борьбу. Что, естественно, добавляло куража дедушкам.
Мы еще были в карантине, то есть только-только познавали азы службы Родине, как на вечерней поверке произошла душераздирающая картина….
Предыстория этого кошмара была проста: дедушки Советской Армии решили выпить. Скинулись необходимым количеством полновесных рублей, а поскольку самим бежать было лень, заслали бойца, отслужившего уже свои первые полгода (но мы-то еще были в карантине, нас не припашешь!).
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.