
Бесплатный фрагмент - В. Махотин: спасибо, до свидания!
Издание второе, дополненное
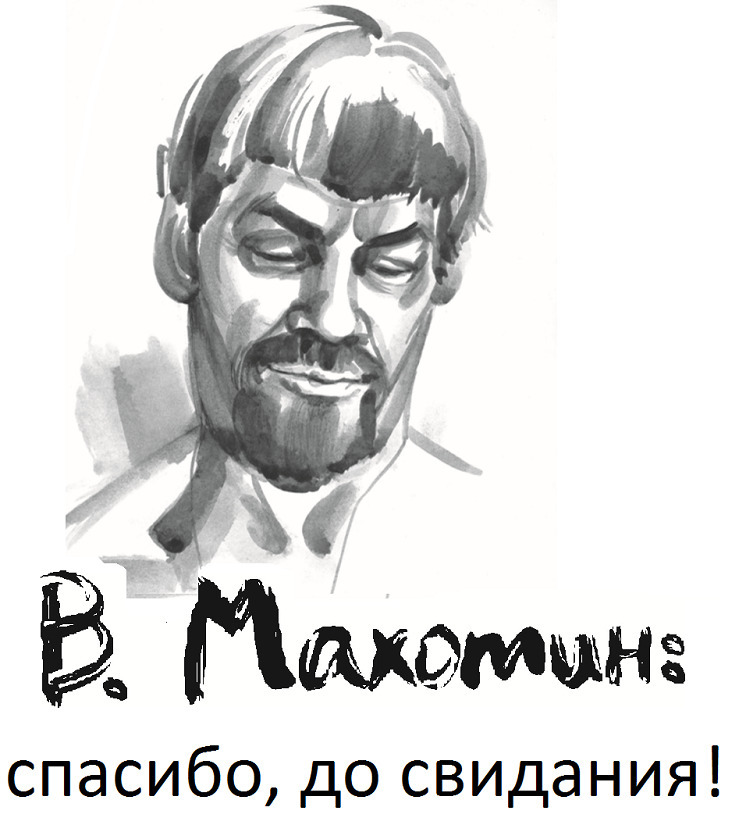
Введение
Уважаемые читатели! Перед вами книга о художнике Махотине. Это второе издание, исправленное и дополненное. В книге — новые авторы и новые рассказы о Викторе.
Книгу эту писали в течение двух с половиной лет сто сорок человек. Это художественный текст, а не законченное литературное произведение. Можно сказать, это ткань самой жизни… Настоящая творческая практика для каждого читателя, что длится и длится при чтении и обсуждении. А поговорить и обсудить есть что, — от екатеринбургских легенд о Махотине до научных трудов искусствоведов и философов.
Три раза книжка откладывалась до лучших времен. Один раз злопыхатель Б. стер макет. Но рукописи не горят. Книга встретилась со своими читателями!
Огромное спасибо всем, кто помог в издании этих замечательных мемуаров. Спасибо всем, кто продолжает помнить и любить Виктора Махотина. Спасибо всем его друзьям.
Составитель Светлана Абакумова
Елена Маркина
От редактора
Книга эта — дань памяти. Хор голосов. В ее создании приняли участие те, кто захотел это сделать. И люди пишущие, владеющие словом, и те, кто, возможно, попытались сформулировать свои мысли на бумаге впервые. Пестрое получилось издание. Но — «важен в поэме стиль, отвечающий теме…».
Круг общения у Махотина был неохватный. В его орбиту втягивались люди самые разные и по образованию, и по социальному статусу, и по мировоззрению и т. д. Мы дали возможность высказаться всем. Идея сделать книгу о Махотине зародилась спонтанно на аукционе в 2004 году.
Редактировать было сложно. Во-первых — эмоционально. Я вновь оказалась в атмосфере 80—90-х. Сопереживала, переживала, проживала вновь прошлое. Свое в том числе. Махотин не отпускал от себя людей. И рукописи — тоже не отпускали. Во-вторых, «причесывать» тексты не всегда поднималась рука. Порой ограничивалась минимальной правкой. Что-то меняла: некоторые материалы поступали в виде дословного переложения диктофонной записи, приходилось речь устную трансформировать в речь письменную. В-третьих, разнообразные версии екатеринбургских топонимов иногда приводили в замешательство. Та же «Метальная лавка» для многих — Башня. С прописной буквы. Как место культовое, сакральное.
О Махотине много былей-небылиц рассказывалось. И мифотворчество продолжается…
…Махотин зашел к нам в издательство вечером. Накануне своего последнего дня. И я — его не узнала. Растерянный какой-то, притихший. Глаза — не улыбаются! Поздоровался — как в воду ледяную кинулся. И — молчит. Куртка — рыжая, рукава короткие. Напуганный чем-то, расстроенный подросток — такое у меня ощущение возникло. Альбом его уже почти готов был, редакторскую работу я завершила. Оставалось отправить пленки в типографию. Первое побуждение мое — нужно приободрить Махотина, успокоить его: что все здорово получается, альбом замечательный. И о работах самих мне было что ему сказать. Они меня поразили тем, насколько не совпадают с образом того Махотина, которого я знала — живущего здесь и сейчас и радующегося этому. В них столько одиночества. Персонажи — разъединены. Они не смотрят друг на друга. И на зрителя редко смотрят. И еще в его картинах много прошлого, в него художник погружен, оно объемно и осязаемо. И очень мало настоящего, оно неуютно и статично.
И — нет будущего. Завершает альбом странная, тревожащая работа «Рыбачок» — что пытается выловить в безвременье и пустоте этот нелепый и грустный человечек?
Работая над альбомом, я открыла для себя другого Махотина. И когда он пришел — на самом деле другой, я растерялась. К тому же была занята, шлифовала с очередным автором очередную рукопись, и конца-края этому процессу видно не было. К тому времени, как я сумела освободиться, Махотин уже ушел. Незаметно исчез. Посмотрев макет альбома на компьютере. Ладно, думаю, потом поговорю с ним.
Не успела…
Работа над книгой о Викторе Махотине — в чем-то попытка частично исправить ситуацию.
Константин Патрушев
«Понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке…»
В августе 2005 года мне позвонила Света Абакумова и сказала: «Мы собираемся выпустить книгу о Махотине, в которой все, кто знал Витю и хочет о нем рассказать, смогут это сделать». И она предложила мне что-нибудь написать. Я спросил: «Сколько у меня времени?» — «Это не срочно, — ответила она, — недели тричетыре». Я обрадовался и согласился.
Несколько раз я вспоминал об этом и думал: а что же я напишу? Подмечать и передавать истории, как Женя Ройзман, я не умею, а писать о том, как я дружил с Витей, о том, как тепло относился к нему, мне казалось скучным и неинтересным для других. Один раз я даже сел и, морща лоб, стал грызть кончик ручки. «Не готов!» — успокоил я себя, промучившись час, и опять окунулся в свой привычный водоворот.
Света позвонила месяца через два — два с половиной. «Костя, ты что-нибудь написал?» — спросила она. В моей голове, как стробоскоп на дискотеке, замелькали варианты ответов. Света пришла мне на помощь: «Костя, ты, пожалуйста, поторопись, потому что мы хотим выпустить книгу до Нового года». — «Да, да, обязательно! — обрадовался я. — Я все сделаю и сразу позвоню тебе!» — «Нет, — в голосе Светы послышались нотки недоверия, — я сама позвоню тебе». Дома у меня на всех стенах висят Витины картины и его фотопортрет. У каждой картины своя история. Я садился за стол, смотрел на них и вспоминал о каждой такой истории. Эти воспоминания были приятными, но казались мне неинтересными ни для кого, кроме меня. Я думал: это все равно что перечитывать письма, которые тебе писали 20 лет назад. За каждым из них стоит кусок твоей жизни и множество эмоций. Но они интересны только тебе самому.
Света звонила еще раза три-четыре. Она напоминала мне о книге и торопила, не скрывая уверенности в том, что от меня ничего не добиться. Я и сам уже готов был отказаться, потому что не знал, как начать, и не знал что, начав, писать дальше. Но думая о Вите, я все время задавал себе вопрос: что в нем было такого, что привлекало людей, которые всегда клубились вокруг него? Это были и те люди, которых он любил и уважал, и те люди, которых не любил. Были те, кого жалел, и те, кого просто терпел. Это были художники и военные, литераторы и плотники, бомжи и бизнесмены, священники и воры. Они все были разные — мужчины и женщины, порядочные и подлые, юные и пожилые, талантливые и бездарные. Всем было комфортно с Махотиным.
Он был самодостаточным и сильным. Не задавал вопросов, не давал советов, ни под кого не подстраивался, никого не судил. Любой человек чувствовал себя рядом с ним свободно, а уходя, все внутренне от него наполнялись. Он был созидатель в широком смысле. Я тоже любил вечерами приезжать к нему в гости домой или на работу. Мы всегда сидели и пили чай, иногда с коньяком, и много беседовали. Острый ум и чувство юмора не только компенсировали Витину косноязычность, но и делали его речь самобытной и яркой. Как-то мы с Женькой Ройзманом забрели к нему в гости, и за чаем завязался разговор о порнографии в живописи.
— В живописи не может быть порнографии, — сказал Витя, — потому что…, потому что… — Он достал полбутылки вина, разлил в три стакана. — Так о чем это я? Порнография… порнография… ах, да, о женщинах… Да, женщина — это альфа и омега, женщина — это святое. Чего хочет женщина, того хочет Бог!
— Вот смотри, Женька, может же человек четко и аргументировано мысль выразить! — сказал я смеясь.
— А потому что граф! — сказал Витя и заразительно расхохотался.
Света Абакумова последний раз позвонила в феврале 2006 года. Она раздраженно сказала: «Костя, все уже готово к набору, все лежит у Юли Крутеевой в журнале „Колумб“. Юля говорит, что будет ждать твой рассказ, но ты же все равно ничего не напишешь, раз с августа ничего не написал. Позвони, пожалуйста, Юле, скажи, что ты не будешь писать». Я помолчал и ответил: «Хорошо, Света. Я в течение недели или что-нибудь напишу и передам Юле, или позвоню и скажу то, о чем ты просишь». Когда я положил трубку, я точно знал, как я начну свой рассказ.
Вообще, я познакомился с Витей в 1989 году. Социализм потихоньку сдавал свои позиции. Накатывалась свобода, было предчувствие чего-то нового. Все, что было нельзя, стало можно. Тогда-то и появилась Станция вольных почт — постоянно действующая выставка художников Свердловска на Ленина, 11. Весь художественный и поэтический андеграунд прошел через нее. С того момента и до самой смерти Вити прошло всего 13 лет, но это была целая эпоха. За это время поменялось все: страна, город, и все люди тоже поменялись. Но в Вите был таинственный стержень. Его ничто не меняло. Та же комнатка на «Ирбитской-стрит», тот же чайник со стаканами для чая. Тот же рабочий хаос в мастерской, та же одежда, прежнее жизнелюбие, остроумие и то же состояние наполненности после общения с ним. Менялись лишь картинки на стенках — видимо, кто-то дарил ему что-то новое, а старое раздаривал он сам.
Никто и никогда не сможет сосчитать, сколько картин написал Витя, потому что они расходились сразу же, иногда даже бывало так, что картина еще не написана, а уже кому-нибудь подарена. И все деньги, которые появлялись у него, он тоже раздавал. Себе он покупал только чай, хлеб и краски. Таким он был всегда, пока был жив: еврей по паспорту, русский по духу, простой и талантливый, лучше всех понимающий жизнь, невысокого роста, с огромным сердцем.
Света больше мне не звонила. Ничего. Все равно книга о Вите Махотине скоро выйдет, а еще чуть позже будет открыт музей — первый частный музей художников Урала. Он будет называться «Музей замечательных художников». А откроет его друг Вити — Женя Ройзман. И будет этот музей носить имя Виктора Федоровича Махотина. Хорошего художника и большого человека.
Евгений Ройзман
…Всю жизнь он ждал, что выйдет его альбом. Когда мы уже его собрали, Витя сам занимался правкой и цветокоррекцией. В четверг вечером он закончил. В пятницу умер. На следующий день после того, как Витю похоронили, рухнул его дом.
Светлой памяти Вити Махотина посвящается этот рассказ.
ПРО ДЕТЕЙ
Когда я был президентом фонда, день заканчивал очень поздно, потому что ездил на Белоярку, заезжал на Изоплит в реабилитационный центр и только после этого, полностью высушенный, почти ночью, ковылял домой.
А Витя Махотин жил прямо по дороге, на улице Ирбитской. Витя называл «Ирбитская-стрит» и добавлял что раньше он жил на «Финских коммунаров-стрит».
У меня руль прямо сам туда поворачивал. Я стукал кулаком в стенку, заходил.
Витя жил небогато, но очень чисто. У него в комнате была куча книжек и картинки. Картинки он мне дарил (а я еще, болван, кочевряжился и не всегда брал).
Мы с ним чаю заварим в эмалированных кружках. Пряники, сахар. И сидим, о жизни разговариваем.
А тут как-то Витя достал альбом с фотографиями.
Я смотрел, смотрел:
— Витя, а сколько у тебя детей?
Не задумываясь: — Восемнадцать.
Я взвыл:
— Витя, ну хорош врать! Если б ты сказал «пять», ты б меня уже убил наповал. Ну скинь немножко!
— Хорошо. Шестнадцать. Но больше не скину, даже не проси! — Вскочил. Борода всклокочена. — И не вздумай торговаться, я против истины не пойду!
Я говорю:
— Ну, хорошо, перечисли.
— Лешка, Петька, Ленка, Илюху ты знаешь, Анька, Вовка, Прохора ты знаешь, Серега, Клавка…
Бормотал, бормотал загибал пальцы — сбился.
— Слушай, — говорит, — я ведь тебе наврал. Похоже, все-таки восемнадцать.
Я тем временем фотки смотрю:
— Витя, ты сколько раз был женат?
— Восемь. Или девять. Вот здесь точно не скажу — соврать боюсь.
Показываю фотку:
— А это кто?
— О! Это Светка! Как я ее любил!
— Это что, мать Прохора?
— Нет, мать Прохора — другая Светка. Я ее еще больше любил! Это Ленкина мать.
— Так это она к тебе с дочкой тогда приходила?
— Нет. С дочкой Юля приходила.
— Это с которой у тебя еще в детдоме любовь была?
— Нет. В детдоме у меня была любовь с Танькой… Как я ее любил!
Я растрогался:
— Витя, — спрашиваю, — это была первая любовь?
— Что ты! — отвечает. — Первая любовь вот — Аленка!
Выхватывает фотку: стоит испуганная девочка с мишкой в руке, мишка свисает до полу.
Начинает мечтательно:
— Ей было семь, а мне восемь…
— Так ты же говорил, что она была взрослая!
— Это не она была взрослая! А наша воспитательница Элла Герасимовна! Но это было уже позднее… — А это кто, твой друг?
— Какой друг! Это мой сын!
— Так это который от Розки?
— Ну, ты даешь! От Розки — Илюха! А это Ваня от Лили.
— Вот это, что ли, Лилина фотка?
— Это не Лиля! Это Генриетта! Я ее до сих пор люблю!
— А это чья фотка? Бамс меня по руке!
— А вот этого не трожь! Могут у меня, у взрослого человека, быть маленькие тайны?…
Конечно, Витя прикалывался. Потому что имена каждый раз менялись. Но получалось у него очень складно и красиво.
Когда Витя умер, его отпевали в Михайловке. Было огромное количество безутешных женщин. Я такого не видел нигде.
И совсем по-другому плакала красивая рыжая девчонка, похожая на Витю. На самом деле у Вити трое детей: Илья, Прохор и Клава…
Миша Брусиловский
Мастер из «пизанской» башенки
Мне восьмой десяток. Этого достаточно, чтобы быть благодарным Господу за его доброту. Но время приносит и много горьких событий. Самые горькие из них — безвременно ушедшие друзья.
Одним из таких близких для меня людей был Витя Махотин. Не в том дело, что он был замечательным художником, самобытным, ярким, а в том, что он соединял судьбы и движения многих знакомых мне из этого мира и из других цивилизаций. Его трон стоял в центре города Екатеринбурга, в нашей «пизанской» башенке, мимо которой нельзя было пройти, не получив от Вити что-нибудь на память.
Он ничего из себя не изображал, а всегда был очень естественным. Когда я шел к себе в мастерскую, я всегда заходил в эту пизанскую свердловскую башню. И, когда заставал там Витю, ощущал, что пришел домой. Там была очень своеобразная атмосфера. Витя был необычайно радушен. Он оставил нам то «нечто», что трудно сформулировать словами. Это «нечто» теплое, цветное, от него исходит свечение. И когда к этому возвращается память, это превращается в нашего Витю Махотина.
Александр Алексеев-Свинкин
Человек богемного характера
Не помню, как мы познакомились, — может, и не знакомились даже вообще. Вижу, человек со мной здоровается. Встречались с ним мало, всего несколько раз — у Воловича на дне рождения в мастерской. И один раз пили пиво в комнатке его в Музее фотографии.
Я вообще не знал, что он художник, что он рисует. Думал, что он организатор выставок, музейный работник. Человек богемного характера. Полгода назад я увидел книгу, альбом «Виктор Махотин», и был удивлен. Некоторые картинки подкупают. Способности были, и энергетические задатки были. Собственный стиль.
Виталий Волович
История валторны
Мир Вити Махотина привлекал атмосферой свободной художнической жизни, яркими чертами артистической богемы. Общение, споры, дружеские застолья были не менее важны и существенны, чем сама работа.
В какой-то степени мы были разделены возрастом, средой, образом жизни. Но все границы стирались его открытостью и доброжелательностью. Он подкупал необычностью характера, своеобразием личности. Он был неправдоподобно добр. Ему доставляло особое удовольствие делать подарки. И он невероятно радовался, когда это удавалось.
Однажды у него в башне (не в музее, а наверху) я слегка задержал взгляд на висевшей на стене валторне. И валторна тотчас же оказалась у меня в мастерской.
И так случалось всегда. И со всеми. А внизу, в башне, всегда находилась рюмка водки, ждали живой разговор, редкая книга, необычная вещь. И люди туда заходили самые разные и самые неожиданные. И Витя Махотин, одухотворяющий пространство этой башни, был для них символом общности, братства, их принадлежности к этому особому и притягательному миру.
Витя был человеком знаковым. Из той редкой и почти исчезнувшей породы чудаков и оригиналов, которые украшают город, вырывают его из унылости и одинаковости. Придает особое своеобразие его художественной жизни…
Глава 1. Модернисты — молодцы!
Александр Верников
Люби так, чтоб птички дохли!
— Как вы познакомились с Витей?
— Я даже не помню, при каких обстоятельствах это произошло. И вообще, мы скорее издали знали друг о друге. Я не бывал на тусовках очень долгое время; на Ленина, 11 появлялся эпизодически. А впервые я пришел к нему в 1991 году на день рождения.
Помню, я тогда решил поголодать. Всю жизнь ел, а тут дней пять голодал — и нормально себя чувствовал. Говорятсоветуют: нужно плавно выходить. А я пришел к Махотину и там наелся всего, и ничего плохого не было. Мне потом говорили: «Это потому, что у Махотина — он такая личность, что сплошное благо!»
А еще я вообще не пил в то время и у него тоже не пил. Но как-то было весело и как-то богемно. Мне не очень нравились такого рода встречи пока просто не выпьешь как следует, а в этой компании я не выпивал. И потому часто там не оказывался.
А потом, когда мы встретились с Ириной Трубецкой, моей настоящей женой, Махотин оказался ее давним другом. И автоматически приблизился, через нее. Виктор был у нас на свадьбе. Свадьба была довольно странная — в издательстве, где Ирина работала. Он пришел, подарил картину художника по фамилии Кодатко. Я не знаю, где он ее взял. Приволок.
На картине мужчина изображен, у него женщина сидела на коленях, странным образом похожая некоторыми анатомическими частями на мою жену, соотношением определенных моментов. Но мужик совершенно не был похож на меня, он был похож на одного московского писателя — Володю Шарова. Она сидела на коленях у него — голая — и закрывала ему причинное место, соответственно, своим сиденьем. Он сидел очень прямо, ноги в таз опустив, и какой-то кубик там был для бросания при игре в кости, и дохлая птичка валялась. Махотин подписал эту картину: «Люби так, чтоб птички дохли!» — и огромный букет алых, скорее даже бордовых, роз подарил.
Встречались и когда я захаживал на Ленина, 11. В поисках Тягунова, например. Там была специальная табличка, изготовленная Махотиным: «Тягунов не заходил!» Он ее мне показывал.
— Какие впечатления от встреч были самыми яркими?
— …Он, когда меня видел, — всегда такую радость испытывал! Я все время несколько терялся от того, что человек, видя меня второй раз в жизни, ну может в третий, так радуется.
Но потом я понял, что он ко всем так относится.
И все люди, что говорили о знакомстве с ним, — они все ощущали примерно это же. Я специального опроса не проводил, но это было видно. Он так радовался, как будто он тебя ждал давно, хотя умом понимаешь, что ему никакого дела не было до тебя: он стоял себе или проходил где-то мимо — и вдруг начинал такую активность проявлять, шебутиться. Если в музей Свердлова я заходил, он сразу начинал чай — 10-го созыва, не иначе, — ставить. Быстро доставал какие-то конфеты, варенье. Не просто вниманием своим удостоит, поговорит, а вот… Прямо не мог без этого. Он не мог, если не даст тебе в ручку что-то материальное. Обязательно находил что подарить. Я помню, на своем дне рождения он пытался мне всучить тетради с кабалистическими записями. Я их, кажется, сначала принял, а потом вроде бы и оставил там. Поскольку народу много было, никто не заметил.
У него был дар дарить. Да. Он смотрел на тебя, и видно было, что у него начинало быстро что-то щелкать, он в памяти своей начинал искать: что тебе, — как он тебя видит — подходит? И что из того что у него имеется, он может подарить? Надо что-то где-то быстро достать. (Он виллу бы тебе подарил или яхту, но их не было у него.) И он говорил какие-то слова при этом — тебе вот это. И, надо сказать, часто это здорово у него получалось.
Уже когда он обосновался на Плотинке, в этой кузнице, я пару-тройку раз к нему захаживал, проходя мимо. И как-то мы с Ириной и с детьми шли на выставку, была тогда выставка экзотических насекомых рядом. И зашли к Махотину. Он стоит у Башни: «О, Ирка, привет!» Я уже не помню, как он меня называл — Саня или Кельт? И тут же начинает рыться-рыться и достает амулет — такая вещь шаманская, из бронзы сделанная. Пермский звериный стиль. Видно было, что это настоящий амулет, и видно что не вчера сделанный… Он такой увесистый, приятно было получить его от Махотина.
А потом пришел к нам в гости художник Валера Дьяченко и сказал, что сегодня день — особенный, такой бывает раз в тысячелетие. 9-е число 9-го месяца 1999 года — пять девяток. Мы говорим: да вот, таких жутких тварей видели. И Махотина — он нам подарил такую штуку.
Я с этим амулетом долго не расставался, но в итоге перестал его носить.
Внимательно рассматривал, там такая прыгающая то ли рысь была, то ли лось — как посмотреть. Я потом стал разглядывать не фигуры, а пустоты, вырезал трафарет. Складывал пустоты, и у меня получалась фигура шамана камлающего. Можно было увидеть женщину. Потом давал людям — как тест Роршаха. Известный тест — пятен или свободных ассоциаций, на что мол это вам кажется похоже.
Можно смотреть на свет, можно — на тень (я посмотрел как на тень). Такое заделье было. Я б все равно это где-нибудь увидел. Странный такой подарок. Но от Махотина такое втройне приятно было получить.
…Как-то я привел к нему одну немку.
Пожилую вдову одного поэта немецкого, которую я привозил в наш город. Она что-то накупила, а Махотин пытался ей еще и камушки всучить. Немка эта сказала, что Махотин на Ленина похож. У нас, отвечаю, много людей в России на Ленина похожих. Но он был похож очень — и ростом, и энергетикой. Только не творил таких вещей в таком масштабе.
— Что вы думаете о Викторе Махотине как о художнике?
— Сегодня, когда я на пони смотрел у Театра кукол, я подумал: как хорошо быть художником наверное, если ты им стал. Просто лошадки с султанами на головах — и не надо ничего выдумывать. Вот они стоят — и их можно запечатлеть.
Ведь в чем разница между картиной и фотографией? В отношении, которое художник неизбежно вносит. Даже если фотографически копирует — он отношение свое вносит. Вопрос в том, насколько он трансформирует мир.
Витя трансформировал мягко. Не так, как Кандинский, допустим, или там Сальвадор Дали. Я терпеть не могу Дали, считаю, что он — отстой. Насколько Магрит — прекрасный художник, настолько Дали — полный отстой. Сплошная выдумка, выпендреж! Вот Кандинский — из таких — удивительный художник.
Дело в том, что я художественную школу окончил, сам рисовал неплохо. Я мог бы стать художником, но я не знаю, чем бы это закончилось. Я могу сейчас нарисовать дерево, человека.
Дальше — нет, конечно.
Витя потрясающе передает свое отношение — мало кто любовь умел передать так, как он. Я здесь многих художников знаю. И мне интересны всего несколько человек. Давно-давно, в 80-е годы, нравились отдельные работы Языкова (потом, когда я в большом количестве их увидел, — это уже было не то).
Несколько ранних работ СЭВа, просто ошеломляющих. «Взгляд на палача»… эта его работа. В кинофильме «Возрождение» я увидел такой взгляд у нашего актера Б. Плотникова. СЭВ — Сергей Видунов — бывал у меня в гостях, приходил ко мне в последние годы. Где он сейчас, что с ним — не знаю. (Художник Сергей Видунов умер зимой 2004 г., замерз на улице. — С. А.)
У СЭВа мука была достоевская, и это острие — неприятие мира страшное, несогласие очень сильное, — в этом его сила была. И желание, чтоб его кормили, носились с ним, и в то же время — нежелание работать на это, создавать имидж, как другие художники делали. В общем, он по сравнению с Махотиным — как небо и земля. Много в нем было — и гордыня дикая… Сложный СЭВ был человек.
Мне не нравятся ни Брусиловский, ни Волович, — вообще не нравятся. Первая выставка Брусиловского — в 1981 году, ее КГБ разрешил, — тогда это было что-то. Ну а потом поздние — нет, никак. Это настолько неживое все. Мастерство да, но… неживое.
А Махотин — он, казалось, не старался вообще, в нем не было этой печати величия — ни в нем самом, ни в его картинах, но там был гений.
Он был гением без величия. И в нем была эта совершенно живая жизнь.
Помню его большую выставку, которую ему Ройзман устроил. В Музее молодежи. Махотин так всех обнимал, радовался. Это одновременно было и душевно, и как-то по-домашнему.
Он мог быть художником! У него удивительные композиции — насколько я это вижу. Что портрет, что дерево, что пейзаж — они все живут! Он, казалось, не работает над цветом, но в его картинах все это есть! Он словно показывает: я могу, но зачем? Есть ведь еще что-то, — этот заряд любви и видения. У него на картинах все люди — великие. Каждый, кого он изображал, — уникален, и каждый — велик! И в то же время — они все такие зверушки. Все люди — зверушки. Все они — такие живые, и он всех так любит! И вообще я не знаю ни одного человека, который бы про Махотина говорил плохо.
Он мне очень нравится как художник. Но в то же время когда я смотрю, например, Кандинского, я вижу, что там что-то такое нечеловеческое есть, что-то сквозит такое вот. Или того же Константина Васильева, которого я очень люблю, хотя его многие ругают и считают кичем. Это совсем не Глазунов, хотя их, бывает, сравнивают. Это другое. У Васильева — мощь, трансфизический план…
У Махотина нет этого. Его никогда не тащит в космическую сию тему. Он чуть-чуть намекает на это — и все. То есть этого величия нечеловеческого, неземного, он либо не может показать, либо… старается избегать.
У него какая-то счастливая грань есть — как у Пушкина что ли? Близнец, в принципе, — знак гениальности и… поверхностности… Но это та еще поверхностность. Есть люди просто в дугу поверхностные. А есть поверхностность второго или третьего порядка — уже с преодолением глубины. И человеку такому низачем эта глубина, и эти бездны ни к чему. И Махотин один из тех был, кто мог представить это в снятом виде. Я много его работ увидел, и они мне все нравятся. (Хотя нет, одна работа на самом деле не нравится — мрачная такая. Она называется «Молодость»… Там женщина изображена с огромным задом и худой мужик. Ну — это из ранних его картин.)
— У вас есть Витины работы?
— Да, несколько. На одной — лошадка стоит, большая, низкорослая. С трубой. И труба маленькая лежит — горн пионерский.
Потом — ротонда, девушка купающаяся. И деревья — такие как он рисует их, — с толстыми стволами, и кот сидит.
Во всех его работах — магия невероятная, очень теплая. И в триптихе, и там где эти колдуньи деревенские… Он очень хорошо их знал, но никогда не акцентировал это. Раз — и сделал. И необязательно она летает над поселком! Может и не летать. …И там даже, где семья сидит с мальчиком, в синем триптихе, это все присутствует, всюду это есть.
Его работы словно бы выплывают откуда-то, они — как посмертные картинки: если человек находится в состоянии клинической смерти или близко к этому, то память вдруг освобождается, химические замки в мозгу снимаются, и возникают удивительные образы. И эти картины-видения остроту имеют очень сильную, бьют прямо в чувство. Ведь в ситуации ухода сознание-анализатор отключается, человек только видит, и те чувства, которые тебя связывали, которые он сдерживал, — они уносят, поглощают его целиком. И у Махотина есть такие вот вещи — как будто видишь их перед смертью. Они не очень яркие, в них нет сильного акцента.
Например, «Операция» — это же моментальный снимок! И все — с такой любовью! Все — абсолютно.
«Кот и лиса» — ой, это что-то! Или два кота идут, обнявшись. Просто чудо!
«Магический» художник Михаил Сажаев — это не то. При всем том что он очень красив — на первый взгляд, — и у него есть вся эта замануха — теплота, каравайность и рождественскость. У Махотина как-то все проще, человечнее. Как-то прямее, честнее. Я не знаю, как он работал. Наверное, быстро? Мне кажется, он находил часы для работы, но не то чтобы выделял себе время. Он мог сосредоточиться, сказать: я сейчас работаю, не мешайте, уходите. Но никто не уходил. И это самое главное.
И я помню отпевание в церкви…
И что мало кто скорбел на самом деле…
— Мне показалось, что все плакали. На видеопленке — все плачут.
— Плакали, — да, может быть, но чтобы кто-то скорбел и убивался — нет. Что-то в этом было светлое. Все равно ж человек покидает эту жизнь — так или иначе.
— Он же не успел все сделать.
— А что значит — все? У человеческого ума есть свойство — представлять реальность в модусе: Бы, Было бы. Эта способность дурачит почти всех людей. Есть только так как есть. И я не видел Махотина в последние дни, даже не помню, за какое время до его ухода мы виделись.
Мне рассказали, как Махотин умер: еще накануне заходил в издательство, узнал что все нормально, что альбом будет, и немаленький! Вернулся домой, встал утром — и… Инфаркт, инсульт — что это? Такая смерть, мне кажется, — одна из лучших. Раз — и все.
Витя был общественный человек. Я с удивлением узнал, что он когдато сидел. Что за легенда, я не знаю. В нем абсолютно ничего «зэковского» не было, никаких этих прихватов. Удивительно, что его это не сломало, а, наоборот, только закалило. И то, что он к людям так относился.
Я не знаю, мог ли он сосуществовать с кем-то долго и были ли у него предпочтения. Наверное, были… Ирина, жена, говорила мне, что у него отеческий был подход. К женщинам, к детям, к людям вообще. Быстро дать, накормить как-то, сделать что-то приятное — все сразу и быстро.
Люди пытаются избавиться от эго, стать хорошими, добрыми, щедрыми — и у них плохо получается! А у Махотина это получалось. При всем том, он никогда ни к никакой праведности не стремился и к святости тоже — в расхожем толковании этого слова. А вот у китайцев в понятие «святой» вкладывается иной смысл. Святой — значит естественный. Естественные люди — это такая редкость! По разным причинам человеку очень трудно оставаться в обществе естественным, в том числе и при межличностных контактах.
Мы с ним на самом деле очень мало общались, но всегда казалось, что он меня очень хорошо знал, и я его тоже очень хорошо знаю.
— Он прозу вашу раздавал. Говорил: почитай, очень интересно…
— Да! И это тоже очень удивительно было! Он, наверное, не только мои книжки раздавал… Меня поразило, что он читал мою «Калевалу».
— У него была огромная библиотека, он прочитал много книг, в том числе китайских…
— …Мне нравилась естественность его работ и то, что в них всегда имеется какой-нибудь поворотик. Например, «Кулачный бой», где беременная женщина, (возможно — монахиня) из окна наблюдает, как бьются на поединке кентавры!
Или «Мужики с котами» — какой-то драматизм в этом. Ну что они там с котами делают? Мужики с котами! Картина — супер! А само название! Очень мало похожи эти ребята на мужиков. Особенно тот, слева, — молодой человек в профиль с интеллигентным лицом. «Мужики» — это несет нечто другое, другой смысл.
Или две беременные женщины у окна, старая работа («Сумерки». — С. А.).
Музыка есть в этом во всем. Или серия «Сиреневый туман». Там, где зэк в поезде сидит. Снег идет. И стоят его жена и ребенок за окном. Мне кажется, он уезжает… Ох, какая музыка там звучит!
Это значит, что у него сердце открытое было. Все, кто хоть чуть-чуть отрывался, знают: есть определенные центры в тонком теле человека. Сердце — это не просто стучит там. Это другое. Они, центры, связаны.
Когда они открываются, человек воспринимает жизнь как перед смертью, тогда он все любит. То, что есть, — он все любит. Когда центры закрыты — можно действовать. То есть центры эти должны быть закрытыми, чтобы человек действовал.
У Виктора центры всегда были открыты. Вернее, — приоткрыты (если они полностью открыты, то человек вообще ничего не может делать — он идиот, как Идиот Достоевского (его состояние можно описывать в четких медицинских терминах). И потому картинки Махотина все наполнены пронзающим души светом — особым. Когда так воспринимаешь мир, ощущаешь огромную ценность момента. Он всякий раз такой — и больше никакой! И от этого тебя эйфория охватывает, пьяным становишься (вот это состояние в живописи Махотина отчетливо прослеживается, у него это было).
Когда со мной это случается, я не могу действовать, я плачу в этот момент, я теряю силы. А он мог нормально делать что-то и это все время в себе нести.
— Один искусствовед мне сказал, что работы Виктора ему не нравятся — ничего он в них не находит. Художник, мол, Махотин несильный… А я ему предлагаю: а вы напишите об этом.
— Да, конечно. Пусть будут разные памяти. Замечательные люди становятся заметными, их нельзя не заметить — именно замечательных людей. Такая судьба, как у Вити, — она светлая просто.
— А как ее можно охарактеризовать? Что у него за судьба? Ну жил человек и жил.
— Он кроме этого еще рисовал. Он — художник еще. Вообще, художник — что это? Я понимаю — писать о мире, ты в слове трансформируешь то, что дано чувственно напрямую. Ну а рисовать-то — что это такое? Что-то есть, ты видишь это — и создаешь явно копию, упрощенную.
— Все же не так!
— Все не так, да! Тем не менее ты самовыражаешься: та любовь и та ярость, которые в тебе в этот момент есть, они становятся частью выражаемого. Если смотреть широко и не делить — жизнь или искусство, то искусство — это часть сущего.
Все эти артефакты — это такие же предметы, вещи, как все остальное…
— Они лучше.
— Иногда лучше, иногда хуже. То, что делает художник, — это агломерация, обогащение. Он пропускает увиденное через себя. Творец — это обогатительная фабрика, если уметь воспринимать…
— Художник не копирует мир — он свой мир создает.
— Естественно, это так. Он передает свое отношение. Я говорю о том, что он все равно не может творить из ничего. Он перерабатывает, перевоссоздает то, что уже существует…
Но он делает это не только частью своего внутреннего мира, в этом могут поучаствовать другие. Он творит не так, как господь Бог. Хотя, конечно, художник может и забываться, и это тоже его божественная функция. Главное — тот посыл, который каждый художник закладывает в свои работы. Либо: Я так вижу, и больше никто не видит, поня-я-л?!» — это одно.
Другое дело — то что мы все видим это, но не можем выразить. А вот он, Витя, это передал, да! И сразу какая-то сердечная связь устанавливается, что-то родное чувствуется. Не то чтобы он нам весть принес. Мы и сами это всегда, в общем-то, знали. У нас не получалось, таланта не было, не видели так — разные могут быть причины. А тут — раз! — и как здорово что это есть и в таком виде. Он чуть-чуть завершил.
Да, художники кого-то учат видеть. Кого-то, наоборот, отвращают от внешнего мира (бежать в галереи и там смотреть!). Некоторые ходят в кино, чтобы видеть, просто видеть. Функцию зрения включать на полную катушку. Если человек не может видеть окружающий мир в повседневности — надо ходить в кино, так многие люди устроены. А художник не может не писать.
Я был тронут, что Виктор принес к нам на свадьбу картину и этот огромный букет роз. Я это сначала воспринял как себе подарок, а потом понял: нас же двое! Она его старая знакомая — моя жена.
Витя вызывал чувство, что он к тебе лично очень хорошо относится, что он тебя любит, добра тебе желает. Он, Витя, видит лучшие твои стороны, он хочет тебе напомнить, что он видит в тебе то, что ты сам ценишь очень, чем тайно гордишься… Например, Кальпиди видит человека как культурную единицу: нужен /не нужен. При этом Кальпиди, конечно, двигатель культуры, он очень много делает.
Витя тоже двигал культуру, но — не так. Он делал это как бы между делом. И никакой славы Махотину за это не было. Никаких труб и воспеваний. Не говорил он: это мой проект! это я сделал! Все получалось, казалось бы, само собой. Он не мог без этого — это было частью его жизни. Человек, у которого открыто сердце, не знает страха… Витя не боялся жизни совсем; какие-то страхи были, — у кого их нету, — но в общем и целом не боялся.
— Витя ушел, Сергей Нохрин ушел, Роман Тягунов, Олег Еловой — они как-то все разом ушли, когорта славных людей.
— Ушли, а что плакать. Дело в том, что у меня ни к одному из покойников нет такого отношения. Если человек уходит, то это все! Если это произошло, то уже произошло, я могу этого человека продолжать любить. Но жалеть что его здесь нет рядом со мной, — это для меня невозможно.
— А насчет себя можете то же самое сказать?
— Насчет себя — тем более. Я уже много раз умер, для меня поэтому не нужно это акцентировать.
Беседовала С. А.
Андрей Вох
Спешите делать добро!
— Мы готовим книгу о Вите. Мог бы ты рассказать о нем что-нибудь?
— …На сороковой день мы поминали Витю Разгуляя, — Витю Гуляева. Все шумели-галдели, вспоминая, перебивая друг друга. Витя Махотин был на редкость молчалив, периодически вместе со всеми выпивал, а потом вдруг соскочил и закричал: «Я вам говорю! Спешите делать добро! Спешите делать добро!» И после этого опять почти не разговаривал. Я думаю, что под этим лозунгом он и жил, спеша делать добро.
— Вы были друзьями?
— У Вити с каждым годом друзей все больше и больше будет. (Смеется.) Точно. Он меня очень однажды поддержал. Я был на грани нервного срыва. Если б не Витя, думаю, могло бы быть хуже. Тогда он занимал все мое время, мы с ним каждый день виделись, чтобы мне не оставаться один на один с собой. Идешь с ним по улице — с Витей очень часто можно было так вот гулять без определенной цели, — и оказываешься свидетелем очередного доброго дела. Выходим как-то из мастерской одного художника, где мы были в гостях, Витя говорит: «Стоп, вернемся! Мне нужно взять кое-что». Что-то кладет в сумку, и мы идем дальше, беседуем, уже полчаса прошло. Вдруг Витя останавливается и начинает свистеть. И откуда-то из-за гаражей выбегает дворняжка, причем она так виляет хвостом, что хвост, кажется, вот-вот открутится. Витя, выходит, знал, что по пути будет эта собачка, и вернулся за суповыми косточками.
Судя по радости дворняжки, она регулярно подкармливалась им.
Он мог по пути сказать: «Ой, подожди, надо тут одной старушке денежек подкинуть». И мы заходили, и оказывалось, что надо тут 200 рубчиков бабке одной дать просто на жизнь. А эта бабка ему никто. Просто когда-то он с ней познакомился, узнал, что она бедствует и надо ее поддержать. Это так было — добро мимоходом.
— Где ты познакомился с Витей?
— Я познакомился с Махотиным при туманных обстоятельствах — будучи в гостях у Вити Сергеева. Произошло это спонтанно, и была только одна бутылка водки. А потом мы с Витей ушли вместе. Но слышал я о нем еще года за полтора до нашей встречи, причем самые противоречивые отзывы. Думаю, это был 1985 год. Еще больше мы сблизились на Ленина, 11. Я близко жил, мог прийти в двенадцать, в час ночи, до утра с ним общаться. Обсуждать какие-то жизненные ситуации. И надо сказать, у меня мастерская там была, крошечная такая. Об этом мало кто знал. Прямо у входа — дверь налево. Я в ней «красил» немножечко. В то время в России формировался аудиобизнес, и я этим там тоже занимался. Тогда свобода была бескассовая. Часть прибыли отдавал наверх, на расширение всего мероприятия, такая у нас была договоренность с Львом Хабаровым. У меня — точка приема была, точка сдачи заказов — точка сбыта. Музыка разная, — рок в основном.
— И в рок-клуб ты ходил?
— Я был знаменит тем, что туда не ходил. Единственный рокер, который его не посещал! Только этим и был знаменит! (Смеется.) Как написал журнал «Рок-мюзик», кажется, не помню название точно, это был один из первых рокжурналов в стране, я — «экс-оппозиция свердловского рока».
— Витя много для тебя значил?
— Вот в книге «Маргиналы» написали о Вите, но ни одной его фотографии не поместили. Я вообще считаю, что если в книге о Екатеринбурге не написано о нем, то эта книга не о Екатеринбурге!
Мне достаточно сложно говорить о Вите, потому что все наши разговоры носили глубоко личностный или религиозный характер и связаны были с какими-то перипетиями нашими жизненными. Именно поэтому я эти разговоры не могу выносить на публику.
Мы могли говорить о суфизме, о новых религиозных движениях, о разнице между христианством и мусульманством. Как правило, темы разговоров были связаны с личными воззрениями и переживаниями, поэтому достаточно сложно эту тему выставлять на всеобщее обозрение. Сам я считаю, что вся его жизнь — это образец именно христианской жизни, христианского понимания служения людям. И во многом, я думаю, его жизнь является более религиозной внутренне, чем жизнь некоторых ортодоксов, внешне глубоко верующих людей. Я читал у одной прорицательницы, что на землю явится грешный Христос, в одном из своих проявлений. Мне иногда кажется, что грешный Христос должен жить именно Витиной жизнью.
То есть — ты грешник, и одновременно вся твоя жизнь является выполнением христианского долга. И надо сказать, что понятие развратник к Вите неприменимо, развратником он никогда не был. Он был глубоко порядочным, потому что все девушки у него были по порядку.
…У меня был сложный период в жизни, связанный с девушкой. И он мне тогда сказал: «Ты знаешь, я всю жизнь пытаюсь их понять, и у меня были девушки, я был в молодости довольно симпатичным, и я их так и не понял!» Я думаю, что он очень хотел понять. Ему, мне кажется, очень не хватало какой-то детской идеализированной матери, идеального человека женского пола. В глубине души он искал его. Но… сказок не бывает!
— О Вите много легенд ходит…
— Я могу рассказать несколько баек — вдруг о них никто не вспомнит. Одна отом, как мужик приехал с северов и в
самолете очень нажрался — в застой это было. Он вышел из самолета, допер до такси глубокой ночью и, засыпая, сказал «К Махотину!» А таксист ответил: «А, знаю!» И отвез его прямо на Ирбитскую.
Или еще вот. Витя возил одну из первых приехавших сюда французских групп на экскурсии — от музея. То ли в баню, то ли еще куда — на автобусе. Суть в том, что они все записывали. Ручкой. Все спрашивали и все записывали. А он уже так устал от них под конец, что только отшучивался. И вот едут они мимо картофельных полей с турнепсом или чем-то еще, и французы спрашивают: «А чьи это поля?» Витя говорит: «Маркиза Карабаса».
И они записывают: Маркиза Карабаса…
Мы еще мало знаем московский период жизни Вити. Думаю, он оставил там не менее глубокий след, просто мы с этими людьми не соприкасались.
Помню, в 1992 году мы с ним в Москве общались. Он был в столице проездом и по дороге, кстати, умудрился в поезде что-то продать. На эти деньги у меня купил картинок (их продал уже в Свердловске). Но продал также и одну картонку, которую попросил проложить между картинами. Это была моя недорисованная работа… и ее он продал Ройзману. И тот повесил ее где-то у себя и потом сказал, что шведы, скандинавы, больше всего балдеют именно от этой картинки. Картонка-то недопеченная — на одном дыхании. Смешно все. Забавно. Мы с Витей пошли потом по делам. И заглянули в книжный, в котором всегда барыги какие-то собираются.
Вдруг один из них подходит к нам: «Витя, того что ты просил, сейчас нет. Но ты послезавтра подходи, послезавтра я тебе обязательно отдам!» Мало того что для них он парень свой в доску, так при этом они думают, что он так и продолжает там обитать. Я был несколько удивлен. Одно время Витя жил в Москве, он даже показывал мне комнату. На Цветном бульваре, дом этот уже снесли. Насколько мне известно, он подарил эту комнату кому-то из женского пола. Хотя в те годы нельзя было ни подарить, ни купить жилье. Туманно все. Может быть, он в Москве учился.
Я еще о Вите как о художнике хочу сказать. Сначала я воспринял его как человека, который пишет необычайно лиричные пейзажи. И очень долго не мог понять всех его других картин. А сейчас — со временем — я открыл для себя его портреты. Я думаю, что его портреты обладают, может быть, даже большей значимостью. Потому что он умудрялся создать фундаментальный образ маленького человека — условно говоря — на очень маленьком размере. При этом я считаю, что Витя относится к экспрессионистам по стилю.
— Я тоже так думаю.
— Дело в том, что его личность вытесняет в нашем восприятии художника Махотина! Со временем приходит умение воспринимать эти вещи отдельно. И портретные работы Виктора на меня начинают производить впечатление все более сильное. Особенно это касается портретов девушек и старушек, тут он просто бесподобен. В «женском вопросе» он доходил до глубины философии и символизма. Некоторые его маленькие картинки воспринимаются как иконы — по силе своего образа. У меня есть такая, моя собственность: две тучки и маленькая звездочка. Там практически нет цветов, три цвета всего-то, но она для меня одна из основных в его творчестве. Или Лев Толстой в русском поле… Его пейзажи. Витину живопись мы пока еще не можем объективно оценить. Картины его очень узнаваемы.
Работы Вити можно смело собирать по всему бывшему СССР, потому что они могут оказаться в любом городе. Однажды он показывал мне слайды своих работ. Их было не менее 70, в основном — созданные до 1990 года. И к сожалению, Махотина-художника не все понимают. И еще вот о чем хочется сказать. Витя не мог быть только художником, поскольку профессия художника основана на эгоцентризме и некоей самозакрученности. И вот эти два основных внутренних признака художника ему были как раз несвойственны.
Художник — профессия, изначально ориентированная на одиночество. Любой творческий человек самопогружен. И вот этого-то эгоизма в Вите не было, и, может, отчасти это являлось для его искусства минусом. По сути, он сформировал многих людей своим примером, а не только творчеством.
— Тебя он тоже сформировал?
— Не то чтобы сформировал, но он мог всего несколькими словами задать целый вектор направления жизненных принципов. Он мог произнести всего одну фразу, но эта фраза доминировала в тебе на протяжении если не всей дальнейшей жизни, то хотя бы какого-то длинного периода. Когда какие-нибудь проблемы возникали, то он был для меня фундаментальным человеком в Екатеринбурге, фактически каждый раз, бывая на Урале, я к нему заходил или мы где-то пересекались. Только однажды я не был у него и жалею об этом. А приезжал я 4—5 раз в год. Отмечу еще, что Витя мог очень цельно, образно и коротко охарактеризовать человека фразой. Как-то он послал ко мне в Москву одного верующего, тот крестил и крестил все, что попадется, и говорил только на эти темы. Утомило меня присутствие этого товарища, только глубокая религиозность моя не позволила мне послать его…
Я помню, Витя определил его потом единственной фразой: «Он верующий, потому что ему это выгодно». Это было действительно так, точнее не скажешь.
Кстати, в Москве у некоторых людей попадаются его картинки.
— Да, у четы художников Стекольщиковых, Витиных друзей, есть его картины.
— И у других есть.
— Зоя Таюрова написала, что работа «Кулачный бой» — это примитивизм по стилю. Тут вообще Джотто есть, ренессанс ранний!
— У всех свое мнение, бесполезно спорить.
Его живопись — это экспрессионизм чистой воды. Это, скажем так, миниатюрный экспрессионизм. Примитивом тут и не пахнет. Да и как мог быть примитивистом человек, который отреставрировал сотни, если не тысячи, икон.
— А ты откуда знаешь?
— Он был моим учителем в реставрации.
— А ты был реставратором?
— Да.
— Виктор, знаю, дома строил. А про иконы я не слышала…
— Он очень много икон отреставрировал, особенно в доперестроечный период. Если я их отреставрировал сотни, то он — всяко больше. Все он это знал. И очень многие знания, особенно поначалу, я получил от него. Он мне даже подарил собственную книжку по реставрации икон, которую достать в то время было невозможно. Виктор помогал не только мне в этом направлении, но и Марине Азановой, и Олегу Бызову… По иконописи знания у него были серьезные. Чувствовал он иконы прекрасно. Во всяком случае, иконы у него были такие, что многим и не снились по нынешним временам! В том смысле, что проходили через него — он же не был «накопителем». Собирать, запасать — перед ним такой цели не стояло.
— Его же два раза обокрали…
— В России нет человека, которого ни разу бы не обокрали, тем более общительного. Это гадко, да.
— Каково значение Виктора Махотина для культуры города?
— Скорее, значение для жителей города. А для культуры… это надо к музейным работникам обратиться, они лучше знают.
— Ройзман написал, что Витя отсидел 16 лет.
— Я про это лично от него не слышал, но нормальные люди этим не хвастаются. Хотя, детский дом если в расчет взять, то как раз и получится 16.
— Витя говорил, что к детям в детдомах хорошо относились. Кружки там всякие были. Ему краски давали, чтобы он занимался рисованием.
— Вполне возможно. Но в то же время в детском доме были определены внутренние порядки между мальчишками, сила там доминировала — дрались… Оно и понятно, впрочем: время послевоенное, голодное, со своими понятиями и законами. Меня другое поражает: внутренняя свобода Вити. Я знал немало людей из детских домов, и они совершенно не похожи на Витю. Он был в этом плане уникальным человеком.
— Вот Борис Цыбин тоже из детдома, учился в художественном училище, два года правда всего, потом бросил, сейчас он кузнец. Владимир Пресняков — главный архитектор города Копейска. Виктор Ламмерт — тоже художник. Художников много вышло из того детдома.
— Видимо, детдом способствует развитию визуального творчества, определенных внутренних качеств. Способствует желанию замкнуться, уйти в себя, что-то нарисовать.
— Они жили не так, как дети в семьях. Убегали, например, вместо школы на пруд — плавать на плоту, в сады убегали.
— Мое детство таким же было, хотя и не детдомовским. Мы в бараках жили у Исети. Тонул, помню, несколько раз. Я понимаю романтику эту. Порой такое случалось, что до смерти несколько сантиметров оставалось. И я думаю, что его детство по сути такое же было, если не хлеще.
— Ты когда родился?
— В 1962-м. Как-то в меня стреляли солью, а могли и дробью! Улица воспитывала. Почти нормально воспитывала.
— Витя раздавал все. Ремонт делал людям бесплатно.
— В Китае говорят: «Доброму человеку не надо думать о старости». Витя очень четко соответствовал этой поговорке.
Беседовала Светлана Муксун
Вадим Дубичев
Читал и смеялся
Мой рассказ «Индейка счастья» был опубликован в 1993 году в российской газете «Доверие». Спустя некоторое время встретил Витю Махотина — сунул ему газетный номер и попросил прочитать. Если уж обидится — художники народ сложный! — то пусть при мне. Хотя рассказ был не о нем персонально, а обо всех нас — как жили мы тогда. Витя читал и смеялся. Я курил. Светило солнышко. Хорошее было время.
ИНДЕЙКА СЧАСТЬЯ
«…Ты постигнешь непогрешимую красоту человеческих страданий, о каждое из которых споткнется твое сердце». Я поставил точку в рассказе, закрыл записную книжку, и в это время в редакцию вошел художник-иллюстратор Шабуров. Невысокого роста человек, похожий на капибару. Про капибару я вычитал в книжке Даррелла.
— Слушай, Дубичев, скажи мне телефон Вити Махотина.
— Махотина я знаю, но телефона его у меня нет.
— Откуда знаешь? — неприятно усмехается.
Иногда я его люблю. Иногда совсем не люблю. Но Махотина знаю. Или путаю с кем-то.
— Может, и путаю, но вроде слышал про такого.
— Понятно…
По телефону спрашивают, может ли наше издательство напечатать японские календари. Пока я соображаю, что такое японские календари, интересуются — туда ли попали.
На всякий случай говорю, что попали туда, но прошу перезвонить завтра.
— Но вы можете напечатать именно японские календари?
— Можем. Но завтра…
— Скажите пожалуйста, телефон художественных мастерских на Онуфриева, — это Шабуров звонит по 09. Начало фразы он произносит агрессивно, финал мягко.
— Спасибо… Это художественные мастерские? А Махотина можно? Не знаете такого! Спасибо…
— Какие новости хорошие? — спрашиваю у Шабурова.
— Какие тебе новости… Никаких новостей нет.
Сидим. Молчим.
Снова набирает номер.
— Не берут…
— А кому звонишь?
— Арбеневу в издательство.
Ждет.
— Может, обедает. Женя в два часа дня ходит в столовку обедать. Сейчас как раз два часа.
— Где обедает?
— В столовой какого-то института, — начинаю злиться.
— Сам ты обедаешь, — слушает гудки. — Он давно уже обедает у себя в издательстве. Сидит и ест бутерброды с
черной…
— Икрой…
— Соплей, — понимает, что каламбур неудачный, и, сделав сердитое лицо, кричит в телефонную трубку: — Здравствуйте, позовите пожалуйста… Женя, это ты? Евгений Владимирович, у тебя есть телефон игнатьевской жены? А-а-а! Он сам у тебя, дай его…
Подмигивает мне и оживляется. Рад. — Привет, слушай, ты телефон Вити Махотина знаешь? А жена твоя?
Я вычитываю чью-то рукопись, механически исправляю ошибки и слушаю, как в соседней комнате главный редактор ругается с коммерческим директором. Коммерческий устроил форменную истерику и кричит о несоответствии политических платформ, что в фирме работают не единомышленники и что он почему-то в связи с этим слагает с себя всякую финансовую ответственность.
Хочется подойти к нему и шлепнуть толстой рукописью по его курчавой голове. — Не знает, — досадует Шабуров.
— Слушай, а может, никакого Махотина и нет?
— Нет, я с ним знаком, — говорит Шабуров как-то неуверенно и начинает саркастически улыбаться.
Смотрю в потолок и мечтаю. Вдруг никакого Махотина нет, а картины его есть и они талантливые. А потом оказывается, что автор этих картин — я. Все удивляются — как же они такой талант проглядели! А я скромно улыбаюсь и пью водку за чужой счет.
Возвращаюсь к рукописи и с ненавистью ставлю запятую, которой нет на положенном месте.
Шабуров сидит тихим зайчиком и о чем-то думает. Затем оглядывает комнату и вскрикивает:
— О-о, позвоню-ка я в кукольный театр! Там его точно знают.
В трубке слышны длинные гудки.
— Может, обедают, — предполагаю я.
— У тебя все обедают, придурок.
— Сам придурок, — снова утыкаюсь в рукопись.
Не слушая вопли Шабурова, который просит дать ему телефон студенческого театра УПИ, где точно знают телефон Махотина, вычеркиваю полстраницы мелодраматического рассказа, без которой текст превращается в мрачную фантазию садиста-упыря. Рассказ мне начинает нравиться. Надо убедить автора в необходимости такого сокращения.
— Чай будешь? — спрашивает меня наборщица Света.
— Буду, — отвечает за меня Шабуров, и мы идем пить чай.
В вазочке лежит печенье, а рядом на бумажке сахар.
— Раньше я клал в стакан три ложки сахара, — рассказывает Шабуров. — А теперь только две.
Я ем печенье и молчу. Хочу домой.
— А брат мой Игорь клал в стакан восемь ложек сахара! Да-да, — кивает головой Шабуров на удивленные крики Светы, которая вообще натура легко возбудимая.
— Из них три ложки сахара не растворялись, за что брата моего Игоря пороли. Но все равно чай был сладок, как сироп. А я кладу две ложки сахара, — продолжал Шабуров. — Вот, одну кладу, — насыпает. — И вторую, — насыпает вторую.
— И диабетом его пугали, и что кишки слипнутся, — и все ничего. Игорь пил чай с восьмью ложками сахара, и никто не мог отучить его от этой привычки.
Шабуров пробует чай и добавляет третью ложку сахара.
— Ну все, мне пора домой, — прощаюсь я и выхожу из кабинета.
А дома, как часто бывает, мутный запах сигарет, стол, заваленный объедками и бутылками, неизвестно откуда появившиеся гости. Много, слишком много их на мое необжитое сердце, которому и двоих бы хватило. А еще лучше сидеть одному у распахнутого окна и вдыхать свежесть грозовой ночи. Она — как это часто бывает в последнее время — слегка пьяна и внимательна ко мне. Я пью дрянной портвейн, стараясь не замечать развязные приставания ко мне долговязого литературного критика, от которого неприятно пахнет.
Я показываю ей на улицу и говорю:
— Посмотри в окно. Смотри, какая птичка зависла в воздухе и разглядывает нас пристальным взглядом… Посмотри, как походит она на индейку счастья. У нее маленькие крылья и золотой гребень на голове. Разноцветные шелковые ниточки спускаются с ее лапок, и шары надувные, и перья лучезарные. Вся улица смотрит на нее. Одна ты не смотришь! — кричу я.
Близоруко щурясь, она улыбается мне, но в окно не смотрит.
— Ты же никогда не поверишь мне, что к нам прилетала индейка счастья! А она прилетает один раз в жизни, — пытаюсь вразумить ее. — Вот, улетела…
— Наверное, ты больше меня веришь в индейку счастья и тебе не нужно оглядываться в окно? — озаряет меня. Она улыбается. Я целую ее мятое, доброе лицо плюшевой игрушки. Мы счастливы и плачем.
А Курицын хватает газеты, рвет их в клочья и кричит:
— Снег, в городе пошел снег! Хотя какой там снег…
Ильдар Зиганшин
Художественная капля города
На Плотинке — на «Плите», — сидят с этюдниками художники-портретисты, рисуют горожан. Зрители, стоящие вокруг, их поддерживают репликами.
В завязавшейся беседе о художественной жизни города участвуют художники Леонид Баранов и Александр Беляев, фотограф Ильдар Зиганшин и искусствовед Светлана Абакумова
Светлана: Что можно сейчас сделать, чтобы сохранить память о Викторе Махотине?
Ильдар: — Очень странный вопрос ты задаешь. На самом деле уже все сделано, все должно происходить само собой. Если брать художественную часть, то есть художественную каплю нашего города, то надо ставить вопрос так, чтобы эта капля вся жила, вместе с теми, кто ушел, и кто в ней есть, и кто в ней будет. Я не думаю что необходимо какие-то культы выращивать. Ты знаешь, сколько художников в этом городе умерло?
Картины-то их остались.
Леонид: Картины Махотина можно поместить в основную экспозицию Музея изобразительных искусств. Поставили вот хороший памятник на кладбище. К Махотину ходят, его помнят. Достаточно приличный статус у него! Можно еще доску на Башне установить. Анатолий Гробов сделал второй проект памятника художнику для Плотинки.
Ильдар: Все все забывают.
Леонид: Мы же не забываем, делаем например выставку «День рождения Махотина». И заметь, начинается движение вокруг Елового — хотят дуб в саду спасти.
Светлана: Это чтобы дом Елового не снесли.
Леонид: Ну как не снесут такую развалюху? В центре города! Он же там просто жил!
Светлана: Нет, не просто жил. Там Музей простого искусства Урала и Сибири был создан. Олег его организовал и зарегистрировал. Там была коллекция картин примитивистов, которую он собирал для музея, там жили коммуной художники.
Ильдар: Там место давно куплено, все это чье-то уже. Ты обрати внимание: центр города весь столбиками размечен. Он уже потихоньку весь чей-то. Ты будешь прогуливаться однажды, и тебе захочется в какой-нибудь двор зайти — на скамейке посидеть. И ты вдруг обнаружишь, что зайти нельзя, что все не просто так. Тут — заборчики какие-то, там — замочки.
Леонид: Замки? Это хорошо, с одной стороны, совковости зато нет.
Светлана: А помните время «совковое»? Ты, Леня, не ностальгируешь?
Леонид: Я не ностальгирую. Я люблю свое счастье свободное.
Ильдар: Что свидетельствует о достаточности тех ресурсов, которыми ты сейчас обходишься. Это очень важно. Многим людям ресурсы, которыми они располагают, какими бы они ни были огромными, не кажутся достаточными, и они все нервничают. Это бесконечная игра такая.
Леонид: Когда едешь на юг рисовать, то там зарабатываешь по тысяче рублей ежедневно. И каждый вечер гарцуешь по кабакам. Приезжаешь домой — денег опять нет. То есть ты живешь в Анапе, как барин, это все равно роскошь, родителям нашим не понять.
Светлана: Ты ж парторгом был в художественном училище… Ты с завода в училище пришел такой правильный!
Леонид: Какой парторг? Я «Комсомольский прожектор» просто вел. И старостой группы был. Я моралист все равно, я все равно воспитан в тех еще традициях.
Светлана: Скажи, почему Витя выставлял именно выпускников училища: тебя, Сашу Сажаева, Гену Шаройкина?
Леонид: Он просто видел, что мы работаем творчески. Сажаев, Беляев, Шаройкин — все они яркие художники. А в театральном институте мы сами выставку сделали — я, Саша Сажаев, Андрей Зыкин. Для меня это было непринципиально.
Витя — деятель нормальный, очень легкий, правильный человек. Мне кажется что это — неистребимое. Если сам ты не можешь человеку что-то дать, то сведи его с кем-нибудь, с другими мирами. Сталкивание миров — это нормально.
Ильдар: Мысль эта правильная. Многие начинают сталкивать миры, как Леня говорит, и это очень кайфово. Но долго они не выдерживают. Потому что человек не может в 95 или 98 процентах случаев чувствовать, что в ответ идет неадекватная реакция. Большинство людей работают на прием, а не на развитие этой модели общения. И когда человек бьется-бьется, бьется-бьется, — он устает от этого. Он понимает, что схема не делай добра — не будет и зла — куда как эффективнее.
Светлана: А Витя не уставал, что ли?
Леонид: Уставал. Как не уставал, гонял иногда.
Александр Беляев (подходит и говорит Лене Баранову): Икскьюз ми, попрошу один тоненький карандаш, — только на тоненьких специализируюсь, — рисую женский портрет. Позвольте представиться (раскланивается), Александр Беляев — свободный художник легких реприз женских форм.
Ильдар: Саша, скажи, вот той тетке в розовых очках, ей понравилась твоя работа, портрет?
Александр: Ей понравилось.
Ильдар: У нее все кайфы сошлись. Мы работу с ней предварительную провели, уговорили ее позировать. Вот, Саша, всегда бы так было — все начинают друг другу помогать. Понимаешь, существует масса контактов, которые не случаются, и это плохо. А когда какой-то один человек начинает объединять вокруг себя людей, то он знает: это нужно этому, это — этому. И все тогда начинает у всех счастливо складываться, и все участники цепочки испытывают определенные дозы счастья, удовлетворения. Но! Но! К сожалению, не существует персонажей, которые могут бесконечно строить эту пирамиду. Потому что они видят: пирамида-то выстраивается, все красиво-хорошо получается, но они сами оказались ниже травы где-то — все про них забыли. Это очень тяжело переживается. И люди бросают доброе дело.
Леонид: Но ведь это может быть необязательно пирамида, может быть другая конструкция. Представь: по поляне бегает играющий тренер и всех учит. Обучает всех игроков, чтоб они объединялись. Вот есть у нас братство уральских художников в Анапе, выезжающих каждое лето отсюда туда на заработки. Личности звучат в этом братстве и мы стали настолько дружны! Там-то никакая не пирамида, — ровная поляна, в которую попадаешь и начинаешь там жить.
Ильдар: Я тебе на очень простом примере объясню… Взять один из уровней (а уровней этих — бессчетное количество). Уровень реализации работ, реализации продукта творчества.
Леонид: Хочется попредметнее… Ильдар: Да куда уже предметнее! Я тебе про деньги начинаю разговаривать! Когда один человек понимает, что для десяти художников есть работа, есть для них заказчики и начинает стыковать тех и других, то художники, к примеру, начинают жить нормально.
Понимаешь?
Леонид: Я понимаю. И Марсель Абелов это делал, бился, бился и… разбился.
Ильдар: Если бы так поступал каждый член сообщества, то жизнь занялась бы просто с десятикратной, со стократной силой. В том числе, достаток всех сторон увеличился бы.
Леонид: В городе же у нас получилось так! Еженедельные выставки художников проводятся, презентации бесконечные.
Ильдар: Леня, у нас очень специфичный город! Я не говорю, что он плохой. Я говорю, что он специфичный. К сожалению, большинство выставок как раз ни к чему и не ведут. Потому что туда не приходит реальный потребитель. Не приходит потому что нет рекламы, потому что никто никого не заинтересовывает.
Леонид: Мне кажется, у нас все нормально. У меня впечатление, что у Екатеринбурга в этом плане есть преимущество перед городами Челябинском, Тагилом и т. д.
Ильдар: Ты заметь, что мне-то как раз тоже жаловаться не на что! Я просто констатирую — могло бы быть по-другому. Смотрите-ка, господа, он сам эту тему поднял, я ему ее разворачиваю, а он уворачивается!
Леонид: Я понимаю тему. Я хочу лишь напомнить про Человека, который делает добро для людей, а потом вдруг оказывается внизу.
Ильдар: Не делай добра, не будет и зла! — сейчас работает только эта схема.
Леонид: Добро в каком смысле?
Светлана: Инициатива. Инициатива наказуема.
Леонид: Пардон, господа. Это все стереотипы. Все равно необходимость делать добро есть. Есть друзья, они принимают в твоей жизни участие. Добро делают. Лена Гладышева занимается своим делом — организует людей, это дело! Олежка Еловой отзвучал — вокруг него общество огромное образовалось. Махотин свое отработал. Зина Гаврилова свое сделала. В каждом обществе есть ядреные такие, бодрые ребята, вокруг которых это общество и формируется.
Светлана: Ребят-то мало таких.
Леонид: Но они есть. Мало — да немало! Достаточно! Мало — сделай больше! Я знаю, что их много! Я их помню! Мне лично хватает для того, чтобы комфортно себя чувствовать.
Ильдар: Леня, тебе хватает, да? Я точно знаю что ты знаешь, кому ты можешь помочь!
Леонид: Я кому помогаю, тем помогаю.
Ильдар: Я рад. Но не все так делают. Постфактум обнаруживаешь порой такие вещи, что думаешь: а почему не помогли…
Леонид: Марсель Абелов многим помогал. Сейчас он гонимый и где-то скрывается, но в свое время, когда он был на коне, он устраивал такие праздники! Для многих царские праздники! Кто может — тот всем помогает, всем делится, я думаю. Все равно ведь ты не обозлен… Или ты чувствуешь негатив по поводу современной жизни?
Ильдар: Нет-нет, у меня сожаление, что мы живем в каком-то микропроценте…
Леонид: Потому что еще не Запад!
Ильдар: Я тебя успокою, когда будет Запад — станет вообще страшно. У них другие проблемы, к которым мы еще близко не подошли. Это нам еще предстоит. Грустно, что мы потенциально живем в каком-то микропроценте от наших возможностей.
Лето 2005 г. Екатеринбург, Плотинка
Евгений Касимов
Виктору Махотину
Мы стоим на пороге, у входа в последний приют.
Пахнет глиной сухой и сырою травой молодой.
Ждем, когда два замотанных ангела тихо придут,
Заберут твою душу, а тело придавят плитой.
Мы стоим на пороге — не гости, не плакальщики,
А свидетели жизни отвесной, обрушенной заступом вниз.
Только божья коровка гуляет пониже щеки.
И меха разрывает напившийся вдрызг баянист.
24 мая 2003 г.
РЯДОМ С МАХОТИНЫМ
В 1983 году я работал в газете «Уральский университет». Делал «Литературную страницу». Печатал помаленьку Ерему, Юру Казарина, Андрея Танцырева, Витю Смирнова, Толю Фомина, Игоря Сахновского, Андрея Козлова. Тонкий график Копылов делал рисунки к стихам. Когда готовился номер, дым в редакции стоял коромыслом — в прямом и переносном смысле. Что-то пили.
Любил к нам заглянуть философ Перцев — тогда еще не профессор. Проницательно говорил что редакция похожа на радиостанцию «Венсеремос», на штаб каких-нибудь никарагуанских герильясов. Впрочем, проницательный партком университета тоже подозревал, что мы тайные инсургенты. Иногда меня вызывал секретарь — доктор химических наук — и внушал, что стихи мы пишем неправильные, что он это говорит со знанием дела, потому что он и сам пишет стихи и эти стихи очень нравятся его друзьям. Иногда в цензорской комнате типографии «Уральский рабочий», не найдя в газете никакой военной информации и политических инсинуаций, строгий чиновник спрашивал меня, что имел в виду поэт Юрий Казарин, написав: «Встречаются случайные тела и робко нагреваются от тренья». Нет ли здесь умысла порнографии? В общем, приглядывали за нами. Поэтому пить приходилось осторожно. Хотя водка и подешевела, какие-то уполномоченные в штатском стали отлавливать праздношатающийся люд.
Главным редактором была Алка Шкавро — дочь знаменитого уральского поэта, заведующего отделом поэзии в журнале «Урал». Это про него другой знаменитый уральский поэт, Борис Марьев, как-то сказал: «Путь в уральскую литературу устлан шкаврами». Впрочем, Алка была девушка свойская, нас любила, мы ее тоже, и ей видно были не в диковинку поэтические посиделки. Но так как перед нами всегда стояла проблема чинно-благородно выйти из здания университета, то пьянство она не одобряла. И как-то ее подружка Таня Анисимова предложила: «А поехали к Вите Махотину!» Мы не знали, кто такой Витя Махотин, и Таня очень этому удивилась. И мы отправились к Вите в гости. На улицу Ирбитскую. Взяли водки, где-то колбасы полукопченой добыли. Приехали в дом, который показался до боли родным. Во-первых, я родился в таком же двухэтажном рыжем доме. А во-вторых, очень любезен мне такой быт, когда квартира не квартира — а проходной двор. Мы примерно так же на Малышева жили. Пахнет красками, кипяточек в мятом чайнике булькает, картинки на стенах висят. Ну мы, ясное дело, в стаканы наливаем, закуску готовим. Витя говорит: «Можно, я жопки от колбаски съем?» И тут же и съел. И такой он весь уютный, смешливый, как домовой из мультиков, что-то стал дарить — какуюто милую чепуху, и как-то сразу стало понятно, что с ним не надо политесы разводить. И мы славно тогда посидели.
И подружились.
Виктор Махотин был первым свердловским художником, которого я узнал. Года через два на квартирнике у Дворкина я познакомился и с Б. У. Кашкиным. Он тогда еще был К. А. Кашкиным. Мне о нем восхищенно рассказывал в Москве Алеша Парщиков. Народу набилось — уйма! Старик, похожий на берендея, сурово читал стихи, прихлебывая из чекушки, которая висела у него на груди на каком-то снурке. Больше водка никому не предлагалась, потому что уже наступили антиалкогольные времена и водка была в большом дефиците. Я сидел в уголочке и тихонько помирал со смеху. Потом вспомнил, что о нем как-то рассказывал Борис Марьев — типа есть тут у нас в Свердловске свой Велимир Хлебников. В перерыве передал привет от Парщикова, старик оживился, мы с ним пошли на кухню и там его чекушку вдвоем и прикончили.
У Вити собиралась не компания художников, а просто хорошая компания. И все себя чувствовали товарищами и друзьями. Тогда и встречались-то только в квартирах и мастерских. Это уже после Сурикова, 31 художественные тусовки стали обычным явлением.
Благословенные восьмидесятые. Тогда все начиналось! Это был какой-то сплошной праздник, все встречи отмечены были чем-то праздничным. Поэтому на выставки приходили с семьями.
На Сакко и Ванцетти, 23 Витя уже был среди организаторов. Первая телепередача о поэтах снималась там. Я был ведущим. Поэты читали стихи. Камера блуждала по картинам, среди которых во множестве были и Витины. Они были отличными иллюстрациями к стихам. Еще картины прикрывали дыры в стенах.
Витя — великий организатор! Даже не организатор, а душа любого дела, душа любой компании. На Станции вольных почт (Ленина, 11) он уже царил. Все говорили не пошли на выставку, а — пошли к Махотину! В музее Свердлова та же история повторилась. У него со всеми были нежные, теплые отношения.
Так все восьмидесятые мы в тепле уютно и пробухали. А что еще делать-то было? Кто музыкой занимался, кто картинки рисовал, кто стихи писал. Я в это время учился в Литинституте. Что-то мы все писали, читали на поэтических вечерах, но ничего нашего не печатали… Мы с Андреем Козловым собрали тогда два тома антологии современной уральской литературы. Заручились поддержкой Союза писателей и даже, страшно сказать, обкома комсомола. Но в Средне-Уральском книжном издательстве нам проект зарубили. Сказали, что все мы графоманы. Через два года все это стало помаленьку публиковаться. Стали выходить отдельные книжки. Потом, уже в 1996-м, Виталий Кальпиди издал великолепную антологию современной уральской литературы. Через семь лет он повторил это дело. Практически все участники нашего проекта стали его авторами. Сейчас они признанные поэты и прозаики, и некоторые даже стали лауреатами разных литературных премий. Витя Махотин народным персонажем становится. Мы о нем рассказываем друг другу. Наши дети будут своим детям рассказывать о нем. Наврут, конечно, с три короба. Вот Коля Предеин памятник ему делает. Откроется Галерея современного искусства, и у входа будет Витя стоять. Легендарная личность. Как, впрочем, и Букашкин. И многие другие. Потому что время было — легендарное. К Букашкину — молодняк больше тянулся, к Олегу Еловому — профессионалы, они искали новые формы искусства, акции проводили… И вокруг Вити всегда народ толпился. Художники, поэты, фотографы, музыканты… И женщины! Витя добрый был. Как его любили! Такие люди — большая редкость.
Почти в каждой квартире были сборища. У меня собирались тоже. Сколько всего наворочено тогда было! Какие идеи витали в табачном дыму! И что интересно — почти все они реализовались.
В 1993 году мы делали с Витей в музее Свердлова выставку графики из коллекции Жени Ройзмана. Витя оформлял работы, развешивал. Я написал статью в газету. Потом была выставка в доме-музее Мамина-Сибиряка. А через три года мы уже открыли выставку в Музее изобразительного искусства на Вайнера, 11, где целый зал был отведен под работы Вити Махотина. Потом Женя Ройзман издал альбом его работ в серии «Художники Екатеринбурга». Смерть Вити — это было очень неожиданно для нас для всех. Как удар молнии — Витя умер! Все мужики плакали. Как он умер — так его дом сразу и развалился. Поневоле мистиком станешь.
Витя любил свои картинки дарить, и мне несколько штук подарил, среди которых его знаменитая «Холодная зима 1989 года». Приходим как-то с Ленкой на Станцию вольных почт, а там — гульба! Приходим как-то с Ленкой на Станцию вольных почт, а там — гульба! Во главе стола — Витя. На стене картинка зеленая висит. Витя увидел нас с Ленкой — обрадовался. Тут же картину снимает — дарю! Мы успели очень вов- ремя. Тут же приходят какие-то мужики, достают деньги — ну просто очень хоро- шие деньги! Где картина? Витя грустно так говорит им: все, нету картины. Ушла картина. Мужики очень расстроились. А он им: да я вам еще нарисую! Еще он мне подарил несколько кар- тинок с Лениным и Дзержинским. Они сейчас в коллекции Жени Ройзмана. Женя говорит, что в его галерее будет отдельный зал, посвященный Вите. Еще на Станции вольных почт Витя устраивал поэтические вечера. И всегда публика была. Рома Тягунов выступал, Андрей Козлов. Кто-то приезжал из других городов. Всегда там кто-нибудь жил. В лабиринте дома можно было встретить Катю Дерун, блуждающую впотьмах, как леди Макбет. В какой-нибудь подклети можно было обнаружить поэта Антиподова, задумчиво лежащего под ворохом шуб. В пристрое жила огромная семья Валеры Дьяченко.
Перед домом Коля Федореев поставил огромного противотанкового ежа. Такая красно-черно-белая композиция. Приехал начальник культуры товарищ Олюнин. Что это у вас такое? Это реклама, отвечает ему Федореев. А тот задумчиво так и веско: «Реклама должна быть скромной!». Потом состоялся диспут на тему «Что такое современное искусство?». Присутствовали бывшие партийные журналисты и маститые художники из Союза. Художники солидно говорили что искусство — это не картинки малевать, это судьба, а уже беспартийные журналисты — о малохудожественном уровне выставки, при этом почему-то клялись Высоцким. Но задушить уже никого не удавалось, жизнь брала свое.
Как-то Серега Копылов нарисовал несколько картинок. Принес показать. Витя говорит: классные картинки. Умеешь рисовать. Продай? Копылов — твердым таким голосом: «Десять рублей». Витя: «Беру две». Сбегали к таксистам, купили водки. Сидим, выпиваем, разговор плетем. Вдруг кончилось все. Копылов — Вите: «А купи еще одну!».
Опять пришлось к таксистам бежать. Потом все повторилось. На следующий день картинки уже в рамочках, под стеклом — на стенке висят. Такая небольшая экс- позиция художника Копылова. Потом ее Витя подарил Жене Ройзману.
С 1989 года я был директором выставочного зала в ДК автомобилистов. Гостеприимный Леонид Федорович Быков приютил. Я был и директором, и билетером, и картины развешивал. Андрей Козлов организовывал выставки. В ДК еще собирались поэты, там же проводились поэтические вечера. Летом — чтения стихов на лужайке. Без Вити когда такое обходилось?
Витя был знаковой такой фигурой того времени. Была какая-то необыкновенная жизнь. Дышалось легко. Жили в ожидании перемен. Все случилось. Сейчас никто не пьет. Все работают. Художники в мастерских, писатели в кабинетах, музыканты в студиях звукозаписи. А другие — померли. Вот говорят: богема, богема. Богема — это определенная художественная, литературная, артистическая среда, которая характеризуется вольностью нравов и поведения, но в первую очередь — нонконформизмом. Сейчас богемы нет, сейчас тусовки. Это что-то типа раутов, только без этикета.
У Андрея Воха есть песня «Богема».
Это о том времени. Эпохальных, так называемых — «неформальных», выставок в городе было три: на Сурикова, 31, на Сакко и Ванцетти, 23 и на Ленина, 11. Они и определили андеграундный стиль в городе. Витя Махотин очень сильно стимулировал такую художественную жизнь. Потом андеграунд вышел из подполья и тут же умер. Когда в 1993 году канадское телевидение, прослышав о феномене свердловской городской культуры, приехало снимать передачу про наш андеграунд — снимать уже было нечего. Одни руины.
А Витя был жизнелюб, он никогда не жаловался на «подлое время» и никогда не страдал о безвозвратно потерянном времени. Разве что горько вспоминал безвозвратно ушедших друзей и товарищей. Сейчас мы живем в совсем другой России.
И почему-то очень грустно.
Андрей Козлов
Свердловский Ван Гог
Я по своему обыкновению сидел за столом. Размышлял о своем очередном глобальном проекте. Вычислял, кто же из мэтров свердловской богемы — кульминационная личность, кто «наш Ван Гог». Брусиловский? Сажаев? Райшев? Лаушкин? Стало теплей. Лаушкин мой старый приятель. Он пишет как китаец, только не тушью по шелку, а маслом по холсту. Но не напрягается, плывет на волнах Дао. И все-таки «наш Ван Гог», скорее всего, Витя Махотин. Вдруг зазвонил телефон. Игорь Шабанов спросил меня: «Андрей?» — «Да!» — «Привет!» — «Харе Кришна!» — «Махотин умер. Похороны, наверное, во вторник». — «Боже ж ты мой!». Что теперь делать? Успокоить себя философией? Мудрые не скорбят ни о мертвых, ни о живых.
Где-то в 81-м я впервые увидел его картину, услышал его фамилию. На стенке висела пара картин: Махотин и Сажаев. В 88-м я увидел еще несколько картин на Суриковской выставке. Он был уже культовым художником. Больше говорили только о Гаврилове. На Сакко и Ванцетти летом того же года открылась новая выставка, как бы продолжение сенсационной зимней, она длилась уже три месяца, а потом переехала в здание Станции вольных почт, где еще почти год царило это неожиданное для многих пиршество авангарда. Это был не чистый авангард, это было нечто небывалое, чуть-чуть даже нелепое. Это было все: и импрессионизм, и реализм, и китч, и концептуалисты, и мастера рисовать жареную селедку, которая казалась живой. Было даже чтото совсем не ко времени — «Выплавка стали на уральском заводе». Одно оттеняло другое. Неожиданное соседство Воловича, Казанцева. Махотина, Гаврилова с самым пошлым дилетантским натурализмом рождало веселый дух свободы.
На Станции Витя был уже не только автором, он был хранителем этого незатейливого уральского «Лувра». Это было экстраординарное, почти нечаянное явление. У него не было никакой материально-технической базы. «Вернисаж» свозил шумную выставку в Челябинск, Пермь, Киров, Ленинград. Выставка на Ленина, 11 вскоре закрылась. Начались будничные дни русского капитализма с его первоначальным накоплением капитала.
Но Махотин не растаял и не проиграл в своем вольном проекте. В самом знаковом месте Екатеринбурга, в башне Исторического сквера, появился музейкузница. «Вольные почты» свернулись до пятачка этого странного мини-музея. Махотин был не просто живописец, он был артефакт. Он не ходил ангелом с приклеенными крыльями, не купался голый в томатном соке. Но он был артефакт, более интенсивный и вездесущий, чем Букашкин или Шабуров. Теперь он был с вернисажем своего проекта каждый день. Вокруг этих чугунных утюжков, печных дверец, кочерег и прочих незатейливых экспонатов своего музея он как бы следовал Лао Цзы. Внешне просто как камень, внутри — яшма. Картины он дарил, менял, продавал — спонтанно, без научных систем. Он был вольный хозяин своих почт. И не так что он где-то не состоялся или томился, как Ван Гог, от своего безумия. Нет-нет. Он был добр и прост. И он не был провинциальным чудаком, как это думается всем этим подслеповатым искусствоведам. Они же полагают, что Гаврилов — эпигон Дали, а Махотин — мастодонт вчерашнего западного импрессионизма.
Гаврилов — больше Дали. А Махотин — больше Ван Гога. Сократ сказал: «Платон мне друг, а истина дороже». У Вити все наоборот: «На… ть на истину и всех этих гениев, друг дороже». Друг. Вот кто такой Махотин.
Эта старинная башня с музейным чугуном, башня бесшабашного, неутомимого добряка Махотина — теперь символ нашего Бурга. Он ушел в мир символов и не вернется оттуда. Дума решает, меняет, придумывает. Махотин самостийно, хитро, покитайски, никого не спросив, «бесвыставкомно», по-хозяйски утвердил то, на чем стоял. Творчество — вечно, любовь — еще вечней, остальное неважно.
Он был православный, ездил в Афон, в Иерусалим, он жил в Пионерском поселке возле кришнаитского храма и как-то на полгода, за так, пустил монахов-кришнаитов на свою квартиру. На вид грубоватый работящий русский мужичок, а когда его спрашивали о национальности, он говорил: «Я — еврей». Родившийся в Шанхае. Пусть Христос, Кришна, Конфуций, Еврейский Бог позаботятся теперь о нем. Теперь он — душа, мальчик-младенец, летящий сияющим мыльным пузырем над коричневой ночью. Темно, даже луна превратилась в точку. Летит мальчик.
Смерти нет.
Такую картину Витя подарил мне 14 лет назад. Но все-таки плохо как-то на душе. Тоскливо. В голову не входит, что «бессмертный Махотин» умер.
Хотя и философ, а слезы бегут.
Перманентное творчество Виктора Махотина
Сеня Соловьев в октябре 1982 года привел меня на квартиру, где был художник Кротов и еще какие-то архитекторы. Там висели пара картин Махотина и еще пара картин Сажаева. Сеня мне объяснил: «Это Сажаев, а это Махотин.
Оба — гении, особенно Махотин».
Потом, когда была знаменитая безвыставкомная выставка на Сурикова, я увидел еще несколько работ Махотина. Нынешнее поколение не сможет правильно понять того феномена, который представляла собой выставка. Стоило один раз пройти сообщению о ней по ТВ, как на Сурикова повалил народ. Я пришел не в первый день, но народу было много, и Махотин тоже там был. Потом, когда я пришел второй раз, уже без билета, уже представленный, Махотин опять был здесь, и кто-то мне, показав пальцем, объяснил: «Это Махотин».
И уже на «экспериментальной» выставке в худшколе Хабарова на Сакко и Ванцетти нас представили: «Вот это тот самый пресловутый Козлов».
Я сразу же спросил почему на вот этих вот картинах все зеленое — и небо, и дома, и фигуры людей.
Оказалось, на Ирбитском мотоциклетном заводе ему подарили несколько банок краски. Возник, таким образом, «зеленый» период. То бишь никакого кокетства, подход совсем с другой стороны.
Другой нестандартностью Махотина было то, что он свои картины имел обыкновение дарить или менять. Мне, таким образом, достались «Еврейская девушка с быком» и «Золотой младенец». Себе Витя взял мои «Дадзыбао». (На них было написано следующее: Перестройка и гласность — близнецы братья. Перестройка должна быть перестройной. Не противляйся бюрократии насилием. Блаженны неформалы, ибо их царствие небесное. Разобьем бюрократам собачьи головы. И панкам, и металлистам, и люберам — всем светит солнце. Кайся, бюрократ, и будешь мне брат. Рейган, Рейган, Рейганочек, приезжай еще разочек! Нэнси, Нэнси Рейганиха, ты путевая чувиха! Раз, два, три, четыре — перестройка во всем мире. Перестройка — это объективная реальность, данная нам в ощущение. Демократия — не анархия, а обязанности и дис- циплина. Ведомства — говно и так далее. Мы уже умнее стали, нам теперь не нужен Сталин. Неформал! Какой же ты неформал, если Дао-Дэ-Дзин не читал! — Сост.).
Потом я одну тоже подарил, а другую обменял.
Витя заражал своей стилистикой.
Коммуникабельность Вити была экстраординарной, вплоть до непонимания этого феномена многими и даже мной. В момент нашей встречи на Сакко и Ванцетти я был в дзено-даосской теме и все тестировал через ценности китайской эстетики: Лао Цзы и так далее. Витя, кстати, оказался уроженцем Китая. Таким же образом он оказался человеком, в чьих жилах течет кровь Авраама, Исаака и Иакова. Также он оказался отмотавшим срок братаном. И все это не просто позиционировалось, народ уверовывал на долгое время.
…Витя всегда что-то дарил. Однажды я жил в его квартире в «деревне Гадюкино» (это квартал такой в Пионерском поселке). Там был книжный шкаф, я рефлекторно стал читать названия на корешках, вдруг попалась книга «Дзенбуддизм», такая красненькая. Я снял ее с полки, стал листать, увлекся. Витя говорит: «Дарю».
После «экспериментальной» выставки, которая проводилась в худшколе Хабарова — на время каникул — картины вместе с Махотиным переехали на Станцию вольных почт (Ленина, 11), и там андеграунд Свердловска — Екатеринбурга существовал год-полтора. У андеграунда, конечно, не было тогда совершенно никаких средств, чтобы держать здание или хотя бы его побелить, и «он» оттуда в конце концов съехал, но Витя вскоре оказался в башенке на краю Исторического сквера, как бы сохраняя свой мистико-художественный дозор. В башенке был музей-кузня. Половина экспонатов (а может быть, и все) были Витиной коллекцией (по крайней мере, чугунные утюги точно были Витиными, как-то он у меня тоже спрашивал, нет ли у меня чугунных утюгов или чего-то наподобие). Утюгов не было, но вдруг он увидел книжку про разгром колчаковского белогвардейского движения на Урале, и я передал книжку в дар его краеведческой коллекции.
Некоторое время я возил выставку свердловских художников под названием «Трансавангард». В участниках «трансавангарда» были картины Гольдера (ныне, говорят, проживает где-то во Франции), Махотина, Гавриловых, Хохонова, Лаушкина, Ильина, Копылова, моя одна работа и еще одна картина с нарисованной как живой селедкой — Сергея Казанцева.
Пермь, Киров, Ленинград. Так что приходилось с этими работами как бы жить, передвижничать.
Вскоре продюсировать надоело. Я сменил китайскую тему на индийскую.
В индийской теме нельзя было ни мясо есть, ни пить. Я тотчас с этим согласился, потому что бурный всплеск андеграундной активности стал влиять на самочувствие. Из Молдавии, где я гостил в семье советско-немецкого писателя Гергенредера, в качестве сувенира привез бутылку «Тамянки». В Молдавии насчет вин было хорошо, а в Свердловске этого не было. Приехал, индийская тема требует абсентеизма. Так что я пошел к Вите и подарил: «Хорошая вещь, но свет Востока, понимаешь».
Оба были довольны.
…Авангардная тусовка, начавшись в кухнях и подвальных мастерских, вышла в залы и даже на улицы.
Касимов, Ваксман и я как-то сидели у Касика. Предстоял съезд неформалов. Там были разные фронты — охрана исторических памятников, профсоюзы, права человека. Для этого мы придумали общество советско-китайской дружбы «Фэнлю», что на съезде и было объявлено. Смысл послания был авторитетный, как в «Дао-дэ-цзине»: дергаться и волноваться не надо, трава вырастет сама. Публике понравилось, так что нас с Касиком попросили организовать ночное действо творческой неформальной интеллигенции в ДК УЗТМ. Действо называлось «Фэнлю».
Там были картины, Петя Малков под утро появился одетый ангелом, там был авангардный джаз, настоящий китаец Хуан, Саша Еременко. Но каким-то образом местные люберы решили, что творится банальная дискотека и проскочили внутрь, туда, где культурно отдыхал свердловский андеграунд. Все было очень тепло, продавался портвейн, поэт Саша Еременко курил и нахваливал происходящее: «Это просто Лас-Вегас».
Люберы стали толкаться локтями, лезть к дамам. Витя им говорит: «Здесь мероприятие закрытого типа, пожалуйста удалитесь, прошу вас по-хорошему, пока я вас не убил чего доброго». И улыбается, как Ленин в шалаше. Ситуация стала разгораться, участники конфликта толкаются не на шутку. Касик уже загрустил по-серьезному, так что из менеджеров остался я один (Шульман, сами понимаете, не в счет). Я, конечно, тоже такой добродушный, между участниками встрянул. «Не ссорьтесь, все нормально, мир-дружба, как тебя зовут». Но они уже мою миротворческую миссию не воспринимают и плюются через мое плечо друг в друга. Любер оказался более метким, бум — и Витя свалился.
Дальше события развивались непредсказуемо. Дело в том, что в вестибюле стояла поленница дров. Обыкновенных дров. Они были заготовлены группой юных архитекторов из числа друзей Пети Малкова.
Дрова должны были составить сюжет некоего хеппенингового действа. Действо-таки схеппенинговалось, но совсем не так, как задумывалось. Потому что лидер поэтической группы «Интернационал» Женя Ройзман шел мимо, отчитав свой поэтический вклад в новое мышление, ускорение и гласность. Видит упавшего Витю, видит дрова, видит гопника-любера. И — хлобысь поленом по башке гопнику! Тот упал, поднялся, Женя с поленом бежит к другим люберам. Те — руки вверх, мы тут ни при чем. Любер, напавший на Витю, весь в цвете купающихся коней Дайнеки, ругается, грозит: «Сейчас весь Уралмаш приведу».
Удалился восвояси. Кто-то продолжал отдыхать, не заметив, что ученья идут, а кто-то вдохнул адреналинчику. Утром стали расходиться — навстречу ангел в белом, в кудряшках (Петя Малков).
Присутствие Вити все превращало в нечто неожиданно-эстетическое — назовем это сухо «андеграунд».
В городе было знаковое место, которое становилось особенно знаковым во второй половине июля — в день расстрела царской семьи. Это место, где стоял раньше Ипатьевский дом. Дом снесли по указке Политбюро во времена, когда Ельцин был секретарем Свердловского обкома. Дом снесли, но память осталась. И друзья царя и его семьи в июле приносили на место цветы, чем очень беспокоили советскую власть, КГБ и проч. С началом перестройки количество друзей резко увеличилось, так что к месту устремились и любопытные, и желающие высказать дружеские чувства.
Милиция. Ожидание. Народу много, но все делают вид, что просто так мимо проходят, мимо стоят — никаких символов подобострастия по отношению к царственным особам. Вдруг некто из дээсовцев вышел и стал внаглую все фотографировать. Штатские милиционеры бегом к нему, он бросил фотик Сидорову — и бежать, Сидоров аппаратик мне подкинул.
Я был тогда неопытен и вместо того, чтобы затаиться, тоже кому-то передал палочку-выручалочку и рванулся на проезжую часть. В результате я, поэт Санников, Витя, некий казачок-монархист и некая девушка попали в участок.
Помню, что я беседовал с казачком о буддизме. А Витя сидел в соседней комнате и громко возмущался, стуча в дверь: «Почему в камере разнополые?» В конце концов нас всех выпустили.
На месте Ипатьевского дома потом воздвигли монумент, напоминающий молодогвардейцев, храм и подворье.
Владимир Кузьмин
О Махотине
Познакомился я с Витей Махотиным в 1987, а может, уже в 1988 году (зима была) на одной из выставок неформальных, как их называли в разгар перестройки, художников.
Я там встретил своих знакомых, и мы остановились как раз напротив одной из Витиных работ, делясь впечатлениями от выставки. В это время откуда-то сбоку появился слегка разлохмаченный невысокий человек, явно пребывающий в отличном настроении. «Вам нравится? — осведомился он. — Это я рисовал. И вот это я, и вот там две висят — тоже мое. И вообще, поехали все ко мне!» От неожиданности такого предложения я опешил, но согласился, потому как вижу: стоит человек, радуется жизни в полный рост, радуется людям и при этом очень к себе располагает. Ну как не пойти в гости к такому человеку? А компания, с учетом того, что Витя был очень даже не один, получилась внушительная. Поместиться в одно авто было никак нельзя, и он предложил «раздвояиться». На деле же пришлось даже «растрояиться», и потому как закон был совершенно сухой в те времена, каждая из групп заезжала домой к кому-нибудь из компании, у кого чудом подзадержался дома алкоголь после отоваривания талонов, а у одной девушки даже нашелся толстый кусок мяса, который потом всю ночь пекли в духовке.
Витина квартира на улице Ирбитской удивительным образом напоминала своего хозяина: такая же разлохмаченная и веселая. Над кроватью вместо ковра большое расшитое красное знамя, разные картины по стенам.
Больше всего мне понравился смешной портрет Ленина. «Хочешь, я тебе его подарю?» — спросил Виктор. Я опять растерялся от неожиданности и стал говорить, что, наверное, лучше как-нибудь потом. «Ладно, потом», — легко согласился он. Витя вообще по этому поводу совершенно не переживал: нравится человеку картина — пусть владеет и любуется. Иную работу раз десять мог подарить: перевернешь, а на обороте — целый список владельцев.
Кстати, еще о вожде мирового пролетариата: была у нас с Махотиным одна общая черта в смысле внешности. Друг с другом мы не были похожи, но сходство с Лениным у обоих было налицо. Однажды мы даже поспорили, у кого это сходство больше, апеллируя к присутствующей общественности, и когда мнения разделились, Витя сказал, что у него сходство натуральное, а я, наверное, брачный аферист и похожесть свою наверняка подделываю для того, чтобы вводить в заблуждение каких-нибудь гражданок. Такой пассаж крыть уже было нечем, и я сдался. Махотин вообще любил разные неожиданные аргументы, а когда кто-то пытался спорить серьезно, он просто говорил «а мне по фиг!» — и при этом обезоруживающе улыбался.
Однако в некоторых ситуациях Витя умел быть очень основательным. Вот, например, когда он заведовал выставкой на Ленина, 11, в один из (примерно) летних дней там приключился пожар, точнее не пожар, а просто по какой-то причине где-то в углу что-то задымилось. Вышедший на крик Виктор быстро оценил обстановку. Тут же был создан штаб по тушению пожара, начальником которого он назначил себя, а вошли в него лица наиболее ответственные из постоянно присутствующих на выставке завсегдатаев.
Был составлен план эвакуации посетителей, а также нарисован маршрут доставки воды от ближайшей колонки, так как в здании не было водопровода. Нести воду поручили самому крепкому из присутствующих. Еще между колонкой и зданием находилась большая лужа, через нее надо было перебросить доски, их как раз можно было раздобыть гдето неподалеку. И для этой задачи тоже были выделены люди. В общем, учтены были все детали, и каждому нашлась работа. Правда, когда план был гоотов, выяснилось, что кто-то уже принес воду и ликвидировал возгорание.
На самом деле Витя, конечно, знал, что за водой уже побежали и что все будет нормально. Может быть, другой на его месте выглядел бы озабоченным и серьезным, а вот Махотин просто еще раз повеселился, потому как не любил он быть серьезным даже в неприятных ситуациях.
Он был светлым человеком и жил легко, и ушел из этой жизни тоже легко. Можно скорбеть, что его нет больше с нами, но лучше, я думаю, радоваться тому, что этот человек с нами был и оставил в нашей памяти свой оптимизм и свое тепло.
Вячеслав Курицын
Эффект места
Махотин создавал места. В музее Свердлова, в деревянной башне на Плотинке, на Станции вольных почт — само собой. Он создавал вокруг себя места силы, организовывал пространства, в которых множество людей чувствовали себя хорошо и в которых происходило большое количество других важных вещей, связанных с функционированием искусства (от создания до торговли), но главное — это все же эффект места. Города в результате состоят ведь из мест. Свердловск — Екатеринбург моего времени — во многом город, созданный Махотиным. Махотин внешне походил на домового — не случайно.
Истории про Махотина
История первая …Я поехал на улицу Ирбитскую проведать художника В. Ф. Махотина, который, по слухам, сломал ногу и не говорит как.
Слух подтвердился: Махотин оказался натурально в гипсе и на костылях и очень забавно прыгал на одной ноге. Вторую он сломал в борьбе с ночными хулиганами.
Художник выглядел очень довольным, урчал, чесал брюхо и говорил, что теперь может на законных основаниях пить с утра до вечера чай, есть бутерброды с маслом, смотреть телевизор и ни черта, как это у художников принято, не делать. Я ему позавидовал…
Вторая история связана с монархистами. Дело в том, что семья самодержца была расстреляна почти в центре сегодняшнего Свердловска, и на месте расстрела, на месте то есть дома, в коем протекало мероприятие (очень кстати именно у этого дома встречаются улицы Карла Либкнехта и Якова Свердлова), каждое лето, в ночь с 17 на 18 июля, происходит панихида по убиенным. В этом году на панихиду собралось особо много народа, и проходивший мимо сержант Родионов (совпадение его фамилии с фамилией известного генерала аукнулось еще и тем, что в день обсуждения на съезде народных депутатов тбилисских событий мы с Александром Иванченко сидели на скамейке в 50 метрах от места расстрела, и Александр сказал: «О чем думает голова, когда ее пробивают саперной лопаткой, — вот о чем надо писать…»), этот сержант Родионов заметил нелады, звякнул в отделение, и возникший через минуту отряд милиции особого назначения, только что созданный и рвущийся в бой показать свою незряшность, в несколько минут очистил территорию от неомонархистов, действуя, однако, не дефицитными саперными лопатками, а сапожками, дубинками и ребрышками ладошечек.
Было арест… задержано несколько человек, в их числе поэт Андрей Санников и литератор (потом кришнаит) Андрей Козлов. Их, однако, отпустили, вручив повестки в суд, и вот шестерых других — поэта Тягунова, художника Махотина, тенора Гомзикова, членов ДС Верховского и Пашкина, а также молодого пономаря, фамилии которого, к сожалению, не знаю, — этих куда-то увезли и, что называется, посадили. Аки репку. Опытные дээсовцы мгновенно измерили камеру, определили, что не соблюдены нормативы, и вся компания объявила голодовку. Уж не помню, что они там еще объявляли, но хорошо помню день, на который было назначено разбирательство. Нас, встречающих, собралось изрядное количество у зала суда, многие были и незнакомы, мы держались группками, несколько порознь. Омоновцы же стояли у своего автобуса довольно плотным кольцом. Кое-кто из наших подходил к ним, Шурка Жыров одного даже пощупал, поговорил с ним и пришел к выводу:
— Ты ж вроде нормальный парень, как бы человек, как же ты мирных людей бить можешь…
— А работа такая, — маслено ответил омоновец и длинно выпростал, облизываясь, хорошо тренированный язык.
Привезли в коробке монархистов. Давненько не видывал я людей с такими счастливыми физиономиями. Они с гордостью похвастались документами: с боем вырванными справками о телесных повреждениях, полученных в процессе задержания.
Но особо лоснился поэт Тягунов — у него, наряду со справкой о телесных повреждениях, была справка о том, что в процессе задержания была разодрана в клочья поэтова трудовая книжка.
Я уж не говорю о том, что поэт, идущий на молебен с трудовой книжкой в кармане, достоин твоего, Валера Исхаков, пера. Кайф в том, что была эта книжка полна такими записями, с какими не берут на работу даже в котельную. Теперь же он имел шанс на получение чистой…
Я, впрочем, отвлекся. Укажу, что суд состоялся неделю спустя. Что подсудимые отделались легким испугом…
Эдуард Поленц
Думая о Махотине
Думая о Махотине, я почти всегда вспоминаю то время, когда наш город казался мне более непостижимым и более глубоким, чем сейчас. Недостаток информации будил воображение. Казалось что там, в глубине, происходят какие-то важные события, слухи о которых иногда выходят на поверхность, где жил я. Махотин был глубинным жителем. Таким я увидел его, когда много лет назад впервые посетил коммуналку на Ирбитской-стрит. Это — совсем другая среда обитания. Дом был заполнен непривычными штуковинами. Например, деревянные поделки от Букашкина я впервые увидел там.
Мне открылось разнообразие, которого так не хватало советским прилавкам. Там же я нашел и самиздатовские тексты, многие из которых вошли в «Дорогой Огород». Мои представления о быте художников навсегда связаны с тем визитом.
Впоследствии я часто встречал Махотина в разных ситуациях, но мы никогда не разговаривали серьезно — шутить казалось естественней. Само же творчество Махотина не трогало меня до тех пор, пока я не вгляделся в его картинки, проведя среди них очень много времени в качестве фотографа. Но я так и не решил, что более значимо для меня — его творчество или его «биография».
Евгений Ройзман
РАБ КПСС
Витя Махотин — уникальный тип. Говорить о нем можно бесконечно. Сразу из детдома он попал в тюрьму. Отсидел ни много ни мало 16 лет. Изъездил этапами весь Союз. Никогда и нигде не унывал. Сделал на лбу наколку: «Раб КПСС». В Тагиле на больничке наколку варварски вырезали, на лбу остался шрам. В лагерях Витю все уважали и звали Репин. Кроме того, он вызывающе похож на Ленина.
Освободившись в 30 лет, Витя получил первый в своей жизни паспорт. В графе национальность зачем-то написал еврей. Все удивлялись. Витя тоже.
Идти ему было некуда. Питался он в столовой на Химмаше. Брал два стакана чая и поднос с хлебом. Соль и горчица стояли на столе. Хлеб в те годы был бесплатным. Родители давно умерли. У Вити остался только один родной человек. Старенькая бабушка Вера Витю очень любила. Вот о ней и пойдет речь.
Бабушка Вера была замечательной старушкой. Когда Витя сидел, она писала ему добрые письма, посылала сало, махорку и шерстяные носки. Витя отсылал ей все заработанные в лагере деньги.
Витя и сейчас живет очень небогато. Прямо скажем, нуждается. Но каждый раз, когда у него появляются деньги, он их раздает людям, которым они еще нужнее.
Удивительно стойкое неприятие довольства и достатка. А про тех людей, которые слишком хорошо живут, бабушка Вера так и говорила: «Блинами жопу вытирают».
Витя приехал к бабушке Вере. Поселился в маленьком домике. А еще у бабушки Веры жили две собачки и три кошки. На Пасху бабушка Вера белила хатку. Собачки и кошки ютились на диване. Она их шугала, пытаясь выгнать на улицу. Хитрые звери перебегали с дивана на комод, с комода на подоконник и никак не хотели идти на улицу. На что бабушка Вера с укоризной им замечала: «Вы што, дурачки, на улице говны тают, а у вас ноги мерзнут?!»
Витя очень любил бабушку и написал ее портрет. Портрет получился замечательный. Витя вставил его в киот и куда бы ни переезжал, везде возил его с собой.
Эта картинка в начале 90-х годов висела в музее Свердлова на Карла Либкнехта, где работал Витя. Мое внимание на нее обратил Брусиловский. Показал на эту работу и сказал мне: «Все-таки Витя очень сильный живописец!»
(Однажды мы с Брусиловским решили выпить бутылочку вина. И встретили Витю Махотина. «Витя, выпьешь с нами?» — «Нет. Никогда. Я не такой. Разве что в виде исключения». Сидели на берегу Исети. Брусиловский, глядя на воду, задумчиво сказал: «Все-таки Махотин — замечательный живописец». — «Уж получше вас-то, Миша Шаевич», — ответил Витя.)
* * *
К тому времени у меня было уже много Витиных работ. У него лично я ни разу ничего не купил. Он мне всегда дарил. Когда Витя был директором выставки, у него была замечательная картинка «Бабушкино кресло». В глубоком старом кресле дремлет величественная старуха, а сбоку тихонечко на цыпочках подкрался ее маленький рыжий внучек. Я эту картинку видел на фотографиях, она мне очень нравилась. Я знал, что она находится в частной коллекции, и это немало меня удручало.
Доходило даже до скандала. Однажды на выставке на Ленина, 11 я читал стихи при большом скоплении народа. Витя выпил водки и перевозбудился. «Что я могу подарить тебе?» — кричал он. И тут я увидел на стене эту картинку. «Витя!» — спросил я, холодея от собственной беспардонности. Витя сказал:
«Все, она твоя!»
Перевернув картинку, я увидел надпись: «Диме и Наташе Букаевым от Виктора». — «Как же так, Витя?». — «А вот так!» — ответил он и лихо приписал фломастером: «А также Евгению». Как выяснилось потом, Витя выпросил эту картинку у хозяев на выставку под честное слово на три дня.
Был скандал. Картинка осталась у меня.
Кстати, насчет кресла. Когда Витя жил на Ирбитской, у него был день рождения. Собрались все. Пришел Фил (Виктор Филимонов из консерватории) с какойто девицей. Но жена Фила пришла еще раньше. Фил с девицей ввалились к Вите, ничего не подозревая. Был ужасный скандал и мордобой.
Жена победила. Фил с девицей убежали зализывать раны. Часа три — четыре умный Фил отсиживался в огородах, ожидая, когда его жена уйдет. И снова они с девицей зашли поздравить Витю. Жена была там. Снова была драка. Соседи вызвали милицию. Милиция приехала через два часа, когда уже все разошлись. Менты вломились в квартиру и застали Витю в халате, сидящего в кресле. «Поехали», — сказали они ему. «С чего вдруг?» — ответил Витя, который, как и все нормальные люди, ментов не любил и имел на это все основания. «У вас тут был скандал», — заявили менты, на что Витя резонно возразил: «Надо было ехать, когда был скандал, а сейчас-то вы на фиг нужны?» — «Вам придется пройти с нами!» — «С места не встану», — сказал Витя.
И действительно Витя не встал с кресла. В райотдел его доставили вместе с подлокотниками. Дали 15 суток и увезли на Елизавет. Марианна Браславская, Тамара Ивановна, Эмилия Марковна и Светка Абакумова возили ему передачки. Витю все любили.
Все эти годы портрет бабушки не выходил у меня из головы. Я не знал, с какой стороны зайти. Начал я очень деликатно: «Витя, продай мне этот портрет». Витя посмотрел на меня как на идиота: «Ты сам-то понял, что сказал?! Ты мне предложил продать бабушку! Ты бы свою бабушку продал? Как у тебя язык повернулся?!» Витя побледнел. Я понял всю глубину своего падения и к этой теме больше не возвращался. Но портрет бабушки мне нравился очень, и я считаю, что это одна из лучших Витиных работ.
Через пару лет я забежал к Вите в музей. Смотрю, сидит ошарашенный Костя Патрушев и держит в руках портрет бабушки Веры. «Вот, — говорит, — у Вити купил. За 120 рублей». Я очень расстроился, посмотрел на Витю и говорю: «Витя, как это могло случиться?» — «Да, — говорит Витя, — неловко как-то вышло, бабушку продал…» Я говорю: «Витя, а как ты теперь собираешься мне в глаза смотреть?». Витя очень смутился… Все замолчали… Мне было очень обидно… Вдруг Витя поднял указательный палец вверх, сказал: «О! Я знаю, как исправить!… Я сделал нехорошо, я продал Косте бабушку! Я виноват!» Он бросился к сундучку: «Я все исправлю!… Я продам тебе дедушку!» И торжественно вручил мне замечательный акварельный портрет дедушки Никиты. Портрет был хорош, но обида еще осталась. «Нечестно, — говорю, — Витя, дедушка-то не родной». Витя говорит: «Вот, чудак, кто ж тебе родного-то продаст?»
Однажды нашего товарища Олега Пасуманского в начале 90-х годов жестоко избили омоновцы. Ни за что, просто так. Олег лежал в 14-й больнице у доктора Ваймана. Мы с Витей решили Олега навестить и утешить. Я заехал за Витей на Ирбитскую. Витя только что закончил автопортрет. Автопортрет мастерский. Витя в тельняшке, похожий на Ленина, на фоне горисполкома. «Витя, продай картинку», — взмолился я. «Забирай», — сказал Витя. Я дал ему 500 рублей, забрал картинку, и мы поехали навещать Олега.
Уже в больнице Витя забеспокоился: «Что ж мы, как индейцы какие, с пустыми-то руками. Так и опозориться недолго». Мы зашли в палату, Олег лежал весь перебинтованный. Олег увидел автопортрет и просветлел. «Вот, — говорю, — Олег, это тебе от нас». — «Что значит от нас, — возмутился Витя, — ты-то тут при чем?»
Я уже говорил, что почти все свои работы Витя мне подарил. Он также подарил мне две работы Валеры Гаврилова 70-х годов, несколько замечательных работ Лысякова, лучшую работу Вити Трифонова «Обком строится», несколько картинок Брусиловского, старые работы Валеры Дьяченко, одну картинку Языкова, Лаврова, Зинова, Гаева, да и не вспомнить всего.
Однажды Витя зашел к нам в музей. Я обрадовался и говорю: «Вот Витя Махотин, непосредственный участник жизни и смерти».
Эти слова Миша Выходец взял эпиграфом к своему замечательному стихотворению.
Ода-эпитафия отсутствующему счастливо Виктору Федоровичу Махотину, человеку и гражданину нашего мира, непосредственному участнику жизни и смерти
Кто не пошел ни с короля, ни с пешки —
Тот никуда из дома не пошел.
Скорлупки внешней от ядра орешка не отделял.
Что нажил — прожил, что налил — то выпил.
Не ублажал многоголовый пипл.
Не накопил ни фунта, ни рубля.
На кровке не божился — буду бля.
И не был бля.
И божию коровку в себе не раздавил.
Оборванным листочком, полукровкой
Не слыл среди людей.
Не эллин, не ромей, не готт, не иудей.
На белом свете он такой один.
Не жертва, не палач, не раб, не господин.
Оратай без сохи.
На мирном поле воин.
Он моего почтения достоин за то одно, что мелкие грешки
Не превращал в великие стишки.
Однажды он оставил нас.
В свой день и час неторопливо
За ним закрылась дверь.
Он в мире в сём теперь отсутствует счастливо.
Михаил Выходец
Дмитрий Рябоконь
Виктор Федорович
Не помню точно, когда, кажется в 92-м, в начале весны, пригласил меня Касимов на поэтический вечер в Музей политических движений Урала. В бывший Историко-революционный музей имени Я. М. Свердлова. Пообещав, что и они с Ройзманом тоже будут присутствовать. Я знал, что Ройзман вряд ли станет читать там свои стихи, помня его твердое заявление на прощальном публичном выступлении зимой 90-го в бывшем Музее комсомола Урала. Который, кстати, находится по соседству с вышеупомянутым. Я сразу заподозрил неладное, но подумал, что Касимов все-таки должен прийти, раз позвал. Я вообще не люблю читать свои стихи перед незнакомой или малознакомой аудиторией. Тем более с большой сцены в каком-нибудь зале. Раньше почему-то у меня это довольно сносно получалось.
А потом, постепенно, как-то утратилась способность. Видимо, причина в том, что я не могу оценить на должном уровне качество читаемого вслух стихотворения. Читать стихи, да вообще, любой другой текст на бумаге — совсем другое дело. Я не поэт-эстрадник. Мои стихи не рассчитаны на сиюминутный взаимный контакт со слушателями. Да и артистическое обаяние оставляет желать лучшего. Словом, не очень-то мне хотелось тащиться на этот званый вечер, так как я отлично знал какая это будет бодяга. И придется стихи читать.
Так оно и вышло.
Организация сборища — никудышная. Где-то около часа мурыжили выступающих, которых было — кот наплакал. А также — желающих приобщиться в этот воскресный день к прекрасному.
Естественно, Ройзман с Касимовым не пришли. А знакомых, с которыми можно было бы скоротать за непринужденным разговором время, не оказалось. Кроме художника Виктора Махотина, работающего оформителем в Музее политических движений. Вообще скажите, какого хрена понадобилось устраивать поэтический вечер в музее не поэтических, а каких-то там политических непристойных движений? С которыми совсем не вяжутся движения души. И весьма сомнительна связь с ними сексуальных движений. Ладно, Бог с ними, главное, движение — это жизнь! А может быть, прав Лимонов, утверждающий, что политика в России — это и есть самая высокая поэзия.
Как бы там ни было, слонялся я, томясь от скуки, битый час по музейным залам.
Рассматривая всевозможные экспонаты и картинки, вывешенные в одном из залов и в вестибюле для привлечения публики. Хочется заметить, что и сейчас в этом музее постоянно проходят какието выставки для того, чтобы народ туда из любопытства заглядывал. Да и восковые фигуры и другие время от времени обновляющиеся экспозиции служат данной цели. Что вполне соответствует любой, даже самой захудалой, провинциальной кунсткамере. Но поскольку речь идет не о проблемах выживания культурных учреждений, продолжу свой рассказ в выбранном мной русле.
Итак, я взираю на окружающую меня унылую действительность. Конечно, можно было бы слегка разукрасить ее яркими красками. Но для этого необходим алкоголь, чего в данный момент я остерегался. Зная чем все может закончиться. Естественно, переступив порог данного культурно-просветительского учреждения и не найдя никаких знакомых, я направился в махотинскую каморку со скрипучей дверью. Где, как нетрудно догадаться, находилась его знаменитая мастерская.
Отвечающая всем обывательским представлениям о творческой лаборатории человека, связанного с искусством неразрывными кровными узами. И скоротал бы я у него эту тягомотину ожидания, да в каморке и без моей скромной персоны полна горница людей — соратников Махотина по ремеслу. Каких-то его приятелей, не связанных с ним ремеслом. И, как мне показалось, весьма подозрительных темных личностей, с которыми не хотелось разговаривать. Хочу заметить, что я, не противник поэтического беспорядка в жилище художника, тем не менее возникающий иногда у себя дома бунт вещей стараюсь как можно быстрее укротить. У других — другое дело. Даже приятно как-то без всякой зависти.
Короче, встречает меня Махотин радостным возгласом. А вслед за ним и другие, бывшие тогда там. Щурится Виктор Федорович своей лукавой ленинской улыбкой. Надо сказать, он внешне, особенно когда в кепке, очень похож на вождя мирового пролетариата. И тут же наливает мне стакан водяры. Я, к великому огорчению хозяина, отказываюсь. И невнятно бормочу какие-то смехотворные оправдания. Водки — море разливанное. Но я, как могу, борюсь с таким труднопереносимым для меня искушением. Махотин, как это обычно бывает, в своем амплуа — навеселе. Вообще-то, как мне кажется, слово «навеселе» не совсем уместно. По той простой причине, что Виктор всегда на веселе. Хоть выпивший, хоть трезвый, все равно — навеселе.
То есть кто-то может про Махотина сказать, что он всегда пьян. А кто-то, с тем же успехом, может сказать, что Махотин всегда трезв. Можно сказать «слегка пьян» или «слегка трезв». Четкого водораздела не существует. Но, и это главное, Виктор никогда не бывает пьян в стельку. В этом, как и в его картинах, и есть какая-то феноменальность. Таких как он я еще никогда не встречал. И, видимо, не встречу. Разговор у Махотина быстрый, захлебывающийся.
И нужно приложить неимоверное усилие, прежде чем поймешь, о чем он говорит. Что он хочет сказать. К тому же Махотин часто сбивается, теряя нить своих рассуждений. И его рассказ из-за этого постоянно перескакивает с одного на другое. В придачу что он не умеет слушать своего собеседника. Ты ему — про Фому, а он — про Ерему.
Итак, Касимова нет, вечер вести некому. И Махотин, на правах хозяина, берет на себя эту трудную миссию. Причем она ему вполне удается. Просто когда ему надоедает сидеть в своем чулане и до его ушей доносится все нарастающий, приобретающий угрожающие нотки гул голосов, он покидает свой живописный вертеп. Что-то торопливо бормоча, он широким жестом приглашает всех присутствующих к стоящему в вестибюле большому круглому столу. Из тех кто читал стихи, я, насколько помню, совсем никого не знал. Такой «поэтический» вечер я видел впервые.
Наскоро отделавшись от возложенной на меня тяжелой обязанности, я поспешил покинуть этот укромный уголок. Ройзмана и Касимова не увидел, время прошло впустую, выходной потерян. Включаю поздним вечером телевизор. Переключаю случайно на 4-й канал. И тут, к своему великому удивлению, слышу, что Кася Попова, рассказывающая о новостях городской культуры, говорит о мероприятии, в котором сегодня имел честь быть задействованным и я. Причем первой звучит моя фамилия. Оказывается, по воле судьбы, я оказался на нем свадебным генералом. И на том спасибо.
Моя стихия — поэзия, картинки меня мало волнуют. А если и волнуют, то косвенно. Лишь как возможное место сбора вокруг них нужных или интересных мне людей. Казалось бы, наши пути с Махотиным должны были бы пересекаться лишь изредка. Но на самом деле все обстояло иначе. Виктор Федорович — большой любитель поэзии. А значит, и пути-дороги наши довольно часто пере секались то там, то сям. Апогея же наше общение с ним достигло весной 95-го. Когда, после суточных смен в комке, я стал частенько наведываться к нему.
Причина была проста. Как я уже не раз говорил, мой киоск находился возле ЦГ. А от моей работы до остановки где я садился в автобус, отвозивший меня домой, маршрут совпадал с тем местом, где можно было без труда разыскать Махотина. И накатить, чтобы расслабиться после суточного безумства. Особенно после ночей. А то пока до дома доберешься, сколько времени пройдет. Желание же накатить после нервных смен было просто бешеным. Автобусная остановка — рядом с Главпочтамтом. А Махотин находился в архитектурном памятнике конца XIX века — водонапорной башне на Плотинке. Что может быть лучше! Ноги прямо сами шли туда. И намахнуть с Махотиным желание огромное. И место такое, какого нигде не только в нашем городе, но и во всей стране не найти.
Просто уникальное место! Не буду вдаваться в подробности о том что это — одно из первых архитектурных строений Екатеринбурга. Что с Исторического сквера, или Плотинки, где находится башня, город начинал расти. С какой целью и кем он был основан и т. д. и т. п. Хочется лишь сказать, что сначала, насколько я помню, в ней находилась лавка сувениров. Потом она стояла заброшенной и была превращена в место хранения метелок и лопат… У Виктора башня наконец стала Музеем кузнечных ремесел Урала.
Директором, экскурсоводом и смотрителем башни был Махотин. Не знаю, как ему удавалось совмещать все свои должности. Правда, такое совмещение происходило лишь в весеннее-летний период, так как достопримечательность не отапливалась. Там даже электричество не всегда было, не говоря о прочих удобствах и комфорте. Но в теплые весенние и летние деньки, пока солнце не закатилось за горизонт, было довольно сносно. На первом этаже были представлены всевозможные образцы кузнечного искусства прошлого времени и наших дней. Второй этаж, на который вела узкая винтовая лестница, являл собою своеобразную комнату отдыха. В ней находилось только самое для этого необходимое — кровать и стол. Все ее нехитрое убранство дополняли несколько картин, частично висевших на бревенчатых стенах, частично прислоненных к ним. Удивительно, что основательно нагрузившись алкоголем, еще никто пока не сломал себе шею, спускаясь вниз. Видимо, все-таки пьяного Бог бережет.
В обязанности Виктора Федоровича входили пополнение и продажа экспонатов, специально для этого предназначенных. И проведение экскурсий. Экскурсовод, учитывая специфику дела, обязан знать тонкости кузнечного производства. Чтобы не застал врасплох какой-нибудь каверзный вопрос. Неужели Виктору пришлось осваивать и кузнечное искусство? Это до сих пор остается загадкой. Но для меня ценность башни определялась прежде всего тем, что в ней можно было раздавить пузырь, не доезжая до дома.
Махотин с утра был в башне. Именно в эти часы, где-то в 10—11, я и заходил в его кузнечную лавку. Все было вполне благопристойно. Стакан имелся, а бутылку мы прятали за какой-нибудь предмет. Не спеша накатывали, чем-нибудь закусывали. А если вдруг заходили какие-нибудь редкие в эти часы посетители, делали умные лица великих знатоков-энциклопедистов. Сам Виктор Федорович никогда не раскрывал рта без надобности. Лишь только тогда, когда посетители чем-либо интересовались, объяснял как мог, что это такое. И для чего оно предназначено. Если же выясняли, можно ли это купить, оживлялся. И, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией, приступал к торгу. Говорил о том какие вещи продаются, а какие нет. И если вставал вопрос о стоимости, спрашивал: сколько можете дать? Но все вопросы обычно задавались лишь из праздного любопытства. По крайней мере, при мне ничего не покупалось. Все оставалось на своих местах. И каждый раз при очередном посещении я не замечал никаких видимых изменений. Помню, однажды завалила к нему ватага любознательных подростков. И во мне проснулся дремавший доселе учитель истории. На все их вопросы отвечал. Да вдобавок и историю основания города рассказал. Они слушали, затаив дыхание. И долго не хотели уходить, требуя невинными глазами все новых и новых баек. Однако мой язык устал. Да и выпить снова захотелось. Не при детях же!
Короче, спровадил я их кое-как. Только накатили, потянулись новые любопытные. На этот раз пришлось Махотину их ублажать. А я, злясь на то что нет покоя, молчаливо ждал. Наконец-то временное затишье. Воспользовавшись им, мы допили остатки. Потом захотелось пива, и я пошел за ним. Выпив пару бутылок, засобирался домой. Надо и поспать после трудовых суток.
Попрощавшись с Виктором Федоровичем и выйдя из крепости под воздействием крепости, я поднялся по широкой лестнице, ведущей на маленькую площадь у фонтана «Каменный цветок».
Решил покурить возле него напоследок. Посидеть под сенью деревьев и полюбоваться падающими струями. Меня разморило на скамейке возле «Каменного цветка». И я уснул. Голова моя поникла увядшим венчиком на стебле шеи…
Чуть не забыл: говорят, Махотин очень мужественный человек. Виктор — сирота и вырос в детдоме. Когда пошел получать паспорт, он на вопрос: «К какой национальности вы себя причисляете?» — скромно ответил: «Евреев все гонят. Они — самые беззащитные. Напишите, пожалуйста, что я — еврей». А еще он в кино снимался. Только не в роли Ленина. Смотрел я давно один художественный фильм Свердловской киностудии про рабочий класс. Рабочие были чем-то недовольны и высыпали плотной толпой перед начальством. Гляжу: в центре — Махотин. Вылитый сталевар-кузнец.
Андрей Санников
Домовой
Познакомились мы лет 20 назад… Так сложилось, что мои лучшие тогдашние друзья — это в основном не литераторы, а художники. С ними и общался больше. Хотя — время такое было, что все вперемешку, все красили картинки, сочиняли тексты, музыкой занимались. Но мастерская («мастерня») или выставочный зал — это же такая свобода, это же дом! Вот мы все и сидели по мастерским или в полулегальных залах, портвейн пили и самоанализировались.
С Виктором Махотиным мы ближе познакомились на «Ленина, 11», это выставка такая, по-настоящему легендарная уже. Ну, то есть, как все тогдашние «наши» выставки, это был не этакий зал со смотрительницами-старушками и стенами, на которых висят «произведения искусства» и где все шепотом говорят. Это было МЕСТО.
Ну вот. Мне было очень хреново в ту пору. Нищ и мрачен я был — вообще! Даже теперь вспоминать невыносимо. И негде мне было жить. Я однажды пришел на Ленина, 11 под вечер, чай жидкий пил, вздыхал. А Витя все понял без слов и просьб, сказал: вот тебе матрас, живи здесь. Вот, сразу оказалось — есть где жить. На полу на выставке, да еще Витя меня и кормил! У него еда была такая «неправильная» — хлеб, сало, консервы, пирожки…
А потом приехали тюменские панки!!! Невменяемые какие-то, в солдатских шинелях без погон, на голове ирокезы автолом намазаны (чтоб торчали) — кошмар! А Витя и их пустил жить, и они там все спали на полу — прямо в выставочном зале. И всех нас кормил. Беды мои куда-то улетучились.
А потом я сам стал проводить такие выставки и так же как Витя, пускал людей на выставках жить.
Когда Витя умер, я долго не мог врубиться, оглушен был совершенно — что же это такое происходит? Что же случилось? Что же мне делать? Думал, думал и решил: раз я журналист — буду снимать, пойду на отпевание, на похороны с видеокамерой. Но на отпевании в храме — заревел, бросил камеру и побежал в ближайшую забегаловку — пил водку и плакал. И так два дня непрерывно — очнусь и снова пью, пью. Чтоб не думать. А потом я решил, что Витя не умер. Просто мы с ним долго не встречаемся. Он жив, но нет возможности видеться нам с ним — ну как бы он уехал в другой город или за границу. Мне нравятся очень многие его работы, особенно я люблю картину «Работницы ВИЗа». Немолодые женщины — искореженные такие, тяжеловесные, руки у них от работы заскорузлые. А скомпонованы они — как три грации. С такой добротой их Витя написал, с такой любовью!… Такие цвета Витины характерные — зеленый, оранжевый, охра.
А коты эти его летящие! Ну до слез ведь! — прозрачный маленький домик внизу, в небе две луны (черная и белая), и из домика к небу летят коты обнявшиеся, черный и белый. Невозможно плохим человеком быть, когда Витины картинки смотришь.
Выставка открывалась юбилейная, в память о Вите, «День рождения Махотина», все на этой выставке как давай реветь, жалеть Витю, вспоминать как хоронили. Я тогда сказал: Витя же домовой нашего города! Не надо плакать, — его просто не видно. Это же не значит, что его нет!
МЕДВЕДЬ
Шкура моя летает, хочет меня одеть.
Мясо мое рыдает — я не хочу умереть.
Лучше я буду мясом, буду ходить один где-нибудь
Под Миассом между осин.
Стихотворение написано под впечатлением сильного испуга, который вызывает присутствующая смерть. Рассуждения о «мясе» и «шкуре» — это, упрощенно говоря, вопль о необходимости насильно жить во внешней оболочке, не только «физически», но и социально. Витя, насколько я понимаю, жил без «шкуры». А вот откуда здесь взялся Миасс — так потому, что топоним этот очень странный, потусторонний какой-то.
Александр Сергеев
О Вите
У Вити Махотина было пять официальных жен.
Витя Махотин был еврей, так было написано в его паспорте.
У Вити Махотина случилось много зеленой краски, так возник «зеленый период» его творчества. И прочее.
Это всем известно. Все это знают лучше меня.
Я пытаюсь представить собственные впечатления от Виктора Федоровича. Они очень яркие, но трудноформулируемые.
Тема рассказчика
Речь Махотина и речь Салавата Фазлитдинова часто приводили меня в восторг, но если за Салаватом я мог записывать отдельные удавшиеся фразы, например: «Максимум в понедельник, минимум во вторник, или наоборот», и записал их много, то что записывать за Махотиным… «Почему я маленький не сдох?» Или: «Вы меня понимаете?».
Я завороженно слушал остроумные и цветистые интонации, обычно мало понимая «смысл» слушаемого. А смысла рационального, записываемого вида в основном и не было. При этом в речи была «сплошность», и это очень важно. Монолог как бы не составлен из фраз, из слов как элементов, вот и не расчленяется без утраты частями оправданности и авторства.
Тема художника
Однажды Виктор Федорович сказал мне серьезно и как-то скромно и коротко, что он довольно хороший художник. Это запомнилось, тем более что я с этим более чем согласен.
В некоторых случаях, не желая никого обижать, мы на вопрос: «Хороша ли картина?» — отвечаем: «Ну-у, она интерьерная». У Махотина даже не все работы «хорошие», но «интерьерных» я не видел.
Тема последнего разговора
В Башне с Махотиным и незнакомым мне художником, который, видимо, подрабатывал дворником (простым, не «народным»), мы рассуждали о том, что метла — это большая кисть. При этом Махотин периодически высовывал голову из двери и громко кричал на улицу: «Виктор Федорович! Виктор Федорович!» Я вспомнил какого-то персонажа, по-моему из Павича, который, обращаясь к любому, называл его своим собственным именем. Оказалось, в сквере работал дворник по имени и отчеству Виктор Федорович.
Роман Тягунов
Все люди — евреи
Над всеми довлеет
То место,
Тот век:
Все люди — Евреи.
Адын человек.
Пространство и Время Стоят у дверей:
Все люди — Евреи.
Адын не еврей.
Шестого Июня
Три четверти Дня
Не я говорю,
Но пославший меня.
Все люди — Евреи.
Все выйдут на Брег.
Сон в руку и — в Реку:
Плыви, Имярек!
Все люди — Евреи.
Храни же, Господь,
ИХ стихотворенья,
ИХ бренную плоть.
Салават Фазлитдинов
Воспоминания о художнике
Случилось так, что это было в пятницу. Разбудил утренний телефонный звонок. Голова трещала с похмелья. На улице зима. Бело в голове, бело в глазах. А в трубке сказали что умер Махотин. Стало все черным. Я сразу не поверил. Давно его не видел. Наверное, недели две, не больше. Веселый Витя шел по Пушкинской, слегка наклонившись от тяжелой сумки через плечо.
Он еще предлагал выпить и закусить, благо все имелось в его чудесной сумке, но я был в запарке и мужественно отказался. Тогда я еще не боялся ездить за рулем слегка нетрезвым. О чем-то весело поговорили, и Витя ушел, как всегда в неизвестном мне направлении. Сам-то Витя всегда точно знал, куда и зачем надо идти. Меня поражало, как точно он выбирает попутчика и место назначения, удивляла подготовленность той зоны, в которой я с ним оказывался. У него не было мобильного телефона, да и проводным он пользовался крайне редко. Думаю, просто его всегда и везде ждали потому, что у него был счастливый талант быть коммуникабельным и ненавязчивым.
А тут внезапно Витя умер. Еще спросонок обыграв все возможные варианты прикола от незабвенного Шабурова до элементарного может-просто-давно-невиделись-встретиться-было-бы-неплохо, отмел все, и, все равно до конца не веря, сказал что сейчас буду. Мы с Витей живем в одном районе, в Пионерском поселке, и доехать до него одна минута. Тяжело подымаясь по ступенькам разваливающейся двухэтажки на Ирбитскойстрит, я все еще надеялся услышать его веселый голос. Кто-то мне открыл дверь.
Тихо. В комнатах было тихо.
Когда вспоминаю Виктора, кажется, что я давно его знаю и не знаю совсем. При этом сказать, что он был человек-загадка — это все равно что про всех людей так сказать. Кто из людей не загадка? Говорить то, что все знают или еще скажут — тоже труд напрасный. Просто опишу пару эпизодов, которые помню.
Однажды на Уралмаше в ДК проходила поэтическая тусовка. Читали стихи, и даже, кажется, была дискотека. Внезапно в центре этого танцпола началась то ли драка, то ли просто свалка людей. Понять было невозможно — музыка, шум, гам. Я стоял с Ройзманом Женькой и недоуменно смотрел на это действо. Женька тоже не знал что делать, кого бить, кого оттаскивать и можно ли себя вообще так вести, ведь сборище-то было поэтическое. И тут, в этой куче-мала, я увидел Махотина гдето в самом низу, мелькнул в луче прожектора и вновь покрылся массой тел.
— Женька, смотри, Махотин в куче зарыт! — кричу Ройзману.
— Где? Где?
— Да вон же!
Тут Ройзман увидел наконец Махотина, буквально озверел, дорылся до изрядно помятого, но не побежденного Виктора и вытащил его из этого месива.
А дальше что было, я не помню. Последнее, что еще помню, — это безумные глаза Ромы Тягунова, зовущего кудато бежать и немедленно кого-то бить. До сих пор не знаю, из-за чего все началось и чем это закончилось. Было обидно, что пришли стихи послушать, а тут такое вот, как на обычной дискотеке. Но мы-то ведь были совсем другими людьми.
Или еще вот какой эпизод. Пригласил как-то Витя меня в баню. Это было еще в разгар перестройки. Все крутые вдруг стали ходить в баню. Витя и говорит:
— Пошли в баню, знаю тут рядом одну.
Сколько лет жил я там, а об этой бане слышать не слыхивал. А она прямо на Ирбитской, в какой-то котельной находилась. Там все как в цеху производственном, все так натурально, трубы, печи и все такое. Зарядились изрядно пивом, рыбой вяленой и пошли.
Последнее, что помню, это как Витя, блаженно улыбаясь, из бутылки льет пиво на горячие камни. Уже потом, по его словам, мы голыми бегали по всему пространству котельной, вводя в смущение пожилых работников, и нас чуть ли не в таком виде выгнали на улицу. С тех пор я забыл дорогу в эту баню, но вспоминаю всегда со стыдом и хохотом одновременно.
Я ни разу не видел, как Витя рисует. Когда он успевал это делать? Приходя к нему, я видел много разных картин. Витя никогда не спрашивал, нравится, не нравится. Просто показывал — и все. Всегда пытался мне что-нибудь подарить. Это было настоящей пыткой.
Не беру — значит, не нравится. Но это совсем не так. Мне всегда нравились его картины. А одну я у него просто взял и купил. Цены он назначал смешные, и даже неудобно было с ним расплачиваться. Как-то я увидел у него рисунок Рената Базетова, он тут же стал его мне дарить. А там классная была идея — сидит обезьяна, рисует другую обезьяну, которая в свою очередь рисует другую обезьяну, и так до бесконечности. И еще одна маленькая деталька: рядом лежит дохлая муха — некоторая аллегория современной живописи с точностью до нюансов. Кое-как уговорил Витю продать мне этот рисунок.
Насколько Витя был открыт и весел в жизни, настолько он был сдержан до скупости в живописи. Мне говорили, что Витя не умеет рисовать, что таланта в нем нет, и я с этим не согласен. Витя не рисовал от скуки, он не рисовал скучно, так, чтоб даже мухи дохли. У него всегда была идея, и если она не получалась, он был не виноват. Ну не получилось, что ж такого. А когда получалось — это было здорово.
Часто происходило, что я с Витей встречался случайно. Однажды проходя мимо оперного театра, услышал, как кто-то меня окликнул. Это был Махотин. Он почему-то называл меня маркизом.
— «Маркиз», а не сходить ли нам в Динамо?
Я не знал, что это такое, и сходу согласился.
Оказывается, это был пивбар, и там шла презентация пива «Левенбрее». За две кружки третью давали бесплатно. Мы выпили по три бесплатных кружки, и нас даже засняли на видеокамеру. Витя говорил, что видел как мы веселились по телевизору. С тех пор я пью это пиво чаще других.
О чем мы разговаривали во время наших встреч? Обо всем и ни о чем конкретно. Витя был мудрым человеком. Ни про кого он никогда не сказал плохого. Про других людей, впрочем, мы редко говорили. Все больше прикалывались и веселились непонятно над чем. Мне рассказывали, что у Вити было тяжелое детство. Что он сидел в тюрьме. Ни разу я не слышал от него этих воспоминаний. Я не спрашивал, а сам он не поднимал эту тему. Лишь однажды он попросил, чтоб я довез его до кладбища на улице Пехотинцев, где была похоронена его мама. Он там что-то поправлял, говорил что хочет заказать Лысякову железную оградку и крест.
Витя вообще редко что просил. Часто нуждаясь в деньгах, он сам делился последним. Витя, как мне кажется, не умел отказывать.
Святыми местами в городе для него были музей Екатеринбурга и башня. Я помню, как он весело в холодной Башне рассказывал детям о кузнечном деле. Дарил им значки и буклеты. Дети готовы были хлопать в ладоши от простого рассказа как на Урале ковали железо. Им это становилось интересным. Витя очень любил детей.
Манера разговора у Вити была простая, без зауми, не менторская. Вероятно, он был хорошим воспитателем. У него был педагогический талант. Простые жизненные морально-этические установки он соблюдал сам и своим примером заражал окружающих. Может быть, так мне хочется думать. Но сейчас, когда уже несколько лет он не идет по Пушкинской, мне как-то его не хватает.
Александр Шабуров
Чтобы помнили. Мемуары про Витю Махотина
Камертон
Недавно я смотрел DVD с советским сериалом про Шерлока Холмса. В приложении — интервью с актёрами. У актёров — недовольные рожи. Они обескуражены:
— Нашли, о чём спрашивать! Мы это десять раз уже проговорили и позабыли! Это ж было в другом веке и в совсем другой стране!.. Так и тут. Всё расплылось, никаких тебе частностей. Даже названия свердловских улиц, как оказалось, не помню.
Как мы познакомились
В 1980-м году я приехал в Свердловск и поступил в художественное училище. До сего момента всё свободное время я проводил либо в художественной школе, либо с родителями, а тут окунулся в вольную студенческую жизнь. И впервые смог выказать свой давнишний интерес к девочкам. Однако, конечная цель этого влечения представлялась мне весьма расплывчато. Устройство женской анатомии я открыл для себя годом позже — не поверите, из литературоведческой брошюры про «Жизнь Арсеньева» писателя Бунина. Там описывалось, как герой испытал шок, узнав что промеж женских ног скрывается бесформенная красная дыра. Ну так вот.
Объект моих вожделений звался Леной Долгушиной. Мои ухаживания вылились в то, что я ходил под окнами её дома, а также водил в кафешку не только саму Лену, но и трёх её подруг — Свету Абакумову, Таню Попову и Олю Коровкину.
Дом Лены находился на улице Сакко-и-Ванцетти, а кафе — на углу Восточной и Первомайской. По какойто причине оно ежегодно переименовывалось из «Ромашки» в «Теремок» (и наоборот) и было расписано покойным уже тогда художником Гавриловым, сюрреалистом местного разлива. Странными белыми потёками — с помощью аэрографа. Мы, пубертатные чада, видели в них эякулят. Помимо «Теремка» Гаврилов разрисовал «Петровский зал» на Малышева и чего-то там у вокзала… Вспомнил! Это называлось «Старая крепость», ресторан возле ДКЖ.
Подружки Лены оказались со временем более близки мне, чем она сама. Особенно Света Абакумова. Потому что Таня Попова при первой возможности выскочила замуж за какого-то сельского механизатора, Оля Коровкина захомутала моего однокурсника Лёшу Томилова (который годом позже спустил меня с лестницы из-за другой нашей однокурсницы), а Света предпочитала якшаться с художниками. Жила она с мамой в Пионерском посёлке. В одном подъезде с ней проживал художник М. Сажаев. В отличие от окружения — виртуозный и плодовитый. Бесчисленные картонки расписанные им, продавал знакомым другой художник, живший неподалёку. Звали его Витя Махотин. Света познакомилась сначала с Сажаевым, а потом и с Махотиным.
К 30-ти годам, заметил я, жизнь скукоживается до привычных ритуалов. Общаешься с двумя-тремя прибившимися к тебе людьми и без совместных дел новых персонажей к себе не подпускаешь. Тем более домой. В 16 лет всё не так. Каждый день ты знакомишься с очередными друзьями твоих друзей и едешь к ним в гости распивать алкогольные напитки. Ни за чем. Или идёшь с той же целью на берег Исети. Или на кладбище. Или ещё куда-нибудь. Тогда все ходили друг к другу в гости, клубов не было. Сидели по кухням. Мобильных телефонов не было тоже, заявлялись без предварительных звонков.
Света Абакумова зачастила к Вите в гости и в какой-то момент переехала к нему жить, а потому я повадился ходить вечерами туда. Свет был тусклый, из магнитофона пел сиделец А. Новиков, а ежевечернее сборище напоминало банду «Чёрная кошка» из сериала «Место встречи изменить нельзя». На стенах комнаты Махотина висели его картины.
Художник пытался живописать портреты друзей. Маленькие, сантиметров тридцать по большой стороне. Мне они казались никакими, ничего интересного в них не было. Я был максималист и не понимал ещё, что художник не исчерпывается его шедеврами, а поэтому в глубине души на Витю, как на художника, смотрел свысока. С другой стороны, как человека более старшего и странно говорящего, я его чуть ли не опасался. Пишу это, чтобы мемуары выглядели не сусально-апологетическими, а как есть. Как потом оказалось, в Свердловске было несколько таких притонов, хозяева коих (Малахин, Скворцов, Павлов и др.) привечали постоянно выпивающие приятельские собрания. Для этого надо обладать особым демократизмом. У Вити были на то свои причины — как я потом узнал, он был детдомовцем.
Если точнее: Махотин выглядел конгломератом открытости с невменяемостью. Всех тогда тянуло на серьёзные разговоры. А Витя в серьёзных разговорах не участвовал, отчего казался этаким хитрованом. Он поминутно щурился, лыбился, хехекал и говорил сплошными прибаутками: кекс-фекс-секс. Как метафорический российский мужичок Платон Каратаев из романа Толстого «Война и мир». Если начинал говорить серьёзно — то тут же сбивался и опять гоготал. Потому казался более сложным, чем есть.
Вскоре Света Абакумова родила от Вити сына, а ещё через какое-то время жить у него перестала. Потому в следующий раз я увидел Махотина не скоро.
Дальнейшая история свердловской художественной жизни
Тут я немножко отвлекусь, но вся описываемая «неформальная» жизнь имеет к Махотину непосредственное отношение, потому как через пару лет он оказался самым сердцем её.
Как все подростки, через год самостоятельной жизни я поссорился с родителями и взыскал компании старших людей, которая послужила бы мне заменителем семьи. Где-то с 1983-го года я стал дружить с семьёй художников Павловых (друзей упомянутого выше Гаврилова), проводить у них все вечера. Ещё через пару лет, распрощавшись с художественным училищем, устроился фотографом в областное бюро судебномедицинской экспертизы. А в 1987 году к Павловым пришли их друзья Валера Дьяченко и Витя Гончаров, дабы поделиться революционной идеей. Они надумали организовать первую в Свердловске «экспериментальную» выставку — без предварительного выставкома (как это было заведено в Союзе художников). И вскоре все желающие (а точнее знакомые их знакомых) принесли и вывесили свои работы в новом ДК на ул. Сурикова, 31.
Вспомнилось вдруг: в компании старших друзей я чувствовал себя несамостоятельно, поэтому меня туда позвали вовсе не Павловы, а фотограф Евгений Бирюков, которому я показывал однажды свои серии. А приветил Евгений Арбенев, создававший в одной из комнат экспозицию на прищепках.
Если быть более точным, кордонов в Союзе художников было два. Сначала проводили свой профессиональный выставком, куда могли приносить опусы даже студенты.
И только потом каждую выставку принимала идеологическая комиссия из горкома КПСС. На Сурикова, 31 через профессиональные критерии перепрыгнули. Но комиссия из отдела пропаганды всё же осталась (я полагаю, они и были инициаторами такого эксперимента). Однако чиновники («партаппаратчики» по тогдашней терминологии) тоже перестроились — открыто объясняли художникам, что им не нравится в том или ином произведении, и призывали художников самим снять неугодные работы. Это называлось «гласность» и «плюрализм». Несколько шедевров комиссия призывала снять во что бы то ни стало. Подрывной их смысл сейчас малопонятен. Как помнится, это были: суровый портрет Ленина выдающегося художника Коли Федореева, «Портрет школьника» Игоря Шурова (голова с натыканными в неё, прямо в холст, красными гвоздями), «Политинформация» Игоря Игнатьева (рисуночек: ослы, сидящие за столом), абстрактные треугольники Алексея Лебедева (в коих узрели сионистские символы),голая баба с красным лобком Бориса Хохонова (порнография), а также моя фотосерия про то, как мы отмечаем 7 ноября у Павловых (здесь увидели пропаганду пьянства). Цензуры никакой не будет, сказали нам, но если вы сами это не снимете, выставку не откроем.
Время, однако, было героическое. Художники сказали: или мы открываем выставку целиком, или не откроем вовсе! А в качестве арбитров позвали прессу. Реклама удалась на славу. «Партаппаратчикам» пришлось сдаться. Весь месяц очередь на выставку держалась несколько кварталов, в экспозиции читали стихи заезжие поэты из Перми, а сами авторы там и дневали, и ночевали. Члены Союза художников тоже посещали сей оплот свободомыслия и скептически замечали, что для начала многим здешним нонконформистам следовало бы конечно научится холсты грунтовать, чтоб краски не жухли.
Лидерами конфессии были человек пять: упомянутые Валера Дьяченко и Николай Федореев, Евгений Малахин (хозяин известного в узких кругах подвала на Толмачева, 5, тогда придумавший себе псевдоним К. А. Кашкин), Павлов (содержавший напротив Музея Свердлова другой художественный притон) и Арбенёв. Из Союза художников участвовали Саша Свинкин и скульптор Геворкян. К ним примкнули Игорь Шуров, Витя Трифонов, Николай Козин и Владимир Корнелюк. Последний был экстравагантным сумасшедшим стариканом, ходил в гетрах, с малюсенькой собачонкой, писал стихи и рисовал картинки с миллионом спрятанных в них эротических силуэтов, аллегорических фигур и портретов деятелей культуры. На выставке мы рассорились с Павловыми. Журналистка Ю. Матафонова в «Уральском рабочем» (та самая, которую призвали защитить жертв цензуры) особенно отметила мои фотографии, по-своему расшифровав их смысл: «Что же мы видим? — писала она. — Пьянство, аморализм, социальная лень… И это, когда где-то в мире рвутся снаряды и умирают голодные!» Буквальные её слова. Павловы этого не пережили. Цена печатного слова тогда была несравнима с сегодняшней. А я стал пропадать в подвале их друга К. Кашкина.
А где же Махотин?
Надо сказать, что в выставке «Сурикова, 31» участвовали далеко не все желающие. Оно и понятно. Однажды я с женой был на песчаной косе под Одессой в компании пяти приятелей и обнаружил, что впятером практически невозможно найти подходящее заведение, где покушать. У каждого из пяти — свои требования. В результате мы обходили весь пляж и возвращались назад, к самому первому рыбному ресторанчику, который оказывался наилучшим. Вдвоём договориться гораздо проще. Так и тут. Знакомые позвали знакомых. На первом этаже ДК был отгороженный аппендикс — экспозиция вечерней художественной школы, которой руководил Лев Хабаров. Их для чего-то пристегнул Отдел культуры. Но до самого конца за своих хабаровцев не считали. Профессиональную планку хоть и приспустили, но не совсем.
В вечернюю художественную школу (располагавшуюся на ул. Сакко-и-Ванцетти, 23) ходили не дети, а взрослые, желавшие получить справку об окончании курсов художников-оформителей. Так раньше именовались сегодняшние дизайнеры. Только они тогда не за компьютерами сидели, а плакатными перьями объявления писали. Там сформировался свой круг художников, менее амбициозных — посетители курсов и их друзья. И где-то спустя полгода они тоже организовали «экспериментальную» выставку — прямо в стенах школы. «Суриковцы» их, понятное дело, считали ненастоящими. Себя-то мы чувствовали «подлинными авангардистами», мы были первые, а там царила совсем уж самодеятельность.
Из всей выставки я запомнил только минималистские завитушки с подписями моего будущего друга поэта Козлова. Ещё помню картину Л. Хабарова, где была изображена яичница, а сверху в холст воткнута вилка. Примерно как гвозди у «суриковца» Игоря Шурова — так что особой разницы не было. Тогда же все эти различия были неимоверно важны!
Однако, ещё спустя год «суриковское» товарищество раскололось, и всё перемешалось. На следующей «суриковской» выставке (теперь в картинной галерее) партийная комиссия захотела снять портрет опального тогда секретаря московского горкома КПСС Ельцина, автором которого был Н. Федореев. Объемный фанерный короб, высотой метра два. Пол-лица Ельцина — уже тогда — было выкрашено черной краской, поллица белой… Но комиссия на очередном вече сказала:
— Хотите бастуйте, не открывайте выставку, но на сей раз мы слабины не проявим! А через две недели извольте освободить зал для следующей экспозиции…
Половина художников заявила:
— Зачем мы должны жертвовать всеми зрителями ради одного произведения?!Другая половина в знак протеста сняла свои шедевры, оставив голые стены. Я какие-то очередные свои фотографии снял. Арбенёв снял. Лебедев снял. Свинкин снял. Чернышов. Ну и т. д. И начались собрания, война за право владения уставными документами и печатью. Дабы создать организацию, дублирующую Союз художников.
Хабарова я знал мало, да он и не стремился к публичности. Видимо, он оказался более хозяйственным, потому как руководил школой. Тем паче никакого коллективного правления у него не было. В деревянных домах купца Агафурова на Сакко-и-Ванцетти кто-то из городских властей вознамерился создать музейно-этнографический квартал, и часть помещений в округе передали Хабарову во временное пользование. А он стал раздавать их хорошим людям. С той самой поры одну из ближних фазенд занял под мастерскую Олег Еловой. Потом от «Сакко-и-Ванцетти, 23» отпочковался кооператив (так это тогда называлось) «Вернисаж» (Гольдер, Хохонов, Санников, Ильин, Козлов и др.), получивший неотапливаемую избушку на ул. Энгельса. Даже остатки «суриковцев» получили офис на Радищева. А в бесхозном особнячке с колоннами на Ленина, 11 решили организовать постоянно действующую неформальную выставку. В XIX веке здесь находилась почтовая станция, поэтому её так и назвали — «Станция вольных почт».
А поддерживать доверили Вите Махотину. Это были самый правильный выбор и самый подходящий человек. Махотин там чуть ли не жил и почти не спал. У него получили комнатушки и Валера Дьяченко (из «суриковцев»), и Витя Кабанов (из «сакковцев»), и поэт Рома Тягунов, и кто-то ещё, не помню.
Махотин был человек безотказный. Дарил работы всем друзьям, кому они нравились. Известный анекдот депутата Жени Ройзмана. Получает он в подарок от Махотина картину, и читает на обороте: «В дар Тане и Васе». Ройзман недоумевает:
— Витя, что это значит?
Тот отвечает:
— Ничего страшного!
Бормочет своё неизменное «кексфекс-секс» и дописывает: «А также Жене».
Женя состоял тогда с Ромой Тягуновым в поэтическом объединении «Интернационал», зашел к Вите Махотину и стал с ним дружить.
Сам я к тому времени уволился из судмедэспертизы и стал зарабатывать на жизнь как уличный портретист в сквере у ЦУМа. Рисовал шаржи (один человек — один рубль, два человека — два рубля и т. д.), сбивая местную конъюнктуру цен. Это днём, а вечерами я шёл в подвал к Б. У. Кашкину (бывшему К. Кашкину, поменявшему псевдоним на более благозвучный) либо на Ленина, 11. Потому не удивительно, что новая моя пассия Наташа Дозморова, с которой я познакомился прямо на улице, выйдя от Махотина, жила здесь же, на Сакко-и-Ванцетти. В новом доме, который стоял на месте прежней хибары Лены Долгушиной. У купцов Агафуровых это, оказывается, была прачечная. Этажом выше проживал директор завода Калинина Тизяков (будущий участник ГКЧП).
«Агафуровскими дачами» отчего-то в народе называли и свердловскую областную психбольницу на каком-то там километре Сибирского тракта.
Экспозиция на Ленина, 11 менялась еженедельно. Топили дровами. Тут же останавливались все проезжавшие через Свердловск тусовщики. По воскресеньям выступал организованный Б. У. Кашкиным ансамбль «Картинник», даривший слушателям досочки с стишками. Например: «Слезятся маленькие глазки у крокодильчика без ласки». На кассе сидела Наташа по прозвищу Монтана. Лезли под ноги сопливые дети не менее сопливого Дьяченко (штук шесть) и Кабанова (штуки три-четыре). Делали выставки бессчётные художники, в т.ч., мои соученики Лёня Баранов и Гена Шаройкин. Поэт Тягунов тиражировал на копировальном динозавре «Эра» поэтические сборники и рассказывал легенды, как его за это преследует КГБ. Вечерами к нему заходили упомянутый выше Ройзман, Костя Патрушев и примкнувший к ним Фил (церковный регент, который всегда держал нос по ветру и, если узнавал что где-то в Свердловске наливают, сей момент устремлялся туда). Ну и т. п. Каждый бывавший там может перечислить десяток своих завсегдатаев. Стекались все, кому ничего не хотелось делать, но хотелось поговорить. Таких в Перестройку было большинство. За окошком что-то менялось, потому население вышли на улицы в поисках новых для себя социальных ролей. Представлялось, что это будет продолжаться вечно. Но в какой-то момент выяснилось, что владелец у здания всё же есть, и засидевшихся попросили на выход.
Потом Витя работал в Музее Свердлова, потом — в башне, а ночью, как сам он рассказывал — сторожем в синагоге. Пару раз он меня туда водил. Помещение это (рядом с баней на Куйбышева) не очень походило тогда на синагогу. Скорее на пещеры первых христиан. Потом мы ещё где-то виделись или хотя бы перемигивались. Или он чего-то, как всегда, скаламбурил, не помню… На Пионерском посёлке у него я никогда больше не побывал. И Свету Абакумову до последнего времени не встречал.
Попадёт ли махотин во всеобщую историю искусств?
Напоследок Света, собирающая сборник памяти Вити, попросила написать о нём и изложить свои соображения на этот счёт.
Недавно я побывал в Бишкеке, где участвовал в выставке «Маслов и другие». Маслов — художник из АлмаАты. Который перелопатил окрестную культурную территорию и оросил всех своими фантазиями, а потом помер. Соратники его после банкета приставали к гостям из метрополии с одинаковым и на первый взгляд дурацким вопросом:
— Как вписать художника Маслова в мировую культуру? — (Когда-то книжка такая была «Всеобщая история искусств». ) — Ведь для нас он — всё, а там про него слыхом не слыхивали. Как совместить наши и ихние представления?
А никак.
Если вспомнить опять выставку «Сурикова, 31», там был художник Виктор Гончаров, который перерисовывал один к одному картины оп-артиста Виктора же Вазарелли. В 1987 году это не казалось диким или хотя бы бессмысленным. История, впрочем, не уникальная. Половина московского «современного искусства» — прямые заимствования из иностранных журналов. Случай Махотина совсем другой. Рисуя сейчас картины, понятно, никого новизной не удивишь. Да и не это в нём было главное. То же самое с Еловым. Тоже не ахти какой новатор! Б. У. Кашкину — в силу самобытности — повезло чуть больше.
«Всеобщей истории искусств» нет, так же как многих других абстракций. Пишу это, сидя в Нью-Йорке. Культур — мильоны. И любая — помирает только с её носителями, или не помирает — когда передаётся от одного конкретного носителя другому конкретному человеку. Как минимум сохраняется память о них. Те, кто знали и любили художника Маслова, должны продолжать это делать. Культивировать и архивировать свою местечковую «историю искусств» и пытаться навязывать её жителям других континентов. Так и с Махотиным. Те, кто помнят его и любят, должны продолжать это, не заморачивая голову тем, попадёт ли он в «историю мирового искусства». Это — дело не столько случая или стараний, сколько приближённости к соответствующим рынку и индустрии. Но и в Нью-Йорке китайских художников покупают только китайские коллекционеры, русских — только русские. А потом ждут, когда это подорожает на родине…
Мы нужны только нашим близким, знакомым и друзьям. Местная культурная история — она тоже история, существующая с другими наравне. Наша жизнь — не менее ценная, чем жизнь, скажем, Ходорковского, Ксении Собчак, американского далай-ламы или любого другого раскрученного медиа-персонажа. Нам надо прожить свою жизнь там, куда занесло, без лишних сожалений. Есть ещё афоризм, что собаки бывают маленькими и большими, но каждая должна не о том думать, а просто лаять с полной самоотдачей.
Банальные, казалось бы, истины. Но полжизни считаешь, что у тебя дома — культурная периферия, а «настоящая» жизнь — в Москве (для москвичей — в Нью-Йорке). И только переселившись туда, ты эту мифическую географию в своей голове рушишь. Как говорил мой приятель-художник Леня Тишков, первую половину жизни рвешь пуповину, чтобы вторую — ее восстанавливать… Со временем ты можешь наконец оценить, что Свердловск — место выдающееся не только ископаемыми, но своей культурной историей. Возьмите, например, россыпь рокансамблей. Во всех областных городах были организованы рок-клубы, но никаких плодов они почему-то не принесли! То же самое с литературой, мультипликацией, музкомедией, мафией, баскетболом и мн. др. Виновато в том не скрещенье железнодорожных путей. И не провинциальное желание во всём дотянуться до «гамбургского счёта», отчего свердловское образование заткнёт за пояс многие столичные вузы. И не то, что сюда поколениями ссылали рисковый и предприимчивый люд. Как мне кажется, причина в том, что не смотря на описанные выше множественные, но мелкие противоречия, здесь была традиция друг друга поддерживать. Все тут первобытно перемешаны. Старшие привечали младших, а младшие не особенно ниспровергали старших. Такое есть не везде. Мизин вот говорит, что Новосибирске такого нет (хотя подозреваю, что он по молодости лет сам вёл себя излишне ершисто и со всеми перессорился). На расстоянии это особенно заметно. Даже драматург Коляда молодёжь высматривает и воспитывает себе собратьев по перу.
Я сужу по своей, так сказать, профессиональной братии. И раньше было так же. В 1980-е «шишку держали» (были самыми главными авторитетами т. е.) Брусиловский, Волович, Метелев и др. Раньше все точки над i расставлялись в подвалах-мастерских. Более цеховой уклад был. Они (Брусиловский, Волович и Метелёв) своего авторитета не утратили и поныне, просто в конце 1980-х жизнь вдруг выплеснулась на улицы и потребовала иного темперамента. Большей открытости. Другие люди на эти улицы вышли — и юнцы, и технари, и сумасшедшие пенсионеры.
Вот и общались с ними такие же уличные пастыри, которые никем не брезговали, никому не отказывали — Витя Махотин, Б. У. Кашкин и Олег Еловой, к прежней жизни почему-либо не приспособившиеся. Которые и сами были бессребрениками. Но с прежними «смотрящими» они очень даже считались. Кроме них имелось энное число и более мелких лидеров. Каждый вспомнит пару-тройку своих друзей (я знавал Антонова А. Г., Киселёва Ю. К., Касимова, Курицына, Вадика Дубичева, Голиздрина), но они либо уехали, либо у них имелись более важные дела… Именно Б. У. Кашкин, Махотин и Еловой отдались в 1990-е разношёрстному свердловскому обществу с головой. По странному совпадению, спустя десятилетие все они умерли.
Померли Федореев, Тягунов, Трифонов и Корнилюк. Близких у последнего не было, потому лицо ему объела та самая маленькая собачка. Витя Гончаров уехал в Нью-Йорк (я его вчера здесь встретил), Гольдер — в Германию, Курицын — в Ленинград, а я — в Москву. Касимов стал депутатом гордумы, а поэт и бывший кришнаит Козлов — его помощником. Кто займёт место умерших героев, и какой будет последующая жизнь, очень интересно.
Глава 2.
Почему я маленьким не сдох…
Тамара Кочева
Витя был человек Вселенной
Познакомилась я с Витей Махотиным в 1958 году в детском доме №4, который находился на Большом Конном полуострове. Обыкновенный пацан, учился средне. У нас не было разделения по возрасту, хотя мы и учились в разных классах. Все были одной семьей.
Вместе играли, по-детски безобразничали, занимались спортом, художественной самодеятельностью. Единственное, чем выделялся Витя, — он уже тогда рисовал. У меня сохранилась фотография комнаты, оформленной Витей к Новому году (у каждой группы была своя зимняя тема по классике): верстовые столбы, зимняя дорога, тройка лошадей, а в санях медведь — генерал Топтыгин. В 1959 году началась реставрация здания на Конном, а нас распределили по разным детским домам. Иногда мы встречались на слетах, смотрах, спортивных соревнованиях. А потом жизнь раскидала кого куда. Девять лет назад мы снова с Витей встретились в Башне — музее-кузнице. Пока Витя был смотрителем Башни, это было место, куда мог прийти любой со своими радостями и проблемами. Витя был солнышком, которое согревало всех, несмотря на возраст и ранги. Сюда тянуло просто заглянуть поздороваться с Витей, увидеть его улыбку, прячущуюся в бородке, его глаза, которые излучали любовь и добро. В Башне растворилась огромная Витина душа. Частичка его находится и в каждом из нас, его друзей, и эта частичка делает нас добрее к окружающим.
Самые запомнившиеся фразы: «Почему я маленький не сдох»; «Прошла зима, настало лето, кто в магазин пойдет за это?»; «Уроды»; «Столько не живут»… Его тосты: «За любовь!», «За …лось» (чтоб дышаЛось, жиЛось, хотеЛось, могЛось, даваЛось, браЛось и т. д.).
Витя любил жизнь во всех ее проявлениях. Любил людей, особенно — детей и женщин. Хотя так и не создал своей семьи. Это беда всех детдомовцев. Кого-то не приняли родители второй половины, а кто-то не сумел жить маленьким своим миром. Витя был человек Вселенной.
Последняя моя встреча с Витей — 15 ноября 2002 года на закрытии сезона работы музея-кузницы. В Башню пришло столько народу, что все не могли поместиться на ее маленьком пятачке. Люди приходили и уходили до следующей весны. И, что удивительно, работали 2 кинокамеры, такого никогда не было. Как будто люди знали, что видят Витю в последний раз. Каждый хотел быть рядом с ним.
Музей-кузницу в башне Витя собирал по крупицам с первого гвоздя и был его хранителем в течение 10 лет. Сюда приходили и взрослые, и дети. Сколько радости светилось в детских глазах! Сколько интересного мог рассказать Витя об истории нашего города: о кузнецах, творивших удивительные вещи из простого железа, об экспонатах, находящихся в экспозиции музея. А скольких самобытных художников Витя выпестовал на Станции вольных почт! Скольким дал путевку в жизнь! Следил за своими птенцами, помогал и советом, и делом, и материально. А сколько выставок и концертов, санкционированных и подпольных, проводилось там! Каждый знал, где находится этот дом. Легендарный «Титаник» — Витин дом на Ирбитской, 10-а. Витя был его ангелом-хранителем. Витя умер, и дом рухнул.
Полмира перебывало в его квартире, каждый в любое время суток мог найти там и кров, и еду. И никто не уходил без подарка. Витя дарил мне картины других художников. Обещал подарить свою, но не успел. Мы думали, что будем жить вечно. Но у меня есть альбом Витиных картин, который Е. Ройзман выпустил к 40-му дню. Черновик альбома Витя видел за день до смерти и одобрил его.
Витя торопился жить. За отпущенный ему короткий срок он прожил несколько жизней, может, поэтому Бог и прибрал его. Да и смерть его была легкой. Вышел из ванной и уснул навсегда, чтобы остаться в нашей памяти светлым человеком.
Иногда поднимаю глаза в небо и ищу среди россыпи звезд его звездочку, может, она мне когда-нибудь подмигнет и подскажет, что делать в проблемных ситуациях. Вити нет уже почти пять лет, но до сих пор щемит сердце. Как нам всем его не хватает! Вечная память тебе, Витя!
Нина Малых
Как брат
Владимир Малых и Виктор Махотин десять лет, до 1961 года, росли в одних детских домах, учились в одном классе. В 15 лет Виктор Махотин из детского дома выбыл. Муж рассказывал, что Виктор все проведенные в детдоме годы мечтал найти свою маму. Через 10 лет, в начале 1971 года судьба опять свела двух друзей детства.
Я познакомилась с Виктором в 1972 году, мы тогда жили на Университетской, напротив Храма Александра Невского, что в Зеленой Роще. Мой муж сказал: мой брат Виктор по прозвищу Шишкин — видимо, помнил с детства тягу своего товарища к рисованию.
В ту пору Виктор обитал на ВИЗе, с ним в соседней комнате проживала его мама, которую он все-таки нашел в Белоруссии в сельской местности и привез ее к себе в Свердловск. «На свою голову», как говорил Витя. Поскольку она любила выпить, и ему приходилось ее даже лечить. Причем выяснилось, что она сдала его в органы опеки под чужой фамилией — фамилией подруги. Витя также шутил: «Я хитрый, папа у меня еврей, что имею — все во мне». В нашу семью он вошел по-свойски, как брат.
14 ноября 1973 года у Виктора была свадьба. С Татьяной (женой) они расписались формально, по настоянию родственников Татьяны, и вскоре разошлись по договоренности. В 1974 году мы переехали на Химмаш, и друзья детства стали видеться реже. У Виктора тоже прошли свои семейные перемены, и он сменил адрес. Муж время от времени встречался с Виктором, и так продолжалось около десяти лет. А в октябре 1984 года Владимира Геннадьевича не стало…
Борис Цыбин
Это останется со мной
Я знаю его таким, каким знаю. И пусть это останется во мне навсегда…
Мне Витя помог — устроил моего сына в кузню, спас от плохой компании. Потом я его младшего сына Прохора тоже взял к себе на работу в цех. Мы — детдомовские. Сначала в Визовском детдоме жили, потом в пятом на улице Боевых дружин.
В детдоме у нас была баня своя, сад. Кружки вязания, техмоделирования. Детей в детдоме было 120 человек — 4 отряда по 30 человек. Витя старше меня на 3 года, но все мы были вместе, большие и маленькие. Когда детдом наш расформировали, Витя попал в интернат на Уралмаше, сейчас это школа на ул. Бакинских комиссаров.
В детстве дружбы у нас с ним не было. Все мы детдомовские были тогда стаей волчат. Знали друг друга — и только.
А вот Тамара Зайцева мне нравилась. Я Тому увидел спустя много лет у Махотина в башне, в 90-е годы.
С самим Витей мы встретились в 80-е годы, кажется, у Вити Ламмерта в гостях, он тоже наш детдомовский. И у меня дома висит картина Вити — портрет Ламмерта — очень хороший портрет.
Под Новый год с получки купил ему шубу, а то он в курточке бегал. По четвергам мы с ним всегда ходили в баню на Первомайской.
Неделю меня на Ирбитской не было, пришел в конце декабря, а мне соседки сообщили, что Витя умер (как, почему я этого не знал?!). Я не поверил, мне говорят: возьми номер газеты «Подробности» и прочитай. Я прочитал, иначе никак не мог поверить.
Витя рисовал по ночам. Или проснусь — в комнате свет, он лежит, читает, и телевизор фоном. Много у него было проблем, вздыхал по ночам, часто не спал. Художником он был в свободное время… Он ведь больше коллекционер, искусствовед — такое мое понятие о нем. Вся справочная литература была у него. Говорили мы с ним обо всем. Он за ночь мог 3—4 картинки сделать. Предлагал мне: возьми. Я отказывался: не надо, Витя. Кто ж знал, что так случится!
Опять детдом вспоминается. Как-то ведь воспитатели с нами справлялись. Иной раз, правда, говорили что мы хуже фашистов. К детям тогда лучше относились.
Хорошие были воспитатели: Журавлева Галина Петровна, Фамигулина Роза Михайловна. Ее муж — шофер Володя. Живы ли они теперь?
Мы обычные мальчишки были. Конечно, хулиганили. Тетрадки за ремень — и вперед, учиться ходили во вторую школу. И в 69-ю школу. И уроки, бывало, прогуливали.
Купались. Весь пруд исплавали, ныряли с Генеральских горок. Или на рынок шли, на вокзал — смотреть поезда. По садам лазили, хотя в детдоме был свой сад. С визовцами постоянно дрались. Один раз меня наказали — на два дня положили в постель без разрешения вставать. И я лежал.
На чердаке у нас стояли фляги алюминиевые из-под молока — в них брагу ставили из яблок. Первый раз я попробовал брагу в первом классе. Придешь на чердак — отопьешь. Воспитатели ничего не знали.
Длинные волосы были у нас, потому что в 60-е годы появились эти, хиппи. В 6—7 классах нам девочки стали нравиться — и сами стали следить за собой, подстригаться.
Я ездил в изостудию у вокзала — в ДК железнодорожников. Витя тоже там занимался. У Чеснокова, кажется. В 7 часов мы вставали. Зарядка, даже штанга. Заправляли постель. В 8 часов завтрак. В школу сами уходили. Ремни с бляхой и серую форму надевали. Портфелей тогда не было, вместо них — планшетки военные. Ручки перьевые, чернильницы-непроливашки.
У нас мастерские были хорошие, мы работали в них начиная со второго класса, табуреты делали. Баня своя была. Теплицы. Детдом тогда топили дровами (печник Рашид топил).
Летом весь детдом выезжал на Светлую речку. В лагерь. Бегали, гуляли, купались без ограничения. По лагерю в трусах носились. В черных, в серых — кто в каких, кому что выдадут. На линейку — в галстуках. Сами корпуса красили. Свинарник был. Одна лошадка. Малинник. Смородинник. Грибы собирали. Солили их целыми бочками и мариновали.
Утром просыпаешься — и на мостки бежишь умываться. Моешься, а тебя сзади толкают в воду. Сколько раз так было. А как плавать меня научили: вывезли на плоту на середину, сбросили и веслом оттолкнули: плыви. Ничего, поплыл.
Я не матерюсь. И Витя не матерился. И Тома. Нас не научили. Тогда лексикон был другой. Мне завуч книги все время подсовывала. Я со 2-го класса читать начал. Бажова, мне сказки нравились, потом Тургенева, Блока.
«Войну и мир» Толстого тогда же прочитал — не потому, что по программе положено, а потому что интересно было, как там да что происходит. Мне Витя три работы подарил: одна — большой портрет Ламмерта, с бородой, маслом, в 80-е годы нарисованный, на другой обнаженные девчата танцуют, а третья — автопортрет.
Глава 3. Все люди — евреи
Светлана Абакумова
Stories. Чисто сердечное признание
Как я познакомилась с Махотиным
(ответ Шабурову)
Был 1983 год. Я жила в первом подъезде с мамой, братом, сестрой и отчимом на Боровой, 21. М. Сажаев жил в третьем подъезде. Моя мама с его женой работали конструкторами, то есть были хорошо знакомы. Я мимо ушей пропускала это имя — Михаил Сажаев. Нас потом Витя с ним познакомил на Ирбитской. Вернее он пришел в гости туда, когда я уже там жила. А жить я стала там на второй день знакомства. В первый раз принесла неизвестному художнику Махотину письмо, и он велел зайти за ответом на следующий день. Придя за ответом следующим вечером, напившись чумового чая и искурив крепкую беломорину, я там и осталась жить, потому что Витя меня притормозил, взял в оборот, задарил подарками знаковыми, например шкурку беличью вручил, при всех сказав, что это на варежки сыну. Я опешила: какому сыну?
Он ответил: нашему. Его смелость и стремительность поразили меня. Все решил — мне и думать ни о чем не надо. Так оно и вышло. То есть мы влюбились друг в друга очень быстро — мигом, и препятствий никаких для нас не предвиделось. Маме моей было все равно, отчиму тоже. Отец мой умер давно, и дома мне было хреново. Но! Было письмо. В котором школьная подружка моей любимой подруги Оли Маклай Таня признавалась Вите в том, что скоро родит. Причем, от него родит! (В пионерлагере вместе работали, он — художником, она — воспитателем.) И что ее врачи из-за отрицательного резус-фактора замучили. И что ему надо срочно сдать кровь. Вот. Он сказал мне — ответ я писать не буду. Передай: пусть рожает, я буду помогать. И кровь сдал. И помогал. И Клавку любил — она с ним подружилась, когда ей лет 15 исполнилось. Таня со мной через год-полтора общаться перестала. Я ее увидела лишь на похоронах в декабре 2002 года — мы ехали в одной машине на кладбище. Вот. Чувствую вину перед ней. Обида ее понятна мне. А Клава вышла замуж (она искусствовед, как и я) и год назад родила Вите внучку. Ну он это видит сверху, наверное.
Киностудия
Витя работал на Свердловской киностудии в разные времена, в разных съемочных группах, чаще всего реставратором-бутафором, иногда осветителем, иногда сопроводителем грузов… Я после прочтения книги Ф. Феллини «Делать фильм» бредила кино днем и ночью (писала сценарии, делала раскадровки фильмов). Витя сказал: «Могу исполнить твою мечту!» И привел меня на киностудию.
Там были длинные коридоры и много-много незнакомых людей.
Он познакомил меня с Валерой Васильевым по прозвищу Дик — милейшим, умнейшим, мудрейшим человеком, в годы перестройки — рок-панком, объехавшим с рок-фолк-командой Букашкина всю страну. А в социалистической действительности Валера Дик был бутафором золотые руки.
Витя сказал: «Ходи за ним по пятам, не отставай ни на шаг. И все тогда приложится, будешь киношником». Витя испарился, а я ходила за Диком по пятам дня два, пока в коридоре меня не словила наша хорошая знакомая, Света Гаврилова, начальник планового отдела, и не сказала: «Ты за ним не ходи, а то испортишь себе всю репутацию».
Надо пояснить, что Дик выглядел куда как дичее Вити. Витя иногда бывал отъявленно красив, он обаял меня именно как мужчина — накачанными мускулами, загаром, невесть откуда взявшимся посередь зимы 1983 года, густыми каштановыми волосами и веселыми карими глазами… Дик же, при маленьком росте, выглядел грозно, просто устрашающе, у него были длинные нечесаные волосы чуть ли не до пояса, такая же длинная нечесаная борода, очки-линзы, неформальные фенечки и валенки на ногах в любую погоду (рабочая одежда, наверное).
Да еще зубы торчат, клыки вампирские. Потом, лет через десять — тринадцать, Дик приходил ко мне домой в гости на Советскую и рассказывал байки про то, что в Москве на Арбате продаются его музыкальные альбомы «Дикий Рок».
Когда я приехала в Москву в 1995 году, первым иль вторым делом пошла на Арбат в музыкальный магазин. И действительно, там я увидела на полках аудиокассеты с записями Дика. И они действительно назывались «Дикий Рок»! Все оказалось правдой. Валерочка Васильев, Валера Дик, добрый старый панк, умер лет 6 назад от болезни печени или легких, но у меня навсегда останутся к нему самые теплые чувства.
А тогда, в середине 80-х, так вот незамысловато-просто окончился мой «роман» с киностудией. …Но мечты сбываются, когда про них забываешь.
В 2003 году (через полгода после смерти Вити) мне довелось стать бутафором у Федорченко, снимавшего «Первые на Луне». Нас было трое в бригаде, я бригадир, это было трудно, интересно. (На «Кинотавре» фильм получил два приза — за лучший дебют и премию киноведов.)
…Сейчас я думаю, что наверняка Вите нравилась во мне моя беспредельная доверчивость, которую никакие жизненные «обломы» не смогли истребить, сопоставимая по размерам разве только с его безграничной доверчивостью к миру и к людям.
Витя как-то говорил, что путешествовал с дочкой генерала, любовь крутил с ней летом на Кавказе, когда ему было 15—16 лет. Что девушка из дому убежала, чтобы гулять с ним по холмам Грузии…
Больше всего меня поразила легенда о предках. Якобы один человек перед смертью передал Вите архив. И в нем Витя нашел документы, из которых следовало, что у него родители другие, по фамилии Ройтман. Что они были репрессированы и расстреляны, а детей их (Витю и его брата) домработница сдала в детдом под своей фамилией — Махотина. Позднее Витя говорил мне, что это неправда.
Не раз муссировалась и легенда о том, что он ходил с другом в Китай. Я удивлялась, спрашивала Витю чем же они там питались. Он отвечал:
— Нам китайские женщины давали хлеб и рис.
— А как же вы с ними изъяснялись?
— Жестами.
О паспорте
Паспорт (советский) у Вити был обычный, год рождения — 1946, национальность указана — еврей. А вот военный билет точно был подтерт резинкой в паре мест, в каких — уже не помню.
Наколки
У Вити была наколка, свидетельствующая, что он родился в США, — Made in the USA. На каком месте, написать не могу, неприлично. И сказать не могу.
Спросите у Сергеева.
Хороший понт
Как-то забегает к нам соседка с первого этажа, Галя, завхоз из детсада, и спрашивает: «Виталик, водки нету?» Она Витю почему-то называла Виталиком. Витя бросился на пол, давай смотреть под шкафом и под раскладушкой. А времена были горбачевские — какая там водка, все по талонам. Витя говорит: «Нет, извини, Галя, водки нет». Соседка ушла. Я в недоумении: «Что ты искал, где тут может быть водка?»
Витя улыбается до ушей: «Хороший понт — тоже деньги!»
Витя все мог
Однажды меня обидели: напали средь бела дня на улице, когда я шла за ребенком в садик, настучали по голове, обрызгали газом. Милиция заявление приняла, но дело через месяц закрыла, вроде как никого не нашла, хотя фамилии фигурантов ей были известны. Витя надел как-то черную телогрейку, взял длинную палку, сел в черную машину с компанией лихих ребят и отплатил обидчикам.
Измены
Как-то утром возвращаюсь, переночевав у родителей, на Ирбитскую, потому что в комнате, где гости до утра сидят спать невозможно, и застаю у Вити некую даму, высокого роста. Из кровати его выбирается. Спрашиваю ее: «Что ты тут делаешь?» А она так нагло: «Одеваюсь». Треснула я ей кулаком по голове, благо она наклонилась вроде как чулки подтянуть. Дама обиделась очень: «Ну, — сказала, — спасибо тебе, Витя, за все!» — и дверью хлопнула.
А я, беременная тогда, — давай реветь. Витя туда-сюда бегает, то на лестницу, то в комнату, — нас двоих успокаивать успевает. Что же она там делала, на Ирбитской-стрит, в его кровати? А фиг ее знает! Он как-то объяснился со мной, убедил, а я поверила, — куда деваться. Ситуацию эту Алена Матвеева (ее подружка-то была!) так оценила: «Правильно, Светка. Чувства бывают горячими или холодными. А теплыми — только помои». Видела я девушек на его коленях, это меня огорчало до слез-истерик, а он смеялся.
Еще как-то нарисовалась 16-летняя Ленка Рыжая у него дома, из соседнего квартала. Пришла и живет: пол моет, кушает, на Витином этюднике картинку рисует. День проходит, другой, она не дематериализуется! Я спрашиваю: «Витя, что это за девчонка, как она сюда попала?» Витя отвечает: «Сама пришла, говорит, что жить ей негде, дома у нее конфликт с бабкой, безотцовщина, трудное детство. Как я ее выгоню? Никак не могу».
Ну, думаю, дело трудное, придется резать по живому. Подошла к ней и говорю: «Лена, у нас семья, дуй отсюда. Третий — лишний». Она возмутилась, что-то возражать стала, права качать, но все же вернулась к своей бабушке жить. Спустя какое-то время мы даже подружились, потом пути наши как-то врозь пошли.
Детсад
В надежде получить для Проши путевку в детский садик (по соседству), я устроилась в ЖКО завода автоматики работать художником-оформителем (тоже очень близко от улицы Ирбитской — на Бехтерева). Работаю месяц, работаю два, а путевку все не дают, то ремонт у них, то еще что-то не ладится, младшую группу не открывают. И Вите пришлось три месяца с ребенком дома просидеть. Он с ним и гулять ходил, и кормил его сам, и спать укладывал.
Легенды
А когда ему было некогда, Проше дома на дудочке играл Сергей Григорькин и книжки детские показывал. А когда и Григорькину было некогда, то его на этом боевом посту с дудочкой сменял Игорь Суставов. И тот и другой — из нашего художественного училища. Я об этих нянях узнала совсем недавно! Потом наконец-то дали нам место, и Витя освободился.
Витю воспитательницы любили. Да и Прохора нашего тоже. Они оба были необычными. Прохор чертил планы переустройства садика — вот вам бассейн, вот бар, вот площадка — и ходил обсуждать эти чертежи с заведующей детсадом Альбиной Терентьевной, довольно часто. Как-то раз пришел к ней милиционер насчет какой-то кражи поговорить, а Альбина Терентьевна Прохора для назидания в уголок посадила, чтобы попутно и он воспитывался. Прохор с милиционером разговорился, подружился, уболтал его — тот про кражу и слова не мог вставить. На прощание Проша ему ручку протянул и сказал: «Приходите к нам чаще». На что заведующая отреагировала быстро: «Нет уж, спасибо, чаще не надо!»
Бывало, достанется Проше от старших замечание за бурное поведение, а он им — новый план переустройства садика с бассейном, так и жили. Воспитательница из его группы дипломную работу писала в пединституте на примере Прохора, — одаренный мальчик.
Маленьким Прохор обожал Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя» и как-то на утреннике сказал, что хочет быть милиционером, когда его спросили кем-будешь-когда вырастешь, на что папа Витя густогусто покраснел (не ожидал от сына такой подставы).
Витя крестил Прохора в 7 лет в Старо-Пышминской церкви у отца Николая. Крестный отец — кузнец А. Лысяков. Возил их туда Женя Ройзман.
В садике все знали, что папа Проши — художник: он ходил на все календарные утренники и детские праздники (мне посещать их было некогда, я училась тогда в УрГУ на искусствоведа). Папу Витю как-то зимой попросили покрасить горки и ледяные скульптуры на детской площадке. Меня, помню, напугала сложность этого задания, а Витя сказал: не волнуйся, за 15 минут сделаем. Взял большую лейку, налил в нее воду с чемто вроде зеленки, а во вторую лейку — что-то розовое (тушь красную, наверное). И этими растворами полил все ледяные сооружения. Скорость меня ошеломила. А воспитательниц результат восхитил, они Витю очень хвалили, хотя, по-моему, это было чистое надувательство. Но ведь не поймешь сразу что же надо народу! Витя понимал.
Быт
Витя не боялся никакой работы и делал ее быстро. И ремонт мог сделать, причем бесплатно, надо ведь помочь другу, и дом перестроить, и суп сварить, и плов приготовить… И пеленки с подгузниками в однойединственной на всю коммуналку раковине стирал, с песнями и с цигаркой в углу рта. Тут тебе и суп кипит, и каша, тут же детское белье на плите булькает, а Витя готовые пеленки уже полощет. Развесит их, пол помоет. Мне говорил: а твоя задача с ребенком водиться и кормить его грудью. До трех лет так и кормила. Проша родился зимой, были сильные холода. Витя из дома меня никуда несколько месяцев не отпускал, лишь на 45 минут в день, погулять с ребенком на руках — и назад. Только раз в неделю, в выходные, разрешал сходить на час к матери помыться (оставался с ребенком посидеть). Я вместо этого садилась в троллейбус, ездила по вечернему заснеженному городу и смотрела в окно, наслаждаясь свободой. Патриархальный быт мне всегда был в тягость. А Витя каждый день говорил: Доля твоя — бабская, родилась в юбке, терпи (чем еще больше укреплял мой назревавший внутренний протест).
…Примерно через полгода после рождения сына Витя вместе с Лешей Денисовым пристроил в коммуналке ванну, довольно большую, привезли ее откудато на санках, трубы приварили и водоотвод сделали. И потом этой ванной 17 лет вся коммуналка пользовалась. До последнего часа не было ей сносу.
Рукастый парень был Витя! Золотые руки. Все мою живопись в рамы оформил. Диплом училищный в предпоследний день помог дописать (мужикабутафора, и получился он из-за этого похожим на прочих махотинских острохарактерных мужиков), а то бы я не успела, точно!
Все мои фотографии, начиная с раннего детства, Витя аккуратно вклеил в новый альбом по порядку и подписал сам (это был мне сюрприз).
Сколотил стеллаж и полку нам с Прошей в новой квартире, куда мы приехали на грузовичке Станции вольных почт, шофером был Игорь Клюев (грузовичок прислал мне Витя). Затем холодильник подарил, кучу книг, альбомы, коврики — всего не перечислишь. Помогал… Вот и Прохора он с детства одевал, покупал ему модные вещи. Прохор, повзрослев, дважды, почти по году, жил с ним — в 11 лет и 14 лет — на Белореченской, а потом на Ирбитской-стрит, когда я замуж выходила, — так мы с Витей решили.
В выходные дни они часто ездили в лес, ходили в музеи и в зоопарк. Витя очень баловал Прохора (по воскресеньям!), закармливал сладким, задаривал подарками. Какой уж тут может быть единый взгляд на воспитание! Но все ж таки они были рядом — Витя и сын, а мне таких встреч мало досталось в детстве, потому как мой отец жил в другом городе. Виделись мы нечасто, и такого вот общения мне не хватало.
Мне в молодости, что проходила на излете социализма (помню андроповщину и как Брежнев умер), тяжело было чувствовать себя в постоянной оппозиции к социуму, хотелось найти единомышленников. Из дома я мечтала удрать и сделала это, когда встретила Витю, с легким сердцем. Но и с его жесткими патриархальными принципами устройства семьи я согласиться не смогла. Я — за свободу-равенство-братство и феминизм (тогда, правда, я слова «феминизм» не слыхивала). Поэтому я с Витей тоже почувствовала себя одинокой, когда наша страсть-любовь прошла и началась обыкновеннейшая семейная жизнь.
Еще эпизод. Где-то за год до внезапной Витиной смерти сын мне говорит:
— А вы живите вместе на Ирбитской. Ты в одной комнате, вместо соседки, а папа — в другой.
— Зачем тебе это? — спрашиваю.
— Хочу, чтобы были у меня все, и папа, и мама.
— Живи сам с ним! Поживи недельку или месяц, раз соскучился. Давай иди — поживи (а он живал с папой).
— Нет, хочу чтоб все мы жили вместе. (Думаю, шутит. Смеюсь.)
Вообще-то я бы еще «помучилась», сейчас. Тогда мне казалось это просто невозможным. А Витина смерть меня просто срубила. Чем дальше, тем все грустнее и грустнее без него.
…Я подспудно ожидала-надеялась, что в старости глубокой, когда здоровья нашего и прыти поубавится и гордости тоже будет поменьше, тогда я приду и сдамся на милость победителя, оставив свои поиски жизненного героического пути (Витя ведь говорил, что он живее всех живых). И будем мы жить, как два старичка гоголевских, душа в душу. Два дружка… С ним дружить можно было.
Любить Витю — сложнее. Очень уж он был свободолюбив и переменчив. И неосторожен в связях. Плюс нерасчетлив в деньгах. И простоты душевной, и наивности, и горячего сердца — всего этого хватало у него.
Школы
Прохор в трех школах поучился и даже коммерческий лицей полгода посещал. Ну мы с ним и намучились! Витя ходил на родительские собрания (иногда — я, иногда — вместе), выслушивал всякие пакости и каждый раз клялся, что ноги его больше там не будет. Потом учеба закончилась, и Прохор пошел в цех — учеником кузнеца к Боре Цыбину. Сказал, что хочет быть пролетарием и работать своими руками.
Changes
Легко Виктор к вещам относился. Ченчи — мены его вещей меня очень удивляли. Быстро — вмиг — от них избавлялся. Я искренне считала, что Витя хитер и расчетлив. Ведь он намного старше меня, почти отец. Его знаменитые обмены — у того взять, сюда толкнуть, тому отдать и т. д. — казались мне результатом тонкого расчета, как у шахматиста, — вперед на сто шагов маэстро прикинул. Никакой логики в его манипуляциях я не видела, но подразумевала (вот она хитрость хитрости, искусство из искусств!).
И, только прочитав в некрологе Андрея Козлова, что это был бескорыстный обмен, импульсивный, экспромтный, простодушный, я вдруг осознала: так оно и было! Именно так! Выводить столь длинные цепочки в уме — голова треснет. Витя не выводил. Действовал легко, вдохновенно, находчиво. Порой себе в убыток.
Принес, помню, Витя мне однажды толстую кипу сажаевских акварелей и гуашей. На каждом листике с картинкой стояла печать: «Сажаев». А жила моя мама с семьей Сажаевых в одном доме, на Боровой, это рукой подать от Ирбитской. Поэтому и кипу рисунков в подарок я восприняла как должное. Что-то мне очень понравилось, чтото — нет… Через полгода Витя забрал охапку листов этих, и больше сажаевских работ я не видела. И только недавно узнала, что, оказывается, Витя подарил их сестрам Чупряковым, а они годами распихивали этих ворон и котов с печатью мастера по всем своим знакомым. А я бы все сохранила! В этом наша с Витей разница. Тогда, в середине 80-х, Сажаев каждый вечер после пробежки, часов так с 11 до 12, а то и до часу ночи, засиживался у нас на Ирбитской-стрит за беседой. А еще Витя сшитые им овчинные шапки продавал в Москве.
Одежку, что подарили ему на 40-летний юбилей дамы, — красивый итальянский костюм цвета пшеницы, черный джемпер и т. п. — Витя всю раздал и остался в своих прежних синих трениках и клетчатой рубашечке. Но и мои подарки он так же быстро кому-то передавал. Например, переносной проигрыватель «Лидер», самое ценное, что у меня было, и дня не продержался у него после вручения. «Где жить, если забарахлимся?» — восклицал Витя. Но старинные вещи и книги не дарил, берег для себя.
Стрижки
«Давай я тебя подстригу, я хорошо это делаю!» — предлагал Витя знакомым девушкам. Кто соглашался — горько сожалел. Ножницы были большие и тупые. Уж точно не для филировки.
…Поддавшись на Витины уговоры, я две недели ходила в платочке. Да что там! Витя и себя не щадил! Стриг — неровно, брутально. По-мужски. Глядя на его парикмахерские безумства, я и сама освоила одну стрижку — под горшок. Надеваешь Вите иль Прохору на голову шапку иль кастрюльку и полукругом подравниваешь волосы, отстригая отросшие хвостики. Получалось — как под пажа. Таким Витя ходил охранять Институт туризма. Но челку он никому не доверял стричь, делал это сам. Даже без зеркала мог. Расчесывался пятерней. Смешно это сейчас. А тогда я ежечасно старалась пригладить, причесать его торчащие волосы, выкинуть куда-нибудь надоевшие синие треники.
Словом, создать интеллигентного, солидного мужчину. Ни фига не получилось. Вите это было не нужно. Шляпу купила серую, она ему не подошла. Так и валялась долго в коридоре, пока комуто не подарилась.
…Мода на разлохмаченные «грязные» панковские волосы, негритянскую молодежную одежду пришла позднее, а Витя предвосхитил ее в 80-е. Дузья его выглядели практически безупречно, носили отглаженные брюки, костюмы, а Вите — все нипочем. На фига итальянские брюки?
У Ваймана
Однажды Витя заболел — почки, камни, etc. Когда его совсем согнуло, он вышел на крыльцо музея, поймал такси и поехал к Владиславу Алексеевичу Вайману. Доктор Вайман — известный в городе врач, он лечит всех художников и даже их родню. Если б не он…
И вот в 14-й больнице (или в 25-й, не знаю точно номер) в палате наблюдается такая картина. Витя стоит в койке на четвереньках и принимает посетителей. Боль переносит стойко, с шутками-прибаутками. Говорит, что когда камни отошли, «я как будто бы родил». Вокруг него дамы с пирогами, соками, я тут, Прохор, моя маманька… И Витя говорит: «Вот что нужно было, чтоб вся семья рядом собралась!»
Так и пролежал 2—3 недели. Кажется, единственный раз в жизни обратился в больницу. Вообще, он докторам не доверял, но Вайман — исключение.
Витя — сторож
…Уже после молокозавода Виктор устроился сторожить Уральский институт туризма. Он обязан был ночевать в здании института. На деле же ночевал дома — на Ирбитской.
А утром частенько опаздывал к «подъему флага». Подбегал к институту — а там в обреченном ожидании директор и сотрудники на лавочке у входа сидят. По тридцать минут и по часу поджидали сторожа. Уволили его. Ясное дело.
Раскоп
Художники Михаил Сажаев и Виктор Махотин в 80-е годы увлекались поиском всевозможных железок, бутылей старых, фото, книг, икон — в домах, оставленных под снос.
Это называлось у них раскоп. И меня пристрастили. После раскопов старые ложки, кочерги, еtс, — они горячо выторговывали друг у друга. Ты мне — ложку, а я тебе — щеколду! Находили редкие вещи, может даже бесценные.
Оба были легки на подъем, мгновенно реагировали на информацию, что в городе сносят старый дом, устремлялись поутру на поиски кладов, получив друг от друга приглашение. Один раз и я с ними на Уральскую побежала. Стою смотрю, а они в подвал занырнули, потом в сарай, потом осмотрели помещения и чердак. Двор тоже обследовали тщательно. Оторвали пару старых медных ручек, накопали в земле по 2—3 предмета. И так же быстро умчались. У Вити была тогда даже специальная карта — сносимых домов.
Позже я и сама ходила на раскоп. У Исети, по улице Малышева… Нашла две квадратные бутылочки и алюминиевую мыльницу. На ней было выцарапано: «1944 год. Дойдем до Берлина!». Витя сказал, что бутылочки эти аптекарские, 19-го века, а мыльницу солдатскую выпросил у меня. Еще я нашла на чердаке двухэтажного дома письма времен Великой Отечественной войны, где они сейчас — и не вспомню. Столько лет прошло. …Такие драгоценности он берег. Мыльница солдатская у него много лет обитала.
Да, раскопы.
Сижу я, значит, на чердаке полуразрушенного дома у моста через Исеть, вся в трухе и в пыли, по лицу пот струится, и раскапываю детским совком дециметр за дециметром земляной слой, что на досках скопился. Мимо идет мой первый учитель из художественной школы №1 Ваня Мосин, вытаращил глаза: «Ты что тут делаешь? Ну и видок у тебя!» Я давай ему объяснять, что такое раскоп и как это здорово. «Забирайся сюда, вместе рыть будем! Клад найдем!» — азарт меня снедает. Он отказался: некогда, мол, очень спешу. И быстро ушел.
После раскопа надо всю одежду стирать, а находки — чистить, отмывать от вековой грязи. У Вити это получалось элегантно — он не измазывался, как я.
А еще знакомые ювелиры в конце 80-х нашли на Шейнкмана, 3, в доме, который носил название «Ласточкино гнездо», клад. Куча бумажных дореволюционных денег была спрятана за обоями, заклеена в цокольном этаже. Там раньше, до революции, был, говорят, дом терпимости, — кто-то кого-то, видно, терпел.
А Витин дом как снесли! Слезы закипают, как вспомнишь все это, — перед бульдозером мародеры прошли по комнатам, что-то искали, замки сломав, — все его открытки старые, записки разбросали, затоптали по полу, все перевернули вверх дном.
Маленький диванчик, шторы — все эти вещи, согретые Витиным теплом, валялись в холодном, разбитом доме. Дочери Витиной плохо стало, когда она это увидела. Чемодан с пластинками пропал еще, Витя любил слушать старые пластинки.
Ушел из жизни хозяин, сломали дом. А накануне, в спешке, рано утром, Илью вывозили, старшего сына — он жил с Витей в этой коммуналке с 17 лет. Жэковцы и сотрудники мэрии сами вещи грузили в машины, омоновцы рядом стояли — никого не пускали. Всех увезли по общагам, а жители упирались, их под руки тащили. А мебель их — на какой-то склад свезли, потому что в общажные комнатки, на одиннадцать квадратных метров, ничего не войдет!
…Бульдозер подъехал вплотную и сразу Витин угол зацепил, стену легко раскрошил. И балкон повалился, и кусок стены, и… Я ушла, чтобы этого не видеть. Иногда едешь на 28-м автобусе, и через окно кажется, что дом стоит. А выйдешь, заглянешь во двор — нет. Нет больше дома, где мы жили.
Велик и подарки
Как-то раз Вите на день рождения подарили большой дорожный велосипед «Урал». Он тут же передарил его мне. Знал, что я мечтаю о велосипеде. Я говорить не могла от счастья. Села в седло там же, в комнате на Ирбитской, а до педалей не достаю ногами. Сергей Казанцев, друг его, сказал, я с тобой поменяюсь на свой «Салют», он пониже будет. Мы поменялись, и я гоняла по дорогам города лет 12, наверное, спасибо Вите и Сереже. (Недавно продала его, своего старого битого друга, за 200 р. перекупщику, хранить в хрущевке — места нет.) А в тот день я уехала-таки на этом «Урале».
Жили мы уже с сыном на улице Советской. Путем долгого обмена квартиры с ЖБИ получила я 1-комнатную хрущевку — родители мне помогли построить кооператив. (Витя помогал переехать и мебель поставить, гвозди прибить. И потом часто, идя на работу в музей, к нам заходил.) А сам остался жить на Ирбитской, пока вновь не женился, на культурологе Неле, но об этом — отдельно.
Еще у меня была мания — битломания. И Витя притаскивал пластинки «Битлз» отовсюду — часто одинаковые, из разных домов, новые или неновые.
Молодец.
В углу комнаты стоял проигрыватель, кажется, «Сириус М» со смешной игольной головкой. Звук — совсем не диджитал, живая музыка. Витя легко и с удовольствием танцевал. Легок был на подъем, — хоть тебе семь-сорок, хоть канкан, хоть что.
Строители
Помню, как-то пришли к нам в дом на Ирбитской два грузина-строителя, звали Витю с собой в бригаду — дом строить в Сибири где-то. Стол накрыли — с вином, зеленью, мясом. Лаваш был, помню, фрукты. Витя быстро сговорился с ними, уже решали когда выезжать, чуть ли не завтра, а потом, часа через два, он сказал: «Сейчас выпьем стоя, за хозяев! (Все встали и выпили.) Спасибо, — до свидания! Направо — шагом марш!»
Грузины одурели от обиды, тот, что помоложе, хотел тут же Витьке морду набить, но старший товарищ его удержал: «Он хозяин, это его право!» Они ушли, оглядываясь. Витя повис на мне, и мы с ним, прогуливаясь, обошли так дважды вокруг дома (дверь у него практически не запиралась, — была всегда открыта). Видимо, он не захотел уезжать от нас. Вернулся домой и заснул. И так громко всхрапывал во сне, что сын от страха начинал реветь, стоя в кроватке, папу не узнавал, ему тогда под восемь месяцев было. Это был единственный случай за всю нашу жизнь двухлетнюю, когда Витя напился.
Витя, не пей
Пить Витя не хотел, водку сливал другим или на пол незаметно выплескивал (показывал мне, как он это делает). Его это дело не увлекало, лет до 42 он был таким вот непьющим. Гости приходили с бутылкой, сами и выпивали. Башня Витю, конечно же, изменила. Привычки изменились за последние годы, что и подорвало, наверное, его здоровье. Башня любого может споить.
Излишества
Спал Витя на полу. Упал и заснул. Диван презирал как мещанское излишество. А я — на раскладушке. (Но потом диван все ж у него появился.)
Чтобы прокормить дите, устроился художником на молокозавод. Приносил много продуктов (дефицит тогда был на молоко, вот Витя и пошел туда работать), но если гости приходили — все раздавал им насильно, и холодильник за час пустел. Хотя все продукты он покупал в заводской лавке за деньги, а не тащил бесплатно.
Картины с моим присутствием
«Портрет рыжей девчонки». Это он меня нарисовал в первый период знакомства, месяца полтора-два мы были знакомы. Позировала я ему в одежде, в бежевой водолазке, а получилось ню. На портрете стоит подпись: 1984.01.02, что означает вторая по счету работа за год, написанная в январе. Из красок у него были тогда краплак, охра и кадмий оранжевый — отсюда такая гамма и рыжие волосы. А перед этим подстриг меня тупыми овечьими ножницами. Картина ушла куда-то с аукциона, хотя вначале была продана другу семьи. Но ее взяли на выставку (святое право экспонирования!), и домой к хозяину она не вернулась. Была продана повторно, о чем сообщила газетка «На смену!». Дескать, любители творчества Махотина поборолись на аукционе за портрет рыжей девчонки.
Всего эту картину Витя продавал трижды и всегда с правом экспонирования. Святое право автора брать картину на выставки (но оно ни в коем разе не подразумевает возможность продавать картину)! Вите никто фэйс не начистил ни разу за такое дело, потому что хозяева картин были люди добрые и художника Махотина любили.
Вторая картина с моим присутствием (она сейчас находится у жены режиссера Арцыбашева в Англии) называется «Коммуналка».
На первом плане Махотин со мной в обнимку, слева — лист с заповедями жизни в коммуналке. А сзади — гости и соседи… Так мы и жили — захватывающе интересно и очень бедно. Деньги быстро исчезали, Витя их не копил, раздать мог, помочь кому-то. Или накупит продуктов и раздаст дня за полтора. Тогда я сердилась, ничего не понимала, да и бедность угнетала.
Эх, Витя, добрая душа.
Ярославщина
Мы отправились по Союзу в путешествие без денег. Витя был инициатор. Я боялась, но поехала. Зайцами — по ж/д. В Москву вроде как. Под старый новый год. Оставили кучу еды на столе, даже мясо и сыр, — все для народа, что на Ирбитской-стрит легко кутить остался и без хозяина… Раньше люди проще общались, чем сейчас. А ключи от комнаты Вити, кажется, у всех были. Комната почти никогда не запиралась (лишь изнутри на шпингалет) — заходи кто хочешь. Где такое еще увидишь? Разве что в деревнях.
Мы пришли на вокзал налегке — у нас был рубль (мой) и сырок плавленый «Дружба» в кармане (я настояла его взять). С первого московского поезда нас почти сразу ссадили, хотя я успела раздеться и «заснуть», забравшись на третью полку по совету Вити (его почему-то проводницы принимали за своего и не трогали, а ко мне цеплялись). Мы сели на другой поезд — казанский. Витя открывал треугольным спецключом дверь вагона с другой стороны — там, где не шла посадка и не было лиц в синей форме. И мы таким образом попадали в нужный вагон нужного поезда. Дальше — дело техники, Витиной техники. Сев в вагон, он обычно шел знакомиться с проводницами — просить нож или ключ, открыть консервы (которых у нас, конечно, не было). Все — с шутками-прибаутками.
Потом уже у нас проводницы билетов не спрашивали, говорили: а, привет! Или Витя сам так говорил, а им, видно, неудобно было уже у нас билеты проверять. Было и такое на пригородных поездах из Углича, что в набитом общем вагоне проводник, напившись с вечеру, билеты вообще не видел (и не пытался их увидеть). А мы спали на третьих полках, даже не на вторых — зимой это было. И кормились чем Бог подаст. Бог подавал колбасу. Например, Витя говорил, свешиваясь с верхней полки, мужикам-охотникам, поедающим что-то вкусное: «К нашему бы хлебу да вашу колбасу!» Народ смеялся и передавал нам сало и копченую колбаску. Так мы доехали до Канаша, потом до Казани, Ярославля, Углича и наконец до Москвы. Правда, пришлось просидеть сутки на какой-то глухой чувашской станции — поезд в сторону Москвы проходил здесь только один. А попали мы на эту станцию на электричке — заблудились без карты. У Вити заболел зуб, и он ужасно бесился и ругался.
Потом выбрались-таки в Москву. Назад до Свердловска уже ехали с билетами — мне надо было скорее в училище возвращаться с зимних каникул (друзья-художники Стекольщиковы Вите в Москве денег дали — за работу — дома он им строил на Ярославщине).
…Несмотря на некоторую осторожность, авантюризм тогда меня сильно привлекал. Все это мне было по душе! Я и сейчас, переходя через мостик на Восточной и чувствуя запах железнодорожных путей, хочу прыгнуть в поезд и уехать куда-то… Но без Вити может и не получиться. Без Вити я больше зайцем не путешествовала.
Город Углич
Все! Сейчас я уйду от него. Уйду! Вот, уже — ушла! Ушла я. Там, в Угличе, он меня ударил. Я поняла — надо уходить! Хоть и жалко. Ну и как я буду жить без него? Без его редких резких морщин через всю щеку? Карих глаз, смешной бородки, усмешки, мудрости, задумчивости, без его нелепой вязаной шапочки, черного драного полушубка, синих штанов, вихлястой влево-вправо быстрой походки… Без его икон в доме, свечей, длинной лавки, стола, засыпанного махорочной крошкой, картин, дэвэпешек, грунтованных наоборот (раньше на ДВП художники рисовали с рельефной стороны), без полутемной зимней вечерней комнаты со странной музыкой на русском, не английском, языке… Никак. Не смогу я жить без него. И не ушла, осталась. Да и некуда было мне бежать на чужой, на ярославской земле, ничего я там не знала, и страшно мне было. И я осталась с Витей. А он переживал.
И тут-то начался медовый месяц… Счастливое время. Ярославщина. Если б не взорвался реактор, то съездили бы мы и к его бабушке Вере в Гомель. Собирались ведь подряд несколь- ко лет, пока не грянул Чернобыль. Витя писем писать не любил (как и звонить). Бабушке он отправлял телеграммы с почтамта и деньги переводами — она все реже и реже отвечала на его телеграммы. И он потом сказал: раз не пишет, значит нет ее уже, наверное. Ей ведь было 90 лет. …До сих пор помню огромные, могутные старые монастыри, большие круглые зеленые купола храмов Ярославщины, улочки с деревянными домами и сроду нестриженными деревьями, керамические плитки с лубочными цветами и зверями на стенах одноэтажных каменных домов 17—19-го века и широкую Волгу. Заснеженные невысокие перевалы гор-горок с густоросшими зелеными елками, через которые скакал наш «пазик», маленький рейсовый автобусик, — в нем сидели лишь мы да водитель.
Между великими русскими городами Ярославлем и Великим Новгородом расстояния очень короткие. Витя, наверное, очень любил Ярославщину. Не меньше, чем Урал. И всегда с радостью туда возвращался: там у него было много друзей — художников, реставраторов, музейных работников. И его встречали хлебом-солью. Помню, приехали мы под вечер в Борисоглебск, вышли из автобуса. Он сказал: идем, здесь нам будут рады, — и мы зашли в какое-то местное кафе, везде с резьбой по дереву в интерьере. И весь персонал, все женщины, работающие в этом кафе, выстроились перед нами в шеренгу и поклонились в пояс. Вите поклонились, а директриса хлеб — соль поднесла. Чем наповал меня сразила. «Я строил это кафе», — пояснил Витя. В Борисоглебске его знала семья Рычковых, а в Угличе — художники, мы гостили у одного из них, Лени Цыкарева, а в Ростове Великом нас водил по реставрируемому собору художник с Урала Вася Казачук, мы на леса забирались — высота!!! И в музее-заповеднике в Ярославле его знали научные сотрудники и организовали нам отличную экскурсию, несмотря на выходной день.
Там я впервые увидела древнерусские шедевры иконописи: иконы кисти Рублева и Дионисия. (На Ярославщине Витя строил и реставрировал дома или поднимал их с фундамента и переносил на новое место.) И в Москве его всегда ждали, мы навещали его друзей — семьи три. Побывали в музее Андрея Рублева и в Музее народов Востока. В столице нам денег навалили, и назад мы ехали уже по билетам, как положено. В самом конце этого же года, 1984-го, я родила сына Прохора…
Шуба
В честь рождения сына Витя решил купить мне шубу. Шубы-то не было у меня дельной. Никакой не было. Он взял в подмогу мою маманю и пошел в магазин — в комиссионку на улице Комсомольской. И когда они вернулись домой с искусственной пятнистой рыжеватой (под рысь) шубой с дерматиновой полоской черного цвета под пуговицами, далеко не новой, я начала реветь. И рыдала, не останавливаясь, полдня. Вот, думаю, — заработала! Хоть бы не было этой черной полосы дерматина по центру! Хоть бы не было вообще этой шубы.
Потом, успокоившись, я носила ее долго — шесть лет, и некоторые добрые женщины даже говорили, что она мне идет. Но с пьедестала она меня сбросила, иллюзии жахнула. Шуба.
Так в первый раз пошатнулась вера моя в институт брака. Брак — значит счастье и удача во всем, думала я, поэтому с радостью удрала из дома в Витины объятия. Я считала: выйдешь замуж — и будет счастье, ан нет. Была старая коммуналка с пьяницами, бессонные ночи, безденежье, болезни, хождения по больницам, ночные ожидания мужа, переутомление, несвобода домостроевская, отсутствие возможности работать по специальности, никому не нужный мой училищный диплом молодого специалиста и т. д.
Роддом
Художник Михаил Сажаев, который жил по соседству с нами и каждый вечер перед спортивной пробежкой (иль после — точно не помню) по улице Голощекина, в любой день недели и любую погоду, засиживался до часу ночи у нас, бедных несчастных молодоженов, которые не могли даже ночью остаться вдвоем, — подарил семье картину в честь рождени сына (я была уверена, что будет сын, очень хотелось мальчика, хотя в женской консультации мне врачи твердили — девочка). В итоге получился мальчик — Прохор. И вот на картине Сажаева летит бык по закатному небу с реактивным следом из-под хвоста; колодец с ведром на веревке. Храм вдали… Очень хорошая картина. Не знаю, где она сейчас. Была у Вити. На обороте написано слово «Прохор» и стоит подпись: Сажаев. Сажаев, вообще, очень хороший, добрый и образованный человек. Он тогда, в 80-е годы, помимо рисования и работы оформителем в «ДК Урал» еще шапки шил военные, типа канадских Air Forces (мы их с Витей продавали когда были в Москве, и немного кормились этим, а одна у меня до сих пор сохранилась — ее мне спецом пошили). Так вот, Сажаев нарисовал быка, потому что думал, что я родить должна после Нового года — в год Быка. Но нет, Прохор до срока не досидел на месте две недели, воды отошли — и меня увезли на скорой помощи в 24-ю больницу на Вторчермет.
С его именем были просто чудеса. Первенца на Руси всегда называют по слову матери, и я хотела назвать сына Гришей. Просто так. Красиво. Проснувшись после ночных родов от чувства голода в 12 часов дня, я вдруг поняла что на завтрак меня не зовут. И на обед меня не позвали, — чихать им на меня было, потому что я была одна в палате, — забыли про меня. Мучилась так часа два. Ребенка забрали, не несут, еду тоже не несут. Что делать? И вдруг появляется Витя с огромным мешком продуктов за окном, мое спасение. Сначала — принесли мешок с едой, затем — ребенка. Почти одновременно. И я показала Вите, в замерзшее окно, маленький розовый кулечек с младенцем. С черным панковским хаером на голове и ярко-синими васильковыми глазами. Глаза позднее стали фиолетовыми, а потом — карими. Что и имеем. Now. А Витя мне написал записку: «Береги Проху». Я не поняла: какого Проху? кого беречь? где он видел Проху? Оказывается, Витя в честь святого Прохора решил назвать своего сына именно так, в пару старшему брату — Илье (была в доме у нас икона «Святой Прохор и Cвятой Илья»).
Но я не соглашалась на Проху, предлагала варианты — Глеб и Миша, — и полтора месяца называла сына мальчик. В конце концов вроде бы остановились на имени Глеб и в 40-градусный мороз поехали в Кировский ЗАГС (мать моя осталась на часок — посидеть с младенцем). Но в трамвае Витя мне заявил: регистрируем Прохором — и не иначе! И я пошла на это, так мы и записали парня. (Сын решил в 16 лет поменять имя, но замену по словарю выбирал себе довольно странную — то Нил, то Кузьма. И я сказала: да оставайся ты лучше Прохором!) А в тот день, обжигающе студеный, нам нужно было срочно документы оформить, чтобы декретные получить — деньги-то нужны были, хоть Витя и пошел на молокозавод художником работать! Потом он в институт туризма устроился (отдельная песня), затем — в МИЕ и создал музей в Башне.
В роддоме я познакомилась с цыганкой (имя не помню), она родила шестого ребенка — мальчика. Мы с ней в одной палате лежали — потом-то рожениц туда набили много. Цыганка эта сбежала из больницы к своим детям почти сразу, через день, а я стала кормить грудью ее новорожденного сына, потому что у меня было много молока. А у парня был зуб, родился с зубом, — кусался он страшно, чуть сосок не отгрыз. Этот цыганенок — молочный брат Проши.
Потом, дней через пять где-то, приехала, громко пиликая, кавалькада из «Волг», такси, и мать-цыганка забрала своего ребенка, осыпав меня дарами — мандаринами. «Цыгане своих детей никогда не бросают», — с уважением сказал наш врач, глядя в окно. Это было начало января 1985 года. Новый год я встретила в больнице. Выписали нас в 10-х числах января — Витя приехал за мной.
Пока я лежала в роддоме, Витя сделал ремонт во всей своей трехкомнатной коммуналке. И когда я вернулась домой (а ехали мы с ним из роддома на трамвае два часа с пересадками — такси не брали) — пахло свежей краской, и медсестры нас корили, советовали мокрой тряпочкой ежедневно все покрашенное обтирать. Потом он своими руками поставил ванну. До этого, покуривая и посмеиваясь, шесть месяцев стирал пеленки и подгузники в единственной коммунальной раковине на кухне. Там и ноги мыли. (Только покойник не ссит в рукомойник — поговорка тоже оттуда, с Ирбитской.) С тех пор — вплоть до порушения дома — никто в квартире ремонт больше никогда не делал. Витя, наверное, ждал переезда. Другие же соседи пили или еще что. (Пили. Больше ничего. «Везло» ему на алкашей.) И детей в той квартире после не рождалось, — Прохор у Вити пошел последним.
Зачем-то Витя сам регулярно слухи раздувал всеми силами, что у него много детей (думаю, от «пушкинского» легкомыслия в голове, ему все было нипочем).
А сейчас у Вити уже две внучки — с сентября 2004 года он дедушка.
Неля и Витя. Свадебная история
Прибегает как-то раз ко мне домой Махотин и говорит: нам надо пожениться. А не жили мы к тому времени вместе уж лет 5, а может, 4 года. Не помню сколько, — но много.
У меня и смех, и возмущение вперемешку. Я ему: «Где ты раньше был, целовался с кем? Паровоз ушел! Дорога ложка к обеду! Рыбка плывет — назад не отдает». И т. д. Насмехаюсь, в общем, над ним грубо. Он так же быстро исчезает, ни слова не говоря в ответ.
И через короткое время женится на девушке редкой красоты, Нелли В., которая и по росту его повыше на голову, и годами помладше лет на 19. Жену свою потом он почему-то звал Бабой Нелей — может, для того, чтобы скрасить разницу в возрасте?
…Девушка учится в университете на культуролога и защищает диплом по невьянской иконе. А я удивляюсь: что она в нем нашла? Дивлюсь жизни, как, например, художник Гена Шаройкин, который вопиет вместе художникамиоднокашниками Сашей Беляевым и Леней Барановым: как же такая красивая девушка умудрилась пройти мимо?
А свадьба пела и плясала следующим образом.
Мы с Витей летом — в июне — пришли на защиту дипломов Свердловского художественного училища, в мою альма матер, — была у нас такая недлинная по времени с ним традиция: ходить на защиту дипломов. Потому что интересно на работы посмотреть и послушать как же выпускники защищаются, — отвечая на любые вопросы из зала. Все, что связано с художниками, — всегда очень интересно!
Вот перерыв на час объявляют, мы выходим в коридор покурить, и Витька говорит мне, что ему надо съездить на 15—20 минут в одно место: «Давай тоже поехали со мной».
Я говорю:
— Зачем мне это надо, время на поездки непонятные терять?
Он:
— За компанию. Да это близко и быстро. И ты внизу постоишь, а потом мы на защиту вернемся.
Делать мне было в общем-то нечего, я согласилась. Сели в троллейбус. И приезжаем мы к зданию Орджоникидзевского ЗАГСа. Тут Витя скромно мне объясняет, что сегодня он женится, вот здесь, в этом ЗАГСе. Я говорю: нет, я не пойду. Он убеждает меня: да какие проблемы? Это быстро, заходи и не тушуйся. И побежал наверх. Я — за ним. Там Неля стоит — одна, совсем одна. Я даже ее родни не увидела. Она меня как заметила — так глаза распахнула. А я что?
Что делать мне?
Витя подбегает к регистраторше, которая уже почти что плачет, — а как ей не плакать? — жених опоздал, а лучше б и вообще не приходил! Такую красную девицу выдает она за маленького мужичка из ремеслухи (сторожа из ПТУ, по всему видать), которому точно давно стукнуло за 40.
Тут заиграл вальс Мендельсона, и Витя со смехом подхватил даму-регистраторшу и увлек ее на тур вальса. Все, кто был в зале, совсем опешили.
А я стала лихорадочно соображать, как бы мне отсюда смыться. Так неудобно мне было. Перед невестой — особенно. Она-то ведь меня не приглашала!
Но счастливые молодожены после регистрации меня отпускать домой были не намерены. Неля тоже радуется вроде бы, от души у нее отлегло. И я уже, как свидетель — почти настоящий, — иду с ними на свадьбу.
Все было скромно очень, нас было трое всего. Мы сидели у Нели в малюсенькой квартирке в малосемейном общежитии. Неля приготовила изумительную фаршированную рыбу (она очень хорошо готовит), мы пили вкусное вино. Так пролетели часа два или три.
В пять часов вечера мы собрались ехать на Ирбитскую-стрит — в дом жениха. Я двинулась на улицу первой. Витя говорит: «Ты подожди 5 минут, мы за тобой следом спустимся. Обязательно подожди, не уходи!»
Я ждала их час — солнце пригрело меня, и я задремала во дворике в песочнице. Через час я поняла что они, наверное, сегодня уже не спустятся и что защита в СХУ уже давно закончилась.
Я вышла из незнакомого двора, села в трамвай и поехала домой в набитом летними людьми вагоне, на кондукторском месте. Я была не то чтобы счастливая, но какая-то новенькая (судя по ощущениям) и сильно размягченная от выпитого вина.
…Они, Неля и Витя, жили долго и счастливо — аж 7 лет — в квартире у областной библиотеки им. Белинского, которую выменяли с доплатой из Нелиной малосемейки. Потом они почему-то разошлись.
Неля мне всегда очень нравилась, больше всех Витькиных дам сердца. И сыну нашему Прохору нравилась — он у них еженедельно бывал по выходным, гулял с папой по зоопарку, ходил в цирк и в гости (с собачкой). Витя завел собачку редкой дворянской породы. В женских журналах пишут, что появление животного в доме — признак благополучной семейной жизни…
Витя был хорошо одет (почти всегда) и солидно выглядел (почти всегда). Ни до, ни после Нели он так классно уже не выглядел, наверное.
…Перед смертью своей, за 3 месяца, он сказал мне в случайной беседе, что Нели ему очень не хватает (я крепко виноват перед ней, говорил). А в чем дело было, почему они расстались, — я не знаю.
Похороны
Витя — в гробу, а у него почти ни одного седого волоса, шевелюра пышная. Волосы чистые, мягкие, шампунем пахнут. Живее всех живых. Как Ленин, тоже в 56 лет… Всегда был живчиком Витя. Я была уверена, до 100 лет он дотянет. Точно. А то и больше. Думала, ему придется меня хоронить. Ан нет. …Ну ты, похоронная команда, так он меня назвал, когда я пришла к нему утром по просьбе Анюты сообщить о смерти ее мужа, поэта Сергея Нохрина.
К врачам Витя не ходил, таблетки презирал. Казалось, он человек без хворей. Был бодр, только в последние годы появилась у него глубокая грустинка в глазах.
Когда он мне сказал — тогда, в июле 2001 года, «Ну, похоронная команда!» — мне стало не по себе, обидно. Через год и шесть месяцев его и самого не стало.
Поэты Рома Тягунов, Борис Рыжий, Нохрин, художник Олег Еловой (перечень наших потерь). Еще раньше — Дик. Потом милый Старик Букашкин.
Ушла Наталья Горбачева, тоже в 56 лет, — честный и бескомпромиссный искусствовед. Как хочется, чтобы больше никто не умирал! В молодости смерть — это что-то исключительное. А сейчас она занимает все больше и больше места в моей жизни.
И отец умер, оставил меня одну среди счастливых людей, с 12 лет я без отца, с клеймом безотцовщина-сирота. Когда малознакомые люди говорили обо мне «сирота», очень плохо становилось на душе.
Сейчас и Прохор сирота. Витя до 18 лет сына дотянул, лишь неделю до совершеннолетия его не дожил.
Иногда я думаю: а что, если б свозить Витю в санаторий, полечить — снизить давление, дать ему новую квартиру, чтоб имел все удобства под боком, чтоб не бегал в суды с портфелем по поводу аварийности дома, чтоб не нервничал из-за соседей-алкашей. И был бы он с нами сейчас. Верили его словам: «здоров как бык», «я живее всех живых!».
Витя был предан искусству, а главное — предан своим друзьям. Друзей у него осталось много. К ним всегда можно обратиться за помощью.
Выставка
Ленина, 11 — Станция вольных почт. Там Витя директорствовал. Туда я приезжала с сыном на экскурсию. Н. Монтана — сочная девица — на кассе встречала входящих. Иногда Монтана не пускала родню на выставку, говорила:
«Перерыв», или: «Витя спит».
Как-то раз мимо нее пронесли большую картину — она и не заметила. Еле поймали воров, — уже на улице Вайнера милиционер остановил ворюг и спрашивает: «Откуда картина у вас?» Тут подбежали гонцы с выставки и сказали: «Это наша». Вовремя подоспели. (А может, все это был розыгрыш?)
Я приезжала на трамвае, с ребенком на руках. Или на велосипеде, если без него. Там, на Ленина 11, Витя водился изредка с Прошей, а Эмилия Марковна подарила Проше куклу-волка, сшитую ее золотыми руками. У волка был серый нос, белые зубки и настоящие твидовые брюки на худых ногах…
Пока я смотрела новые картины, я и общалась с Витей. Помню, что дни стояли солнечные и теплые. Ленина, 11 — это всегда летнее время! Очень удивляли меня работы художников — их смелость, их безоглядность. Мне, скромной, закомплексованной мышке, какой я себе казалась рядом с этими творцами; мне, в основном сидящей дома с ослабленным после прививки ребенком, а на работе в ЖКО малюющей типичные политические и профсоюзные лозунги для завода, — все это раздолье было в диковинку. Тогда я так не могла рисовать, а сейчас — так уже и не актуально, все это искусство отошло в прошлое.
Завышенные критерии оценок и максимализм явно мешали жить мне лет десять после окончания художественного училища.
Надеялась я тогда, в конце 80-х, после развода с Витей, что правильно отстрою свою жизнь, что встречу огромную-преогромную любовь и она изменит все в моей жизни разом. Нет, большую любовь я так и не встретила. Нет, Витя, не встретила. Огромной и всепоглощающей — как в романах пишут — не увидела.
Самой большой любовью в моей жизни остался реальный человек, с реальными проблемами и недостатками. Не принц, а художник бедный, веселый. Эх, надо было присматриваться к жизни нашей по-другому, тщательнее. Но тогда мои желания говорили мне совсем иное. Императивно.
Мудрость-то приходит с годами!
Эх, судьбинушка. Русская судьба.
План сценария
Написан был этот сценарий для Андрея Санникова, когда Витя еще был жив. Андрей хотел снять телефильм, чтоб Вите помочь с жильем. Не успел. Фильм уже, конечно, не снять. Потому что Вити нет.
…Люди разные — все они с Ирбитской, там и Витя, в общей куче, — идут с ведрами на поклон — в соседний дом за водой, потому что в их доме все уже отрублено. Дом не то чтобы старый, в 1950-е годы построен, но аварийный — рушится на глазах. Как будто из одного песка был сделан.
У Вити сидят гости. Курят, беседуют. В комнате у Вити картины, самовары, чай, тусняк. Как писал картинки и как долго здесь жил, — рассказывают его друзья.
…Он гостей выводит в туалет во двор и при этом говорит, что мэни йеарз эгоу, сто лет назад, у них отключили канализацию и воду. А газ они сами попросили отключить, чтобы не взорваться случайно.
Вот тут бы погулять по дому и посмотреть «все его трещинки». Он самый странный из всего поселка. Ровно посередине, от просевшего фундамента до крыши, идет живописная трещина.
…У Вити есть куча документов, о которых кто-то должен рассказать внятно. С решением Чернецкого от 1994 года о сносе дома 10а. Почему дом не сносят, почему людям ордера не дают и все такое прочее. Рассказать подробно.
Кстати, за мэра А. М. Чернецкого, заботящегося о ветхом жилье, отдали голоса именно с этого избирательного участка.
Некоторые семьи уехали, приобретя кооператив. Те, кому некуда ехать, у кого нет денег на покупку квартиры, остались ждать переселения.
В первом подъезде в опустевших квартирах поселились бомжи. Витя в свое время был «трудным» подростком, летом беспризорничал. Но бывало, и фартило: гулял в 15 лет с генеральскими дочками в Крыму.
Ходил в Китай. Туда границу они удачно с другом перешли, а на обратном пути друга подстрелили наши пограничники, а Витю словили и посадили.
Показывал в альбоме фотографии: он и какой-то парень стоят в телогрейках. Говорил, это армия, — спецвойска такие. Но при этом, заметьте, форма без ремней.
Будучи постарше, жил на Финских коммунаров, в доме под снос, который тоже отстаивал, дожидаясь ордера на жилье. Там рисовал и устраивал выставки-квартирники. Витя — сирота. Рос в детдоме на ВИЗе, на Малоконном полуострове.
Роста он маленького — недоедал в послевоенные голодные годы, зато сыновья его выросли под два метра (хороший гормональный фон, говорят участковые врачи-педиатры).
На завтрак и ужин в детдоме готовили кашу — Витя ее не любил. А тому, кто первый съест кашу, хлеб с маслом давали. Умный пацан кашу комком прилеплял к столу, одним прихлопом снизу, и бежал за бутербродом. Ел бы кашу — был бы как сыновья, строен и высок.
Витя зимой хорошо учился, рисовал в изостудии, ну а летом удирал в угольном ящике под вагоном путешествовать по стране. И на крыше тоже ездил. Он и взрослым путешествовал — с ключом треугольным, без билета — хоть в Москву, хоть в Углич — легко, и друзей с собой возил за компанию — бесплатно.
«Я у него учился путешествовать без билета по стране на поездах», — сказал Ройзман (см. также его стих о Сортировке).
И я у него училась путешествовать, когда мы только познакомились. Кто при ключе, тот и путешествует. А ктото судится годами в судах районных за крышу над головой. Как Витя и его соседи с Ирбитской. А мог бы ведь Витя в любой миг в Израиль улететь, там бы жил, квартиру б дали — всем дают. Но кто б тогда стал центром притяжения художников и дам, и прочего люда в городе нашем, в том числе и туристов иностранных, если не Витя?
Рассказывал как-то Витя, что лежат дети в спальне — длинный ряд коек, и все воспитанники хором тихо твердят в унисон «Мама. Мама» (100 раз). Все детки мечтали, чтобы пришла мама. Поэтому и Витя ее искал, и, в отличие от многих нашел (каким-то чудом в 15 лет, и сильно обиделся, что она снова от него отказалась). Директор сказал ей — ребенок подвижный, горячий, плохо управляемый, вам с ним не справиться, не забирайте его, ему здесь лучше будет. Пусть здесь остается. И она послушалась. Витя говорил: трудно это — мать найти, и снова тут же потерять.
Но! Она ведь все-таки родила его и кормила до полутора лет, дала свою фамилию, а уж потом, когда стало невмоготу, — сдала в детдом. По фамилии он ее и нашел. Помогал ей. Даже брата Леню нашел, но тот прожил недолго — умер молодым, в 30 с чем-то лет, от пьянки.
Мать он называл Тамарой, просто по имени. Взрослым помогал ей, а пришла пора — похоронил на кладбище, что на Сортировке.
…Бомж лет 50, с собачкой, идет по улице. Нет, это не бомж, а это Витя в длинном черном пальто нараспашку рассекает улицу на пару с мордо-поцарапанным бультерьером. Так неважно он выглядит, лохмато-нестриженныйнебритый, что хочется назвать его бедным человеком. На самом же деле он — художник, известный на всю страну, от Владивостока до Москвы, работает хранителем в музее. «Нашего папаню все любят», — говорит сын.
Концовка фильма: взрыв дома, вернее, серия взрывов. А звук такой, словно бы нудно, противно и бесконечно долго лопаются петарды.
Компьютерная графика. В дом врезается бумажный самолет, и стены оседают, разламываются на куски… Снег, мусор и всякая мелочь медленно осыпаются наземь… (Это я написала за год до смерти Вити. — С. А.)
Снова идет быстрыми шагами, чуть прихрамывая, Витя Махотин, а дом стоит, как стоял. Не пострадал дом, — он — целый.
Виктор разворачивается к зрителю, вытаскивает из кармана носовой платок и машет в знак прощания, как старый моряк уплывающим айболитам. Титры «КОНЕЦ» на куче документов о сносе дома.
(Документы крутятся чередой, они лежат на пластинке с лейблом «Блюблю-блю канарики». )
Поскриптум
Витя умер, дом на Ирбитской 10а, расписанный художниками города в знак солидарности и в память о Вите, снесли бульдозерами. И площадку разровняли. Сейчас ничто не напоминает о том, что здесь когда-то стоял желтый двухэтажный домик. На Свердловской киностудии все ж сняли фильм, но не совсем о Викторе, а больше об оставшихся жильцах дома и старшем сыне — музыканте Илье, сняли через месяц после смерти Махотина.
Фильм удостоился четырех престижных отечественных и зарубежных наград, называется он «Кузнецы своего счастья» (режиссер Евгений Григорьев, сценарист Сергей Соловьев).
Речь на открытии выставки «День рождения В. Махотина»
Часть 1
Махотин Виктор Федорович — художник, реставратор, строитель, галерист, один из организаторов музея-кузницы на Плотинке «Метальная лавка».
Считаю нужным сообщить о нем следующее.
В тюрьме 16 лет Махотин не сидел!
Детей у него трое: Илья, Прохор и Клавдия. В сентябре 2004 года у Вити родились две внучки (у Ильи — одна, у Клавдии — вторая).
Витя окончил в 1974 году двухгодичный курс обучения на отделении станковой живописи и графики факультета изобразительных искусств Заочного народного университета искусств имени Крупской (Москва).
В живописи придерживался собственной системы, опирающейся на каноны китайской живописи и русскую традицию рисунка, выразительного, острохарактерного, емкого. То есть академическую школу он получил, но использовал ее по-своему.
Выставок у него было много, с десяток, но были это в основном квартирники, которые снова вводятся в обиход.
Больших персональных выставок было три: одна — в Музее молодежи, две — в Екатеринбургской музее изобразительных искусств (вторая — посмертная), организованные при помощи Евгения Ройзмана.
…В этой экспозиции представлено несколько не вполне законченных Витиных работ, которые нигде никогда не экспонировались.
Например, «Пермяк», «Двойной автопортрет», «Мои друзья». Они интересны и в таком виде, в каком их оставил Витя. И они наглядно иллюстрируют живописную манеру Махотина — легкую, летящую, открытую…
Часть 2
Когда уходит близкий человек, начинаешь по-другому относиться к жизни. Начинаешь ценить то, что раньше, в общем-то, не ценил и не всегда замечал.
И радуешься и удивляешься, что ты живешь — каждый час и каждую минуту. И радуешься, что живы твои друзья и близкие. Это — с одной стороны. А с другой — остается горечь. Два года у меня не проходит тоска по Вите.
Уже не приносит радость то, что приносило ее раньше — лет 5—10 назад. В глубине души остаются горечь и печаль.
Ольга Адриановская
В. Махотину
Я так скучаю по тебе.
С чего б, казалось?
И если нравился ты мне,
По сути — малость
Все не всерьез: не мой герой,
И мы — не пара.
Что ж так тоскую без тебя,
Не ведая любви угара?
И не давая воли чувству,
Я шла к тебе в своих скорбях.
Все уклонялась безрассудства, —
Легко мне было, не любя.
Я так скучаю без тебя…
Памяти друга
Вот ты ушел в неведомы высоты.
Там все не так, там льется свет иной.
Архангелов ли разделил заботы?
Средь ангелов печальных, верно, свой?
Хранитель твой земной тебя покинул
Когда ты звал его в предсмертной мгле.
Обрел покой ты, прах отринул.
Я — без тебя осталась на Земле.
Мне тяжко без тебя, ты знаешь, знаешь.
И одиноко, хоть волчицей вой…
Ну что хоть иногда не прилетаешь
В мой сон порой ночной?
Где встретиться еще нам?
Нету мочи,
И не могу сказать тебе «прощай».
Летай бесплотным духом где захочешь,
Лишь сон мой навещай.
Валерий Акименко
Уже после его смерти я узнал, что учился с ним в одной школе. К сожалению, детдомовские учились в отдельных классах.
Человек, который мог поделиться всем, что у него есть, и даже тем, чего у него нет.
Заводной, он мог привлечь кого угодно на свою сторону и даже втянуть в искусство. Все приходили к нему как к себе, он никому не отказывал в участии. Хороший был человек…
Ольга Акименко
Чай. Все так и было!
Виктор Махотин — это человек без возраста.
…Я знала его с детства, с 10 лет, потому что мой отец с ним встречался. В начале 2000-х годов мы сотрудничали по музейным и выставочным проектам в Музее истории Екатеринбурга, правда, недолго
Махотин всегда рядом — такое ощущение не проходит. Я водила к нему в Башню многих гостей города, в том числе иностранцев. Познакомить с достопримечательностями города — Виктором Федоровичем и Башней.
Удивительнейшим качеством Махотина было то, что оставляешь его на три минуты пообщаться с человеком, и на четвертой минуте возникает ощущение, что он знает этого человека с младенчества.
«Махотин — легкий человек» — фраза заезженная, но про него. Своей легкостью Махотин приподнимал других над бытом, над искусством, над историей города.
Каким он был в 80-х, таким и оставался до самой смерти, не изменяясь с годами ни внешне, ни по ощущениям.
Моя редкая профессия «чайный мастер» была, можно сказать, подарена мне Махотиным. На выставке «Вольных почт» Махотин, дабы развлечь ребенка, налил мне стакан чая, который «термоядерностью» своей напоминал, вероятно, чифир. Напиток потряс меня — необьяснимостью вкуса. Чай?! Чай, который я пью каждый день?
Браславская. Под экспозицию был отведен гардероб театра. Вешалки мы затянули холстом, стойка для пальто служила ограничительным барьером перед картинами. Многое в отношении к жизни у Махотина, к слову, было сродни «легкому шоку» или принципу «так тоже может быть»…
Жанна Бабинцева
Старая Драма
В августе 1980 года Виктор Махотин позвал меня поработать кассиром на выставке. Выставку планировалось открыть в здании старого драмтеатра под знакомым уже всем названием Станция вольных почт (как на Ленина, 11).
Каким-то образом, я сейчас затрудняюсь сказать каким, курировала этот проект искусствовед Марианна Карповна Браславская. Под экспозицию был отведен гардероб театра. Вешалки мы затянули холстом, стойка для пальто служила ограничительным барьером перед картинами.
Поначалу была надежда, что удастся реанимировать «Ленина, 11», но както пошло все вяло. Были выставлены в основном работы А. Лысякова и очень незначительное количество картин других авторов.
Как я сейчас припоминаю, это были те работы, которые остались у Виктора от экспозиции на Ленина, 11. Да и тусовка с Ленина, 11 как-то не проявилась: забегали Валера Казанцев, Женя Ройзман, единственный багемак России Владимир Типсин, Витя и Таня Филимоновы — вот, пожалуй, и все.
Да и посетители навещали нас крайне редко.
В начале октября Центр культуры и искусств в один день закрыл эту выставку. Сворачиваться пришлось так же, как и на Ленина, то есть очень быстро.
Елена Бажова
Наша общая свобода
Казалось бы, проще писать о человеке спустя несколько лет после его смерти. Но Махотин — это всегда Другое.
Мы все живем своей иной жизнью без него. Мы привыкли к иным, более прагматичным и выстроенным отношениям, которые при нем были бы невозможны.
Художники редко дарят свои работы — не принято.
Приходить в гости без приглашения еще и с кем-то — не принято.
Ездить в транспорте без билета — не принято. И т. д. Существует куча всего, что не принято. Есть в нашем воображении общество, существующее по определенным правилам. Никто не говорит, что это плохо или неправильно. Мы его создали сами и сейчас. И испытываем чувство ответственности за его несовершенство.
А может быть, просто приспосабливаемся к данным нам новым условиям? Но дело в том, что Махотин — это Другое.
Любой из нас может сказать, что это всего-навсего Молодость.
Но это неправда. Только потому, что тогда, в конце 80-х годов, встречались люди намного старше меня по возрасту. Были и такие, которые перевалили за пенсионный возраст. А сколько было совершенно пуританских старушек, которые по-девчачьи взвизгивали, когда Виктор Федорович хлопал их по попке?
Это была наша общая Молодость, которую Он легко дарил нам.
Это была наша общая Свобода, которую Он легко дарил нам.
Это было наше чувство общности, которое Он дарил нам.
Он позволял себе все:
Приходить в гости за полночь, в компании из 10 человек.
Стрелять сигареты (для дам).
Ездить без билета (прикрываясь липовым инвалидным удостоверением).
Дарить картинки (свои и чужие, и даже передаривать, см. Ройзмана), кстати иногда и продавать их задорого.
Что еще придумать о том, что Махотин делал, а мы не делали?
Мне всегда вспоминается рассказ Лескова о праведнике, который 30 лет простоял на скале и услышал глас божий, что есть человек праведней его.
Человек этот оказался шутом, пожертвовавшим всем своим состоянием ради проститутки.
Я могла бы вспомнить много конкретных фактов, смешных историй, фраз. Но почему-то не хочется.
Я до сих пор отношусь к его смерти, как ребенок, которому говорят:
— Твой папа уехал в командировку…
— Он болеет, но выздоровеет…
— Он вернется…
Не хочется верить, что он умер. Его смерть — это единственное предательство, которое он совершил в жизни. И совсем не воспринимается фраза — «так принято».
Ренат Базетов
Ребята из пролетарских слоев
После школы, не поступив в архитектурный институт, я пошел на ВерхИсетский завод работать подручным сталевара. Но так как мне еще не исполнилось 18 лет, в подручные сталевара меня не взяли, а на время отправили помощником художника в сталеплавильный цех.
Это называлось только художник, а делали мы наглядную агитацию. Как-то всех художников завода согнали «чертить» плакаты к сдаче ЦХП, так я с Ви тей и познакомился. Витя был худож- ником-оформителем на ТЭЦ. Он пригласил меня в гости. Тогда у него собирались художники Сергей Казанцев, Вика Сочилова, Люба Булда- кова, Олег Меляков, Саша Чащихин и многие другие.
У этой тусовки были две ценности — книги и иконы. На поездах, на электричках мы разъезжались по деревням и искали по старым домам-чердакам иконы. Где за деньги, где в обмен, где просто так. Все просто было в 1973—1974 годах.
Витя Махотин — это что-то вроде русского Ван Гога, но только с меньшим тей и познакомился. Витя был худож- драматизмом. Думаю, что для него и для ником-оформителем на ТЭЦ. художников 70—80-х годов биография
Он пригласил меня в гости. Тогда Ван Гога служила неким оправданием у него собирались художники Сергей (жил художник бедным, непризнанным, а после смерти его картины стали стоить большие деньги). Витя был искренним человеком, самым искренним в этой художественной тусовке. Простой человек. Душа-парень!
Компания, собиравшаяся в доме у Вити на ВИЗе, не была номенклатурной. Туда не приходили дети из обкомовских, профессорских семей, золотая молодежь. Это были все ребята из пролетарских слоев. Они искали свой путь и нашли, как им казалось, его в искусстве, в богемном образе жизни.
С 1973 года до 1978 года — с перерывом на армию — у меня было достаточно интенсивное общение с представителями этой художественной среды. После армии полтора года я проработал художником-декоратором в драматическом театре, а потом поступил в СХУ. И перестал бывать у Вити Махотина, — переключился на другие интересы.
…В прошлые времена художник был человеком, весьма приближенным к власти. В Древнем Египте, например, художники находились на самом верху иерархии. Зодчий Храма царицы Хатшепсут был родственником фараона.
Чем деспотичнее культура, тем большую роль играет оформление идеологии. Художник был творцом мифов!
Искусство — социальная религия, этим и определялся высокий статус искусства в государстве.
…Когда происходит демократизация общества плюс научно-техническая революция, вся это институция, вся эта художественная структура «упадает» в нижние слои общества! Сферы, что были уделом высшего света, стали доступны в России всем сословиям (первым шагом к тому послужила и крепостная реформа 1861 года, вторым — революция). В советское время каждый мог пойти учиться. Художественное образование в СССР стало доступным практически всем.
В армии я понял, что не хочу быть сталеваром (адова работа и пьяницы все вокруг). Что я вообще не хочу работать. Я с детства был взрослым не по годам, ситуацию в обществе видел хорошо: только художники имели тогда свободу. Пришел на работу, ушел, когда хочешь, режим можно не соблюдать, никто тебя не контролирует. За тунеядство в тюрьму не посадят (а тогда легко могли по статье посадить)! Я в художники пошел с холодным носом, сделав сознательный выбор.
Витя не смог вписаться в систему. Он был художником своего времени — художником андеграунда. Он создавал пейзажи — жизнь бараков и трущоб. Жизнь эта не вечна. Она исчезает. Часть и моей жизни там осталась. Тогда выбор был невелик. Человеку трудно было сориентироваться, — я говорю не про формальную сторону образования. Витя нашел органичный образ жизни.
Все различие между ТОГДА и ТЕПЕРЬ — в пустоте, которая была в то время. Полная пустота! Ни книг, ни фильмов, ни информации, ни хорошего образования. Полная пустота порождает в голове легенды. Тогда, в 70-е, были три легенды — легенда про художника Ван Гога, которая дошла до наших палестин и дала ростки, легенда про Мастера и Маргариту (Булгакова) и легенда про то, что хорошо лежать в психбольнице. Все там полежали. Многие, во всяком случае. Прослышали, что правозащитники прошли через психушки, и…
У студентов художественного училища был свой миф, который назывался Ленинград (все стремились уехать в город на Неве, чтобы дальше учиться там).
Еще одна полулегенда — Павел Филонов. Такой фетиш возник, потому что в 1972 году в Новосибирске прошла выставка П. Филонова, был выпущен небольшой каталог, который разошелся по городам и весям и дал резонанс.
Отсутствие культуры приводит к самообразованию. Легенды — это субкультура, ни на чем не основанная, в общем-то, в смысле фактологии. Отсутствовала аналитика, аппарат работы с фактами. Андеграунд — это та же субкультура.
Легенда про Ван Гога стала идеологической величиной. Через призму этой легенды развивалась вся художественная культура 70-х годов.
Махотин был достаточно искренен. Модель усвоил органически: художник, отвергнутый обществом, находит побудительные мотивы только в своем творчестве (больше, получается, негде). Виктор был неформальным человеком. Он сформировал свой пуристский стиль живописи и стиль жизни (который неотделим от его работ!).
Витя, в отличие от всех остальных, ни на кого, по моему мнению, не похож. И как художник он состоялся.
Витя любил книги (особенно старые) по философии, по искусству. На книжных рынках попадались тогда книги из расформированных библиотек. Он собирал их — отовсюду тащил.
Иконы — еще одна его страсть. Их было у него очень много — редких икон. Витя в иконах хорошо разбирался. Его любимые — «Умягчение злых сердец», Серафим Саровский, св. Илья и Прохор, с лошадками — Св. Георгий. Всю коллекцию икон у Вити украли. Она существовала у него с середины 70-х, может быть, — с 1973 года. Украли ее около 1977 года. Витя жил так: двери всегда открыты, заходи любой. У него была настолько же мощная коллекция, как сейчас у Жени Ройзмана, только Витя собирал иконы-примитивы. Иконы, написанные самоучками-богомазами из глубинки. Не сусальная живопись, не сусальные иконы.
Для других иконы тогда были просто экзотикой, модой, что заполняла пустоту, о которой я говорил. У Вити душа к этому делу лежала. Примитивы он очень любил и безошибочно их выделял. Сейчас это все превратилось в коммерцию (так пошло с конца 80-х). В чем логика той жизни была? Мы были подслеповатыми тогда, жили отголосками традиций. Например, собирали иконы. Это же с 19-го века идет… Мы не могли представить себе как на самом деле живет и развивается мир. Западные, авангардистские течения — все доходило до нас в виде глухих телефончиков. Когда слесарь хватается за Гегеля, и у него крышу сносит — это метафизическая интоксикация, — говорил мой друг. Круг чтения был специфичен. Булгаков, эзотерика Блаватской, книги по философии — те, что можно достать.
Я думаю, Витя не мог в какие-то формальные отношения вступать, он не мог жить по уставу. Он не мог в галстуке ходить. Сложно представить его в мундире, например, прапорщиком. Представить его за рулем также сложно. Он тянулся к таким же, как он сам. К неформальным людям, которые не находят себя в обществе, которые в противоречии с обществом. Еще скажу, он был мягким, не конфликтовал в те годы никогда, не ссорился целенаправленно ни с кем. Говорил, мне надо уйти (если начинался конфликт), и уходил.
P. S. Тогда, в застое, царила пустота. Сейчас пустота заполняется культурными отходами с запада, которые текут к нам рекой. Искусство наше все еще находится в точно такой же ситуации, думаю, как и десятилетия назад. Чтобы культура сформировалась, требуется много стабильных столетий.
Мы сейчас нуждаемся в объективной методике художников-искусствоведов, которая бы позволила все, что наличествует, инвентаризировать. Люди, которые грамотно мыслят, всегда поймут друг друга. В 70-е годы такого понимания не было, вернее, было его немного. Хуже всего в современности — хамство. Изменился его уровень. Качество хамства стало иным… Признаки хамства повсюду. Дальнейшее развитие цивилизации порождает чернь, которая требует хлеба и зрелищ. Профессиональная художественная этика нарушается. Культурный человек вырождается. Перед культурой стоит важная задача — задача выживания. Причем стоит она перед всей материальной культурой.
Андрей Баландин
Азарт коллекционера
Я работал в центре города, а башня — рядом. И я любил заезжать к Вите в башню, так удобно было: велик рядом поставишь — и зайдешь. Рюмочку выпить — и он, и я это любили. Пили из простой такой посуды, с простой такой закуской, Витя, в основном, угощал. Хорошо с морозца — согреться. Я бывал у него часто, раза два-три в неделю.
Кто для меня Махотин? Это волчокюла, непоседа, как мой сын. Шустрик по жизни такой. Речь торопливая, мыслей у него было много-много, не успевал подбирать слова, спешил — говорил так потешно, через ням-ням. Меня это очень смешило и очень мне нравилось.
Веселый и добрый человек. Выделяющийся среди прочих. Отличался, например, мгновенными решениями — решал быстро все вопросы. Очень все просто — заходишь в башню с деньгами, а выходишь с ненужной вещью, например половинкой бронзового льва… Совершенно ненужный мне антикварный лев, размером с ладошку… Но Виктор ввел меня в азарт, я стал торговаться и купил льва. Лев, распиленный вдоль. Кичуха из Гонконга, но вещь антикварная — старая. Может быть, раньше отливали этих львов на барельефы… (вещицу эту я А. Лысякову подарил, у него как он льва увидел, глаза загорелись, а я тогда добрый был и подарил).
Откуда Витя брал эту всячину? Ему все приносили — от молодых людей жуликоватого вида до друзей музея. Даже из провинции приезжали с этими старыми штуками. Он мне втюхивал разные вещи — часто приходилось покидать башню с чем-то, что тебе точно не нужно. Азарт!
Еще я у Вити монеты покупал — для использования в своих композициях, своих картинах. Меня давно заинтриговал некий монетизм, аура монет (какие только на них человеческие чувства не отпечатались!). В Петергофе фонтаны как-то сушили, так я там море денег выгреб, ржавые такие денежки… туристы набросали.
С Витиной подачи началась моя коллекция бутылочек. Он продал мне 40 штук старинных скляночек, тут же, в башне, — в коробку упаковал. Сейчас их у меня уже 200. Вообще, денег он просил немного, и с ним всегда можно было договориться. Или на картину поменяться. Витя охотно на мои картинки менялся. Он как-то хотел две своих картинки мне продать, — но я принципиально не покупаю работы других художников.
Когда я приходил в башню, то отдавал энную сумму денег. Я знал, что это та необходимая сумма, с которой надо расстаться, чтобы помочь хорошему человеку. Мы с ним время от времени разыгрывали присутствующих: начинали преувеличенно торговаться, играть на публику. Кто-то не выдерживал и говорил Вите: он тебя обманет (это про меня!). Классно так развлекались. Витя актер был в жизни. Он здорово позировал, когда я его фотографировал. Что-то изображал всегда: то входил в образ Ленина, то — в образ серьезного джентльмена, если стоял рядом с почтенного вида дамой.
Леонид Баранов
Я пришел к нему Леней Барановым…
Познакомились мы в 1979 году, когда Витя жил на ВИЗе.
Мы пришли к нему как-то ночью. На первом этаже все жилые помещения были разрушены, и только на втором одна комната была жилой. Из окна этой комнаты свешивается красный флаг.
Хозяин лежит в вязаных носочках белых, читает литературу духовную. Знакомимся. Мило сидим, долго сидим. Потом хозяин очень сердечно нас провожает. Мне было тогда 23. Так я познакомился с Витей Махотиным.
Как-то перед Новым годом, в декабре 1983-го, мы ехали со Светкой Абакумовой (вместе в училище учились в одной группе) от ЦПКиО на трамвае, и она у меня совета спросила: «Есть художник один, слов наговорил всяких, выходить замуж за него или нет?»
Я ответил: «Выходить! Лучше 100 раз, чем ни разу». То о Вите Махотине шла речь.
Мы не виделись с Витей после первого знакомства несколько лет, а потом какой-то парень пригласил меня к Махотину уже на Ирбитскую. Витя как раз свой день рождения отмечал. В комнате — народу битком. Гуляют-гудят-веселятся. Володя Типсин был, помню, Волович Лена приходила, Сергеев Витя. Я там особенно не пытался ни с кем знакомиться, потому что все были постарше меня.
На Ирбитской обычно мы пили, гуляли, знакомились с девчонками. Поскольку народу было много, ничего от каждого не требовалось, просто участие.
Счастливые, богемные, пьяные вечера. Витя скоморошил, чудил, развлекал, находил каждому ласковое слово. Приходили все со своим, Витя поляну не накрывал.
Помню, ездили с Витей к Саше Сажаеву. Мы придумывали названия к его картинам. Махотин энергично принимал в этом участие и, кажется, это он предложил назвать одну из сажаевских работ «Гутен Таг!».
Выставки? Нет, выставки он мне не устраивал. Он мои работы иногда покупал, абстрактные. Выручал. Я приехал на Ленина, 11 — две работы привез ему, он купил.
Мне запомнилось Витино гостеприимство. И то, что он старался всем уделить внимание. И был рад встречам. Он был одним из краеугольных камней екатеринбургской богемы. Махотин, Гаврилова. Именно Витя познакомил меня с Зиной Гавриловой. Зина Гаврилова — это еще один краеугольный камень того общества… Махотин — общительный. И считал, что важно всех людей кружить, вращать, общать. Всех знакомил со всеми — тотально. Он, видимо, сознавал, что существует общественное сознание, помимо простого. Поле такое информационное, — что витает над всеми. Люди, встречаясь, знакомясь в широком кругу, обретают какое-то новое человеческое качество. Потому что человек-одиночка особенно никому не нужен. А когда он становится общественной единицей, групповой, тогда нужен.
Махотин умножал число подобных себе людей. Добрых людей, людей творческих, энергичных (которые одиноки). То есть, видимо, он терпеть не мог одиночество и видел в том генеральную задачу: всех познакомить, всех подружить. Чтоб люди жили дружной, большой семьей
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
