
Бесплатный фрагмент - В густой тени магнолий
В густой тени магнолий
Моим одноклассникам дарю я эту книгу.
От автора
Последний раз я летала в Батуми в сентябре 2015 года, и мы отмечали 50 лет окончания школы.
И теперь, в начале июня 2025 года мы с Лёшей отважно решились растрясти свои старые кости: полетели на 10 дней в Батуми.
Подтолкнул нас на это Сергей, наш сын, который собрался прилететь туда вместе с женой и сыновьями из Штатов. К ним присоединились дочь с зятем и дочерьми. Оказалось, неожиданно, кстати, что между Москвой и Батуми пустили прямой рейс, которого не было несколько лет.
В 2025 году исполнялось 60 лет окончания школы, и был повод собраться остатками бывшего 11 «а» класса Батумской средней школы №8 с производственным обучением, что увеличило мое стремление посетить родной город.
Рейс в последний момент перенесли из Жуковского в Домодедово, мы трясемся на такси 2 часа, потом на самолете и вот мы в Батуми, где нас встречают прилетевшие раньше из Сербии внучка Настя с мужем. Почти час пробирались мы сквозь дикие пробки, пока добрались до квартиры, которую помогла нам снять Нелли.
Отмечали мы нашу встречу у Мани в ее новой просторной квартире, которую они получили после сноса их собственного дома.
Были девочки-старушки: Нелли, Маня, Тира, Шушана и я, Алексей в качестве дополнения ко мне, и Лия, дочка Мани, которая наготовила для нас кучу еды.
Разговор, в основном, вела Тира, рассказывала массу интересных случаев из своей жизни. Вспоминала, как ей приходилось в 90-е годы кормить всю семью, родителей, сестер и племянников, работая челноком, а потом она подcчитала и, оказалось, что перетаскала тонну товаров.
Потом рассказ перескакивает на ссору с милиционером, причину не помню, но вот Тира протягивает руки над столом и кричит: «А я говорю, арестуйте меня!».
И гонит соседа, который ночью ломится в ее дверь, хочет свести счеты:
— А я тебя не боюсь!
Приятно было, что кто-то из нас сохранил столько энергии, когда возраст уже приближается к 80.
Шушана говорила мало, негромко, у нее пошаливало сердце, да и в школьные годы она была тихой девочкой.
Они с мужем вернулись в Батуми после начала войны в Израиле, куда эмигрировали в 90-е годы. Купили здесь квартиру. А дочка с мужем остались в Израиле.
Маня и Нелли — прабабушки, остальные трое и я в том числе, еще держимся, вернее держатся наши внуки и внучки.
Мне хотелось, чтобы девчонки почитали то, что я писала о Батуми, я дала Лии ссылки на свою страничку в Самиздате.
Вернувшись домой после нереального сказочного пребывания в родном городе, я подумала, что навряд ли мои подружки будут вылавливать отдельные рассказы, посвященные Батумской жизни из той свалки, что у меня в Самиздате, и решила собрать все в одну кучу, издать книжку и подарить. Так появился замысел этой книги. Она состоит из отдельных рассказов, связанных между собой только местом действия. Рассказы списаны с реальной жизни, имена в них изменены, но моим одноклассникам не составит труда понять, кто есть кто. Кроме рассказов, в книгу включены описания посещений Батуми нашей семьей.
Я объединили эти разрозненные кусочки мемуарной прозы под названием «В густой тени магнолий», в память тех могучих деревьев, которые росли на Батумском бульваре. Под ними подростком и взрослой девушкой гуляла моя мама, там я сфотографирована летом 1951 году в четырехлетнем возрасте. В школьные годы я сидела на лавочках под магнолиями, отдыхая от жаркого южного солнца перед тем, как окунуться в нестерпимый жар раскаленных улиц по дороге домой с теннисных кортов. А в 80-х годах прошлого века летом там бегали мои дети с детьми моих одноклассниц, громко визжа и раскидывая сандалиями гальку на дорожках.
А вот внукам моим удивиться магнолиям не удалось: бульвар преобразили, магнолии вырубили, на их месте возвышаются пальмы.
Нельзя вернуться в город своей юности, как невозможно войти дважды в одну и ту же реку. Только старая магнолия напротив дома, где жила мама, пока стоит.
Катюмченко
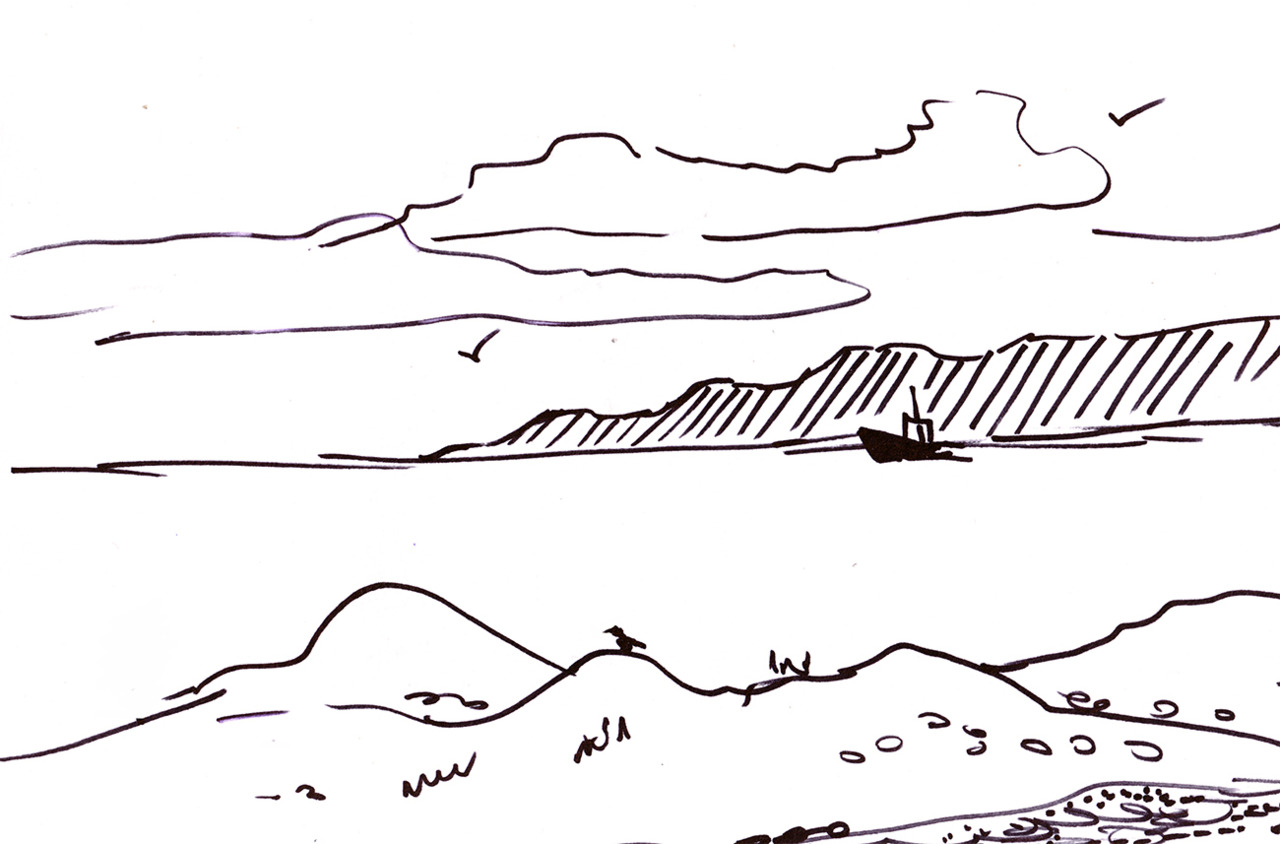
Промозглое сырое ноябрьское утро. Мы сгрудились во дворе школы, неуютном, открытом ветрам, покрытом старым асфальтом. С юга нас прикрывали стены двухэтажной оштукатуренной школы, но справа, с севера располагались низкие постройки коммунальных услуг школы, буфет и мастерские, всё это не защищало, продувалось, заставляло ёжиться, жаться друг к дружке.
Погода была необычно холодная для здешних южных мест.
Когда я, проснувшись, вышла во двор, ещё не рассвело. В утренних сумерках, с полотенцем через плечо, я торопилась к крану, чтобы умыться, и увидела, что оранжевая, еще вчера просвечивающая на солнце янтарем хурма, сорванная ночью ветром, лежит на земле под деревом осклизлой неопрятной кучкой.
Хозяин Сандро, с утра на ногах, подметал листья, дошел до хурмы и укоризненно посмотрел на меня. Он давно предлагал мне съесть эту хурму, но я постеснялась, и вот теперь она валялась на земле, бесполезная, некрасивая, никому не нужная. Рядом с ней лежали еще несколько, не таких крупных, не запомнившихся мне своей прозрачной оранжевой красотой.
Сейчас от холода разыгрался аппетит, и, вслушиваясь в неясные слова директрисы, стоящей перед нашим озябшим строем старшеклассниц, я одновременно мечтала о том, как бы я сейчас ела эту хурму, как сладкая вязкая масса заполняла бы мне рот.
В мечтах о хурме я забыла, о чем говорит директриса, потеряла нить ее речи и стала потихоньку припрыгивать на месте, чтобы согреться. Только обрывки фраз доносились до меня.
…Несчастье для семьи, позор для школы, мы не можем терпеть в наших рядах, честь, с таких ранних лет вступить на позорный путь, несмотря на все наши попытки устыдить, пришлось пойти на крайние меры…
Казенные слова, сильный грузинский акцент нашей Вакладзе, ее плохая от природы дикция, заглушаемые шумом ветра отдельные слова.
Я не могла понять, зачем нас вытащили с уроков и выстроили здесь. Сидели бы сейчас в тепле, на геометрии, шел бы опрос, а я пока придремывала бы.
— О чем это она? Я ничего не понимаю, — зашептала я на ухо Марии, одновременно прижимаясь к ней плечом, чтобы хоть как-то согреться.
Мария, напряженно вслушивалась в неясную речь Вакладзе, отмахнулась от меня. Я затихла. Потеряла надежду что-то понять и только слегка подпрыгивала. Наконец, Мария, уразумев сама, в чем дело, повернулась ко мне.
— Это из-за нее, из-за Катюмченко. Вон она стоит перед строем.
Я вытянула шею, стараясь бросить взгляд поверх спин наших подросших за лето одноклассников, и разглядела худенькую девчоночью фигурку в стороне от Вакладзе. Девочка стояла и смотрела куда-то вбок, и вид был у нее такой, как будто она не имела к происходящему никакого отношения.
Тем временем слышались слова: ни в какое учебное заведение, не будет даже среднего образования, будущее страшно себе представить.
— Да что случилось-то?
— Катюмченко исключают из школы.
— За что?
Маня развернулась на меня, возмущенно сверкнула черными глазищами.
— За то самое. Помнишь, я ж тебе говорила.
Я еще раз встала на цыпочки и оглядела маленькую фигурку с длинной шеей и короткими ногами. Не было в ней никакой пугающей завораживающей красоты, которую я, начитавшись романов Бальзака, ожидала увидеть в девушке, вступившей на путь порока. Выражение ее отливающего синевой замерзшего лица было злое и упрямое, но при этом такое еще детское, и кончики губ дрожали, а пальцы непрерывно теребили рукав формы. Она глянула на директрису, как бы подгоняя ее, прося скорей закончить, и отвернулась. Теперь она стояла к нам в профиль, горбоносая, с поджатыми губами.
Я опустилась с цыпочек на всю ступню, и повернулась к Марии.
— Мань, а Мань, — позвала я ее шепотом, — Мань, почему она Катюмченко? — Она похожа на грузинку.
— Мать у нее с Украины. Катюмченко, — ответила Маня.
— А отец?
— А кто знает? Кто может знать, кто у нее отец? Мать проститутка, и Лилька стала проституткой, и дочь у нее, если родится, тоже будет проституткой.
— Но она только в восьмом классе, моложе нас на два года.
— На один, — сказала прислушавшаяся к нам Софа. — А ты что, не знаешь, что чем моложе, тем лучше? Мать сама толкнула ее на эту дорожку, чтобы Лилька, пока молодая, побольше заработала.
Я ошалело глянула на Софу, облизала пересохшие губы, перевела взгляд на Катюмченко.
Ребята впереди начали толкаться, и закрыли ее от меня, но мне не надо было ее видеть, я ее уже запомнила.
Эта, выглядевшая совсем девочкой молодая женщина знала то, о чем мы только думали, шептались по углам, читали, собравшись кучкой, страницы в затертом томике Мопассана, который Нелька тайком притащила в школу. Мы только думали об этом, а она уже всё знала, она была взрослой тогда, как мы в свои шестнадцать оставались детьми, маленькими девочками.
И к отвращению и ужасу, который я к ней испытывала, присоединялась доля невольного уважения и интереса. Было что-то героическое в ее замерзшей маленькой фигурке, противостоящей нашему строю и высокой Вакладзе с надменным властным лицом.
Но я никому не сказала о своих двояких чувствах. Мои здравомыслящие подруги твердо знали, что хорошо, а о чем даже и подумать нельзя, не осквернившись, и не поняли бы меня.
Я задумалась. Почему девочку не исключили из школы тихо, а устроили это представление, выставили ее на позор? Почему она пришла в школу в этот день, день своего позора? Значит, она, как и мы, ничего не знала о готовившемся спектакле?
За время нашей учебы в школе ЧП с девочками происходили дважды. Оба раза девочки беременели, и их тихо выдворяли из школы, и обе они после родов продолжили учебу в вечерней школе. Но тогда никто не позорил их перед строем, не устраивали публичной казни.
Вакладзе перестала выдавливать из себя невнятные слова и замолчала. Молчал и строй. Минуты три продолжалось это неопределенное молчание.
В застывшей плотной тишине Лилька повернулась, пошла к приоткрытой калитке двора школы, обходя товарищей и прижимаясь к стене школы. Вот она прошла входную дверь школы с вывеской «Батумская средняя школа №8 с производственным обучением», еще десять метров и она исчезла за железной калиткой.
Все время, пока она шла, мы ждали, что директриса окликнет ее, вернет назад, так своевольно нарушившую порядок, уходящую без разрешения, без знака, что всё кончилось, но Вакладзе молча смотрела ей вслед, потом перевела взгляд на наш замерзший строй, и молча ушла, только не в калитку скрылась она от наших глаз, а в исчезла за массивными дверями школы.
За ней тонкой струйкой потянулись в классы и мы.
Проходя мимо директорского кабинета, мы замолкали и начинали свой неуемный гомон только отойдя на несколько шагов от его дверей. Говорили мы о предстоящих нам школьных делах, и ни слова не было вслух произнесено о том, что мы сейчас слышали.
Я встретила Катюмченко возле базара спустя два года.
Мы к тому времени закончили школу, разъезжались по стране, мечтали учиться дальше.
Лилька стояла у входа на базар, покупала персики. Она была в темном облегающем платье с большим вырезом, черные волосы красиво уложены. Грудь распирала платье.
Она посмотрела на меня, не узнавая, и стала складывать персики на тарелку весов, выбирая каждый и препираясь с торговцем, который больше смотрел ей за пазуху, чем на весы.
Сейчас она не показалась мне замухрышкой, как два года назад, перед строем, но и красавицей она, безусловно, не была.
Больше я ее никогда не видела
Спустя много лет кто-то из наших рассказал, что ее, когда ей минуло восемнадцать, взял в жены немолодой аджарец, вдовец, и увез в свою деревню, к коровам, баранам и трем детям. А перед тем, как увезти Лилю, он заплатил большую сумму ее матери, с тем, чтобы она никогда более не интересовалась судьбой дочери.
Бестактность
Солнце беспощадно обрушивало на землю водопад ослепительных лучей. Зной струился с голубого неба, которое, стоило только отвести от него взгляд, мнилось не голубым, а раскаленным добела. Время шло к полудню, и тени, длинные и прохладные с утра, съежились до сине-серых полосок вдоль северных сторон домов и странных, фантастических очертаний пятен под деревьями. Вечнозеленые поверхности листьев, как зеркала, отражали солнечный свет и до боли слепили глаза.
Две неожиданно встретившиеся женщины беседовали.
Младшая, Бела, во время разговора переставляла ноги, чувствуя, как медленно затягивает ее шпильки плавящийся на солнце асфальт.
Она томилась, мечтала поскорее освободиться, пройти, прижимаясь вплотную к стенам домов до прохладной тени подворотни, и забраться до самого вечера в спасительное прибежище зашторенного и закупоренного от жары человеческого жилья. А вечером, в спадающей жаре пройтись по изнуренным солнцем улицам до моря и искупаться. И она мысленно уже раздвигала прохладную и вязкую соленую воду, не вникая, что именно говорит ей стоящая передней немолодая маленькая женщина, просто кивала головой, и соглашалаясь.
Бела была еще слишком молода, занята собой, своим эмоциями, мечтами, планами на будущее, чтобы уметь читать в материнском сердце, и не простом ясном сердце, а в сердце умнейшей, восторженной, ожидающей всего лучшего от жизни, теперь уже не своей, а жизни сына, Ады Георгиевны.
Ада Георгиевна, в черном наряде вдовы, который носят на Кавказе женщины, потерявшие мужа, до конца своих дней, или до той поры, пока снова не выйдут замуж, казалось, совершенно не чувствовала ни жары, ни нетерпения своей молодой собеседницы, и всё говорила и говорила, вглядываясь черными колючими глазами в Белу.
Ада Георгиевна восторгалась своим единственным сыном, и никакая жара не могла помешать ей делать это.
Ада Георгиевна знала, что Белка видела ее сына в Москве, в институте, видела мельком, в президиуме, когда сама сидела в зале, и теперь это визуальное шапочное знакомство Белы и Миши позволяло Аде Георгиевна погрузиться в бесконечные восхваления талантов своего сына, отличника.
Заодно Ада Георгиевна с одобрением упомянула и товарища сына, Петю, который тоже был из Батуми и учился на два курса позже Миши, но, будучи земляками, они дружили.
Бела, вытащила шпильки из асфальта, отвлеклась от мыслей о море, и вынужденно вернулась из солнечного летнего дня юга в нудный и длинный ноябрьский вечер, когда она, сидела в душном зале, и слегка надменный, с умными глазами, маленького роста и очень некрасивый, сидящий крайним за столом, оказался Адин Мишенька, а горячий, сбивчиво выступающий, захлебывающийся словами, и мучительно заливающийся краской, его товарищ Петя, которого Ада Георгиевна расписывала как красавца и чистого душой юношу.
После собрания Бела ни разу не вспомнила об этих двух, а теперь вот стояла перед восторженной матерью, которая что-то от нее хотела, каких-то слов, мнений, сопереживаний, а Бела, еще не отоспавшаяся после летней сессии, не знакомая с предметом обожания Азы Григорьевны, могла только соглашаться, как это здорово, когда сын такой умница.
Вдруг Ада Георгиевна остановилась, глянула на Белу так, как будто хотела сделать ей рентгеновский снимок взглядом и спросила неожиданно прямо:
— Тебе понравился Петя?
Бела изумленно открыла глаза, вытащила в очередной раз шпильки из асфальта, напряглась, вспомнила Петю, его жгучий румянец, темно карие глаза и кивнула головой.
На самом деле Петя ей не понравился своей детской горячностью и лубочной внешностью. Но она была согласна с Адой, что Петя красивый мальчик и ей внешне показался, да, показался привлекательным.
— А Миша?
На какие-то секунды Бела замешкалась, правый каблук просто утопал и надо было срочно его спасать, она отвлеклась, и пока тащила, переносила центр тяжести с правой ноги на левую, вспоминала Мишу, удручающе некрасивого парня, с большим еврейским носом и намечающимися в двадцать два года залысинами и не смогла покривить душой и кивнуть головой также быстро, как на первый вопрос Ады Георгиевна.
Ада Георгиевна была из тех женщин, которые, задавая вопрос, при малейшей задержке со стороны собеседника тут же отвечали на него сами, и сейчас Ада Георгиевна, не дожидаясь кивка Белы, с плеча стала говорить о том, что Миша мальчик некрасивый, и Петя вот его лучше. Беле, как это обычно и бывает, больше понравился Петя.
Бела, которая была из тех девушек, чьей благосклонности надо добиваться, а сами они и полшага вперед не сделают, и с точки зрения позволила ли бы она проявить интерес к себе Пете или Мише у Белы был один однозначный ответ, нет, не позволила бы.
Но рассказывать об этом Аде Георгиевна было невозможно, тут надо было отвечать очень коротко. Поэтому, оглушенная потоком слов своей собеседницы, Бела промямлила что-то вроде того, что Петя ей понравился больше.
Просто Ада Георгиевна так ждала этого, так напирала в разговоре, что Петя красивый мальчик и девушки его любят, и он, конечно же понравился Беле больше, и что Миша некрасив, что Бела, забыв о кавказской учтивости, машинально, имея привычку не спорить со взрослыми, устав и расслабившись от жары, согласилась, что Петя приглянулся ей больше, чем Миша.
Получив то, к чему, казалось, она всеми силами стремилась, Ада Георгиевна замолчала, гордо подняла голову, встряхнула густой еще шевелюрой, глядя Беле в глаза снизу вверх, высокомерно сказала:
— Зато, Миша, он ведь гениальный, безмерно талантливый человек, а что такое Петя? Обыкновенный троечник. А ум, ум еще надо оценить… Не каждой этой дано.
И оставив ошеломленную Белу с открытым ртом, Ада Георгиевна ушла в гневе и презрении.
Бела забыла бы и этот летний день, и разговор, и допущенную ею бестактность, если бы спустя шесть лет не услышала от своей матери совершенно невозможное: Миша был убит в Москве на улице ночью. Услышала и содрогнулась, не представляя себе, как пережила это Ада Георгиевна.
— Аде всей правды не сказали, — добавила мама.– Она думает, что он просто умер. Скончался скоропостижно.
Из воспоминаний
1980 год
Надо мной высоко стояло темно-синее южное небо, забыто пахло кипарисами, морем и розами. Все вокруг цвело, шумно бил фонтан, отраженное от белых плит мостовой солнце резало глаза.
Я шла по Батумскому бульвару, со своими веселыми веснушчатыми детьми и не верила в реальность происходящего.
Осенью 67 года последний раз я была в Батуми, мучаясь болями в печени, лежала в стационаре и вышла на берег только один раз. Дул пронзительный сырой ветер, раздувая серые низкие облака, к ним поднимали белые вспененные головы бурые волны. Я постояла на пляже, облизала соль с губ, и уехала на тринадцать лет, а казалось мне, что навсегда, и сейчас, радуясь солнечному приволью раскинувшихся над морем родных кипарисовых аллей, я не понимала одного, что мешало мне все эти годы купить билет, сесть на поезд и приехать сюда?
Почему я не приехала раньше? Стеснялась неустроенности своей жизни? Не имела денег?
Или за время жизни среди блеклой природы Подмосковья, суровых зим, неярких лет, я перестала верить в существование субтропиков, круглогодичного торжества и буйства зеленых растений и своей юности, и невозможно было приехать туда, где есть то, чего не было в окружавшем меня мире.
Пустынный Крым и высохшая полевая трава в Кабардинке не напоминали мне мой родной юг, это был другой юг, даже другое море, мелкое и холодное.
По аллее навстречу мне шла Тира, важная-преважная, с глубоким макияжем и совершенно не изменившаяся, не считая того, что перестала мучить своих учителей в школе и мучила теперь своих учеников — Тира окончила Батумский пединститут и работала учительницей в младших классах.
— Привет, — сказала мне Тира так, как будто мы расстались вчера. — Приехала? С детьми?
Она оглядела моё потомство.
— А что все такие худые? А кто еще приехал? Ты кого из наших видела?
И вдруг я поняла, что Тира каждый год встречает кого-нибудь из одноклассников, вот так прогуливающихся по бульвару, и я одна из этих немногих.
— Да я вчера с поезда, а кто здесь из наших?
— Да ты первая.
И Тира удалилась, не удостоив меня более продолжительной беседой.
Я ошеломленно посмотрела ей вслед, потом засмеялась празднику узнавания. В Тире было столько же перемен, сколько в Батумском бульваре: выросла пальмовая роща, поменяли ограду вокруг, и море отошло еще метра на два, а Тира стала использовать другой цвет макияжа, и сегодня ее веки отливали зеленым, вместо примелькавшегося мне синего.
Первые три дня я была счастлива встречей с природой, с городом, его улицами и домами, и радостную встречу с друзьями я пережила совершенно случайно.
Исколотив все кулаки по автомату в попытках связаться с Москвой и поговорить с любимым мужем, я устала, угомонилась, по старинке заказала разговор через телефонистку, уселась ждать, когда меня позовут.
Мне нужно было рассказать, как мы тут живы, и что нужно привезти из Москвы, чтобы прожить здесь три недели, как запланировано. В Батуми были ужаснувшие меня абсолютно голые прилавки. Не было ни яиц, ни масла, ни сыра, ни колбас. Продавец маленького магазинчика с двойным названием «Мясо» и «Хорци» сидел на пороге абсолютно пустого магазина и глазел на проходящих полуголых курортниц. Хорци было только на рынке, говядина, по пять рублей за кг, и куры, цыпленок на полкило за 5 рублей, а большая курица 10. Скучно как-то при зарплате 120 рублей
Разговор обещают дать в течение часа. Всех потихоньку соединяют, с Харьковым, с Одессой, даже с Ленинградом, а меня никак, и я скучаю, разглядываю говорящих и ожидающих, жалею, что не взяла книжку.
Огромная молодая женщина с симпатичным личиком. Толчется возле кабинки. Очень внушительных размеров. И высокая и толстая. Но вот лицо…
Я вглядываюсь в эти светло карие глаза, чуть на бок ухмылку и как во сне сквозь те черты, которые я вижу, проступают другие, детские, и я узнаю эту девочку. Боже мой, этот слонопатам — Кира, маленькая девочка, младшая сестра моей одноклассницы Марины Игитханян!
Я хочу окликнуть ее, спросить, где Марина, но она разговаривает с двумя женщинами, я жду момента. Одна из женщин поднимает голову, она в темных очках, смуглое лицо в конопушках…
— Марина?
Женщина спустила темные очки на нос и стала озираться в поисках, кто же ее зовет, и я уверенней и громче:
— Марина!
Ее взгляд скользнул по мне и прошел дальше.
— Маринка! Ты что, меня не узнаешь?
Наконец она увидела, шагнула навстречу, мы радостно потискали друг дружку, потормошили, враз заговорили и уже не могли оторваться, пока меня не пригласили в кабину.
Так началось мое восстановление старых дружеских связей спустя пятнадцать лет. Марина была замужем за нашим одноклассником, Юрой Вороновым, у них было двое детей: Дима, на год старше Кати и Ира, на год моложе. Ира станет на годы наших приездов летней подружкой Сережи.
На другой день кто-то позвал меня, стоя у окна комнаты тети Тамары, у которой остановилась я с детьми и мама до приезда Леши.
Выглянув, я увидела Марину и рядом с ней невысокую розовощекую женщину.
— А, Марина, здравствуй, сейчас выйду.
— А со мной ты здороваться не собираешься? — спросила незнакомая женщина.
Я напряглась, вглядываясь.
— Инга, ты?
И мы рассмеялись, радуясь узнаванию.
Прошло два или три дня с моего приезда, я сидела на лавочке бульвара недалеко от теннисных кортов и увидела проходящего мимо Ниази Жордания с товарищами. 14 лет назад, когда я была в Батуми после первого курса, Софа Чартилиди, моя одноклассница и близкая подруга, рассказала мне, что Ниази нашел Нелли в Тбилиси, где она училась в институте и они снова, как когда-то во время нашей учебы в десятом классе, стали встречаться.
Я окликнула Ниази, поздоровалась.
— Не знаешь, случайно, где Нелли? — спросила я.
— Ну, вообще-то знаю, — ответил он. — Она моя жена. У нас трое детей. А работает она на улице Сталина, в банке.
Трое детей у Нельки, нашей спортсменки, меня просто сразили.
Подруги мои были заняты на работе, за исключением Инги, которая приехала с сыном в отпуск из Твери, и я, уходя с детьми с пляжа, заходила к Мане в Филармонию, где она работала секретарем, к Нельке в банк, она была экономистом и заведовала отделом, к Нанули в диспетчерскую. Это было так просто зайти к ним, не было проходной и высокой ограды с колючей проволокой, как в закрытом институте, где я работала.
Маня была вдовой с двумя детьми, я это знала от мамы, которая эти годы изредка наезжала в Батуми, и общалась по старой дружбе с тетей Валей, матерью Марии. Муж был водителем троллейбуса. Наверное, при ишемической болезни сердца, которая у него была, ему не следовало заниматься такой тяжелой работой. В разгар жаркого дня он зашел к матери усталый, выпил воды, чтобы охладиться и неожиданно скончался, оставив жену с двумя маленькими детьми.
Когда я неожиданно появлялась на пороге комнат, где работали мои подружки, возникало много визгу, писку и объятий. Подруги орали от неожиданности, эмоционально выражали свои чувства, я снова была на родине, среди людей, так похожих на меня, ещё более шумных, ещё более увлекающихся.
Алешка приехал через неделю после нас. Он был извещен об отсутствии продуктов и не знаю, каким образом, но притащил огромное количество еды, все продукты, коробки с яйцами, пачки масла, всем родственникам и знакомым в подарок. В Грузии, где, если верить справочнику, сельское население преобладает над городским, не было еды.
Проводница впала в истерику, когда Алешка все это выносил. Кричала, что столько мест нельзя иметь, и думаю, была не права, по весу было не так уж и много, да и возмущаться по этому поводу надо было в Москве, а не сейчас.
Встречать его пришли мы все и тетя Тамара (мамина мачеха, третья жена моего деда).
Наклоняясь к подавшей ему руку тете Тамаре и заглядывая ей в лицо, Алешка засмеялся:
— У Самсона Николаевича, оказывается, был большой диапазон.
Дело в том, что тетя Тамара была крохотная женщина, не выше 150 см, а бабушка высокая, а для тех лет и очень высокая, все 170.
Шел восьмидесятый год, и поднапрягшись, я вспомнила, что исполнилось 15 лет окончания нами школы. Мы решили встретиться и собрались у Инги в просторной 3-х комнатной квартире ее родителей. Человек десять было, все Батумские, кроме нас с Ингой. Отпраздновали пятнадцатилетие окончания школы и договорились встретиться спустя пять лет, отметить двадцатилетие и собрать всех, кого найдем.
Мы были счастливы вернуться в детство, как в лучшую пору своей жизни, и никто не вспоминал сейчас, как хотелось вырасти поскорей, чтобы стать независимым от взрослых, как тяготил постоянный контроль дома и в школе.
Когда сидели за столом, наши двое детей и Ингин сын Дима играли в соседней комнате.
Я, отвлекшись от общего разговора, обратилась к мужу, который не остался дома и пришел со мной, хоть одноклассником не был. Инга и Марина дружно посчитали, что ему можно присутствовать, так как личных друзей у него в Батуми нет и он будет скучать.
— Лёша, — попросила я, — пойди, глянь, что дети делают.
Услышав меня, Нели округлила глаза, но сказать ничего не успела. Ее опередила Тира.
— Это что? — спросила она.– Как можно? А ты на что?
— А ну-ка, — сказала Нели, — вставай и бегом, сама смотри за детьми.
Я засмеялась, вылезла из-за стола и прошла в другую комнату. В Грузии царил патриархат, а со своим уставом в чужой монастырь не ходят.
Алёшка привез матрац, ласты, и мы стали проводить время, как обычно все отдыхающие: с утра на море, потом передых, потом на бульвар. С приездом Лёши мы поселились у родственницы тети Тамары, Венеры. Она сдавала дачникам жилье, и это было отдельная комната со своим входом, Венера меняла нам постельное белье и мы могли готовить на кухне. Готовила я мало, мы забегали на обед к тете Тамаре, у которой жила мама. Через неделю после приезда Алёшки мама укатила обратно в Москву, окончился отпуск.
Сережка боялся прибоя и в этот наш приезд довольно неохотно купался, легко заходил в море только в полный штиль, предпочитая в остальное время мелкий детский бассейн. Ходили мы большой командой, брали с собой внучку Венеры и соседскую девочку, а иногда и двух соседских девочек, так что мы были с пятью детьми, а когда к нам присоединялась еще и Инга со своим Димкой, на год моложе Кати, было совсем весело.

Я познакомилась с Ингиным отцом, старым, медлительным, большим умницей. Иногда он приходил с дочерью и внуком на море, сидел в тени виноградника, и я любила с ним побеседовать. От него, прошедшего войну, я впервые узнала, что в 41-ом, под Москвой, наши ополченцы шли в бой вообще без оружия!
— Нам говорили, — рассказывал он, — возьмете винтовку у товарища, когда его убьют. А у немцев были автоматы….
С моей привычкой тут же ставить себя в описываемые собеседником условия, на меня напала такая тоска, что и светлый солнечный день не радовал.

Выходной день, мы с Маней сидим на бульваре возле летнего театра. Наши младшие дети, Манина дочка Лия и шестилетний Сережка с нами. Лия старше Сережи на два года.
Она рослая, склонная к полноте симпатичная девочка с розовым румянцем на округлых щечках.
Первые 20 секунд при взгляде на нее можно подумать, что это спокойный, склонный к меланхолическому восприятию мира ребенок.
Но уже через двадцать, а то и меньше секунд понимаешь, что это решительное существо, находящееся в состоянии непрерывного активного действия. Когда утром такой ребенок открывает глаза, родители мечтают только об одном: дожить до вечера, когда чадо угомонится и уснет.
Лия носилась, как заведенный волчок, пробиралась под кустами, выскакивала на дорожки.
За ней с оглушительным счастливым визгом бегал Сережа, тщетно пытаясь ее догнать. Шорты спустились с его тощих ягодиц и болтались в районе коленок. Он рисковал упасть в любой момент. Подтянуть их у него не было времени.
— Ты посмотри, что творится, — сказала мне Маня и крикнула в спину убегающему Сергею:
— Эй, кавалер, штаны-то подтяни.
Но Сережа ее не слышал.
Я зашла в свою школу, прошла к кабинету директора. Там сидела Нина Константиновна, бывшая завуч, сейчас директор. Мы с Зойкой заходили сюда летом 66 года, после первого курса, и виделись с ней же.
— Узнаёте? — спросила я, остановившись на пороге
Через минуту напряженного всматривания Нина Константиновна изумленно сказала:
— Зоя… На улице не узнала бы, прошла мимо, но когда вот так, появляются на пороге, сразу знаешь, наша, и узнаёшь.
Завуч повела по коридору, встретили физика у дверей физкабинета. Шота взял меня за руку и повел в учительскую.
— Вот, — сказал он, эта девочка пятнадцать лет тому назад закончила школу, и не было дня, чтобы все эти пятнадцать лет на уроках я не вспоминал ее: Хучуа, Хучуа. Лучше ученицы у меня не было.
Кто-то из старых учителей меня узнал, а одна незнакомая женщина, подняла голову и спросила:
— Конечно, там уже и кандидатские…
— Нет, — бодро ответила я, хотя бодрость была не вполне искренней. — Только институт закончила, потом замужество, дети отвлекли. Но я собираюсь поступать в аспирантуру.
Уходя из школы, я точно знала, что не собираюсь, а поступлю.
Я зашла на корты, поздороваться со знакомыми, вспомнить радость игры в теннис, стук мячика о ракетку, со стороны посмотреть, как он стремглав перелетает через сетку.
Сергей, рабочий по обслуживанию корт, узнал меня, поздоровался и ушел в здание, а минут через пять из раздевалки вышла мать Нелли Варданашвили, тетя Валя, которая там работала.
— Значит это ты приехала, — задумчиво сказала тетя Валя, после обычных здесь поцелуев при неожиданной встрече. — Теперь понятно, о ком рассказывал Сергей. И она смехом передала мне, что Сергей пришел и рассказал:
— Приехала девочка из Москвы, батумская, когда она в институт поступала, все профессора собрались чтобы ее завалить, но она оказалась такая умная, всех за пояс заткнула и прошла. А теперь я выхожу и вижу тебя, ну понятно, про кого рассказывал Сергей.

— Да ничего этого не было, просто легенда какая-то.
— Ну, было не было, теперь ты здесь девушка из легенды.
От этой поездки на море осталось много фотокарточек.
Провожала нас толпа народа, как какая-то делегация уезжала, перечисляю:
Родня: тетя Тамара, Августа Ивановна (теща маминого брата Резо) с внуком, трое.
Тетя Венера с внучкой Лалой и девочкой со двора Ноной, с которой Катя сдружилась, еще трое.
Мои подруги, Маня с двумя детьми и Инга с Димкой, пятеро. Итого 11 человек, и нас четверо. И я понимала, что уезжаю не навсегда, что я ещё вернусь. И не через 14 лет. Хорошо мне было здесь.

1982 год
Мама в 1981 году исполнила свою мечту: поменяла квартиру в Подмосковье на квартиру в Батуми и они с бабушкой уехали. Квартира находилась на втором этаже двухэтажного дома на углу улицы Ленина и Цхакая (Константина Гамсахурдия и Царя Горгосали по теперешнему) напротив спортшколы, во дворе которой росла большая магнолия.
А я сдала вступительные экзамены и поступила в аспирантуру. Мне теперь 4 года с разрешения руководителя диссертации положено было 2 месяца отпуска.
— Вы знаете, что Вам дается дополнительный отпуск для чтения научной литературы по теме диссертации? — строго спросил меня шеф.
Ага, как же, подумала я. Буду изучать основы радиационной химии, сидя под пальмами. Но вслух произнесла:
— Конечно.
И сделала максимально честное лицо, хотя безбожно врала.
И Алёшка проводил нас на юг.
Я много раз приезжала к маме с детьми, мужем и одна, и трудно мне отличить одну поездку от других, но тогда я в первый раз приехала к маме на её новую квартиру, и это было прекрасно, несмотря на неудобства быта, главным из которых был слабый напор воды. На второй этаж она поднималась только ночью, приходилось просыпаться и набирать большой бак, подвешенный над ванной, а днем мы расходовали бак. Воду по ночам чаще всего набирала бабушка.
Квартира мамина находилась и близко к рынку и близко к морю. Погода была солнечная, и мы целые дни проводили на море, до половины двенадцатого на пляже, а потом на бульваре.
На рынок за продуктами ходили после обеда, покупали фрукты, овощи и иногда мясо.
Мясо стоило дорого, пять рублей за кг, дорого стоил и грузинский сыр, но сыр мы брали регулярно, а мясо нет.
Мама работала до двух часов. После работы иногда ходила на рынок прикупить что-нибудь. Помимо заработка была еще мамина пенсия, денег хватало. Больные весьма кстати приносили маме в знак благодарности за успешное лечение шоколадки, которые после овощного обеда были очень кстати, съешь большую шоколадку на троих и сыт.
Правда, я как-то после овощного супа и жареной молодой картошки спросила сына:
— Ты наелся?
— Да.
— А мяса хочешь?
Наступила пауза. Сын задумался, хочет ли он мяса, потом подошел к сковородке, закрытой крышкой, поднял её. Там лежали остатки картошки.
— Ну и где твое мясо? — с обидой спросил сын.
Пришлось на другой день делать мясной обед.
Маня и Марина, с которыми я в те годы тесно общалась, считали своим долгом пригласить меня в гости и вкусно накормить: помню тети Валины баклажаны с грецкими орехами.
Вороновы пригласили нас в гости на Степановку, Марина приготовила фаршированные болгарские перцы. Всем с обычной классической начинкой, мясной фарш и рис, и мне только с фаршем, без риса.
— А кто тебя знает, — сказала Марина. — Вдруг ты рис со своим гастритом не ешь.
Я была очень тронута заботой о себе.
Иногда в магазине, мимо которого пролегал путь на рынок, давали кур. Сразу набегала очередь, приходилось стоять, пары кур нам хватало дня на три, и было сытно, только куры были жирные, я любила более постные.
Дети буквально разоряли меня на мороженом и пепси-коле, хотя, возможно, пепси-кола появилась несколько позже, а тогда был лимонад.
Еще была напасть, авторалли.
Цена на них была просто сумасшедшая, 50 копеек за пять минут, если два раза в день, то выходило рубль, умножим на 60 дней, получим шестьдесят рублей, больше стоимости взрослого билета в Батуми и обратно в купе. А Сережка так упоенно катался на этих авторалли.
И в этом году он научился плавать. Моря он уже не боялся, целыми днями они с Катей ныряли, но если Катя знала меру, то Сергей не знал, и всё время, пока мы были на пляже, он пребывал в воде, делал стойки, и я постоянно контролировала, тут ли его торчащие над водой ноги.
Как и два года назад, одновременно с нами приехала к родителям Инга Гребенникова, и мы много времени проводили вместе, купались, загорали. Трудно только было переносить общество троих детей, Ингин Димка по возрасту попадал где-то посередине между моими, то есть был одновременно приятелем и Сережке и Кате. Контроль над ними терялся совершенно, они непрерывно кидались камнями, особенно мальчишки, и этим вызывали естественное неудовольствие окружающих: как ни обширен Батумский пляж, но и народу на нем хватало в те годы. Дома отдыха и турбазы работали, и «дикарей» (отдыхающих без путевок на частном секторе) хватало.
Помню, мы возвращаемся с моря впятером, дети всё время дерутся: пихаются, толкаются, непрерывно хихикают и на наши попытки утихомирить их (решительные мои и вялые Ингины) никак не реагируют, как будто с рождения глухие.
Мы доходим до угла, откуда Гребенниковым с нами не по пути. Инга свернула, Димка поплелся за ней, а мои как вцепились друг в дружку, так и продолжали свалку на ходу, ноль внимания на уход приятеля.
«Хорошо Инге», завистливо подумала я про подругу. «Вот у нее тишина наступила, а мои меня скоро с ума сведут.
На другой день на пляже, пока дети активно купались, Инга, сидя на шезлонге под зонтиком, передала мне разговор с сыном, состоявшийся после вчерашнего расставания:
— Вон, мама, посмотри, — сказал Димка матери, — им так весело, а я всё один да один.
Я много времени проводила с одноклассницами, часто забегала к Мане в филармонию поболтать, бывала у Вороновых, у Софы. Софа работала главным бухгалтером Батумского аэропорта. Она располнела, и, любила сказать шутливо:
— Хорошего человека должно быть много.
У нее было двое детей, сын Одиссей на год старше Кати и девочка возраста Сережи. Замуж Софа вышла за грека, по сватовству, он был старше ее, я видела его мельком. У него была своя жизнь, свои друзья, у Софы свои.
А в четырехкомнатной квартире у них был ремонт. Основательный ремонт, с перестройкой лоджии, снесением стен, арками вместо дверей. Он длился все годы, пока я ездила в Батуми. Это была одно из особенностей Батумских жителей: какая-то прямо извращенная страсть к длительному ремонту с перепланировкой изначальной квартиры.
Впрочем, лет через двадцать это страсть захватила и подмосковных жителей.
Как-то провожая нас на автобус, который курсировал от нее до рынка, с остановкой на Бараташвили, близко к нам, лишенная сентиментальности Софья вдруг сказала Кате:
— Твоя мама была такой необыкновенной девочкой, мы все старались походить на нее.
Я рот открыла от изумления. Что я не замечала в нашем детстве, так это стремления Чартилиди подражать кому бы то ни было. Она мне казалась яркой самобытной личностью, не подверженной никаким влияниям. Да и сейчас она работала на ответственной должности, у нее были подчиненные, а я была научным сотрудником без степени и без подчиненных. К последнему я, правда, не стремилась.
Маня теперь была замужем. Еще в первый приезд, когда я в очередной раз была у Марии на работе, я заприметила Вову.
Пробегал мимо нас мужчина и переглянулся с Маней, не встревая в разговор, но это был взгляд близких людей. Расспрашивать я не стала, а теперь Вова был Маниным мужем. В семье образовалось двое Владимиров, но сын был грузин и звался Ладо, а муж на русский манер Вовой. Сразу было понятно, о ком она говорит.
Разморенные жарой, мы втроем, я и дети, возвращаемся с пляжа. Печет плечи даже сквозь батистовую блузку. Мне хочется пообщаться с Маней, и я предлагаю детям зайти по дороге в Филармонию.
— Нет, пойдем домой, — тянет меня Сережка.
— Ну, да что дома-то делать, успеем, обедать еще рано.
— Да…, — тянет Сережка. — Да…. Твоя Манечка так щиплется.
Мне смешно. Мане нравится Сережка, и она в порыве чувств щиплет мальчишку за щеку, так здесь выражают симпатии к детям. Видимо, сильно щиплет, раз Сережка жалуется.
Весь центр Батуми утыкан маленькими и большими магазинчиками, где торгуют товарами местной швейной фабрики и Кутаисской и Тбилисской обувью. Много кожаной обуви, красивой на вид, и хотя она не на картонной подошве, как та, какой после войны торговал на Тбилисском рынке мой отец, но носится немногим дольше. Марина работает на швейной фабрике в отделе снабжения и иногда советует приобрести что-нибудь из их ассортимента.
— Я только не понимаю, — говорит она, — в Москве живешь, там выбор больше.
— Не в Москве, а под Москвой, и я работаю, а тут я в отпуске, могу пройтись по магазинам, тем более, что не нужно толкаться в общественном транспорте.
Я не успела купить Сережке сандалики в Москве и купила здесь голубые с белым мальчишечьи босоножки. Через две недели, вечером, когда мы были на бульваре вместе с мамой, у него отвалилась вся передняя часть подошвы. Так и пришлось бы Сережке идти домой босиком, но к счастью, у мамы был с собой кусок бинта, которым фиксируется повязка на конечности, такая дырявая эластичная трубка. Мама натянула внуку на носок, прижав подошву к ноге, и Сергей дошел до дому в обуви, а на другой день пришлось покупать ему новую пару. Такую же. Другой обуви подходящего размера не было.
Катя обожала ходить по магазинам, всё время что-то выискивать и потом выпрашивать денежки (в основном у бабушки), чтобы купить. Одну я её не пускала, и мы делали это вместе. Сергей не любил ходить с нами по магазинам одежды и галантереи, он любил зайти в магазин с игрушками и что-нибудь поиметь.
— Денег нет, — сердилась я. — На юге гуляешь, авторалли, еще и игрушки.
— А вот Катичке так покупаешь…
— И тебе покупаем, — двое сандалий купили.
— Так мне только в случае крайней необходимости.
— И Кате тоже в случае крайней необходимости. Ты же знаешь, если женщине понравилась какая-нибудь вещь, то купить её крайняя необходимость, — смеюсь я.
А пока мы купаемся, загораем, ходим на местный рынок, Алешка дома один и пишет нам письма, в которых описывает ощущения многодетного папаши, впервые за долгие годы женатой жизни ставшего одиноким.
«…дома странная тишина и пустота. Можно лечь на пол, и никто на тебя не залезет, не начнет топтать. Можно даже встать на голову, и никто не наступит на уши. Вот только еды нет. Повешу объявление — ищу кормилицу».
За неделю до отъезда Сережка заболел. Докупался до того, что у него образовался какой-то воспаленный бугор сбоку на пенисе.
Мама послала нас к хирургу, и я пошла к Гиви Цивадзе, своему однокласснику, который тогда заведовал первой городской больницей и вел прием.
Гиви осмотрел моего мальчишку, назначил марганцевые ванночки и добавил, смеясь:
— Ты не расстраивайся. Если не поможет, сделаем ему обрезание, будет наш человек.
И добавил с укоризной.
— Если бы сын не заболел, ты бы и не зашла.
Я устыдилась и в будущем, если Гиви был в Батуми во время моего приезда, всегда заходила к нему, а вскоре не в больницу, а в правительственное здание на улице Ленина возле бульвара: Гиви стал министром здравоохранения Аджарии.
Но вернемся к 82 году. Делать ванночки Сережке обернулось хлопотным делом. Во-первых, он панически боялся, как бы кто не увидел его богатства. Когда ему было шесть, я объяснила разницу между мужскими и женским особями, и теперь он панически боялся, что зайдет Катя и увидит его кончик. Он задвигал шторы и закрывал двери, и в течение получаса никто не мог войти в комнату, а я держала майонезную баночку с марганцовкой, в которой плавал больной орган. При любом сотрясении он тут же выпрыгивал из баночки, марганцовка расплескивалась, — в общем, тушите свет.
Так я мучалась три дня, а потом мы собрались уезжать.
— И как, мама, я буду в условиях вагона делать эти ванночки? — спросила я маму
Мама взяла бинт, намазала ихтиолку (надо брать не 10% мазь, а чистый ихтиол, сказала маме мне), прилепила бинтик с мазью к больному месту и залепила сверху лейкопластырем.
На обратный путь в Москву у нас было три билета, но два места. Сережке не было восьми лет и можно было не брать на него место в купе. Я бы взяла, но мест не было.
— Ничего, — утешали меня провожающие, — заплатишь проводнице пятерку, вот тебе и будет место.
Желающих проехать без билета оказалось много, и мы ехали вшестером в одном купе. Дети спали вдвоем на нижней полке, я на второй, а напротив меня расположились трое, двое на двух полках и молодой парень на третьей полке.
В Москву, правда, прибыли впятером.
Простое человеческое

Роза сладко потянулась, тряхнула густой золотой копной волос, сняла лифчик и небрежно бросила его на спинку стула. Лифчик не долетел до спинки и упал на пол. Роза вздохнула, но поднимать не стала. Она посмотрела на себя в тусклое зеркало платяного шкафа и увидела мягкие округлые плечи и белые груди с розовыми сосками.
Увиденное в очередной раз порадовало ее. Розочке было пятнадцать лет, она недавно обзавелась пышными формами, и еще не привыкла к своему облику цветущей молодой девушки. Ее веснушчатое рыжее детство все еще дышало ей в спину, и она нарадоваться не могла на свою нежданную золотую красоту.
Розочка повернулась, посмотрела на себя сбоку, потом изогнулась и вытянула шею, стараясь увидеть себя со спины.
Ей это не удалось, она вздохнула, открыла дверцу шкафа, покопалась в груде небрежно затолканного белья, выудила оттуда модный сжатый купальник, покрутила его в руках. Купальник уже прилично выцвел, и был Розочке маловат. Но другого не было. И Розочка, быстро скинув трусики, натянула купальник на себя и снова посмотрела в зеркало. Купальник закрыл ее бело-розовое великолепие, но Роза решила, что и оставшегося достаточно.
Она подняла с полу лифчик и трусики, сняла с вешалки полотенце и бросила всё это в синюю спортивную сумку.
Кукушка выскочила из своего домика и прокуковала два часа. В два часа их класс договорился собираться на пляже, покупаться, поиграть в волейбол, пошляться по бульвару. Надо было бы поспешить, но спешка была не в характере Розы.
Она прошла в другую комнату, подошла к кухонному столу. На столе, закрытая полотенцем от мух, стояла кастрюля с фасолью. Розочка приподняла крышку кастрюли, увидела фасоль и слегка поморщила лоб, фасоль она не любила, но молодой аппетит требовал своё; достала ложку и задумалась на минуту. Разжигать керосинку, и греть сваренный бабкой обед было некогда, и Розочка стала есть фасоль прямо из кастрюли.
Насытившись, Роза не стала мыть ложку, а тщательно облизала ее, обратно в стол не убрала, оставила на клеенке. Взяла сумку, вышла из дому, прямо на улицу, никаких сеней не было, закрыла ключом дверь, а ключ, предварительно оглянувшись, нет ли кого чужого, сунула под коврик. Она могла вернуться позже бабушки, а ключ у них был один на двоих.
Они так и жили вдвоем, она и бабушка, и своей жизни с родителями Роза не помнила, да и помнить не могла, родители разбежались, когда Розе не было и двух лет.
Аллочка, мать Розы, родила дочку, когда ей самой было чуть больше шестнадцати лет. Розин отец Анзор, темпераментный аджарец, влюбился без памяти в пятнадцатилетнюю Алку. Увидел золотоволосую девушку и потерял голову. Не ел, не пил, и каждую ночь видел во сне эту золотую реку, растекшуюся по белым плечам. Родители не позволяли ему жениться так рано, да еще и на еврейке, поэтому он решился на отчаянный для его восемнадцати лет шаг: просто умыкнул Алку, украл, выражаясь на жаргоне тех лет. Алка тоже влюбилась в Анзора, с которым переглядывалась украдкой, гуляя с подружками по пляжу, и позволила увезти себя в Махинджаури, курортное местечко под Батуми. Дед Анзора имел там свой дом, большой и просторный, и позволил внуку поселиться у себя со своей похищенной женой. Но прожили они недолго. Родители Анзора Аллу так и не приняли, не признали за невестку, несмотря на заступничество деда, и помогала Аллочке в ее раннем материнстве, только ее мать, Зинаида Моисеевна, которая вырастила дочь одна, без мужа, и души не чаяла в ней и внучке.
Зинаида Моисеевна каждый божий день ездила в Махинджаури, нянчила девочку и думала: хорошо, что девочка не в породу отца, черноволосого и смуглого горца, а в их: с белой кожей и рыжими волосами.
Такая девочка нигде не пропадет, ни в какой толпе не потеряется.
Про романтическую историю любви Анзора и Аллы, прогремевшую в свое время на весь Батуми слагались легенды, но закончилась она грустно. Анзор бросил подружку, так и не расписавшись с ней, Алла через полгода после их разрыва вышла замуж и уехала в Тбилиси. Уезжая, она рассчитывала устроиться в жизни, и забрать дочку к себе, да не получилось.
Впрочем, Зинаида Моисеевна на дочку не обижалась, считала, что Розочке лучше жить с ней, чем в семье с отчимом, да и не могла она расстаться с внучкой, привязалась к ней.
Рано проявившаяся красота Розы не пугала бабушку, в их породе все были скороспелками.
Сейчас Роза положила ключ и своей плавной скользящей походкой направилась к пляжу. Идти ей было недалеко, они с бабушкой жили в одноэтажном доме на пять семей в портовой части города, недалеко от ДОСААФ.
День был светлый, не ясный и не пасмурный, а такой, какие бывают только в Батуми: солнце подернуто тонкой дымкой и его не видно, а жарит прилично. Было еще начало сентября, бархатный сезон в разгаре, но на пляжах приезжих поубавилось, отдыхающие с детьми школьного возраста разъехались.
Розочка шла, чувствовала как распущенные волосы мягко касаются ее плеч и улыбалась этому светлому дню, прохожим парням, возвышающимся над городом горам, подстриженным кипарисам.
Парни, завидев улыбающуюся Розу, подходили поближе, чтобы получше рассмотреть это золотое чудо, и цокали языком ей в след, что означало высшую степень одобрения,
Сегодня у Розы был удачный день, она исправила двойку по английскому языку, и теперь ничто не омрачало ее душу.
Она пересекла бульвар, вышла на берег и остановилась на минуту, любуясь открывшимся видом на море. Потом осторожно стала спускаться. Под ногами зашуршала крупная морская галька.
Розочка остановилась, вытрясла из босоножки камень и огляделась. Внизу, у самого моря она увидела кучку подростков. Ей уже махали, подзывая, и Роза, узнав своих, ускорила шаг.
Вскоре она бултыхалась в воде вместе со всеми, плавала, ныряла, ловила мяч мягкими томными движениями. Утомившись, Роза выбралась из воды, ушла подальше в тень сосенок, села на камни, вытянула ноги и подставила личико ветерку, несущему с моря легкую прохладу. Роза не загорала.
Ее белая кожа покрывалась под солнцем коричневыми веснушками, которые не хотели слиться в однотонный коричневый загар, и Розочка пряталась от солнышка, насколько это возможно в южном городе.
Она издали смотрела, как девчонки из класса, раскинули свои шоколадные тела прямо на горячих округлых булыжниках. Мальчишки еще плескались, не насытившись морем.
Роза недолго посидела одна. Вскоре к ней подошла Софа, их отличница, которая плохо переносила солнце и укрывалась в тень.
Софико, только уселась рядом, сразу затараторила без умолку, молчать она не умела.
Роза исподтишка оглядывала Софочку, ее впалую маленькую грудь, худые длинноватые руки подростка. Ничего общего с ее, Розочкиной округлой красотой. Только худое смуглое лицо Софочки с тёмными блестящими глазами было хорошо. Пожалуй, не хуже, чем у Розочки.
Роза вздохнула. И неожиданно, чтобы как-то выразить переполнявшую ее радость от этого солнечного дня, от этой взаимной любви человека и природы, которую можно почувствовать только когда тепло и солнечно, Роза, закрыв глаза, произнесла как заклинание: «Я буду счастлива».
Софочка замолчала растерянно. Розины слова никак не вязались с тем, что тараторила она только что, думая, что Роза ее слушает.
— Я буду счастлива, я уверена, — повторила Роза. Она открыла глаза и встретила непонимающий взгляд Софы
— Мне нужно такое обыкновенное простое человеческое счастье, так мало.
Она задержала на Софочке долгий оценивающий взгляд:
— Тебе будет труднее, — провидчески сказала она.
И Софа кивнула в знак согласия. Она понимала, о чем говорит Роза. Ей, Софе, в жизни будет сложнее, она хочет сразу всё.

Их уединение прервал Юрка, их одноклассник. Ему понравилось, как они сидят, он подкрался и сфотографировал их вместе. Так и остались у каждой из них эти черно-белые фотографии: они вдвоем в купальниках под сосной.
Через двадцать пять лет, не дожив и до сорока, Роза умерла в Тбилисской больнице от рака груди, оставив сиротами двух темноглазых темноволосых дочек и неутешного мужа.
Спустя несколько месяцев Софа случайно узнала о смети Розы от кого-то из батумских, приехавших в Москву.
Софа достала старый альбом с фотографиями школьных лет, и долго вглядывалась в выцветшую фотографию, где они вдвоем с Розой такие разные и такие одинаково молодые, полные сил и надежд. Она знала, что Роза была счастлива в браке. Все было так, как ей хотелось, как она предчувствовала, и никто не ожидал, что она уйдет так рано.
Немного времени отпускается нам для простого человеческого счастья.
1983 год
Мама заболела и попала в больницу с сильными болями. Осенью 82 года ей прижгли полип в уретре, пустяковая вещь, делается амбулаторно, и больничный дают всего на три дня.
Но после прижигания попала инфекция, начался воспалительный процесс, который сопровождается страшными болями даже у женщин. Пришлось лечь в больницу, где её пытались вылечить.
Я испугалась, взяла в счет отпуска неделю и приехала в Батуми в январе.
Меня встречали мама, которую к тому времени выписали, и тетя Наташа, свояченица дяди Резо.
В первый момент, возбужденная и обрадованная встречей, я лишь заметила, что мама похудела, и только, когда мы выходили из вокзала, я обратила внимание, как трудно мама идет, медленно, согнувшись, выбирая ногой, куда ступить, совсем по-старушечьи.
— Мама, что с тобой?
Знала я, что мама болеет, и ради того, чтобы помочь и подкормить ее и бабушку после больницы, я и приехала, но не была готова к тому, что увидела.
— Мама твоя очень больна, побереги её, — вместо мамы ответила Наташа, и я почувствовала щемящую боль и страх. Впервые повеяло на меня возможностью крушения незыблемого мира детства, состоящего из мамы и бабушки.
Мой приезд приободрил маму. Несмотря на боли, она выходила на бульвар, иногда на базар, стараясь выбрать безветренные дни, ветер продувал насквозь и болезнь обострялась.
Наличие или отсутствие ветра она определяла по движению листьев магнолии. Огромная столетняя магнолия напротив балкона, раскинув толстые ветки, стояла незыблемо на любом ветру, но её огромные блестящие листья слегка шевелились и стучали друг об дружку как тонкие деревяшки, когда ветерок разыгрывался посильнее.
Мама смотрела на эти слабо шевелящиеся листья, прислушивалась к жестяному шелесту и говорила:
— Нет, сегодня я не выйду. Такой ветрина.
— Магнолия до земли клонится, — бросала я насмешливую фразу, однажды сказанную Резо.
Эта фраза стала в нашей семье ироническим символом страха человека перед капризами природы. Огромные, с толстыми, в три обхвата стволами, магнолии, а такая стояла во дворе спортшколы напротив маминого балкона, наклониться никак не могли.
Посовещавшись с Наташей, решила я забрать маму с собой. Бабушка согласилась остаться одна на месяц-два, дать дочери подлечиться в более комфортных условиях.
Я накупила продуктов, заполнила холодильник, а мама попросила соседей снизу, Сону и её дочь Марину, навещать бабушку, и мы уехали.
Летать на самолете мама боялась, она работала, получала пенсию, деньги были, знакомства тоже, (знакомства не мои, а Манины) и я купила билеты в международный вагон.
Купе было просторное, на двоих, со столиком, превращающимся в умывальник, и даже вода потекла из крана, когда мы открыли его!
Но перед тем как попасть в этот вагон, мы натерпелись. Отправление поезда отложили почти на три часа, кажется, где-то на пути были завалы, сход лавин или что-то в таком духе, чем любят баловать нас красивые, но коварные горы.
Мама пролежала три часа в медпункте, проводя беседу с медсестрой на грузинском языке, изредка переходя на русский, чтобы я тоже порадовалась какой-нибудь шутке или едкому замечанию.
Всю первую ночь в дороге пьяный за дверью нашего купе что-то выяснял, ругался и сердился. Говорил он по-грузински, и когда утром мама запела «Сулико» на родном языке, я завопила:
— Нет, мама, только не по-грузински, мне опротивел за ночь этот язык.
Утро было ясное, и за окном медленно разворачивалась величественная панорама Северного Кавказа, которую мы обычно проезжаем до рассвета, а сейчас, благодаря опозданию, ехали при дневном свете, и я, схватив пастель, стала, как сумасшедшая, рисовать пейзажи за окном вагона. Передний план мелькал быстро, но дальние горы я успевала схватить. Осталось много рисунков с той поры.
Мама обследовалась, мы ездили к Алику Гваришвили на Калужскую, где он тогда работал младшим научным сотрудником в институте рентгенологии и рентгенографии.
Во время пребывания в Батуми я случайно встретила учителя математики из нашей школы, Михаила Ароновича, и после обычных приветствий и поцелуев Михаил Аронович сказал мне, что всего месяц назад вспоминал меня в Москве вместе с Аликом Гваришвили. Так я узнала, что Алик в Москве, и взяла его адрес. Он работал недалеко от института на Калужской, где я работала над диссертацией, и я заскочила к нему на часок, повидать старого товарища, поболтать о прошлых временах. А вот теперь я ему позвонила, попросила о помощи: в их институте было современное оборудование, которого в других местах не было. Алик меня выручил, мы сделали у него сканирование маминых почек и кроме небольшого воспалительного процесса ничего не нашли.
И мама уехала домой.
1984 год
Привожу Катино письмо бабушке. Это просто памятник ушедшей советской эпохи.
«Здравствуй, буленька!
Я, несмотря на твои уговоры, всё же поехала в ЛТО, и из-за сборов не могла написать. А сейчас я расскажу тебе о своей жизни.
Перед отъездом Алексей Иванович (наш учитель физики и начальник трудового лагеря, его мы зовем Антип от фамилии Антипов), обещал нам отдельные, деревянные, отапливаемые домики для шести человек, душевые (правда, без горячей воды), каждый день парное молоко и всякое такое разное.
Мы ему поверили и первого июня двадцать человек из нашего класса и еще около 100 человек из параллельных классов пришли на сборный пункт. Для нас были заказаны три экспресса, и конечно (у нас ничего не бывает без происшествий) пришли только два и мы в течение трех часов вместе с многочисленными сумками и чемоданами ждали третьего автобуса.
В нашем автобусе должны были ехать два класса, наш и «Д», в автобусе было сломано багажное отделение, и большую его часть заняли чемоданы. Была ужасная давка, и многие пацаны сидели в проходе. Наконец, кого-то угораздило вызвать грузовик, и чемоданы загрузили в него. Стало посвободнее, и мы отъехали. Дорогу водитель знал плохо, и мы заплутались. Итак, сбор был назначен на половину девятого, и только к пяти вечера мы приехали на место.
Вместо обещанных домиков нас поместили в школе, школа старая, потолки высокие, комнаты огромные, нас здесь восемнадцать человек в большой комнате — шумно, весело и тесно, негде яблоку упасть. Как сказала наша медсестра «плюнуть негде». Горячей воды нет. В туалете вода ледяная. В столовой посуду моют холодной водой — грязь-жуть. Кормят плохо. Суп и каша не соленые, в кисель для цвета добавляют свеклу. В общем, пища урковая.
Работаем мы два дня на сборке рассады капусты. А сегодня поставили на уборку редиски. Капусту надо было собрать 9 ящиков на человека, а редиски надо связать 250 пучков по 11 редисок. Работаем по 4 часа в день с 9 и до часу. Подъем у нас в половине седьмого, а отбой в десять. Но засыпаем мы около двух часов ночи, и учителя ужасно устают, успокаивая нас. Антип тут совсем с ума сошел, мальчишки из «В» класса бесились, и он заставил их бежать 3 км. А мы утром не вышли на зарядку и нас уложили спать в девять часов. Но есть и хорошие стороны: вокруг школы прекрасный сад (три деревца), душ (холодный), но жизнь всё-таки хорошая. С одной стороны деревня, а с другой кладбище. Гуляем по кладбищу и подыскиваем себе местечко. Бледные, как смерти. Сюда мне не пиши, я сбегу.
С трудовым приветом.
Не расстраивайся, я в письме половину приврала.
Катенька, нучка Нюнягина (внучка Нонина, так Катя называла себя в детстве).»
Получив приведенное выше письмо, где ужасы быта описаны в более мрачных тонах, чем в письмах к нам, мама, над которой никогда не довлело никакого коллективного сознания, и для которой члены семьи были существа, которых надо оберегать, а остальное человечество могло поступать, как ему заблагорассудится, немедленно начала действовать. Послала в лагерь телеграмму что она больна и нуждается в уходе. А тут как раз и Алешка поехал навестить дочку, и тут же и забрал её, но не со скандалом, сами отдали.
После дочерних подвигов на сельскохозяйственной ниве мне ничего не оставалось, как прихватить с собой в Батуми не только сына, но и дочечку, что я и сделала, хотя клялась себе, что с двумя не поеду, очень они меня донимали, не отдых получался, а хождение по мукам.
Помимо отдыха, мой приезд в Батуми имел и еще одну цель: мы организовывали с Ксанкой Тотибадзе, (Ксенией Германовной Комляковой) грядущую на будущий год встречу с одноклассниками. В 1985 году исполнялось двадцать лет с момента окончания школы.
За год до этого Оксана нашла меня в Долгопрудном.
Дело было весной, в воскресение, я готовилась к аспирантскому докладу и срочно писала плакаты, разложив ватман на столе, потом спохватилась, что жрать нечего, и помчалась в магазин.
Вышла, стою и думаю, идти в булочную или нет, не хочется в очереди стоять, как вдруг из-за угла показывается Катеринка, а рядом с ней высокая красивая женщина, мне незнакомая.
Вдруг женщина распахивает руки и кричит:
— Зоя, ты меня не узнаёшь?
И этот странно знакомый голос вызывает движение памяти, накатывает волна, секунда, и незнакомая женщина оказывается моей одноклассницей.
Летом 1982 года мы с Маринкой, с которой много времени проводили вместе с той поры как встретились на переговорной, так вот, мы с Маринкой зашли к родителям Оксаны, которые жили рядом с Мариниными родителями и оставили мой адрес. По нему Оксана нашла меня.
Помню, мне было стыдно, приехала подруга, а у меня не было нормального обеда, всё из-за моих аспирантских забот.
Но мы долго сидели, рассказывали друг дружке свою жизнь за последние двадцать лет. Оксана год как вернулась с Камчатки, куда ездила с семьей на заработки по контракту на три года.
— Там морковка за фрукт идет, дети яблок не видят. Поехали за длинным рублем, а вернулись с длинной шеей, — подвела Ксана итог своего пребывания в краях отдаленных.
Приехала она с сыном, Димкой, на год старше Сережки.
Оксана увлекалась йогой, не ела мяса, держала бессолевую диету, и когда я стала выделывать селедку для стола, Димка округлил свои большие светло-карие глаза:
— Разве селедку можно есть? Селедку есть нельзя!
— Молчи, Дима, молчи, — рассердилась Оксана.
Я, сначала опешившая, подумавшая, что мальчик бракует не селедку вообще, а именно мою селедку, поняв, в чем дело, принялась смеяться.
И сейчас мы с Оксаной, пополоскавшись утром в море, днем занимались делами, ходили по городу, встречались с учителями, находили одноклассников местных и приехавших.
Наши сыновья обычно были при нас.
Димка был на год старше Сережки, на голову выше и сильнее, подросток с взрослым разворотом в плечах. Он занимался спортом, кажется дзюдо, а может быть карате, не знаю, знаю только, что приемами он владел. Сережка, которому было десять, выглядел как комар со своими тоненькими ручками и ножками, что не мешало ему всё время задираться и лезть к Димке, пытаться сбить его с ног своей ногой-палкой. Он пугал, но не Димку, а меня. Я чувствовала, что Диме страшно надоедали наскоки Сережки, и я боялась, а вдруг Димка не рассчитает, резко схватит его за ногу и Сережка хлобыстнется с размаху головой об асфальт.
Ксана боялась того же и постоянно предупреждала:
— Дима, осторожней, Дима, соизмеряй силу.
Дима был мальчик не злой, и просто забавлялся с Серегой, легко отмахиваясь от него, как от мухи, но необходимость быть настороже, утомляла. А Катеньку во время этих походов я не помню. Может быть, она просто шла рядом с нами, а, может быть, вообще отсутствовала. Кате было 14 лет, и она снисходительно не вмешивалась в это свалку мальчишек.
Зато в походах на рынок я помню Катюшку хорошо.
Жарко, послеобеденное время, вечерний базар, цены ниже. Утром мы были на море, а сейчас мы вдвоем с Катей бредем по рынку. Прошлый мой приезд в Батуми два года назад я ходила одна, но сейчас мне трудно носить тяжести и Катенька ходит со мной в качестве носильщика.
Одета она в голубой сарафан собственного производства, из марлевки, юбка из двух оборок, а верх на тоненьких бретельках. Дочка идет, задрав носик кверху, своим видом заранее говоря всем, кто бы захотел познакомиться:
— И не мечтайте!
Я иду быстро, лавируя между ящиками с помидорами и мешками с картошкой в узком проходе между стеной рынка и соседними домами, где бойко торгуют крестьяне, не попавшие на рынок. Дочь отстала. Обернувшись, я вижу молодого парня-продавца с персиком в руках перед весами, напротив него женщину, которая надеется эти персики получить, и идущую мимо Катю. Парень открыл рот и замер, наблюдая за ней, забывая положить плод на весы и поворачивая голову по мере того, как Катя удалялась, потом он сделал несколько шагов за ней, споткнулся и остановился, напоролся на мой отодвигающий взгляд. В спину ему гортанно кричала рассерженная невниманием женщина с раскрытой авоськой. Но персики парня совсем не интересовали. Я дождалась дочку и пропустила её вперед, чтобы всё время была на виду, знаю я наши южные нравы.
И еще всплывает.
Утро ясного солнечного дня. Мы гурьбой идем на море, с нами помимо Оксаны и Димы четырехлетняя девочка, племянница Ксаны, у которой врожденное косолапие, и она ходит довольно плохо для ребенка её возраста.
Дети обогнали нас, стоят на краю тротуара, на самом бордюре. Дима и Сережа держат девчушку за ручки. Стоят они на таком месте, где улица Руставели делает поворот, светофора нет, машины разгоняются на обширном пространстве площади слева от поворота и идут на большой скорости. В Батуми водят, в основном, плохо, ленятся учиться, покупают водительские права.
Я смотрю на группу детей, и приятная расслабленность, вызванная ясным южным утром, заменяется чувством тревоги: слишком близко хрупкие фигурки детей к несущимся железным машинам. Дети вертят головами и ждут паузу в движении, чтобы перескочить улицу. Светофора там нет.
Я непроизвольно думаю:
— Если что, то мальчишки сумеют, возможно, отскочить, а вот девочка…
Мысль свою я даже додумать не успела, как раздался визг тормозов, и на тротуар в метрах десяти от группы детей вылетела белая Волга, проскочила между пальмами и замерла.
По моей похолодевшей спине забегали мурашки. Я ужаснулась стремительной материализации случайной мысли.
Из машины выполз немолодой водитель, зеленый от потрясения, оглянулся, увидел нас, подошел, и стал, как свидетелям, объяснять, что с ним произошло, после перенесенного стресса ему нужно было выговориться:
Перед ним резко затормозила машина, и он нажал на тормоза. Серой тенью мелькнула выскочившая из-под колес первой машины кошка, а он очутился на тротуаре, на пустом на его и наше счастье тротуаре. Кошка благополучно пересекла оставшуюся часть дороги и скрылась в подворотне. Всё обошлось.
Маринка Игитханян родилась в июле, и я попадала на её день рождения несколько раз за те годы моих частых наездов в родной южный город, и эти празднования, как часто бывает, наложились одно на другое, и сейчас всплывают единой картинкой.
Мы сидим в саду у Киры, младшей сестры Маринки. Сидим за длинным столом прямо под айвой, с другого конца над столом свисает зеленый еще виноград, обычный виноград Батуми — Изабелла.
Сидим давно, и стремительно, без всяких сумерек, как это бывает только на юге, упала на нас душная и влажная ночь. Тепло, воздух наполнен пряными ароматами, различать которые я не в состоянии, только вдыхать. Ощущение сытости и легкого опьянения.
Липкая прохлада ночи, ползущая по ногам и по голым рукам не вызывает озноба, а только приятно охлаждает. Зажгли лампы, слабо освещающие накрытый стол. Под лампой большой арбуз.
Дядя Оганес, Маринкин отец, который и не изменился с наших школьных времен, только слегка поседел, стоит над арбузом с большим ножом. Сейчас начнется священнодействие — разрезание огромного арбуза на ломти. Все замерли в тревоге, не дышат, вдруг арбуз окажется незрелым и не оправдает надежд.
Нож медленно, круговым движением сносит попку арбуза. Срез розовеет, он не глубокий и понять спелость арбуза невозможно. Дядя Оганес переворачивает арбуз и ставит его на плоскость среза, потом медленно и аккуратно начинает рассекать толщу плода параллельно его темно-зеленым полосам. Один разрез, другой. Нож в правой руке наносит арбузу рану за раной, а левая рука удерживает куски вместе до тех пор, пока круг не завершен и весь арбуз не нарезан.
Наступает торжественный момент. Левая рука предоставляет свободу ломтям, и арбуз мгновенно распадается на десяток больших кровоточащих ломтей. Радостный выдох проносится над столом. Старый армянин не ошибается, выбранный им арбуз всем арбузам арбуз.
И вот мы в темноте ночи, обливаясь соком, едим этот восхитительный дар юга.
А ночью я сижу на балконе, задыхаясь от сладкого запаха цветущей магнолии напротив дома, мне, как всегда, плохо от выпитого и съеденного, и в который раз я даю себе слово, что не поддамся и ничего не буду есть за праздничным столом, только арбуз, и всё!
Я выпила таблетки, сердечные капли, меня трясет озноб, и я жду, когда меня или вырвет, или всё же просто отпустит, прекратится удушающая тошнота и озноб, станет легко, и я лягу спать.
Все домашние спят, кроме сынишки. Он встревожен, беспокоится, и не спит вместе со мной.
— Сережа спи, ничего со мной не случится, это мой обычный желудочный приступ, — уговариваю я сына, но мальчик сидит рядом со мной на пороге балкона и ждет, придремывая, когда я смогу лечь. И хотя во время приступов мне легче быть одной, меня очень трогает забота моего младшенького, такая непривычная, такая приятная.
Сережино письмо отцу
«Здравствуй, дорогой папочка! Мы купили билеты на 16 число. То есть не мы, а мама с Катей. Летим 976 рейсом. Я отравился слоенным хачапури. Я не ел целые сутки, потом стал потихоньку есть. Отравился я позавчера, второго июня. Уже ем абрикосы и чищеные яблоки, каши рисовую и манную, бульон.
Во дворе мне не скучно, подружился с Вовой. Он перешел в пятый класс. Я научился плавать чуть-чуть, высовывая голову из воды. Привет от мамы и меня, и всех, всех, всех.
Встречай нас. Сережа».
И мы 16 августа уехали из Батуми.
В конце года пришло письмо от мамы с черной вестью:
Бабушка умирала в городской больнице.
На ноябрьские праздники в Батуми разразилась жуткая гроза, какие бывают только на юге. Кажется, что полыхает всё небо, разряды идут один за одним, экранируются горами, усиливаются, эхо грома не успевает умолкнуть, как следует новая вспышка, потом черный непроницаемый мрак и новая волна грохота. Дом трясется, и мерещится, камни с гор обрушиваются на город.
Бабушка, так же как и я, грозы боялась, уснуть не могла и просидела всю ночь в кресле.
Утром она встала из кресла, потолок завертелся над её головой, бабушка попыталась поймать спинку кресла, позвать дочь на помощь, и… ноги отказали, не сделав ни шага. Мама рассказывала, как это произошло:
«Я услышала громкий стук, как будто тюк упал, испугалась, стала звать:
— Мама, мама, — но ответа не было.
Я быстро прошла к ней в комнату, всё еще надеясь, что ничего плохого не произошло. Мама лежала на полу без сознания, и нога была странно вывернута. Ну, всё, подумала я, сломала шейку бедра.»
Так и оказалось, сломала шейку бедра, отбила почки, и даже сотрясение мозга было, или она потеряла сознание от болевого шока. В бабушкином возрасте гипс не накладывали, считалось, что безнадежно, всё равно не срастется.
Условия содержания бабушки в больнице заставляли маму взять её к себе, не помогали никакие подачки нянечкам, бабуля была недвижима, а в палате много человек, памперсов не было, запахи тяжелые.
Мама написала мне в надежде, что я смогу приехать и помочь. А я была после операции. Растила, растила меня бабушка, но вот когда ей понадобился уход, я оказалась далеко и не в состоянии приехать. 15 лет, еще со времен беременности Катей мучила меня трещина в прямой кишке, и вот, наконец, мне сделали операцию, я похудела до 42 кг, была слабая, как муха, не могла поднимать никаких тяжестей, и именно в этот момент случилось с бабушкой несчастье.
Еще летом, когда мы прощались, невеселая я стояла на лестнице с детьми и ждала, когда бабуля подойдет к нам. Я знала, что бабушка обижена на меня за то, что я не оставила её у себя, но она молчала по этому поводу, молчала и я.
Она бодро вышла, мы обнялись, я сказала:
— Ну, всё, до будущего года.
— Пока, пока, идите, а то еще опоздаете, — заторопила нас бабушка.
И пошла обратно, худенькая, скособоченная, спешащая махнуть нам с балкона.
Иголка воткнулась мне в сердце. Совсем чуть-чуть царапнуло. И царапок этот так и не оформился в слова в суете прощания, а на поверхность сознания вылезло совсем другое, противоположное первоначальному:
«Ну, да ничего, бабуля законсервировалась, последнее время не стареет, и не видно, что сдает», — подумала я.
Но мы виделись в последний раз. И сейчас, спустя полгода, получив письмо от мамы, я вспомню это чувство тревоги при расставании, вспоминанию, как предзнаменование: «А будет ли этот будущий год?»
Мама написала мне, что врачи дали прогноз: бабушка может прожить до шести месяцев. Я ответила маме, что сейчас проку от меня никакого, лучше я приеду попозже, к Новому году, тогда будет от меня не только моральная, но и физическая помощь. Но не пришлось.
В субботу, спустя три недели после несчастного случая, когда мама договорилась забирать бабушку, рано утром пришли мамины соседи снизу, Сона и её дочь Марина. Им позвонили из больницы, у мамы телефона не было.
— Как только они вошли, я сразу по их лицам поняла, что всё, — рассказывала мне мама, когда мы приехали на похороны.
Седьмого числа, оставив детей на свекровь, мы с Алешкой прилетели в Батуми.
Помню приземление самолета, запах мокрой травы, зеленые деревья, сырость и чувство тревоги.
Забот с похоронами было много.
Я бывала на похоронах, но видела покойников только в гробу, принаряженных, благообразных. Тут в морге на столе что-то лежало, рабочая морга (нянечка? медсестра?) подошла и сдернула простыню.
И я увидела бабушку, непристойно голую, худую, и ноги выглядели, как дрова.
Дальше я очнулась, когда Алешка приподнимал меня с пола. Я не упала, а просто села, у меня подкосились ноги.
Почувствовав руки мужа, поднимающие меня, я зарыдала. Мне не было плохо, как мне бывало при виде и запахе крови, нет, мне было плохо, потому что стало невыносимо жалко свою бабушку, которую я уже никогда в жизни не увижу и не заговорю, и ничего не исправлю.
— И чего покойников бояться, — проворчала нянечка, но всё же прикрыла тело. — Бояться надо живых.
Мы вышли, я стояла на мокром асфальте возле морга, дышала сыростью, меня била нервная дрожь. Я знала, что рано или поздно мне придется столкнуться со смертью, следовало предполагать, что бабушка умрет раньше меня. Но одно дело предполагать, и совсем другое — пережить…
Теперь только, сию минуту, со смертью бабушки, мое детство уходило от меня навсегда. И невозвратность жизни, необратимость течения времени понималась мною сейчас во всей своей неотвратимости.
Похороны были 9 декабря на новом кладбище в горах возле деревни Эрге. С утра шел мокрый снег, и было неясно, смогут ли грузовик и автобус подняться на высокую гору по скользкой дороге, или придется хоронить у подножья. Но медленно-медленно грузовик и автобус поднялись, вползли вверх. Грузовик с гробом шел первым, и глядеть из автобуса на буксующие, разбрасывающие мокрый снег колеса грузовика было страшно: если эта махина заскользит по мокрой дороге вниз, то и автобус сомнет. Но всё обошлось, бабуля ушла одна, мы ей там были не нужны. На похоронах и поминках было многолюдно: прилетел из Москвы дядя Боря, пришли мамины сослуживцы, родня со стороны жены Резо, тетя Тамара, мои одноклассницы.
Нелли, пришла прямо с работы. Она работала рядом, и именно сегодня у них была проверка их работы.
Когда встали из-за стола, Нелли, отвлекая меня, рассказывала, что происходило сегодня в банке:
— Инспектора понаехали, все бумаги перевернуты, столы открыты, у всех головная боль, нервы. А я целый день бегала вот с чем.
Она достала бумажную имитацию человечка, показала его мне, а потом дернула за что-то сзади. Фигурка ожила, между ног выскочил бумажный треугольник, возник непристойный облик мужчины в полной боевой готовности.
От неожиданности я засмеялась, и резко оборвала смех, так он не соответствовал обстановке. Но разрядка произошла, внутри меня лопнула какая-то пружина, и мне стало легче.
Во вторую очередь пришли соседи, которые полностью делали поминальный стол, очень строгий в Грузии: зеленое лобио, жареная рыба, чады и зелень. Мы даже и тарелки не помыли, мама только деньги на продукты дала, и Алешка купил вино, одного сорта, «Тетри».
Я тихо плакала, спрашивала тетю Агнессу, мамину подругу и одноклассницу, как же так, всё было благополучно — и сразу.
— Вот если бы она не упала…
— Смерть дорогу найдет … — ответила мне тетя Агнесса. — Такой возраст был, не одно, так другое в любой момент могло случиться. Не плачь Зоя, не убивайся.
1985 год
Я ярко вижу встречу Нелли и Зои Меликян. Правда, тогда она уже была не Меликян, но новую ее фамилию я не помню.
Зоя приезжала в Батуми, но занятая семьей, тремя дочерьми, редко виделась с друзьями, а я нашла её родителей, написала письмо, дала свой адрес, Зойка и прискакала ко мне.
Мы обнялись, поцеловались и пошли к Нелли в банк.
Нелли к тому времени солидно обросла жирком, Зоя тоже, и когда они кинулись обниматься в узком коридорчике банка, я отскочила в сторону, беспокоясь, чтобы мои жалкие 48 кг не стоптали ненароком эти два визжащих, толкающихся и щиплющихся бегемотика.
Интересно было наблюдать, как взрослые женщины, у каждой по трое детей, в считанные секунды превратились в семилетних девчонок, какими они были, когда впервые увидели друг друга тридцать лет назад. Если я пришла к ним в седьмом классе, то Нелли и Зоя учились вместе с первого.
Во время последующих встреч на бульваре учеников, а, в основном, учениц, шуму было столько, как будто и не было этих двадцати лет и мы по-прежнему всё те же.
В нашем классе преобладали девушки, Батумская мореходное училище сманивало ребят.
И сейчас, спустя двадцать лет приехали на встречу женщины, а из мужчин не приехал никто, даже те, которые были в Москве и с которыми я встречалась: Арут, Алик и Даник. Они были связаны работой, графиками отпусков. Но батумские ребята, Гиви, Тугу, и Юра пришли.
Были Стефа Лященко из Ленинграда, с двумя детьми, мальчиком и девочкой и Лариса Голубцова из Краснодара, где она работала врачом, как и Инга. А Зоя Арутюнян, моя ближайшая подруга, приехать не смогла.
А мы с Оксаной пригласили Володю Базилевского, который с нами школу не заканчивал, ушел в мореходку и Котика, который с нами не учился, но был другом Тугушки, и обязательным членом наших тусовок в последних классах. Пришел Ниази Жордания, Нелькин муж, не хотел пускать жену одну на такое сомнительное мероприятие, как посещение ресторана. А Сулико, который ушел в мореходку одновременно с Володей, был в плавании.
Из учителей были: Шота Лавреньевич, наш физик, наша классная, преподавательница английского Вера Павловна, Мария Георгиевна, литератор, учительница химии Ольга Иосифовна.
Я сидела рядом с Шо́той, и когда отпустила какую-то шпильку в адрес Гиви, он повернулся и сказал:
— А ты сидишь рядом со своей симпатией, вот и молчи.
Я и Шо́та улыбнулись, а классная, которая в наши школьные годы прозывалась за глаза Верушкой, не пропустила мимо ушей это шутливое замечание Гиви:
— Как! — воскликнула она. — Что я слышу?!
«Прозевала» подумала я с оттенком злорадства.
Физик всегда, начиная с того дня, как пришел в седьмом классе к нам, отличал меня от всех остальных, слегка, не демонстрируя, но все в классе знали об этом, и я всегда старалась соответствовать, а однажды, в десятом классе я стояла у доски, раскрасневшаяся и усталая после физкультуры, отвечала невпопад, и Шо́та сказал:
— Да наступает период, когда всякие бирюльки, наряды, зеркала становятся важнее для взрослеющих девушек законов физики.
И в этой фразе была не только насмешка, но и горечь: не тому существу бог дал способности к точным наукам. А мне, конечно же, захотелось доказать, что тому, и стремление это пригодилось в жизни.
А Софа, единственная из батумских, на встречу не пришла. Она просила перенести вечеринку, в этот день ее пригласили знакомые на свадьбу их дочери, но трудно перенести в последний момент, все приглашены, время оговорено. Ксанин отец, метрдотель ресторана Интурист, где мы собирались, помогал нам в устройстве встречи. Он сказал, что за следующую смену в качестве готовки он поручиться не может, а эта готовит хорошо. Стол был действительно прекрасный, но я сокрушалась из-за отсутствия Софы, чувствовала даже свою вину, что не выполнила просьбу подруги. Тугу Долидзе сидел рядом со мной за столом и сказал, успокаивая:
— Она сделала свой выбор, пренебрегла своим детством и нашим обществом, выбрала сегодняшний день.
Мы, пообщались, наговорились, насмотрелись на детей друг дружки, вспомнили молодость и разъехались, и собрались только через 30 лет на пятидесятилетний юбилей окончания школы, но тогда, увы, меньшим составом.
Мы не съели и половины, всё так оставили и ушли, а на другой день догуливали в доме у Гиви Цивадзе ели замечательный хачапури.
Когда уходили от него, то обсуждали животрепещущую тему о роли случайных встреч в жизни. И всей толпой, выйдя из подъезда, направились к центру, а Тира пошла в противоположную сторону к порту.
Я окликнула ее, позвала с нами. Тира помахала мне рукой, не оборачиваясь.
— Нет, — смеясь, сказала Нона, жена Гиви, — не мешай ей, без вас у нее больше шансов на подходящую встречу.
Тира Ватулян, веселая, необычайно общительная, пожалуй, единственная из класса не нашла себе пару. Не знаю, насколько хорошая из нее получилась бы жена, но всегда думала, что мать из нее была бы самоотверженная.
Наше совместное с Сережкой письмо домой из Батуми:
«Здравствуйте папа и Катя!
Мы доехали благополучно, бабушка нас встретила.
Я простудился в поезде, но через два дня уже купался. Каждое утро делаю березку, позу льва и отжимаюсь десять раз. Сделай вертикальную веревку или палку, прикрепленную к стенке как кронштейн и турник.
Перешла Катя в другую школу или нет, вышла ли на работу. Вы так об этом не написали. Обязательно напишите.
Привет всем! Вас любящий Сергей. 4.07.85 г.
Всё так, как описал Сергей. Сегодня идет дождь, а вчера мы купались. Каждый день жду письма, а его нет. Встречаться решили 13 июля, назло всем чертям в ресторане «Интурист!». Те 25 рублей, которые я оставила, очень пригодились бы Сереже на авторалли, например, или мне на ресторан.
Живем тихо и скоромно. Правда, вчера я загуляла малость у подруг и пришла в 12-ом часу. Ребят приезжает очень мало. У всех важная работа. Надо было назначить в августе.
Как только собирается больше двух человек из бывшего 11 «А», то шум, хоть уши затыкай. Мы с Оксаной оргкомитет.
Вода в море теплая, 22 градуса.
Катя, как ты, как твои дела? Мама меня поедом ест, что бросила девочку (оставила с родным отцом). Льет горькие слезы. А тут как назло, нет от вас писем. К маме на день рождения пришел кот-крысолов. Постучался и сказал:
— Здравствуйте, если вы меня пустите в дом, то я в благодарность поймаю вам мышь.
Но мышки не оказалось, и кот поел супа, сказал: желаю счастья, и удалился.
Рынок дорогой, очень кусается. Правда, в этом году урожай персиков. Так что едим персики и сливы и этим спасаемся от неприятностей. Сергей съел банку шпрот и банку сгущенки за сутки, хотя мама покупает мясо и готовит из него.
Целую вас крепко. Скучаю. Мама и Зоя.
Пуговка

Леночка лежала на горячих камнях. Солнце припекало, колени и бедра нагрелись, кожа порозовела, но Лене лень было пошевелиться, так она разомлела. Она положила руку на коленку, почувствовала тепло. «Обгораю», подумала, вздохнула и села. Море плескалось прямо у ног, солнечные блики на воде слепили глаза.
Пошарив рукой по полотенцу, нашла темные очки, надела, и оглянулась. От нагретых камней пляжа поднимался горячий воздух, похожий на струи прозрачной воды, стекающей по стеклу. И прямо из этого горячего марева на Лену двигались четыре размытых силуэта: трое больших и маленький.
— Вот она, вот, — радостно закричала маленькая фигурка, замахала руками, и только тогда Лена узнала соседскую девочку Маринку.
Прикрывая глаза козырьками ладоней от нестерпимого блеска солнца, к Лене спускались ее соседи, молодая пара, — Володя и Катя с пятилетней дочкой. Четвертым с ними шел незнакомый парень. Под ее взглядом он неожиданно споткнулся, сконфуженно глянул на нее, а она прыснула, и отвернулась, боясь обидеть его своим смехом.
Маринка добежала до полотенца, на котором лежала Лена, сдернула через голову платьице и стояла, нетерпеливо ожидая, когда подойдут взрослые.
— Это Слава, — сказала Маринка Лене, проследив за ее взглядом. — Пришел с ночной смены и захотел искупаться. Он мой дядя, только не родной, а двоюродный.
Слава подошел и кивнул головой, подтверждая Маринины слова.
— Лена.
Она сделала плавный жест, протягивая ему руку. Славе пришлось присесть, чтобы пожать ее. Тогда он увидел, что Лена совсем девчонка, школьница. Смущение его прошло. Он посмотрел на легкие золотистые кудряшки, обсыпающие Ленкину голову, заглянул в зеленоватые, с золотыми искорками глаза…
— У тебя волосы на солнце так светились, как нимб вокруг головы.– Слава сразу обратился к ней доверительно на «ты».
Володя и Катя, подгоняемые дочерью, разделись и вопросительно смотрели на него, прежде чем идти в воду.
— Я потом, — махнул рукой Слава и сел на камни возле Леночки.
Она же, которой только что лень было пошевелиться, сейчас, когда появился собеседник, мгновенно ожила и начала говорить без умолку. Такой у нее был способ общения: познакомившись, тут рассказывала о себе без утайки все, весело звенела тоненьким голоском, мгновенно устанавливая доверительные отношения с новым знакомым. И, пока соседи купались, она успела рассказать Славе, что учится в восьмой школе, что классная у них — зверь, что у нее сестра Машка, умная, отличница, не в пример ей, но и она, Ленка тоже хорошо учится.
Перехватив воздух, Лена подождала, не скажет ли что-нибудь Слава. Не дождавшись, рассказала, что папа у них майор, а мама до ее, Ленкиного рождения, работала бухгалтером, а сейчас не работает.
Тут Ленка еще раз передохнула, посмотрела на нового знакомого, увидела, что Слава улыбается. И такая это была мягкая, ласковая улыбка, так шла эта улыбку к нему, к сиянию летнего знойного дня, такие синие оказались у Славы глаза, что она замолчала, забыв, о чем собиралась говорить.
Несколько минут сидели в тишине, и молчание объединило их, отгородив от шумного веселья купающихся.
Лена первая нарушила тишину:
— Ты что одетый сидишь? Жарко ведь…
Слава встал, разделся и протянул Лене руку, чтобы помочь встать с камней.
— Окунемся?
Лена согласно кивнула. Держась за руки, они дошли до прибоя, зашли по колено в воду. Слава, еще раз улыбнувшись Лене, выпустил ее руку, нырнул под волну, появился на поверхности воды за гребнем волны и помахал Лене, приглашая следовать его примеру.
Она аккуратно натянула резиновую шапочку на голову, и вошла в воду с чувством, что все окружающее видит в первый раз: и пляж, и камни, и горы по ту сторону залива — так все переменилось вокруг с той минуты, когда Слава улыбнулся.
С моря шли всей гурьбой. Маленькая Маринка тараторила без умолку. А Слава и Лена шли молча, рядом, и руки их встречались в случайных соприкосновениях.
Когда добрались до ее дома, Лена остановилась у подъезда, Володя и Катя помахали ей рукой — они жили в соседнем доме.
Лена смотрела, как они уходят, и вдруг Слава обернулся, еще раз улыбнулся.
Сомнений быть не могло, она ему понравилась, и Лена неожиданно для себя послала Славе воздушный поцелуй.
— Забавная какая девчонка, — заметил Слава, когда они отошли.
— Не пара она тебе, — неодобрительно сказала Катя.
Слава молчал, удивляясь, почему не пара.
— Маленькая еще, раз, не красотка, как ты любишь, два, майорова дочка, три.
— Подрастет, я никуда не спешу, — Славе показался веским только первый аргумент, остальные он просто опустил.
— Ты, нет, а вот она…. Ленка немного шальная, ей все подавай сейчас же.
Слава лениво отмахнулся. После ночной смены ему хотелось спать, а не спорить.
***
В компании, с которой встречали Новый год, Леночка была самой молодой, но смущения она не испытывала. Все эти взрослые девушки, красивые жгучей южной красотой, которой не было у нее, светловолосой кудрявой северянки, проигрывали ей. Пусть не такая приметная и взрослая как они, зато она пришла сюда с самым красивым парнем, и их кавалерам было далеко до него.
Лена помогала накрывать на стол, знакомилась, смеялась, сияя белозубой улыбкой, и все время не сводила влюбленных глаз со Славы.
Пили много, и она, старавшаяся держаться на равных со всеми, очень быстро опьянела. Окружающие предметы потеряли четкое расположение в пространстве, стали наезжать один на другой, неожиданно приближаться к ней. Лена опустила голову на Славкино плечо, и закрыла глаза.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.