
Война — это не только грохот артиллерии, лязг гусениц и сухие сводки потерь. Это живой, дышащий организм. Древний и вечно голодный.
Мы привыкли думать о поле битвы как о территории, которую нужно захватить или удержать. Но что, если земля под ногами солдат — это не просто глина и камни? Что, если окопы — это не шрамы на теле планеты, а раскрытая пасть, жаждущая свежей крови?
В этом сборнике нет места подвигам в сияющих доспехах. Здесь герои — обычные люди, брошенные в жернова истории, где грань между реальностью и кошмаром стирается быстрее, чем затихает эхо выстрела. Здесь, в густом тумане и сырых блиндажах, обитает то, что страшнее вражеской пули.
Добро пожаловать в «Утробу войны». Она уже открылась. И она ждет тебя.
Книга содержит сцены экстремального насилия и не рекомендуется впечатлительным людям
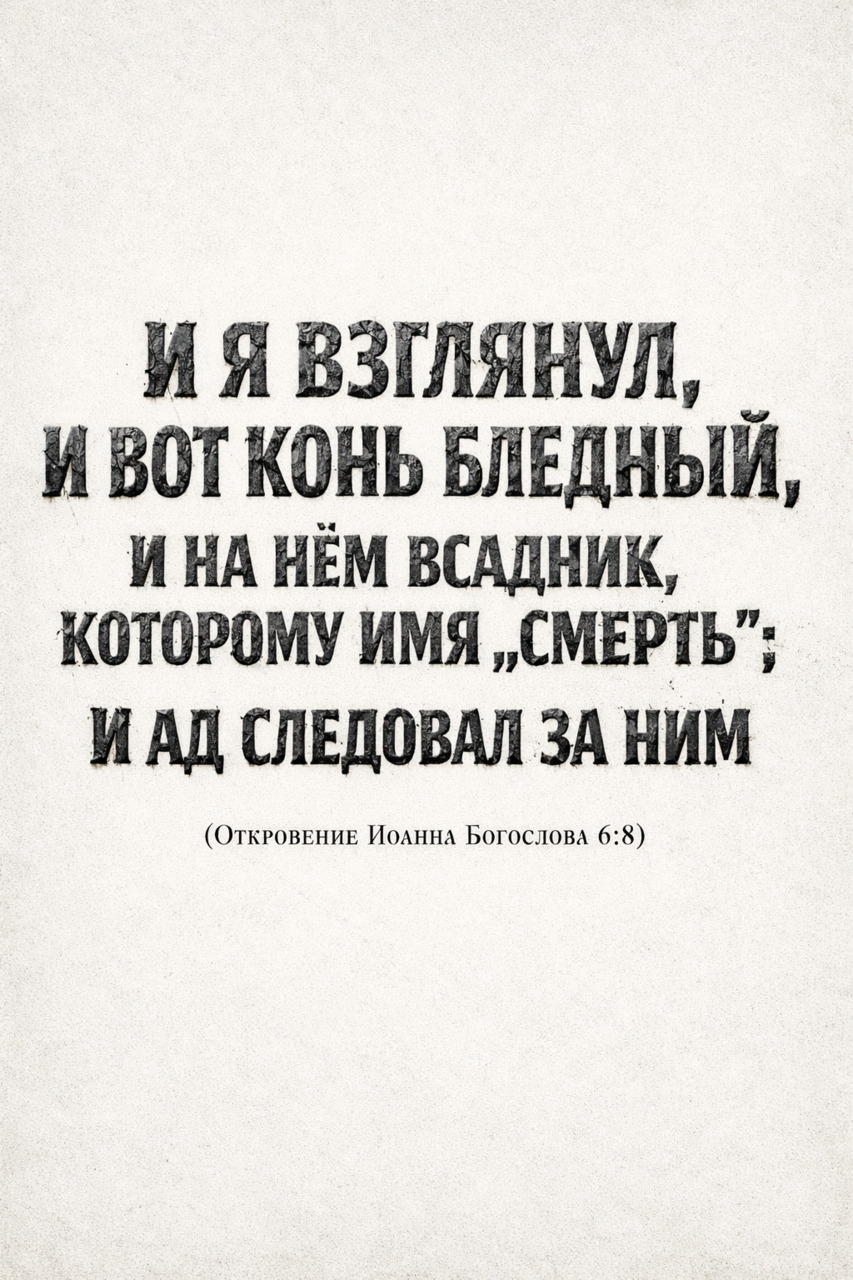


МЯСОРУБКА ГОСПОДНЯ
Глава I: О Затмении Солнца и Плаче Земли
— И было утро, но света не стало. Ибо восстали дымы от края и до края земли, и свились они в саван черный, и закрыли очи Господа, дабы не видели они срама творения Его. И воздух стал густ от пепла, словно прах сожженных городов осел в легких живых.
— И увидел я горизонт, опоясанный огнем, словно пасть геенны разверзлась, чтобы пожрать мир. И не было там ни тишины, ни гласа человеческого, а лишь единый, непрерывный рев, от которого лопались перепонки и вытекала душа через уши.
— И содрогнулась твердь земная, ибо били по ней молоты невидимые. И там, где стояли горы, стали ямы, а там, где были реки, вскипела вода и обратилась в пар, оставив русла сухими и полными мертвой рыбы.
Глава II: О Железных Легионах и Огне Небесном
— И вышли из мглы звери железные, числом как песок морской. И была чешуя их из брони каленой, и хоботы их извергали гром. И шли они стеной, перемалывая леса в щепки, а города — в щебень. И не было спасения от поступи их, ибо тяжесть их вдавливала мертвых в грязь, делая их частью дороги.
— И взглянул я на небеса, и увидел там не ангелов, но хищных птиц из металла и пламени. И крылья их резали облака, и чрева их разверзались, исторгая дождь огненный. И падал тот дождь на плоть, и плоть текла, как воск от свечи, и крик тысяч глоток сливался в единый псалом безумия.
— И горела земля, и горел камень, и горел сам воздух. И те, кто прятался в норах бетонных, запекались заживо, как хлеба в печи дьявольской, и кости их становились белее снега в черном жару.
Глава III: О Великой Жатве Плоти
— И погнали пастухи стада свои на убой. И шли полки на полки, лицом к ли
цу, штык к штыку. И столкнулись они с силой великой, и брызнула кровь до самых звезд, оскверняя небосвод.
— И видел я, как отрывались руки, держащие оружие, и как головы, лишенные тел, катились по склонам, продолжая беззвучно кричать. И нутро человеческое, сокрытое прежде, стало явным, и кишки путались под ногами, как корни деревьев ядовитых.
— Ибо работала Мясорубка без устали. И перемалывала она юных и старых, грешных и праведных. И не разбирал осколок, где сердце героя, а где печень труса — всё рвал он в клочья багровые.
— И стал окоп долиной смертной тени. И живые строили брустверы из тел павших братьев своих, и прятались за трупами, и стреляли из-за мертвых плеч. И пили они воду из луж, что были красны от соков жизни, и ели хлеб, посыпанный порохом и землей могильной.
Глава IV: О Триумфе Смерти
— И настал час, когда стерлись грани. И не стало больше армий, и не стало знамен, ибо все они почернели от копоти и крови. Было лишь месиво, кишащее червями людскими, что грызли друг друга во мраке.
— И ударил залп такой силы, что показалось, будто небо упало на землю. И поднялся гриб дымный, выше гор, и свет его был ярче тысячи солнц, но свет тот был мертвый и холодный. И те, кто смотрел, ослепли, а те, кто был рядом, обратились в тени на стенах.
— И наступила тишина. Но не та тишина, что дарует покой, а та, что звенит пустотой в ушах мертвеца.
— И прошел я по полю тому. И видел я горы тел, сложенные в зиккураты, восходящие к престолу Сатаны. И текли реки багряные, сливаясь в моря, и не могла земля больше впитывать дар этот страшный.
— И понял я: здесь, на поле сем, умер не только Человек. Здесь умер Бог, не вынеся зрелища сего. И осталась только Мясорубка, вечная и бесконечная, вращающая жернова свои во тьме внешней, где скрежет зубовный есть единственная музыка бытия.

ПЕТЛЯ МОРРИГАН
Карл Фогель проснулся от того, что обморожение грызло его пальцы на ногах. Снова. Та же тупая боль в левом плече, где врезался ремень винтовки. Тот же запах сосновой смолы. Тот же проклятый рассвет. Он сплюнул в грязь у края окопа, наблюдая, как слюна замерзает, не долетев до земли.
Четыре часа до того, как голова Шмидта взорвётся. Пять минут спустя Баур подставит ногу под ту мину, чуткую к малейшему весу, у рощицы берёз. Пальцы Фогеля пробежались по затвору Маузера 98k, в девятый раз (или десятый?) запоминая каждую царапину. Туман полз между деревьями, словно живой дым, пожирая расстояния целиком. Он моргнул, и на миг увидел горло рядового Йегера, разорванное осколками, которые ещё не вылетели из снаряда. Видение исчезло с дрожью.
Внезапный хлопок разнёсся эхом, но слишком рано. Фогель дёрнулся, ожидая предсмертного хрипа Шмидта. Вместо этого из тумана вывалился капрал Дрешнер, прижимая руку к кровоточащему бедру. Что-то новое. Такого ранения не было. Никогда. Ни в одном из циклов. Прицел Фогеля взлетел вверх, обшаривая опушку леса. Тени плясали там, где их быть не должно. Дрешнер рухнул рядом, хрипя о «призраках в тумане», прежде чем захлебнуться кровью. Фогель стёр алые брызги с щеки. Холодная. Слишком холодная для свежей крови.
Наверху вороны кружили молчаливыми стражами. Их чёрные крылья рассекали дымку, а тени скользили по снегу, оставляя за собой чернильные узоры. Фогель следил за ними: один, два, три. Всегда три. Сегодня появился четвёртый, издав хриплый, надрывный крик, что вспорол нервы, обнажив до трепещущей, кровоточащей плоти. Внизу завопил Бауэр. Мина сдетонировала. Чётко по расписанию. Но Фогель замер. Сквозь редеющие клочья тумана он мельком увидел англичанина у берёз. Не лежащего мёртвым. На коленях. Губы шевелились в безмолвных заклинаниях, пальцы выводили символы на инее. Воздух задрожал, точно натянутая струна.
Фогель нажал на спуск. Рефлекс. Пуля сорвала кору березы там, где мужчина должен был быть. Теперь — лишь пустая земля. Вокруг лишь окопы, и сапог Бауэра, дымящийся рядом с воронкой. Дрожа, Фогель перезарядил винтовку. Его дыхание клубилось клочьями призрачного пара, пропитанного едкой горечью паники. Тот шёпот… он змеёй вполз в череп.
Слова, будто осколки стекла:
Bris an lùb…
Разорви петлю…
Он знал гэльский? Нет. Услышал несколько циклов назад, когда пуля разорвала лёгкие Хартмана. Воспоминание ударило свежей раной.
Рядом захрипел Дрешнер. Фогель прижал грязную перчатку к ране на бедре, теплая кровь просочилась на замёрзшую грязь.
— Призраки? Говори яснее!
Глаза Дрешнера закатились.
— В-в воздухе… что-то царапнуло… укусило меня, — вырвалось из него судорожным хрипом, — как пауки… ползут… по жилам… — Зубы застучали в лихорадочном припадке, эхом отзываясь в стылой пустоте. Голова запрокинулась, точно сломанная ветвь под бурей, и замерла.
Мёртв. Раньше обычного.
Фогель вздрогнул. На горле Дрешнера зияли два проколотых отверстия с почерневшими краями. Не осколки. Не пули. Что-то… Укусило? В ноздри ударила кислая вонь гниения.
Четвёртый ворон сел на голую ветку сосны над головой. Его крик разорвал туман — резкий, скрежещущий.
Морриган.
Кровь Фогеля обратилась в ледяные иглы, что впились в вены. Он понял. Ворон склонил голову набок, и в его чёрных глазах, бездонных провалах, закружили галактики: спирали звёздного пламени, поглощаемые вечной тьмой, где рождались и умирали целые эпохи, шепча проклятия на языке забытых богов.
Внизу у замёрзшего ручья лейтенант Шмидт отдавал приказы. Фогель рванулся вверх.
— Шмидт! Ложись!
Слишком поздно. Раздался выстрел. Но Шмидт не упал. Вместо него с диким вращением повалился Майр, стоявший рядом. На его виске расцвёл багровый цветок. Шмидт закричал. Не тот, кто должен был умереть. Не в то время.
Прицел Фогеля метнулся к берёзовой роще. Истощённый англичанин теперь стоял неподвижно, закутанный в слишком просторную шинель, что свисала с его тощих плеч тяжёлым бременем. Туман вился вокруг его ног, точно верные псы. Губы снова зашевелились. Фогель напрягся: впился взглядом в эти потрескавшиеся, шепчущие губы. Иней кристаллизовался на щетине мужчины, пока он беззвучно складывал слова. Между слогами Фогель увидел: тень англичанина вытянулась противоестественно. Её пальцы превратились в когти. Они царапали не землю, а воздух, сдирая реальность, словно прогнившую ткань. На миг вспыхнула щель кричащей пустоты. Затем… исчезла. Тень резко сжалась обратно в человеческий облик.
Англичанин повернулся. Его глаза встретились с глазами Фогеля сквозь восемьсот метров дымки. Не человеческие глаза. Зрачки, как раздавленный янтарь. Фогель почувствовал на языке медный привкус. Отчаяние. И петлю, затягивающуюся на шее.
Крик Шмидта хлестнул по воздуху. Фогель вздрогнул. Лейтенант пошатнулся, хватаясь за грудь. Но крови не было. Ни входного отверстия. Только тень, та невозможная, жидкая тень, что отделилась от англичанина и поползла по снегу, словно пролитые чернила. Она текла в гору, вопреки гравитации, и поглотила Шмидта. Посреди крика. Посреди проклятия. Тело Шмидта растворилось. Растаяло? Нет, понял Фогель. Оно сложилось. Торс ввалился в позвоночник. Конечности перекрутились и съёжились. Перья проросли сквозь кожу. Мокрый, рвущийся звук, словно велькро, сдирающее мясо — эхом отозвался, когда кости хрустнули и перестроились.
Затем тишина.
Большой ворон вырвался из рассеивающегося дыма теней, издав тот же скрежещущий крик. Он взмахнул крыльями вверх, присоединившись к четвёртому. Теперь их пять. Всегда пять.
Сердце Фогеля колотилось в рёбрах, словно пойманная птица. Воздух дрожал от низкочастотного давления, и гул отдавался в коренных зубах. Шмидт исчез. Растворился в стае над головой. Но ужас был не в превращении. Ужас — в осознании.
Разум Фогеля трещал по швам. Он видел, как Майр умер неверно, Дрешнер умер слишком рано, а Шмидт умер… вовсе не умер? Петли распутывались. Капкан бога войны начинал смыкаться. Ловушка сжимала челюсти. Он уловил запах озона и тления. Услышал шёпот англичанина-друида, вплетённый в ветер.
Bris an lùb… Thoir naomh-chàin…
Разорви петлю… Принеси жертву…
Слово повисло в воздухе, колючее, как шип розы, впившийся в ладонь. Фогель замер, впиваясь взглядом в эту бездну: принести в жертву ли замёрзшую человечность свою, истерзанную циклами, или их — тех, чьи лица мелькали в тенях, как призраки, не угодные даже самой смерти?
Его прицел снова нашёл англичанина. Он стоял недвижимо, склонив голову к кружащим воронам. Одна рука вытянута, пальцы — когти. Иней вихрился вокруг ладони в замысловатых, невозможных фракталах. Ритуал. Незавершённый.
Суставы Фогеля побелели на прикладе Маузера. Он вдохнул: сосна, кровь, озон, воронья вонь. На этот раз он не выстрелит. Он будет смотреть. Он увидит узор в рунах друида из инея, дрожь в его проклятых пальцах. Вороны снижались, их тени ложились на снег, будто разлитая нефть. Пять теперь. Пять судей. Пять палачей.
Дыхание Фогеля сбилось. Он будет считать взмахи их крыльев. Он запомнит движения губ друида. От этого зависел следующий цикл.
Мокрый хрип отвлёк Фогеля. Рядовой Кляйст полз к окопу, волоча кишки по замёрзшим корням. Слишком рано. Кляйст всегда погибал, раздавленный пылающим чудовищем, танком Mark I, машиной-монстром, рождённой для богоубийства. Глаза Кляйста впились в Фогеля, вылезая из орбит от ужаса.
— Это не туман! — вырвалось из него хриплым, рвущимся на части клокотом, где слова тонули в алом пузыре, вздувавшемся на разбитых губах. — Он кусает! Он…
Слова растворились в крике, когда туман обвился вокруг его запястья. Не туман. Твёрдая тень. Тонкая и ядовито-чёрная нить. Она потянула. Рука Кляйста исчезла — чисто отсечённая, а потом возникла в воздухе, изуродованная в нечто дёргающееся и оперённое. Фогель зажмурился. Слишком быстро. Слишком неправильно. Когда он открыл глаза, Кляйста не было. Только россыпь чёрного пуха среди алого месива. Наверху пятый ворон издал насмешливый крик.
Морриган.
Воздух снова задрожал, глубже, зловеще. Фогель почувствовал тошноту. Он резко развернул винтовку к берёзовой роще. Пусто. Пульс стучал в висках. Где?
Тут — шёпот у самого уха. Холодное дыхание. Слова на гэльском, скрежещущие, словно камни в жерновах:
An-diugh chì thu…
Сегодня ты узришь…
Фогель крутанулся, приклад ударил в пустоту. Англичанин-друид стоял рядом, немыслимо близко. Уже не в форме. Плащ из сплетённых теней облепил его тощую фигуру, края расплывались в тумане. Эти разбито-янтарные глаза буравили душу Фогеля. От него пахло древней землёй и обожжённой костью.
— Ты истекаешь часами, — пробормотал друид, голос слоился эхом бесчисленных смертей. Палец Фогеля замер на спусковом крючке. Тогда он увидел главное. Истинную аномалию. В груди друида пульсировала полоска невозможной черноты, не камень и не металл, а пустота. Реальность расползалась по краям. Жертва. Слово закричало в черепе Фогеля.
Не человечность. Это. Ядро пустоты. Разбей его.
Друид улыбнулся, тонко и жестоко. Позади него снова закричал Бауэр, не от мины, а от тумана, что распускал его внутренности в визжащих воронов. Петля раскалывалась. Время вопило. Фогель бросился вперёд, не к винтовке, а к тёмному осколку в груди друида. Пальцы вытянулись. Холод, превосходящий всякое понимание, впился в плоть. Друид зашипел, звуком, будто трескающиеся ледники. Пять воронов одновременно ринулись вниз.
Рука Фогеля сомкнулась на пустоте. Боль вспыхнула в нём внезапным взрывом — раскалённая кузница, что безжалостно плавила кости и выжигала нервы дотла, оставляя лишь пепел агонии в венах. Зрение раскололось на зазубренные осколки, острые, как битое стекло: голова Шмидта взрывается в багровом вихре и… вот она снова цела, плоть срастается без шва; Дрешнер захлёбывается собственной кровью, густой и солёной и… вот он дышит, живой, с румянцем на щеках; роща берёз полыхает адским костром и… тут же нетронутый снег блестит под ней, девственно чистый.
Сквозь калейдоскоп умирающих времён Фогель увидел правду. То был не капкан. Это была мольба. Бог войны голоден, да. Но этот друид был его цепью, привязывавшей ужас к этому замороженному аду. Жертва означала разбить якорь.
Янтарные глаза друида встретились с глазами Фогеля. В них читался не триумф. Облегчение.
Древние шёпоты хлынули в его сознание:
Bris an lùb…
Разорви петлю…
С рёвом, вырванным из самых бездн души, первобытным, звериным, что эхом отзывался в трещинах разума, Фогель крутанул, вонзая пальцы в эту бездонную пустоту, словно клинок в сердце ночи. Ядро разлетелось в вихре осколков, как чёрный лёд под ударом молота богов. Треск его разорвал ткань реальности, сея паутину трещин в самом воздухе, где тени корчились и угасали в безмолвной агонии.
А затем…
Тишина…
Полная, поглощающая.
Обморожение исчезло. Туман замер. Вороны застыли в воздухе. Фогель уставился на руку. Не обожжённую. Не окровавленную. Перед ним осел друид, плащ теней распался в дрейфующий пепел. Там, где пульсировало ядро, остался лишь бледный шрам в воздухе, гудящий угасшей силой. Единственное воронье перо опустилось, легло на неподвижную грудь друида.
Петли разорваны.
Фогель втянул воздух, пахнущий лишь сосной и сырой землёй. Война продолжалась. Он слышал далёкую канонаду, но петля ослабла. Он поднялся. Внизу Шмидт выкрикивал приказы. Баур стоял целым и невредимым. Дрешнер поправлял каску. Без единой царапины.
Живые.
Фогель простёр пальцы к шраму в воздухе, трещине в ткани мира, где реальность истончилась до призрачной паутины, и коснулся его кончиками, дрожащими от эха былых бурь. Холодно, как дыхание забытой бездны, что лизнуло кожу. Пусто — бездонная пропасть, где эхом отдавались шаги тысяч неслучившихся смертей. Он знал цену этой тишины: она была вырвана из глубин его естества, цена — осколки души, что теперь звенели внутри, как разбитый колокол. И эта тишина внутри оглушала, тяжёлая, как саван, накрывающий разум. В ней не было покоя, лишь гул отсутствия, что пожирал эхо сердца.
Он спотыкаясь двинулся к роще берёз. Тело друида растворялось, сливалось с инеем. Только янтарные глаза остались, прикованные к Фогелю. Не обвиняющие. Примирившиеся.
Фогель опустился на колени. Кровь стучала в ушах, но шёпоты ушли. Ужас кончился. Странная пустота расцвела там, где раньше жил страх. Он взглянул на руки — руки, что убивали, что спасали. Они казались чужими. Свет преломлялся сквозь деревья, яркий и болезненно обыденный. Внизу Бауэр смеялся над шуткой Шмидта. Фогель вздрогнул. Звук был слишком громким. Слишком человеческим.
Он вспомнил проколотое горло Дрешнера, отсечённую руку Кляйста. Их жизни возвращены, но Фогель знал. Он нёс гниль каждой смерти. Его жертвой была не жизнь. Его жертвой была невинность. Тяжесть сдавила рёбра. Он склонился к снегу, изрыгая желчь в его девственную белизну: судорожно, рвано, словно выворачивая наизнанку саму пустоту внутри, где желудок сжался в комок льда, а глотка корчилась в бесплодной агонии. Ничего не вышло. Мир казался тонким. Хрупким. Он мог бы пробить его кулаком.
Позади послышался хруст сапогов по замерзшему снегу.
Капрал Дрешнер, живой.
— Фогель? Ты в порядке? Выглядишь… бледнее тумана.
Фогель уставился на него. Два прокола на шее Дрешнера исчезли. Лишь гладкая кожа. Но Фогель всё ещё улавливал призрачный запах крови. Видел мерцающий отсвет тех почерневших ран.
— Всё нормально, — хрипло ответил он. Голос скреб по горлу, как гравий. — Просто… холодно.
Дрешнер нахмурился и протянул руку. Фогель не взял её. Его взгляд поднялся в небо. Оно было пустым. Ни одного ворона. Лишь неумолимая серость. Глаза друида потухли, утонули в земле. Последний шёпот коснулся разума Фогеля, не на гэльском. Немецкий. Чёткий.
Бог питается теперь в другом месте.
Фогель содрогнулся. Шрам в воздухе пульсировал. Он знал. Он стал якорем. Тишина была ценой. Он чувствовал, как бог войны грызёт края его сознания. Низкий, постоянный гул за ушами. Мир покрылся ядовитым газом.
Дрешнер хлопнул его по плечу.
— Пошли. Разведка. Двигаемся.
Фогель послушно последовал за ним. Тяжело шагая, он миновал место, где погиб Баур. Где исчез Кляйст. Снег был чист. Без единого следа. Фогель остановился. Набрал горсть снега, прижал ко лбу. Холод ужалил — реальный, острый. Он оглянулся. Единое, идеальное перо лежало там, где пал друид. Он оставил его.
Впереди Шмидт выкрикивал приказы. Баур шутил. Ритм войны возобновился. Фогель поднял Маузер, затвор сработал плавно и точно. Он заглянул в прицел. Вражеская позиция мерцала вдали. Рутина войны.
Палец лег на спусковой крючок. Привычный вес. И всё же перекрестие ощущалось иным. Чужим.
Он снова увидел, как лицо Шмидта взрывается. Снова. И снова. Видения были беззвучны. Крики теперь жили внутри, эхо, запертое в полости, где когда-то жила человечность.
Он выдохнул.
Успокоился.
Снег пропитал штаны насквозь. Холод — единственное, что казалось реальным. Всё остальное — просто… шум. Петля разорвана. Но Фогель? Он разбит.
И тишина кричала.

ДРАККАР ИЗ ПЛОТИ
Топор расколол череп Эйвинду. С хрустом, с каким лопается сырое полено. Кровь брызнула горячей дугой на лицо Ньялла, и тело рухнуло на палубу, ещё подёргиваясь в предсмертных судорогах. Вокруг ревели люди. Сталь вгрызалась в плоть. Одному из воинов копьё пронзило горло и вышло с обратной стороны шеи, таща за собой струю почти чёрной крови. Вражеский драккар лежал борт о борт; его волчья пасть на носу скалилась, палуба кишела раскрашенными рожами, алчущими смерти.
Ньялл вырвал топор из рёбер мертвеца и обернулся как раз в тот миг, когда вражеский меч царапнул его бок. Боль пришла глухо, притупленная яростью. Во рту стоял вкус соли и железа. Палуба скользила под ногами, залитая вывалившимися кишками и морской водой. Чья-то отсечённая кисть шлёпнулась о сапог. Он отшвырнул её и бросился вперёд, вонзив топор в живот врагу. Тот закричал, когда Ньялл провернул лезвие вверх, чувствуя скрежет металла о кости, а потом выдернул, выпуская наружу дымящиеся внутренности.
Копьё просвистело у самого лица, так близко, что Ньялл ощутил ветер, и вонзилось в грудь стоявшего рядом. Тот рухнул навзничь, раскинув руки, и выдохнул последний раз: мокро, с кровавым хрипом. Ньялл не остановился. Схватил щит убитого и обрушил его на челюсть нападавшему. Кость хрустнула, зубы разлетелись по доскам. Враг рухнул, хватаясь за разбитое лицо, и Ньялл наступил ему на горло — хрящи лопнули под сапогом сухими ветками.
Мир сузился до биения крови в ушах и смрада распоротых животов, парящего в холодном воздухе. Вождь врагов, широкоплечий детина с окровавленной бородой, поймал взгляд Ньялла сквозь хаос. Он что-то проревел и засмеялся — слова утонули в гуле боя — и занёс молот, с которого свисали клочья мозга и волос. Ньялл сплюнул, обтёр лезвие о бедро и пошёл навстречу.
Молот обрушился вниз. Ньялл увернулся, удар расколол доски палубы там, где только что была его нога. Он рубанул низко, по сухожилиям за коленом. Топор вошёл глубоко. Вождь взревел, подогнулся, но успел ухватить Ньялла за руку и притянуть к себе. Изо рта врага пахнуло гнилым мясом и кислым элем. Ньялл ударил его лбом. Один раз, другой. Хрящ носа подался, кровь залила разбитые губы. Вождь отшатнулся, но всё ещё смеялся.
Копьё вошло ему в бок. Ньялл не видел, кто метнул. Вождь посмотрел на древко, торчащее из рёбер, потрогал его почти с любопытством, потом выдернул с влажным чваканьем. Смех перешёл в хрип. Ещё копья — в бедро, в плечо, но он всё шагал, поднимая молот. Ньялл попятился, поскальзываясь на внутренностях. Ещё шаг, и вождь рухнул лицом вниз. Пальцы дёрнулись, пытаясь ухватить ускользающую жизнь, и окаменели в кровавой луже.
Наступила тишина, лишь волны шлёпали о борт да стонали умирающие. Ньялл стоял, тяжело дыша, с топора стекала густая жижа. Вокруг — одиннадцать выживших: кто опирался на копьё, кто стоял на коленях в луже собственной крови. Вражеский корабль уходил в туман, тонущий и побеждённый. Волчий нос его был расколот: оторванная нижняя челюсть висела на обрывках снастей и медленно погружалась в серое молоко, словно морда дохлого пса, которого тащат за шкирку в могилу. Последними исчезли пустые глазницы, ещё полные злобы.
Их драккар выглядел не лучше: мачта расколота, вёсла перебиты, корпус стонал раненым зверем. Море вокруг воняло мочой, желчью и смрадом потрохов.
Ньялл вытер лицо рукавом, вдыхая сладковато-медный дух засохшей крови, уже пропитавший шерсть насквозь. Рёбра жгло там, где прошёлся меч. Он потрогал рану — неглубокая, но края уже посинели.
— Перевяжи, — пробормотал он молодому воину, отрывая полосу от рубахи мертвеца.
Ткань липла к пальцам, клейкая от крови. Рядом молодой Харальд блевал меж тел, плечи ходили ходуном. Никто не смеялся.
***
Ветер переменился.
Густой туман накатил внезапно и проглотил драконий нос корабля, будто пасть Хель захлопнулась перед самым лицом. Ньялл прищурился на запад: ни земли, ни звёзд, лишь бесконечная серая пелена. Море было плоским, как вытекший зрачок трупа, подёрнутый тонкой плёнкой соли и мёртвой пены.
— Где мы? — прохрипел Эйнар, прижимая обрубок руки.
Из культи сочилась сукровица. Ньялл не ответил. Солнце не показывалось третий день.
От ленивой качки трупы шевелились под сапогами, когда выжившие собрались посреди палубы. Мёртвые лица смотрели в небо, рты разинуты, глаза помутнели, став похожими на скисшее молоко. Некоторые — свои, череп Эйвинда ухмылялся небесам, но большинство — с вражьей раскраской.
Трупы оставили на палубе по самой простой и жестокой причине: сил не было их перетаскивать.
Битва выжала из людей всё: кровь, ярость, последние крохи еды. Одиннадцать человек, почти все тяжело раненые, еле стояли на ногах. Сбросить мёртвых за борт значило поднимать тела, перекидывать через планшир — часы работы, а каждый лишний шаг отнимал то немногое, что ещё держало их в живых. К тому же, в глубине души каждый понимал: скоро эти трупы станут едой. Выбрасывать будущую пищу казалось глупостью даже в обычном походе, а здесь — и вовсе безумием.
Так они и лежали: свои вперемешку с чужими, брат рядом с врагом, рука об руку в одной луже крови и дерьма. Хозяин Вальгаллы уже выбрал, кому жить, а кому служить мёртвым. Палуба стала одной большой раной, и покойники были её струпьями.
Три дня драккар умирал вместе с ними.
Мачта торчала сломанной шеей, и при каждом медленном вздохе моря выдавала долгий, костный стон — звук выходящей из сустава кости, когда хрящ рвётся вместе с мясом. Паруса сгорели дотла ещё в бою, клочья обугленной шерсти трепыхались на реях, как кожа с ободранных рук. Борта разошлись по швам; через щели хлестала вода, чёрная и тёплая, будто море само начало гнить. Вёсла были переломаны, рулевое весло держалось на одной жиле.
Голод пришёл на пятый день. Сначала как пустота под рёбрами, потом как зверь, грызущий изнутри. На шестой день люди уже не вставали. Они лежали среди трупов, не различая своих и чужих, и смотрели в низкое небо, где солнце так и не показалось. Губы потрескались до крови, языки распухли и почернели. Кто-то падал лицом в солёную лужу на палубе и жадно тянул гнилую жижу, но желудок отвергал морскую воду, выворачиваясь кровавой пеной с кусками слизистой.
— Помрём с голоду, не дойдём до берега, — буркнул Грим, пихая носком сапога вздувшийся живот мертвеца.
Ньялл тяжело поднялся. Лицо его ввалилось, глаза налились красным. Он обвёл взглядом лежащих — одиннадцать живых теней среди мёртвого мяса — и сказал тихо, но так, что услышали все:
— Великий Один не даст нам умереть. Не оставит нас гнить в этих безымянных водах. Он не позволит нам сдохнуть просто так, павшим без песен и без доброго имени.
Он подошёл к ближайшему трупу — вражескому, с размозжённой щекой — и вырезал ножом длинную полосу мяса с бедра. Кровь уже свернулась, но плоть была ещё мягкой. Ньялл поднял кусок над головой, чтобы все видели.
— Ешьте. Это плоть воинов. В ней сила. Мёртвые — это дар Одина. Их плоть — наш последний парус. Их кости — наша последняя мачта. Их кровь — масло для киля. Вставайте. Сегодня мы берём то, что Один уже отдал нам. Мёртвые довезут нас домой.
Тишина была такой, что слышно было, как капает гной из чьей-то раны. Кровь, упавшая с куска мяса на палубу, впиталась в доски неестественно быстро, словно вода в сухой песок. Потом Грим встал на четвереньки, подполз и впился зубами в протянутое мясо. Остальные последовали за ним.
Ньялл опустился на колено рядом с телом вражеского вождя, отогнул окрашенную в кровь бороду, обнажив горло. Секира заскрипела, перерезая хрящи. Голова отделилась, волоча за собой чёрные жилы. Он швырнул её Харальду; тот поймал и тут же подавился тёплой склизкостью.
— Раздевайте. Всех.
Люди работали молча, ножи поблёскивали в тусклом свете. Кожа отходила рваными пластами, липла к костям там, где жир успел застыть. Эйнар, серый от боли, зубами рвал сухожилия с чьего-то бедра, сплёвывая волокна в растущую кучу. Воздух густел от сладковатого смрада распоротых кишок, лип к гортани, как забродивший мёд.
Харальд снова зашёлся рвотой, когда нож Харальда поддел край кожи на виске покойника и потянул. Личина отстала с чавкающим звуком — будто отдирали присосавшуюся пиявку — обнажив сырое мясо, сочащееся сукровицей, и белесые плёнки подкожного жира. Из глазниц ещё тянулись тонкие жилки, рвущиеся одна за другой с тихим треском.
Ньялл прижал содранное лицо к треснувшему носу корабля, втирая в щепки, пока дерево не впитало кровь. Палуба дрогнула под ними, глубокий стон прокатился по килю, будто что-то огромное шевельнулось во сне.
К ночи драккар обрёл новую шкуру: лица натянуты на борта, губы зашиты жильной нитью, веки трепещут на солёном ветру. Грим вырезал позвоночник у одного из воинов, ломая рёбра, как сухие сучья. Кости легли в раскол мачты идеально, стянутые полосами пищевода, которые, высыхая, сжимали дерево с влажным хрустом.
Ньялл провёл ладонью по новой оснастке: волосы, грубо свитые в канат, ещё тёплые, пропитанные маслом скальпа и кровью. Пальцы скользили, как по живой змее, но канат не поддавался — держал мёртвой хваткой. Паруса из спинной и бедренной кожи надувались сами собой, хоть воздух был мёртв. Под сапогами палуба пульсировала медленно, тяжко, в такт боли в его ране.
Харальд шептал, сматывая кишку вокруг рулевого весла и завязывая узел чьим-то растянутым нёбным язычком. Розовая плоть дёрнулась в ладони, прежде чем затянуться.
— Они смотрят, — прошептал Харальд, вытирая губы тыльной стороной ладони; на коже осталась серая корка мозга, похожая на пепел.
Ньялл поднял взгляд. Впадины глаз на натянутых лицах действительно блестели — не отражением света, которого не было, а влагой изнутри: из-под зашитых век сочилась прозрачная жидкость, стекая по щекам мертвецов тонкими дорожками.
Слёзы.
И тогда драккар шевельнулся.
Сначала едва заметно: киль под ногами вздрогнул, точно огромная грудная клетка сделала первый вдох после долгой смерти. Потом громче. Доски заскрипели, но не от качки, а от чего-то, что двигалось внутри них. Новые паруса из человеческой кожи надулись, ловя несуществующий ветер; швы на них разошлись и снова сомкнулись ртами, пробующими воздух. Лица на бортах зашевелили губами, зашитыми жильной нитью: нитки натянулись, лопнули, и из прорех вырвалось тяжёлое, влажное дыхание — запах открытого нутра, смешанный с солью.
Корабль поплыл.
Не по воде — сквозь неё. Чёрная гладь расступалась перед носом, боясь прикоснуться. Палуба потеплела под сапогами: дерево стало мягким, податливым — живая плоть под тонкой коркой. Из щелей между досками полезли тонкие красные нити — капилляры, наливающиеся кровью. Они тянулись к лодыжкам живых, ощупывали, пробовали.
Эйнар первым почувствовал это у мачты. Культю его обхватила тёплая петля, не верёвка, а живая жила, выросшая из трещины в дереве. Он дёрнулся, и жила втянула глубже. Кость обрубка заскрипела, врастая в древесину.
— Оно… дышит, — выдохнул кто-то.
Драккар ответил вздохом, долгим, сытым, из всех сучков и швов сразу. Паруса вздулись ещё сильнее, натягивая лица на бортах до предела: кожа затрещала, обнажая зубы в безмолвных улыбках. Носовая фигура — лицо врага, чьи глаза ещё вчера были пустыми, — моргнула. Один раз. Медленно.
И в этот миг люди поняли: корабль не просто ожил. Он проголодался. Снова.
Эйнар застонал у мачты: культя приросла к костяному бандажу, плоть обмякла вокруг дерева расплавленным жиром, жилы пустили корни в волокна. Он скрёб одной рукой, хныкая, когда щепка забиралась глубже под кожу.
— Оно ест, — выдохнул он, дыхание его было кислым от лихорадки.
Капля крови набухла на стыке мачты и руки, потом скатилась не вниз, а вбок, по изгибу дерева, и исчезла в сучке.
Ньялл ковырял свою рану ржавым гвоздём, глядя, как гной сочится между стежками. Кожа вокруг посерела, как выброшенные водоросли, и слабо пульсировала. Он прижал ладонь к палубе и почувствовал: медленный, осознанный толчок. Сердце выброшенного на берег кита. Дерево было тёплым. Слишком тёплым для ледяного воздуха.
Харальд закричал первым. Его нашли скорчившимся под носом корабля: кожа на животе лопнула переспелым плодом. Кишки не вывалились наружу, а потянулись вниз — тонкие щупальца вгрызались в палубу. Дерево принимало их жадно, раскрываясь влажными глотками. Воин рыдал, когда Ньялл схватил его за плечи, но корни держали крепко. Когда он дёрнул, спина Харальда выгнулась дугой, рот растянулся в безмолвном вопле. Корабль вздохнул в унисон.
К рассвету от него осталось только лицо, натянутое рядом с прочими, губы зашиты его же волосами. Веки дрогнули, когда ветер переменился. Грим судорожно осенил себя молотом Тора, ладонью по лбу и груди, и тут же его вывернуло за борт густой струёй желчи с нитями крови и тёмными волокнами мышц, которые он отгрыз час назад. Рвота шипела, ударяясь о воду, поднимая пар от чёрной глубины. Море было горячим.
Ньялл опустил руку за борт и отдёрнул: вода липла к пальцам, тянулась клейкими нитями. На вкус — медь и гнилой костный мозг. Над головой паруса надувались без ветра, швы на кожах расходились, обнажая пульсирующее нутро. Между стежками что-то билось. Эйнар засмеялся — высоко, надломленно — когда мачта проглотила его локоть.
— Оно голодно, — прохрипел Эйнар, единственный глаз его закатился белком, как у рыбы на прилавке. — Голодно до самых костей наших… и жаждет узнать, какой вкус у живого имени.
Грим вцепился в руку Ньялла лихорадочными пальцами. Суставы у него уже трескались, обнажая жёлтую кость.
— Слушай… — прохрипел он. — Оно дышит под килем, слышишь? Там, внизу… дышит. Тяжело. Как зверь, которого мы разбудили.
Ньялл припал ухом к палубе. Под скрипом дерева слышалось нечто живое: влажные хлопки растягивающихся сухожилий, чавканье жира, явственное шлепанье языка о зубы.
Корабль жевал.
Беззвучная волна прошла по груде трупов посреди палубы. Кожа сползала с костей, как мясо с пережаренного вертела, скапливаясь вокруг лодыжек живых.
Обнажённые мышцы дёргались — не судорогой, а слаженно, подражая гребле. Эйнар завизжал, когда мачта засосала его глубже; рёбра трещали одно за другим, врастая в дерево. Крик превратился в пузыри, рот заполнился густой, как смола, кровью.
— Это проклятье! — крикнул Эйнар, голос его сорвался на визг, когда мачта втянула его с влажным хлюпаньем. — Один проклял нас! Мы взяли то, что принадлежало ему! Мёртвые были его добычей, а мы… мы украли их у Всеотца!
Ньялл попятился. Палуба вздулась под ногами. Доски лопались с хрустом суставов, открывая блестящие канаты сухожилий, сплетающиеся в новый узор. Отрубленная нога вражеского воина дёрнулась и заскользила вбок на гнущихся пальцах, исчезнув в раззявленном сучке. Отверстие захлопнулось с довольным вздохом. Над головой паруса разверзлись по швам, превратившись в огромные жилистые крылья, поймавшие смрад гниющего мяса и с новой силой понёсшие корабль на запад.
Ноги Грима подкосились. Голени тут же приросли к палубе, дерево ползло по бёдрам голодными отростками. Он цеплялся за сапоги Ньялла, ногти отставали, обнажая белую кость.
— Отруби, — хрипел он, глаза вылезали из орбит. — Отруби мне ноги… пока оно не узнало имени моего!
Доски разверзлись, проглотив его по пояс. Крик утонул в собственном горле.
Ньялл занёс топор, древко извивалось в руке, дерево стало мягким, губчатым. Из волокон полезли отростки, оплетая пальцы. Лезвие плакало ржавыми слезами. Где-то под ногами крики Эйнара превратились в песню; мачта вибрировала мелодией, которую напевала мать Ньялла, когда зимняя лихорадка забрала его сестру.
Палуба раскололась под ним. Он провалился в тепло. Не море, не дерево — что-то склизкое, живое, бьющееся в такт его сердцу. Стенки сжались. Пальцы мокрого дерева разжали ему рот. Он вкусил собственную гниль, когда корабль начал кормить его собой, глотка работала медленно, блаженно. Ноги сломались первыми, колени хрустнули разваренными суставами, врастая в киль. Боль должна была ослепить, но она выжгла его изнутри, оставив пустую, ещё горячую скорлупу человека. И в эту пустоту хлынуло всё остальное: дерево, мясо, имена, голод. Он стал дверью, которую корабль наконец открыл для него.
Руки зарылись под его кожу корабельными червями. Он видел, как они шевелятся внутри: пальцы Эйнара плетут его кишки в снасти, большие пальцы Грима разминают лёгкие в парусину, зубы Харальда зашивают ему губы на носу корабля. Их голоса гудели в костях. Он попытался крикнуть, но звук распустился сотней шёпотов, вытекающих из сучков корпуса. Челюсть отвисла с влажным, хрящевым треском — не просто кость, а вся нижняя часть лица начала опадать вниз, как кожа с варёного мяса. Суставы вывернулись, связки порвались одна за другой с тихим, мокрым звуком. Нос корабля проглотил его лицо целиком.
Позвоночник сросся с килем серией хлопков, от которых задрожала чёрная вода. Каждый позвонок пустил новые рёбра — одни из дерева, другие из костей братьев и врагов — стянутые жилами, изгибаясь к бортам, где натянулась его собственная содранная кожа. Руки, распятые в стороны, пульсировали в ритме корабля, пальцы растворялись в пакле, сочащейся между досок. Под ногтями что-то шевелилось. Черви, быть может. Или мысли корабля.
Ноги давно раскололись в кормовой брус, бедренные кости треснули вдоль, освобождая место рулю. Боль была безмерна. Она была молитвой. Коленные чашечки теперь служили кнехтами — его же кишки, всё ещё подёргивающиеся при перемене ветра. Паруса над головой надувались украденным дыханием, зашитые лица вздыхали сквозь сросшиеся рты. Их глазницы плакали густой жёлтой жидкостью, шипящей на палубе.
Дерево впивало жадно, пастью голодного пса, которому наконец сунули кость с мясом.
***
Устье фьорда раскрылось перед ним, чёрная вода расступалась, как бёдра любовницы. Зрение — если это ещё было зрением — стало всеобъемлющим. Каждая щель плакала его слезами. Каждая щепка пробовала соль. Ньялл чувствовал ракушки на боках не щекоткой, а тысячей крошечных зубов, вгрызающихся в мясо. Скрежет подводных камней по килю отдавался в позвоночнике, будто кто-то огромный водил когтями по его обнажённым рёбрам.
Носовая фигура — то, что осталось от его лица — выдавалась вперёд костью из открытой раны. Нижняя челюсть отвалилась совсем и висела на лоскутьях кожи и сухожилий, обнажая позвоночник, ставший драконьей шеей. Из пустых глазниц текло: густое, жёлтое, как гной из старого нарыва. Язык, высохший и одеревеневший, вывалился наружу: толстый, чёрный, растрескавшийся. Когда корабль кренился, этот язык качался тяжело, как маятник, роняя в воду вязкие сгустки с запахом открытого нутра.
Это была самая честная носовая фигура, какую когда-либо несли викинги. Потому что она всё ещё пыталась кричать.
И кричала: каждый раз, когда корабль врезался в волну, из разодранной глотки вырывалось влажное, хрипящее дыхание сотни мёртвых ртов сразу. Внутри черепа копошились черви, пульсируя в такт мыслям корабля. Ветер, свистящий в носовой полости, был его смехом. Шлепанье собственной печени о мачту — аплодисментами.
Дом. Слово гнило на остатке языка. Вода фьорда сгустилась, превратившись в тёмно-красный холодец, в котором плавали клочья плоти. Она липла к бортам, тянулась длинными соплями и не хотела отпускать, как суп, который слишком долго томился на огне.
Но прежде, чем туман рассеялся, драккар возвестил о себе.
Воздух со свистом втянулся в пустые глазницы и вырвался из глотки звуком, похожим на зов боевого рога. Это был низкий, вибрирующий, утробный гул, от которого закладывало уши. Звук ударил в берег тяжёлой волной. В ещё спящих домах на столах подпрыгнула посуда. Молоко в глиняных чашах пошло мелкой рябью, вода в вёдрах заплескалась, выливаясь через край, будто земля сама вздрагивала от отвращения.
Деревня проступила из тумана. Дым из домов поднимался, маня пальцем. Эйнар попытался моргнуть, но черви в глазницах лишь судорожно сжались.
Его красавица жена, Ингвильд, стояла на берегу.
Даже теперь, когда живот её был тяжёлым от ребёнка, когда волосы поседели от тревоги, а глаза ввалились от бессонных ночей, она оставалась той самой, за кого Ньялл когда-то отдал три корабля серебра и пол-уха в придачу. Высокая, прямоспинная, с шеей, созданной для золотого ожерелья, а не для шерстяного платка вдовы.
Свет зари вырезал её силуэт острее клинка. Она держала за руку младшую дочь Сигрид. Девочка показывала пальцем. Он почувствовал это в дрожи снастей — его собственных кишок, стянувшихся туже. Ветер переменился, принеся их голоса не звуком, а вкусом: её пот, молочное дыхание ребёнка, железный привкус страха.
Причалы застонали, когда вес корабля вытеснил воду. Ньялл чувствовал, как каждое бревно дрожит и ломается, когда киль — его переплетённый заново позвоночник — скрёб по отмели. При виде корабля-из-плоти, выползающего на песок, деревня взорвалась криком.
Женский визг, пронзительный, как нож по стеклу, смешался с животным воем детей. Люди бежали, падая в грязь, превращаясь в скот, бегущий от пожара. Снасти корабля — высохшие жилы, пронизанные червями, — поползли на берег. Доски причала лопались, пронзая спины отстающих, пригвождая их к песку, как насекомых. Вонь лопнувших животов смешалась с запахом гниющего дерева.
Но Ингвильд не бежала.
Она стояла босая на чёрном песке, потому что сапоги давно износила, встречая каждый рассвет у воды. Ветер трепал её волосы. Корабль замер в одном шаге от неё, подобно огромному зверю, который наконец учуял знакомый запах.
То, что когда-то было лицом Ньялла, нависло над ней. Разодранная пасть раскрылась шире человеческого роста; из неё тянуло тёплым смрадом. Драккар дышал — тяжко, влажно, всем корпусом сразу, и каждый выдох шевелил ткань её платья. Чёрная жижа с его языка-реи капнула ей на лоб. Медленно стекла по носу, губам, горлу.
Ребёнок вцепился в материну юбку. Сигрид подняла взгляд: ресницы дрожали иглами ели под первым снегом. Всё её тело билось в крупной дрожи от мокрого дыхания, обдающего их жаром гниения.
Он помнил лёгкую тяжесть её запястья в своей ладони той ночью, когда учил её держать нож. Память растворилась — корабль переварил её, исторгая новые влажные доски из разорванных задов.
И тогда он сказал — всеми порами, всеми трещинами, всеми зашитыми ртами братьев и врагов, всеми лопнувшими пузырями лёгких:
— Ингвильд…
Она не отшатнулась, даже когда гниль коснулась её лица.
— Ньялл, — ответила она тихо, и имя это прозвучало приговором. — Ты всё-таки привёз смерть домой.
Она отпустила руку дочери, шагнула вперёд и встретила корабль из плоти первой.
Как и подобает жене викинга.

ВАЛЬС ПРИЗРАКОВ
НОЯБРЬ 1942 ГОДА.
СТАЛИНГРАД.
РАЙОН ЗАВОДА «БАРРИКАДЫ».
АКТ ПЕРВЫЙ: ПРЕЛЮДИЯ В РУИНАХ
Стены здесь не держали тепло. Стены здесь вообще мало что держали — ни крышу, половина которой рухнула в пролет еще неделю назад, ни человеческую психику.
— Не топай ты так, Васька, — прохрипел сержант Нечаев, поправляя лямку ППШ. — Немцу, может, и не слышно, а дом чихнешь — и сложится.
Группа из трех человек вползла в дверной проем, как серые тени. Под сапогами хрустело: битое стекло, штукатурка и, кажется, промороженные кости. В комнате пахло затхлостью, мокрой гарью и тем специфическим сладковатым душком, который ни с чем не спутаешь. Запахом старой смерти.
— Чисто, — выдохнул идущий первым Васька Дуб. Он был коренастым, с лицом, словно вырубленным из дубового полена тупым топором. Васька скинул вещмешок в угол, где ветра было поменьше. — Ну и хоромы, товарищ сержант. Люкс. Вид на Волгу, если шею вытянуть, и на тот свет — если не пригибаться.
Нечаев устало опустился на пол, прислонившись спиной к уцелевшему куску стены.
— Размещаемся. Окна завесить плащ-палатками. Огонь не разводить, пока не затемнимся. Алеша, сменишь Дуба через два часа.
Алеша — самый молодой из них, с тонкой, почти девичьей шеей, торчащей из воротника великоватой шинели, — кивнул. Он стоял посреди комнаты и смотрел в дальний угол. Там, в густой тени, укрытой слоем кирпичной крошки, стояло нечто массивное.
— Гляди-ка, — присвистнул Васька, подходя ближе и чиркая трофейной зажигалкой. — Батя, да тут дрова! Элитные!
Огонек выхватил из тьмы лакированный бок. Это было пианино. Черное, огромное, на резных ножках, оно казалось пришельцем из другой вселенной. На крышке, под слоем пыли, золотом тускло блеснула надпись: «C. M. Schröder».
Васька оскалился, постучал костяшками пальцев по крышке. Звук вышел глухой, деревянный.
— Сухое! Гореть будет — как порох. Сейчас я его, — он потянулся к поясу за саперной лопаткой.
— Не смей! — крик Алеши был таким резким, что Нечаев вздрогнул.
Студент подскочил к инструменту, закрывая его собой, раскинув руки, как птица перед ястребом.
— Не трогай, Вася. Нельзя. Это же «Шрёдер». Это… это преступление.
— Преступление — это жопу морозить, когда топить есть чем! — огрызнулся Васька. — Отойди, интеллигенция, а то я тебя вместе с этой балалайкой на щепки пущу.
— Отставить, — голос Нечаева прозвучал тихо, но весомо. Сержант поднялся, кряхтя, подошел к инструменту. Провел грубой ладонью по лаку, оставляя борозды в пыли.
— Красивая вещь. В мирное время, поди, денег стоила, как трактор.
— Батя, так холодно же! — заныл Васька.
— А ты попрыгай, согреешься. Алеша, — Нечаев посмотрел на солдатика. Тот дрожал, но не от холода, а от какого-то нервного возбуждения. — Ты ж у нас из консерватории? Ну, покажи, что за зверь. Если играет — оставим. Если нет — Васька прав, дрова нам нужнее искусства.
Алеша судорожно сглотнул. Он медленно, словно боясь обжечься, поднял крышку клавиш. Зубы белели в полумраке, как оскал черепа. Некоторые клавиши были выбиты, другие запали, но большинство смотрели на него с немым упреком.
Он сел на шаткий круглый табурет, который чудом уцелел рядом.
— Давай, Моцарт, — хмыкнул Васька, садясь на пол и доставая кисет. — Сбацай нам «Мурку».
Алеша поднял руки. Его пальцы были грязными, с обломанными ногтями, покрытые цыпками и трещинами от мороза. Они тряслись. Он смотрел на свои руки так, будто они были чужими. В консерватории ему говорили беречь их. А теперь эти руки умели только набивать магазины и рыть мерзлую землю.
Он опустил пальцы на аккорд.
Должно было прозвучать начало прелюдии Рахманинова. Торжественно и мощно.
Блям… Дзынь… Хрр…
Звук был ужасен. Инструмент расстроился, внутри что-то дребезжало, словно в струнах застряли осколки. Но хуже было другое. Пальцы не слушались. Они одеревенели и не гнулись. Вместо аккорда вышла жалкая, фальшивая какофония, режущая уши.
Алеша замер. Он нажал еще раз. Одинокая нота «ля» прозвучала сипло, как кашель умирающего.
— М-да, — протянул Васька, затягиваясь самокруткой. — Не, брат. Из тебя Моцарт, как из меня балерина. Рубим?
Алеша уронил голову на грудь. Плечи его затряслись. Он не издал ни звука, но все поняли — пацан плачет. Не от страха перед немцем, а от того, что война забрала у него последнее — музыку. Он нажимал на клавиши беззвучно, гладил их, размазывая по слоновой кости грязные слезы.
Нечаев сплюнул в сторону пролома в стене.
— Оставь, Дуб.
— Батя?!
— Я сказал — отставить. Найдешь паркет в коридоре, его пожжем. А рояль… пусть стоит. Хоть на гроб похож, и то ладно. Может, вместо бруствера сгодится.
В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь далеким гулом артиллерии за Волгой.
Алеша сидел неподвижно, уткнувшись лбом в холодные клавиши, а старый инструмент молчал, храня в своем деревянном чреве звуки, которым, казалось, уже не суждено было родиться.
Темнело. Наступала первая ночь в мертвом доме.
АКТ ВТОРОЙ: КОНЦЕРТ ДЛЯ ТИШИНЫ С ОРКЕСТРОМ
Ночь упала на город тяжелой, мокрой плитой. В Сталинграде не бывает темноты: небо постоянно подсвечивалось вспышками ракетниц, трассерами и заревом пожаров за Мамаевым курганом. Но здесь, в «мертвой квартире», мрак был густым, почти осязаемым.
Сержант Нечаев сидел у пролома, кутаясь в плащ-палатку. Холод пробирал до костей, просачивался сквозь ватник, кусал за пальцы. Сна не было. Был только вязкий бред уставшего сознания. Рядом, свернувшись калачиком на куче битого кирпича, спал Алеша. Студент вздрагивал во сне, бормоча что-то беззвучное. Васька Дуб храпел в углу, прижав к груди автомат, как любимую бабу.
Тишину нарушал только ветер, гуляющий в ребрах здания, да редкие, ленивые пулеметные очереди где-то в районе вокзала.
Дзинь.
Звук был коротким и чистым. Словно капля воды упала в серебряную чашу.
Нечаев вскинул голову. Крысы? Ветер шевельнул струну? Он крепче сжал приклад ППШ, вглядываясь в угол, где черной глыбой застыло пианино.
Дзинь. Ти-ли-линь…
Сержант почувствовал, как волосы на затылке начинают шевелиться. Это была не случайность. Это была гамма. Идеально ровная, быстрая, легкая. Так не играют крысы. Так не играет ветер.
— Васька… — сипло позвал он, не сводя глаз с инструмента. — Дуб, подъем.
Васька всхрапнул и резко сел, наводя ствол в темноту.
— Кто? Где фрицы?
— Тихо ты. Слушай.
Васька открыл рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле.
Пианино заиграло. Сначала неуверенно, тихо, словно пробуя голос после долгого молчания, а затем — уверенно и мощно. Это был вальс. Мелодия, полная какой-то нездешней, щемящей тоски. Она кружилась по комнате, отражаясь от ободранных стен, и в этом звуке не было войны. В нем был паркетный блеск, шорох бальных платьев и смех.
— Твою мать… — прошептал Васька, бледнея. Его лицо в свете далекой ракетницы казалось маской ужаса. — Оно само… Батя, оно само играет!
Алеша проснулся. Он не схватился за оружие. Он сел, широко раскрыв глаза, и замер, как завороженный.
Клавиши вжимались в пустоту. Белые костяшки проваливались под невидимыми пальцами, черные отскакивали назад. Педали внизу нажимались сами собой, скрипя ржавыми пружинами. Инструмент, который днем хрипел и фальшивил под руками Алеши, сейчас пел. Звук был глубоким, бархатным, без единой фальшивой ноты.
— Это Шуберт… — выдохнул Алеша. Голос его дрожал. — Вальс ля-бемоль мажор. Но кто?..
И тут реальность поплыла.
Нечаев моргнул. Ему показалось, что запах гари и немытого тела исчез. В нос ударил забытый, невозможный аромат: духи, воск свечей и мандарины. Новый год.
Он посмотрел на стены. Дыры от пуль затягивались узорчатыми обоями. Вместо закопченного потолка проступила лепнина. В центре комнаты, прямо над пианино, призрачно замерцала хрустальная люстра, которой здесь не было уже полгода.
— Вы видите? — Васька попятился, вжимаясь спиной в холодный кирпич. — Скажите, что вы видите!
За пианино кто-то сидел.
Силуэт был полупрозрачным, сотканным из лунного света и пыли. Девочка. Лет двенадцати. В белом праздничном платье с бантом на спине. У нее были две тугие косички, которые подрагивали в такт музыке.
Она не замечала их. Маленькая пианистка сидела с прямой спиной, чуть покачиваясь в такт мелодии. Её руки летали над клавишами, но звука удара пальцев о кость не было, лишь сама музыка, рождающаяся словно из воздуха.
— Чур меня, чур… — зашептал Васька, хватаясь за нательный крестик, про который никогда раньше не вспоминал. — Батя, стреляй! Это морок! Немцы газ пустили, гады!
— Молчать! — рявкнул Нечаев, но сам опустил автомат. Ствол казался неподъемным.
В комнате становилось теснее. Из призрачного полумрака, из тех мест, где секунду назад были пробитые стены, выходили другие.
Мужчина в форме командира РККА, но чистой, отглаженной, с «кубарями» в петлицах. Женщина в платье в горошек, смеющаяся, с ниткой жемчуга на шее.
Они не шли — они плыли. Мужчина галантно поклонился, женщина положила руку ему на плечо. Они закружились в вальсе. Прямо по битому кирпичу, проходя сквозь ящики с патронами, сквозь лежащего Ваську.
Дуб взвизгнул и отполз, вжимаясь в угол. А призрачный офицер, кружа даму, прошел прямо сквозь него. Васька схватился за грудь:
— Холодно! Как могилой потянуло… Батя, они сквозь меня прошли!
Алеша не боялся. Он полз к пианино. Он полз на коленях, как верующий к иконе. Глаза его блестели влажным, безумным блеском.
— Соль-диез минор… — шептал он, не сводя глаз с рук девочки. — У нее мизинец слабый, она левой рукой компенсирует… Господи, как же красиво.
Теперь комнату заполнили звуки, которых не могло быть. Скрип паркета. Шелест платья. Тихий смех женщины. Звон бокалов где-то на кухне, которой уже не существовало.
Это была жизнь. Та самая жизнь, за которую они воевали, но которую уже начали забывать. Простая, теплая, пахнущая горячим ужином и уютом.
Нечаев почувствовал, как к горлу подкатил ком. Он вдруг вспомнил свою жену. Не то, как прощался с ней на вокзале, а как они жили до. Как она поправляла чулок, сидя на стуле. Этот быт, эти мелочи, которые казались скучными, теперь были недосягаемым раем.
Солдаты сидели в грязи, вонючие, заросшие щетиной, среди руин, и смотрели на этот праздник, как черти, подглядывающие за ангелами. Они были чужими здесь. Это они были мертвецами в этой комнате, а призраки — живыми.
Девочка за роялем вдруг улыбнулась. Она повернула голову к танцующим родителям. Музыка стала громче, быстрее, радостнее. Казалось, сейчас сердце разорвется от этого счастья.
И вдруг…
Гууууу-у-у-у-у…
Низкий, нарастающий свист. Звук, который знает каждый сталинградец. Звук падающей авиабомбы. Но не снаружи, не за окном — звук был внутри наваждения.
Призраки не слышали его. Они продолжали танцевать. Девочка продолжала играть.
Свист становился невыносимым. Нечаев хотел крикнуть: «Ложись!», но язык прилип к гортани.
Музыка достигла крещендо. Девочка занесла руки для сильного, торжественного аккорда.
Она ударила по клавишам.
БАМ!
Звук был не музыкальным. Это был звук чудовищного удара. Диссонанс, от которого зазвенело в зубах.
Видение лопнуло.
Люстра погасла. Обои исчезли. Женщина, офицер, девочка — их фигуры мгновенно исказились, вытянулись в агонии и рассыпались серым пеплом.
Пианино издало протяжный, затухающий стон оборванной струны: Дзы-ы-ы-нь…
И снова — темнота. Холод. Вонь гари. Ветер, воющий в дырах стены.
Только Алеша стоял на коленях перед закрытым инструментом, протягивая руки к пустой скамье.
— Нет… — проскулил он, и в этом звуке было больше боли, чем когда ему осколком чиркнуло по ребрам. — Не уходите… Пожалуйста… Еще немного…
Васька Дуб сидел в углу, мелко крестился и трясся всем телом.
— Они умерли, — тихо сказал Нечаев. Его голос был хриплым, как будто он наглотался песка. — Мы видели, как они умерли. Прямое попадание.
Сержант подполз к Алеше и жестко взял его за плечо. Студент был ледяным.
— Очнись, боец.
— Вы слышали, товарищ сержант? — Алеша повернул к нему лицо. По грязным щекам текли слезы. — Они не доиграли. Всего два такта… Они никогда не доиграют.
Нечаев посмотрел на пианино. Теперь оно снова казалось просто куском мертвого дерева. Гробом с музыкой.
— Спать, — приказал он, хотя понимал, что никто из них сегодня уже не уснет. — Завтра бой.
Алеша лег на пол, свернувшись клубком у ножки пианино. Он закрыл глаза и тихо, одними губами, стал напевать ту мелодию, пытаясь продлить момент, когда мир был целым.
Ночь продолжалась. А вместе с ней к дому подступали тени — на этот раз не призрачные, а в серой фельдграу форме. Немцы готовили штурм на рассвете.
АКТ ТРЕТИЙ: АККОРД, КОТОРЫЙ НЕ ПРОЗВУЧАЛ
Рассвет пришел не солнцем, а серым, удушливым туманом. Вместе с туманом пришли танки.
Первый выстрел «Panzer III» снес остаток внешней стены. Комнату заволокло едкой кирпичной пылью, которая мгновенно забила нос, рот и глаза.
— К лестнице! — заорал Нечаев, пытаясь перекричать грохот осыпающихся перекрытий. — Дуб, прикрой!
Васька не ответил. Васька лежал у того самого окна, в которое смотрел вчера. Осколок кирпича, выбитый снарядом, вошел ему в висок. Он так и не успел выстрелить, вжимая приклад в плечо. Его грубые шутки закончились навсегда.
— Васька! — вскрикнул Алеша, дернувшись к телу.
— Назад! — Нечаев схватил студента за шиворот и швырнул за опрокинутый диван. — Ему уже все равно! Держи сектор!
В дверной проем полетели гранаты. Взрывы слились в один сплошной гул. Нечаев огрызался короткими очередями, меняя диски. Он чувствовал, как горячая липкая влага течет по ноге — зацепило. Патронов оставалось на пару минут боя.
— Алеша, гранату! — хрипел сержант. — Готовь гранату, сейчас они попрут!
Но Алеша не доставал гранату.
Студент сидел, привалившись спиной к ножке пианино «Шрёдер». Из ушей у него текла кровь — контузия. Он смотрел на свои руки. Они были черными от копоти и красными от крови, которой он испачкался, ползая по полу.
Но они больше не дрожали.
Алеша посмотрел на Нечаева. В его глазах не было страха. В них была странная, светлая ясность.
— Товарищ сержант… — его голос звучал тихо, но Нечаев услышал его сквозь грохот пулеметов. — Я вспомнил концовку.
— Ты рехнулся?! Стреляй!
— Там, в конце… там модуляция в мажор.
Немцы были уже в коридоре. Слышался топот кованых сапог и гортанные команды: «Vorwärts!»
Алеша поднялся. Он не взял автомат. Он поправил гимнастерку, одернул полы грязной шинели, словно выходил на сцену Большого зала консерватории.
Он сел за инструмент. Прямо под пули, свистящие над головой.
— Лёшка, ложись!!! — крик Нечаева сорвался в хрип.
Алеша положил руки на клавиши.
На этот раз инструмент не сопротивлялся. Он ждал его.
Первый аккорд ударил в лицо войне.
Это было громко. Громче разрывов. Громче смерти.
Алеша заиграл ту самую часть, на которой вчера оборвалась жизнь призраков.
Музыка рванулась из инструмента мощным, сияющим потоком.
Немцы ворвались в комнату. Трое штурмовиков с автоматами наперевес. Они были готовы убивать, готовы рвать зубами, но они замерли.
Перед ними, среди дымящихся руин и смерти, сидел худой русский мальчишка и играл божественную музыку.
Нечаев, зажимая рану на ноге, смотрел на Алешу. И вдруг увидел.
Рядом с Алешей, на узкой скамейке, сидела Она. Та самая девочка. Только теперь она не была прозрачной. Она была, словно живой.
Она положила свою маленькую руку поверх окровавленной руки солдата.
Алеша улыбался. Он плакал и улыбался.
Он видел не немцев. Он видел зал, полный людей. Он видел маму в первом ряду. Он видел мир, в котором не нужно убивать.
— Кода… — прошептал он. — Финал…
Музыка взлетела к небу, требуя разрешения, требуя той самой последней, спасительной ноты. Пальцы Алеши и девочки взлетели для последнего удара.
Обер-лейтенант в дверях очнулся от наваждения. Его лицо перекосило судорогой. Он не мог вынести этой красоты посреди созданного им ада.
Он поднял пистолет.
Выстрел прозвучал сухо и скучно.
Алеша дернулся. Его голова упала на клавиши.
Вместе с ним исчезла девочка. Исчез зал. Исчез свет.
Остался только долгий, противный гул множества нажатых клавиш, на которые рухнуло мертвое тело.
ЭПИЛОГ
Через минуту всё было кончено. Сержант Нечаев, изрешеченный пулями, лежал у стены, глядя остекленевшими глазами на разрушенный потолок.
В комнате пахло порохом и свежей кровью.
Немецкие солдаты молчали. Они не радовались победе. Они стояли, опустив стволы, и смотрели на инструмент.
Обер-лейтенант медленно подошел к пианино. Черный лак был забрызган красным.
Тело мальчика сползло на пол, но одна рука так и осталась лежать на клавиатуре. Скрюченные, мертвые пальцы застыли в позиции сложного, незавершенного аккорда.
Немец снял каску. Провел ладонью по лицу, стирая копоть.
Вокруг была абсолютная, мертвая тишина Сталинграда. Тишина кладбища.
И вдруг.
Обер-лейтенант вздрогнул и резко обернулся.
Никого.
Но он слышал.
Все они слышали.
Тихо, на грани восприятия, словно из-под земли, или с неба, или из самой души этого растерзанного дома, прозвучали три ноты.
Чистые. Светлые. Мажорные.
Те самые, которые Алеша не успел сыграть.
Война продолжалась, но смерть на секунду отступила, признавая свое поражение.
Вальс был закончен.

ВОЗДУШНЫЙ БОЙ
Град пуль прорешетил крыло «Дуглас С-47», заставив самолет качнуться в сторону. Из-под крыла тут же полыхнул сноп огня. Небо бороздили десятки прожекторов, а вспышки разрывов зенитных снарядов были видны повсюду. Севший на хвост немецкий «Мессершмитт», взметнулся ввысь и начал вновь поливать пулеметным огнем «Дуглас».
Сидящий внутри самолета второй пилот, продолжая сжимать штурвал, повалился на бок. Одна из пуль калибра 7,92 мм, выпущенная из пулемёта, угодила ему прямо в голову, раскроив череп. Старший мастер-сержант Майкл Кейн, сквозь густой дым, окутавший кабину, разглядел, как из головы товарища на пол кабины медленно сваливается желеобразная масса. От отвращения и ужаса происходящего, Кейна вырвало прямо на приборную панель.
Не успев опомниться, сержант подскочил в кресле от тяжелого взрывного удара. За спиной послышался хлопок. Немецкий зенитный снаряд ударил прямо в хвост. Самолет вздрогнул и провалился вниз. Мотор затарахтел, потом вдруг заревел, и машину потянуло к земле.
— Всем приготовится к прыжку, — закричал что есть сил сержант, пытаясь выровнять самолет.
Сквозь облако черного дыма уже виднелась земля. Кейн отстегнул ремни и под сокрушающий гул мотора тяжело зашагал к выходу. В пассажирском отсеке уже никого не было.
Щуря от едкого дыма глаза, он с трудом добрел до двери. Резким порывом ветер ударил в лицо. Сержант Кейн уже готовился прыгнуть, но в этот момент «Дуглас» резко подбросило, и дверь захлопнулась, придавив ему кисть. Не раздумывая, Кейн выхватил нож и стал резать себе руку. Из-за дикой боли, взрывов зенитных снарядов и гула падающего самолета он терял рассудок. Еще один взрыв, прогремевший неподалёку вырвал дверь самолета.
Кейн взглянул вниз. Земля была совсем близко. Из кармана куртки он достал инъекцию с морфином и ввел себе в руку…
***
Майкл Кейн вышел на балкон тринадцатого этажа. Его правая кисть весела на сухожилиях, кровь хлестала ручьем. Высунув из руки шприц с героином, он с облегчением выдохнул и прыгнул вниз…

СНАЙПЕР
«И буду судить вас…
и узнаете, что Я Господь,
когда сделаю землю вашу пустынею…
И будете есть плоть сыновей ваших
и плоть дочерей ваших будете есть.»
— Иезекииль 5:10
— Плюс-минус, шесть сотен метров, — слова шёпотом вырвались вместе с дыханием, затуманив линзу прицела. Внизу, в заваленном обломками перекрёстке, брёл одинокий бродяга, не подозревая, что перекрестие уже уткнулось ему между лопаток. Я ввёл поправку на ветер, он сегодня лишь дышал прахом, и почувствовал холодный поцелуй приклада у скулы.
Он остановился у перевернутой «скорой помощи» и костлявыми пальцами пытался оторвать петлю двери. Наверное, надеялся найти ампулы морфина или антибиотики. Дурак. К вечеру радиация здесь расплавит ему внутренности. Палец лёг на спусковой крючок — уверенно, как всегда. Отдача толкнула плечо, как старый друг. В прицеле он рухнул набок, словно мешок, набитый мусором. На разбитом асфальте расцвела алым лужа. Эффективно. Чисто.
***
Меня первым делом ударило запахом (медью и озоном), когда воспоминание ворвалось в руины сознания. Курская дуга, 2035-й. Дождь, словно осколки, барабанил по укрытиям. Грязь засасывала сапоги по щиколотку. Командование приказало удерживать линию снабжения против броневого клина НАТО. Помню, как Петров орал, что тепловизоры отказывают под ливнем, а его дыхание инеем висело в неестественном июльском холоде, которого здесь быть не должно. Потом появились дроны. Не жужжащие игрушки первых лет войны, а беззвучные жнецы с серповидными крыльями. Они отметили нас лазерами, прежде чем на нас обрушился фосфор.
Белое пламя ударило сверху. Петров даже не успел крикнуть: просто вспыхнул, как факел, и растаял прямо на месте. Его винтовка сплавилась с пузырящейся плотью, кожа отстала от костей лохмотьями. Запах… сладковатый, как жареная свинина, смешанный с вонью горелого пластика и волос.
Я должен был сгореть вместе со всеми. Не знаю, как выжил: то ли яма оказалась глубже, то ли осколок брони принял удар на себя, то ли просто повезло, если это можно назвать везением.
Я выкарабкался. Обгорелый, контуженный, с лёгкими, полными фосфорной пыли. Тогда я понял: выжить, не значит проявить мужество. Выжить, значит стать камнем. Мёртвым снаружи, чтобы не сгореть внутри.
Смех мальчика вырвал меня из воспоминаний. Маленький Миша сидел, поджав ноги у бочки с огнем, и неуклюже точил обломок трубы, превращая его в импровизированный меч, пользуясь моим боевым ножом. Его мать, Анна, наблюдала из теней: её глаза были пустыми впадинами, пока не вспыхнули робким теплом, когда я бросил ей банку персиков из старых запасов. Довоенные фрукты. Они всё ещё сияли, как янтарные драгоценности. Она аккуратно разделила их пополам, оставив половину на следующий день. Сок на её потрескавшихся губах напомнил мне другие губы — в брызгах крови, после того как их хозяин выкашлял лёгкие, изодранные хлорным газом под Варшавой. Я загнал воспоминание глубже. Сосредоточился на тепле настоящего момента, на сочном аромате похлёбки, насыщающем воздух.
Варшава. Ад в виде канализационного коллектора. Мы прорвались в город через обрушенные тоннели метро, выслеживая отставших бойцов НАТО. Вместо них нашли детский сад. Дети жались под изрешечёнными пулями азбукой. Их учительница (ей не было и двадцати) дрожала, сжимая пожарный топор. Командование приказало: «Полная зачистка». К тому времени правила ведения боя уже были подписаны кровью и пеплом. Моего корректировщика Лёвина вырвало прямо в противогаз. Я не медлил. Один выстрел. Чистый. Сквозь рукоять топора. Древесные щепки посыпались, словно конфетти. Она замерла. Мы прошли мимо. Позже Лёвин прошептал: «Теперь мы — просто призраки в форме». Через три дня снайперская пуля снесла ему половину черепа, пока он мочился у сгоревшего автобуса. Я съел его пайки. Протеиновая паста отдавала мелом и виной.
Теперь Аня смотрит, как я снимаю шкурку с кролика, настоящего кролика, у бочки с огнём. Миша хихикает, наблюдая, как я стягиваю кожу, будто перчатку, обагрённую кровью.
— Здорово! — выдыхает он.
Я бурчу. Сосредоточен на ноже. Держи лезвие ровно. Не думай о морозильнике внизу. Не думай о татуированных бёдрах, завёрнутых в мясную бумагу. Внутренности кролика блестят в свете свечи. Взгляд Анны тяжелее моего рюкзака. Она вздрагивает, когда я ломаю позвоночник. Ветер воет в пулевых отверстиях стены. Пальцы Миши водят по выцветшей нашивке на моём рукаве: рычащий медведь, сжимающий молнии.
— Они тебя боялись, Виктор? А ты боялся?
Его вопрос повис в дыму. Вспышка Курской дуги: лицо Петрова, пузырящееся от жара. Жужжание дронов.
— Страх способен заточить тебя, как лезвие, — хриплю я, ощущая, как дрожит воздух. — Но в ту же секунду он может переломить тебя пополам, как сырой хворост.
Ложка Анны звякнула о жестяную миску. Она не притронулась к похлёбке. Её ноздри дрогнули, уловили запах костного мозга, тушащегося в котелке.
Слишком густо.
Мои пальцы сжали рукоять ножа.
Глубокие сугробы всё заглушали во время осады восточного фланга Белграда. Наши тепловизоры показывали тени, извивающиеся под обломками универмага: беженцы, зарывшиеся, словно крысы. Командование приказало лишить их убежища. «Богатое поле для целей», — прохрипел полковник по рации. Я навёл винтовку на беременную женщину, прикрывавшую малыша за разбитым манекеном. Поправка на ветер: незначительна. Поправка на уклон: учтена.
— У неё… синие варежки, — выдохнул перегаром корректировщик.
Мой палец замер. Через две секунды сербы всё-таки накрыли универмаг, но с опозданием. Наши уже вошли в сектор. Розовый туман поглотил и беженцев, и троих наших, что обходили завалы.
Я мог снять женщину раньше — и фланг пошёл бы другой дорогой.
Синяя шерсть легла мне на рукав, как упрёк.
Урок усвоен: милосердие — роскошь, оплачиваемая кровью. Всегда.
Кашель Миши разодрал воспоминания. Сухой, надрывный хрип, эхом отозвавшийся в сквозняке башни. Анна вздрогнула, приложив ладонь ко лбу мальчика.
Слишком горячий.
Слишком худой.
Ребёнок дрожал, несмотря на слои заношенных свитеров.
— Ему нужны… лекарства, — голос её истрепался по краям, слова цеплялись, как осколки кости.
Мой взгляд метнулся вниз, к морозилке, тихо гудящей за стальной обшивкой. Ничего там нет. Антибиотики кончились месяцы назад. Лишь постоянная «охота» отгоняля слабость. Я бросил ей ещё одно шерстяное одеяло, в серых пятнах, пахнущее кордитом и засохшим потом.
— Отдыхайте, — приказал я. — Завтра оттепель.
Тишина сгустилась. Анна напевала старую колыбельную, проводя пальцами по вспотевшим волосам Миши. Её напев снова унёс меня прочь — в тот миг, когда учительница, не в силах сдержать стон, дрогнула под ударом моей пули, рассыпавшей её топорную рукоять в щепки.
Нож дрожал в моей руке. Кровь кролика стекала по костяшкам. Почувствовала ли она вкус? Догадалась ли? Мясо в котелке густело на воздухе: плотное, липкое, неправильное. Анна отодвинула свою миску. Её ноздри снова дрогнули. Под ароматом мозгов и трав витал озон. Поцелуй радиации…
***
Рассвет просачивался сквозь разбитое окно, кровоточил тускло-серым светом, будто небо само истекало холодной плазмой. Иней узором покрывал линзу прицела. Внизу город лежал разорённый: тушей, обглоданной войной и зимой. Обрушенные фасады царапали ушибленное небо. Гусеницы танков, вмёрзшие в лёд, тянулись по бульварам окаменевшими змеями. В лужах тумана, заполнивших воронки, растворялись обугленные деревья. Ничего не двигалось. Ничто не дышало. Лишь ветер скрёб замёрзшую сталь.
Я осматривал сектор Гамма: вывеска мёртвого кинотеатра болталась одной буквой: О. Холод кусал сильнее, чем курский лёсс. Крик Петрова эхом отдавался в тишине. Камень, напомнил я себе. Будь камнем.
Движение. Юго-западный угол. Возле заброшенной пекарни. Тень мелькнула за завалом. Инстинкт, закалённый сотнями убийств, cам вскинул винтовку. Щека прижата к прикладу. Дыхание задержано. Перекрестие легло на бетон, покрытый инеем. Терпение. Всегда терпение. Ветер нёс запахи: гнилой кирпич, зола во влажном снегу и что-то ещё — слабое, металлическое. Кровь? Или просто воспоминания.
Снова Варшава. Дыры от пуль в азбуке, рвота Лёвина, клубящаяся в его противогазе. Сосредоточься. Сквозь прицел обломки шевельнулись. Клочок выцветшей синей ткани. Как варежки в Белграде. Палец лёг на спусковой крючок, выгибаясь в знакомой дуге. Холод — привычный, почти уютный.
Цель захвачена.
Но затем — смех. Высокий, резкий на фоне тишины. Детский смех. Не Мишин. Другой. Маленькие пальчики вцепились в синюю ткань, выдергивая её. Девочка лет четырёх появилась из укрытия. Обморожение подбиралось к её носу, грызло мелкими ледяными зубами, оставляя жгучий, мёртвый след. Пальто было распахнуто, обнажая рёбра, словно клавиши пианино. За ней из руин выползла женщина, судорожно кашляя, кровавая пена окрашивала снег в красное. Лучевая болезнь. Поздняя стадия. Её глаза метались по крышам. Испуганные. Знающие правила. Знающие, что охотник где-то рядом. Девочка засмеялась, подняв обрывок, как знамя:
— Мама! Смотри, как красиво!
Палец напрягся. Мышечная память. Щека слилась с холодной сталью. Сектор Гамма: ветер незначителен. Уклон учтён. Захват цели. Два кролика. Наполнить морозилку. Накормить их. Камень. Будь камнем.
Но её смех ударил сквозь прицел. Высокий. Дикий. Без страха. Как у Миши, когда я учил его вырезать. Девочка крутилась с синей тряпкой, спотыкаясь на обмороженных ногах.
— Красиво! — пела она.
Её мать царапала замёрзший кирпич, кашляя кровью на лёд. Глаза метались — с крыши на крышу. Она знала. Видела расчётные «коробки смерти», выжженные на карте её ужасом. Беги, — молил я про себя. — На юг. Укрытие в переулке. Три секунды. Вместо этого она рухнула, изрыгая желчь. Девочка погладила её по спине, что-то напевая.
Эхо колыбельной Анны царапало мой череп.
Учительница из Варшавы. Синие варежки. Розовый туман.
Костяшка побелела на спусковом крючке. Холод просачивался сквозь полимерную рукоять. Цель захвачена. Ветер незначителен. Накормить их. Накормить запавшие глаза Анны. Накормить хриплый кашель Миши. Камень. Будь камнем. Но девочка нагнулась. Прижала к губам матери кусок чёрствого хлеба, серо-зелёного, заражённого радиацией.
Шёпот рассёк морозный воздух:
— Ешь, мама. Будь сильной.
Женщина вздрогнула. Сплюнула. Кровавая слюна мгновенно замерзла на подбородке. Девочка захныкала. Подняла. Попыталась снова. Маленькие пальцы дрожали.
Вспышка Курской дуги: пузырящаяся челюсть Петрова.
— Накорми себя, дурак, — хрипел он перед тем, как пришли дроны, — накорми умирающего брата плесневелым рационным пайком.
— Будь сильной, — настаивала девочка. Высоко. Отчаянно. Как Миша, умоляя мать проглотить бульон.
Мой прицел дрогнул. Микроспазм. Непростительно. Захват цели потерян. Голова женщины резко поднялась. Паника дикого зверя. Она заметила блик от прицела. Поняла. Она швырнула ребёнка за спину. Сделала себя щитом. Жертвой. Её потрескавшиеся губы шевельнулись. Молитва? Предупреждение? Туман заглотил звук. Её глаза впились в мою позицию — сквозь стены. Сквозь душу. Понимание на уровне костей.
Жертва узнаёт хищника.
Курок обжёг палец ледяной болью. Нажать. Не дышать. Хлопок выстрела растворился в снегу. Сквозь стекло: брызги крови на серо-мёрзлом завале. Чистый выстрел. Сквозь ключицу. Смертельный. Но с запасом на агонию. На её измождённом лице расцвёл шок. Потом боль. Она осела. Шипя. Потянулась назад. Оставляя тёмные следы. Царапаясь. Инстинктивно защищаясь.
Девочка закричала — высоко, пронзительно. Уже не смеялась. Теперь это был чистый, первородный ужас.
Анна зашевелилась. Миша застонал во сне от лихорадки.
— Виктор? — голос Анны донёсся сверху — тонкий. Подозрительный.
Пол прогнулся под её шагами. Я не шевельнулся. Прицел прижат к глазу. Женщина корчилась. Булькала. Розовая пена пузырилась у её губ. Лучевая болезнь плюс гидродинамический шок. Тонет на открытом воздухе.
Девочка царапала её пальто. Пыталась поднять. Слишком мала. Слишком слаба. Её варежки — заплатанные. Поношенные. Синяя шерсть. Как в Белграде. Как призрачные варежки, цепляющиеся за камуфляжный костюм.
— Что это был за звук?
Анна уже ближе. Дверная петля скрипнула. Пульс стучал в приклад винтовки. Камень. Будь камнем.
Внизу девочка снова закричала. Крик вырвался из горла диким, рваным воем, будто сама смерть вцепилась ей в глотку. Звук ударился о ледяные стены руин, раскололся, разлетелся тысячами осколков эха, которые ещё долго царапали замёрзший воздух.
Она споткнулась, рухнула вперёд, ладошками и коленками в снег, и тут же алая струйка потекла из-под кожи — тонкая, яркая, будто кто-то провёл ножом по белому полотну. Кровь дымилась на морозе, мгновенно застывая тёмными бусинами.
Рука матери дёрнулась в последнем, бессильном усилии. Пальцы скрючились, царапнули воздух, промахнулись на считанные сантиметры и бессильно упали, оставляя в снегу кровавый росчерк.
Девочка поползла. Медленно, цепляясь за лёд ободранными ногтями, оставляя за собой прерывистую дорожку алого на сером. К устью переулка. К тени, что манила, как последняя надежда, как пасть, готовая проглотить и спрятать.
Умница.
Но слишком поздно. Палец напрягся. Второй выстрел. Взгляд матери впился в мою позицию. Сквозь разбитые окна. Сквозь метры ненависти. Губы искривились. Не молитва. Проклятие. Беззвучное. Последнее. И она обмякла. Последний прерывистый выдох заморозил воздух. Девочка замерла. Ремешок рюкзака лопнул. Рассыпались карандаши: зелёные, красные. Довоенный пластик ярко блестел на сером месиве. Тень Анны упала на линзу прицела.
— Кого ты выслеживаешь?
Её голос — как нож по бетону. Близко. Позади. Пол скрипел под ней. Я не опустил винтовку. Прицел всё ещё наведён. Девочка съёжилась за телом матери. Дрожит. Маленькие пальчики затыкают синими шерстяными варежками уши. Призрак Белграда. Ветер унёс её всхлипы.
— Никого, — солгал я. Щека прижата к холодной стали. Камень. Будь камнем.
Дыхание Анны перехватило, запах крови обострил её чувства. Она подошла ближе. Обмороженные костяшки пальцев впились в спинку моего стула.
— Выстрел, — прошептала она. Не вопрос. Обвинение.
Вспышка: Варшава. Пулевые отверстия в расписной стене: аккуратные круглые дыры в улыбающихся солнышках и буквах «А», «Б», «В». Рвота Левина, парящая в холодном воздухе, жёлто-зелёная, как тот самый карандаш. Я тогда не дрогнул. Чистый выстрел. Дерево топора раскололось, щепки, словно конфетти разлетелись над детскими головами.
Сейчас прицел скользит за ней. Маленькие ладошки цепляются за лёд, оставляя кровавые отпечатки. Девочка тянется к красному — пальцы дрожат, будто боятся обжечься цветом, которого давно нет ни у кого.
Вход в переулок зияет в десяти метрах — чёрная пасть, готовая проглотить. Тени там глубже, чем моя вина, гуще, чем кровь под её коленками.
Уклон учтён. Ветер — ноль.
Дыхание моё — ровное, как биение метронома в пустом классе.
Палец ложится на дугу спускового крючка. Знакомую. Родную. Нажать. Один сухой треск — и всё кончится. Накорми Мишу. Накорми Аню. Накорми хриплый кашель, что рвёт мальчишку изнутри.
Один выстрел — и мир снова станет проще.
Камень. Будь камнем.
Её прикосновение парализовало меня. Холодная рука Анны легла на мою, сжимающую винтовку. Мозолистая ладонь прижала кость.
— Не надо.
Одно слово, густое, как свёрнувшаяся кровь. Её большой палец провёл по шраму у моего запястья. Ранение от белградской шрапнели. Розовый туман поднимается. Синие лоскуты шерсти. Память зарычала: первая встреча с ней. Туманный бульвар. Три недели? Целая жизнь? В прицеле — призрак, волочущий кашляющего ребёнка. Рёбра Миши чётко проступали под рваным свитером. Глаза Анны метались по крышам.
Выслеживаемая хищниками.
Она швырнула мальчика за корпус подбитого БТРа. Вздрогнула от вороньего карканья. Крестик прицела лёг на её висок. Лёгкая добыча. Измождённая голодом. Слабая. Но… пальцы расчёсывали Мишину шевелюру. Нежно. Слишком нежно для преддверия ада. Шёпот — фрагменты колыбельной. Так напевала варшавская учительница перед тем, как рукоять топора рассыпалась. Палец замер на спуске. Милосердие просочилось ядом в каменное сердце.
Внизу осиротевшая девочка собирала карандаши. Зелёный. Красный. Пластик ярче, чем ядовитые ягоды до войны — такие же кричащие, такие же смертельные. Она брала их осторожно, будто боялась, что цвет обожжёт пальцы, и прижимала к груди, как последнее сокровище мира, который уже никогда не вернётся.
Дыхание Ани сбилось за моей спиной — прерывистое, горячее, пахнущее кислым молоком и высохшими слезами. Тот самый запах. Первая ночь. Когда я привёл их сюда. Тени лестничной клетки поглотили их страх. Свечи мигали, бросая на стены длинные, пляшущие силуэты, будто мертвецы тянули руки. Я задвигал засовы один за другим — тяжёлые, ржавые, — и каждый скрежетал, как гусеницы танков по асфальту, по костям, по памяти. Миша вцепился в подол матери.
— Мы в безопасности? — всхлипывал он.
Ложь на вкус была как порох. Я предложил похлёбку: густой олений бульон дымился в треснувших мисках. Анна понюхала. Подозрение раздуло ноздри. Но голод победил. Она глотнула. Закрыла глаза. Первая горячая еда за месяцы. Мишин смех — острый, как штык, когда я показал ему вырезанных солдатиков. Пальцы Анны коснулись моих, когда она передавала миску. Электричество. Человечность. Забыл про жужжание морозилки внизу. Забыл про свёртки в мясной бумаге. Дурак.
Теперь её ладонь лежала на моей — холодная сталь медленно отдавала тепло плоти. Мозоли царапали шрамы. Гангрена в окопах Курской дуги. Ожог белградского миномёта. Её палец впился в нежную кость запястья. Под грязной кожей пульсировали синие вены.
— Не надо, — прохрипела она. Голос натянулся, как проволочная петля, готовая в любой миг сорваться и задушить. — Смотри на меня.
Внизу девочка споткнулась. Упала вперёд, ладонями в ледяную корку, и тут же тонкая струйка крови побежала из-под ободранной кожи.
Вспышка: Варшава. Стена детского сада — яркие буквы, солнышки, зайчики. Мои пули входят в штукатурку аккуратно, будто ставят точки в конце предложения. «А»… «Б»… «В»… Отверстия круглые, идеальные. Левин рядом — согнулся пополам, противогаз запотел изнутри жёлтым. Его крик тонет в гуле дронов, как капля в ведре фосфора.
Полная зачистка.
Приказ — короткий, сухой, как выстрел в упор.
Рукоять топора в руках учительницы рассыпается щепой — мой выстрел точен до миллиметра. Щепки кружатся медленно, будто снег. Один из детей открывает рот — крик не успевает родиться: его глотает белое пламя, ревущее сверху.
Хватка Ани на моём запястье вдруг стала железной. Ногти впиваются в кожу — острые, как осколки того самого топора. Кровь выступает тёплой струйкой, стекает по моему запястью, капает на приклад. Железный запах бьёт в ноздри — мой собственный, живой.
Прицел дрогнул.
Микродрожь. Одна тысячная секунды, но этого достаточно.
Перекрестие соскользнуло с маленькой спины.
Девочка метнулась.
Пять метров.
Четыре.
Умница.
Но слишком медленно.
— Посмотри на меня.
Шёпот Ани скрёб по ушам, будто ржавое лезвие по бетону — медленно, с наждачным визгом, от которого внутри всё стягивало узлом. Половицы застонали под ней — старческие, уставшие, но всё ещё живые. Вес опустился рядом: твёрдый, настоящий, не фантомный силуэт из курской грязи, не призрак с расплавленным лицом. Плоть и кости. Живая женщина.
Её дыхание обожгло мне щеку — горячее, прерывистое, близкое до дрожи. Запах ударил в ноздри: варёный мозг из котелка, горький пот страха, кислое молоко, что всё ещё цеплялось за её кожу с тех пор, как она кормила Мишу грудью в подвалах. Всё смешалось в густой, тяжёлый дух — дух выживания, дух матери, дух той, кого я когда-то пощадил, а теперь сам боялся. Он сгустился в комнате, как дым от тлеющего трупа, и я вдруг понял: этот запах — единственное живое, что ещё осталось между нами.
И он душил сильнее, чем любая петля.
Внизу девочка исчезла. Тени переулка сомкнулись без звука, как ножны вокруг клинка.
В безопасности.
Пока что.
Пальцы Анны разжались с приклада. Провели по рубцу. Белградская борозда от шрапнели. Плоть сморщилась. Память оскалилась: клочья синей шерсти на камуфляже. Розовый туман. Забытые карандаши блестят в слякоти. Ладонь Анны скользнула выше. Обхватила локоть. Пульс колотил в кость. Её? Или мой? Камень дал вторую трещину. Тонкую. Почти невидимую.
Внезапная дрожь пронзила позвоночник. Глубокая. Хриплая. Не моя. Кашель Миши — словно мокрый гравий — разорвал тишину. Эхо в шахте лестницы. Анна дернулась. Рука схватила мой локоть. Глаза расширились. Ужас? Понимание? Внизу послышались шаги. Тяжёлые. Медленные. Волочащие. Металл взвизгнул — нижняя петля двери заскрежетала. Позвоночник слился с прикладом. Прицел скользнул к щели в коридоре. Темнота зияла, как рана. Запах крови усилился — свежая медь под гнилью. Анна ахнула. Рука с ножом взметнулась — призыв к тишине. Послышались ругательства. Мародёр. Этаж внизу был запечатан. Армированной сталью. Замёрзшие засовы. Моя работа. Надёжно. Разве что… жужжание морозилки. Электричество отключилось вчера. Топливо в генераторе кончилось. Мясо размораживается. Запах просачивается сквозь стены.
В дверном проёме сгустилась тень — высокая, угрюмая, будто сама смерть решила заглянуть на огонёк. Противорадиационный костюм висел на нём клочьями: капюшон содран, открыв лицо, изъеденное струпьями и язвами, цвета старой, запёкшейся крови; маска болталась на беззубой нижней челюсти, как выброшенная кожа змеи.
Счётчик Гейгера в нагрудном кармане стучал часто и злобно — не ритм сердца, а предсмертная дробь костей по металлу. Бешеная симфония, от которой зубы сводило.
Сталкер.
Не мародёр.
Охотник.
Как я.
Глаза — мутные, жёлтые, будто пропитанные радиацией до самого дна — медленно обвели комнату. Сталь пистолета блеснула в ладони, холодная и уверенная. Взгляд скользнул по дрожащему пламени свечей, по нашим теням на стене, по мне — и задержался.
На морозилке.
Дверца была приоткрыта.
Тонкая струя ледяного тумана стелилась по полу, как дыхание могилы. Иней дышал на ржавой стали, медленно, почти нежно.
И бирки были видны.
Выцветшая татуировка бабочки на бледно-синем куске кожи.
Цепочка с жетоном, всё ещё блестящая, будто её хозяин умер только вчера.
Вспышка Курска: осколок черепа Петрова дымится в грязи, как кусок угля в луже. Глаза его ещё открыты. Укоряющие.
Дыхание Ани оборвалось — резко, будто ей в горло воткнули нож.
Она увидела.
Увидела их.
Костяшки её пальцев на спинке стула побелели до синевы, будто вся кровь разом ушла в пятки.
Миша застонал в одеялах — тонко, по-детски, будто почувствовал, что сейчас всё кончится.
Сталкер оскалился.
Гнилые десны — чёрно-бурые, будто их выжгли сигаретами изнутри, с влажным блеском гноя в трещинах. Палец — толстый, как сарделька, лопнувшая от жара, в глубоких расщелинах, где грязь и сукровица смешались в чёрную замазку, — провёл по защёлке морозилки медленно, почти ласково.
— Пир горой, — прохрипел он. Голос, как ржавая жестяная банка, волочимая по асфальту.
Пистолет прицелился в мерцание — в мою позицию. Половица скрипнула под сдвигом Анны. Случайно? Намеренно? Глаза сталкера впились в неё. Пистолет резко взмыл.
— Ты. Двигайся. Медленно.
Анна потащилась вперёд, хромая от обморожения. Глаза прикованы к биркам на морозилке. Увидела крылья бабочки. Увидела звенья цепочки. Увидела правду, извивающуюся колючей проволокой в кишках. Лицо её — камень.
Не метафора.
Настоящий камень: серый, пористый, будто высеченный из пепла и мороза. Губы сжаты в тонкую, прямую трещину, по которой ещё минуту назад текли слёзы, а теперь — ни капли. Глаза — два мутных куска кварца, в которых отразилась бабочка на синем куске мяса и больше ничего. Ни ужаса. Ни отвращения. Ни мольбы.
Только твёрдость.
Так стояла учительница из Варшавы перед тем, как пуля коснулась дерева.
Мой прицел задрожал.
Прицел?
Винтовка стояла внизу, прислонённая к ржавой трубе, как забытый костыль. Я смотрел голыми глазами, и всё равно мир в рамке дрожал — мелко, предательски.
Ловушка сработала.
Сталкер хихикнул. Схватил Анну за волосы. Рванул голову к морозилке. Её всхлип захлебнулся.
— Красивые кролики, — проурчал он. Палец провёл по татуированной плоти, синей от мороза. — Нежные.
Кашель Миши разорвал тишину. Мокрый. Умирающий. Сталкер ухмыльнулся шире.
— Два блюда.
Ствол пистолета впился в висок Анны. Сталь поцеловала кожу. Щелчок снятия предохранителя прозвучал громче миномётного залпа.
Я двинулся. Призрачный шаг. Пол скрипнул. Сталкер резко развернулся и пустил шквал огня. Штукатурка посыпалась, как меловый дождь. Свечи погасли. Тьма поглотила комнату. Только жужжание морозилки. Только щёлканье Гейгера. Только хрипы Миши. Нож выскользнул из ножен бесшумно. Анна встретила мой взгляд. Не страх. Расчёт. Такой взгляд был у варшавской учительницы, когда она подняла топор. Защитить детей. Убить чудовище. То же и сейчас.
Хищник узнаёт хищника.
Сталкер выругался — коротко, грязно, словно выплюнул ком гнилой крови. Толкнул Аню вперёд, ладонью в затылок. Она полетела к морозилке, колени ударились о бетон, но спотыкание вышло слишком точным, слишком выверенным: носок ботинка зацепил старый силовой кабель.
Генератор взвыл, будто его пнули под дых. Искры брызнули: яркие, синие, злые. Свет мигнул, раз, другой, и комната на миг превратилась в стробоскоп ада: тени рванулись по стенам, как перепуганные крысы.
Пистолет сталкера дёрнулся в сторону, дуло ушло в пустоту, в никуда. Он был наполовину ослеплён вспышкой, зрачки сужены до точек, руки тряслись от лучевой болезни так, что ствол ходил ходуном. Слабость пахла сладко — приторно-сладко, как гниющий мёд.
Я уже двигался.
Тихо, как тень по снегу. Обошёл завал — груду обрушенных гипсокартонных плит, покрытых инеем и пылью. Зона уничтожения сжималась, как петля на шее. Правила сектора «Гамма» простые, как выстрел: изолировать. Уничтожить.
Ветер — ноль.
Уклон — в упор.
Нож лежал в окоченевших пальцах удобно, будто родился там. Лезвие помнило курские окопные глотки — тёплые, мокрые, удивлённо булькающие. Музыка тех ночей: хрящ, хрип, последний вздох, выходящий пузырями крови.
Металл заскрёб по бетону — тонко, жалобно, будто мышь грызёт кость. Сзади.
Миша.
Маленькие дрожащие пальцы, нащупывая упавший ингалятор — пластиковую трубочку, единственную ниточку, что ещё держала его в этом мире.
Голова сталкера повернулась — медленно, с тяжёлым хрустом позвонков, будто ржавая башня танка на последнем дыхании дизеля. Глаза его сузились в жёлтые щёлки, губы растянулись в предвкушении.
Анна бросилась вперёд. Как дикая кошка. Беззвучная. Нож с костяной рукоятью сверкнул в лунном свете — мой запасной. Вонзился по самую рукоять в бедро сталкера. Ткань рванулась. Плоть расступилась. Мокрый рывок громче выстрела. Он заревел. Ударил Анну — череп стукнулся о стену. Она осела. Бабочки заплясали на инее морозилки — её кровь залила бирки. Сталкер дёрнул пистолет вверх. Отследил хриплое ползание Миши. Палец вжался в спусковой крючок.
Эхо крика дронов на Курской дуге — осколки черепа Петрова шлёпают по грязи. Только не сейчас.
Мой нож ударил снизу вверх — точно, как меня учили. Под нижнюю челюсть, в мягкое место между костью и небом. Лезвие вошло плавно, будто по маслу, только масло было горячим и солёным.
Сталь нашла позвонок.
Заскрежетала.
Хрустнула.
Перерубила ствол мозга одним коротким, точным движением — как выключают свет.
Горячая струя ударила фонтаном — густая, тёмная, почти чёрная в свете свечей. Окатило костяшки, запястья, рукав. Кровь была удивительно тёплой, почти живой — последняя насмешка умирающего тела. Она стекала по моей руке, капала на бетон тяжёлыми каплями, будто отсчитывала последние секунды чужой жизни.
Медный густой вкус осел на языке.
Сталкер замер.
Пистолет выпал из разжавшихся пальцев, глухо звякнув о пол. Глаза закатились — жёлтая склера радиации поглотила зрачки. Счётчик Гейгера отстучал безумную посмертную дробь в кармане. Он сложился. Колени треснули по ледяному полу. Тишина сгустилась гуще крови. Лишь мокрый всхлип Миши. Лишь оттаивающая песнь морозилки. Анна застонала, пытаясь подняться.
Татуировка бабочки плыла в кровавом разводе по ледяно-синей плоти бедра.
Уборка. Мышечная память. Труп волочу к лестнице. Замёрзшие болты взвизгнули в протесте. Внизу рассвет окрасил небо синяками. Серый свет выявил содержимое рюкзака сталкера: ампулы морфина, жетоны с надписью СЕРЖАНТ ВОЛКОВ, 42-Й РАДИАЦИОННЫЙ ОТРЯД. И вяленое мясо — полоски тёмные, как печень, воняющие йодом и сладостью. Человечина.
Каннибал узнал каннибала.
Тишина тянулась — густая, вязкая, как кровь, что всё ещё стекала с моего ножа на бетон.
Потом шаги Ани. Медленные. Целеустремлённые. Каждый — как удар молота по наковальне внутри меня.
Она прошла мимо трупа сталкера, не глядя вниз. Ни на развороченную шею, ни на лужу, что уже начала замерзать по краям. Ни на меня.
Глаза прикованы к щели морозилки.
Бирки блестят: БЕДРО, ЖЕТОН №117. Лицо её — камень.
— Завтрак Волкова, — хрипло произнёс я. Лезвие скребёт бедренную кость. — Надо замариновать.
Она не вздрогнула. Рука с ножом дрожала, но не от страха. От ярости. Холодной, как вечная мерзлота.
— Миша чует оттепель, — прошептала она. — Чует… аромат мяса.
Её взгляд резанул туман морозилки. Остановился на мешке с вяленым мясом Волкова. Правда извивалась колючей проволокой между нами. Солнечный свет проступал сквозь трещины в кладке. Пылинки танцевали, как призраки пепла. Она шагнула вперёд. Ботинок раздавил ампулу морфина. Янтарная жидкость растеклась по растрескавшемуся полу.
— Надеюсь, он нам не понадобиться, — солгал я.
Камень. Будь камнем.
Но камень трескается.
Его защитная скорлупа разрушается, но что остается под ней?
Внизу раздался смех Миши — хриплый, мокрый, который словно иглой проткнул тишину. Высокий лепет. Не один. Смех обмороженной девочки эхом отдавался в лестничном пролёте.
Дикий.
Несломленный.
Они нашли цветные карандаши Волкова. Зелёный. Красный. Синий. Рисовали на пыльных бетонных стенах. Лучевые ожоги цвели на щеках девочки, как гнилые розы. Миша кашлял между мазками.
— Рисуем деревья! — хрипел он. — Большие-большие деревья!
Её маленькие пальцы дрожали. Зелёный воск сломался.
Вспышка детского сада: пули прошили фрески Эдема. Крик Лёвина заглушил рой дронов.
Аня крепче сжала нож. Сухие суставы хрустнули. Она тоже это видела. Она увидела меня — того, кем я был до жернова войны.
Учителя рисования из средней школы. Того, кто мелом по доске выводил дубовые листья — каждый резной, каждый живой: прожилки тонкие, как вены ребёнка, края зубчатые, будто улыбка. Дети сидели, разинув рты, и следили, как из ничего рождается дерево — большое, доброе, вечное. Я тогда ещё умел улыбаться уголками глаз. Ещё верил, что искусство может кого-то спасти.
Призраки просачивались сквозь трещины в стене, медленно, как дым от далёкого пожара. Сначала один: девочка с косичками, которая всегда просила нарисовать ей белку. Потом другой: мальчик в очках, что приносил мне яблоки из сада. Потом целая стена задрожала, и из неё полезли все, кого я потом учил уже не рисовать, а выживать. Кого учил молчать. Кого учил смотреть в прицел.
Они стояли за спиной Ани — полупрозрачные, в школьной форме, с ранцами за плечами, и смотрели на меня теми же широко раскрытыми глазами. Только теперь в зрачках отражалась не доска с дубом, а морозилка. Бабочка. Цепочка жетона. И нож в её руке.
Аня не обернулась к призракам.
Она смотрела только на меня.
И в её взгляде я наконец увидел себя целиком: от того учителя с мелом в пальцах до монстра — с ножом по локоть в чужой крови.
Призраки молчали.
Они просто ждали, когда я сам себя нарисую заново.
Или сотру навсегда.
***
Суп из сталкера кипел в старом котелке. Густой. Насыщенный. Мясо бедра Волкова булькало в красном бульоне. Железный аромат разукрасил инеем оконные стёкла. Анна молча помешивала котёл. Бледное солнце пробиралось сквозь скелет потолочных балок, рассыпая пыльные лучи по полу. Кашель Миши хрипло отдавался эхом.
— Мама! Смотри! — Он поднял примитивный рисунок — человечки под зелёными каракулями.
Девочка засмеялась. Показала на зазубренные красные линии.
— Огненные цветы!
Ложка Анны замерла в воздухе. Так горел варшавский рынок — фосфорные цветы распускались один за другим, белые, ослепительные, пожирали плоть прямо на костях: кожа пузырилась, лопалась, стекала, как воск. Люди бежали, а за ними бежал огонь, и крики тонули в шипении, будто мир варили заживо.
Винтовка стояла прислонённая к стене, как уставший солдат. Линза прицела запотела от жира и дыма. Анна больше не смотрела на меня. Она сидела у котелка, помешивала суп и отламывала кусочки вяленого кролика детям — аккуратно, чтобы не разбудить вкус крови. Миша кашлял реже. Девочка уже не вздрагивала от каждого скрипа.
Я подошёл к окну. Рассвет был серым, как всегда. Город лежал внизу — мёртвый, но всё ещё дышал чьим-то чужим дыханием. Где-то в руинах пекарни снова шевельнулась тень.
***
Глаз прижат к прицелу, рука впилась в холодную сталь. На бульваре внизу — ветер гонит призраков из мусора.
Завал шевельнулся.
Тень мелькнула в руинах пекарни.
Движение.
Мышечная память включилась сама, без команды: щека к прикладу, дыхание поверхностное, почти неслышное. Мороз кристаллизовал стекло прицела.
Уклон учтён — ветер скомпенсирован.
Зона поражения определена: от обломков трамвая до обрушенной будки газетчика. Сектор «Гамма». Типичная зона засады. Палец касается кривизны спускового крючка. Нажать. Покончить с голодом. Накормить призраков.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ШЕСТЕРНИ
«…И вот зверь четвертый,
страшный и ужасный и весьма сильный;
у него большие железные зубы;
он пожирает и сокрушает,
остатки же попирает ногами…»
— Книга Пророка Даниила 7:7
Осень 1916 года превратила долину реки Сомма в выгребную яму Европы. Это была уже не география, а некротическая патология. Земля здесь состояла из меловой глины, похожей на скисшее тесто, щедро замешанной на иприте, шрапнели и гниющем человеческом протеине.
Из тумана, плотного и желтого, как гной, выползло Оно.
Танк «Mark I».
Тридцать тонн клепаного железа, созданного не инженерами, а безумными вивисекторами. Он не ехал, он судорожно перебирал гусеницами, словно гигантская, покрытая струпьями личинка, ищущая падаль. Его ромбовидный корпус лоснился от влаги и масла, а спонсоны по бокам напоминали вздувшиеся паразитические наросты.
В воронке перед ним копошилась группа немецкой пехоты. Они были живыми.
Пока что.
Танк навис над краем воронки. Его днище, исцарапанное и ржавое, заслонило серое небо. Рев двигателя «Даймлер» звучал как утробное бурчание голодного левиафана. Скрежет металла перекрыл крики.
Нос машины клюнул вниз. Гравитация и инерция сделали свое дело.
Первый удар пришелся на двух солдат, пытавшихся выбраться по скользкому склону. Гусеницы, широкие стальные ленты, забитые глиной, встретились с мягкостью человеческой плоти. Хруст стоял такой, словно великан ломал сухие ветки о колено. Танк не просто переехал их; он вдавил их в меловой суглинок, нарушая все законы анатомии.
Грудные клетки схлопнулись мгновенно. Под чудовищным давлением легкие лопнули, и изо ртов несчастных вырвались фонтаны розовой пены, тут же сменившиеся густой, черной артериальной кровью. Танк выдавливал из людей жизнь, как пасту из тюбика.
Один из солдат не умер сразу. Его ноги затянуло под траки, и механизм начал медленно, методично пожирать его, сантиметр за сантиметром. Кости таза раздробились в мелкую щебенку. Слышался влажный треск рвущихся связок и сухожилий. Человек выл, царапая ногтями грязь, пока его нижняя половина превращалась в мясной фарш, смазывающий ведущие колеса.
Танк урчал.
Ему было всё равно. В его железном чреве не было жалости, только поршни, шатуны и ненасытный голод.
Он продолжал движение через воронку, превращая её содержимое в однородное месиво. Униформа фельдграу смешивалась с кишками, осколками ребер и белой глиной, создавая новую, жуткую текстуру покрытия. Черепа лопались с глухим, чвакающим звуком, разбрызгивая мозговое вещество по звеньям гусениц. Глаза вылетали из орбит, как виноградные косточки.
Когда «Mark I» начал подъем по противоположному склону, с его траков свисали длинные, розово-сизые петли кишечника. Они наматывались на валы, шлепали по броне, жарились на горячих выхлопных трубах, наполняя воздух сладковатым запахом горелого ливера.
Позади машины остался широкий, идеально утрамбованный след. Это была дорога, вымощенная плотью. В белой меловой грязи краснели вкрапления того, что минуту назад было людьми, раздробленные челюсти, сплющенные печени, лоскуты кожи.
Танк выбрался на ровную поверхность, выпустив облако черной копоти. Его корпус подрагивал, словно в экстазе насыщения. С гусениц капала густая смесь масла и сукровицы.
Он не остановился. Механический монстр, лязгая и скрипя, пополз дальше, вглубь ничейной земли, где в тумане скрывались тысячи других тел. Его работа не была закончена. Война была шведским столом, который никогда не пустел, и это чудовище из стали и заклепок ползло вперед, чтобы жрать, жрать и жрать.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же — лицом к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан».
— Первое послание к Коринфянам 13:12
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЗЕЛЕНЫЙ СЕКТОР
Мир ограничивался только двумя цветами: черным и болезненно-зеленым.
Сержант Сайзмор поправил шлем. Тяжелый, перевешивающий вперед из-за нагромождения оптики. Новые очки «Химера» — четыре объектива, похожие на паучьи глаза, — давили на лоб. Шея уже ныла, и это спустя всего двадцать минут патруля.
— «Браво-6», доложите обстановку, — протрещало радио голосом лейтенанта из Тактическиго Оперативного Центра. Голос был чистым, цифровым, слишком спокойным для того ада, что творился в Фаллудже днем.
— «Браво-6» на позиции. Сектор 4-Альфа. Тишина, — отозвался Сайзмор в ларингофон.
Тишина была ложью. В Фаллудже не бывает тишины.
Даже когда пушки молчали, в эфире стоял гул. А теперь к этому добавился еще и звук очков. Тонкий, на грани слышимости, писк высоковольтных преобразователей, которые превращали фотоны в электроны и обратно.
Этот писк сверлил мозг.
Сайзмор оглянулся на свой отряд.
Пять силуэтов в переулке. Через оптику «Химеры» они выглядели как призраки, сотканные из зеленого зерна и света. Их ИК-маячки на плечах пульсировали ритмичными вспышками, невидимыми для обычного глаза, но ослепительными здесь, в зеленом мире.
— Сардж, у меня картинка плывет, — прошептал капрал Диксон, идущий замыкающим. — Будто помехи. Снежит сильно.
— Это прототипы, Диксон, — буркнул Сайзмор. — Управление говорило, возможны артефакты. Смотри под ноги, не на картинку.
Они шли вдоль высокой стены, изрешеченной осколками. Под ногами хрустел мусор: битое стекло, гильзы, пластиковые бутылки. В обычном ПНВ (приборе ночного видения) всё это сливалось бы в кашу. Но «Химера» давала пугающую четкость.
Сайзмор видел каждую трещину в бетоне. Видел пыль, висящую в воздухе, как застывший дым. Видел тепловой след крысы, пробежавшей здесь минуту назад.
Слишком много информации. Мозг не справлялся.
— Впереди двухэтажное строение, — доложил Санчес, идущий первым. — Дверь выбита. Вижу движение на втором этаже. Тепловое.
— Гражданские?
— Не похоже. Сигнатура странная. Холодная. Но движется.
Сайзмор жестом приказал остановиться. Он сфокусировал взгляд на темном окне дома в пятидесяти метрах. Линзы «Химеры» тихо жужжали, подстраивая фокус.
Окно приблизилось.
В зеленом мареве комнаты кто-то стоял.
Фигура. Человеческая? Вроде бы. Но пропорции были… неправильными. Руки слишком длинные, свисают ниже колен. Голова дергается, словно на сломанной шее. И главное, фигура не светилась белым, как живой человек. Она была черной. Чернее, чем сама ночь. Словно дыра в зеленом полотне реальности.
— Видишь его, Санчес? — спросил Сайзмор.
— Вижу… что-то. Сардж, это глюк оптики? Почему он черный? У нас же тепловизор наложен на ночник. Он должен светиться.
— Может, он в грязи обмазался? Как Шварц в том фильме? — нервно хохотнул Диксон.
— Отставить пиздеж, — отрезал Сайзмор. — Подходим. Стандартная процедура. Санчес, Диксон — вход. Я и Пеппер — прикрытие.
Они двинулись к дому.
Сайзмор не сводил глаз с черной фигуры в окне. Она не уходила. Она стояла и, казалось, смотрела прямо на него сквозь полсотни метров темноты и бетона.
И тут Сайзмора кольнуло странное чувство. Ощущение, знакомое любому охотнику.
Оно знает.
Оно знает, что я смотрю.
Сайзмор поднял руку к шлему и откинул очки вверх.
Зеленый мир исчез. Навалилась тяжелая, душная тьма. Только слабый свет звезд и далекое зарево горящих нефтяных скважин на горизонте.
Он посмотрел на то же окно невооруженным глазом.
Пустота. Черный провал. Никакого движения. Никаких силуэтов.
— Сардж? — голос Пеппера вывел его из ступора. — Ты чего застыл?
Сайзмор сглотнул вязкую слюну.
— Ничего. Проверка оборудования.
Он снова опустил «Химеру» на глаза.
Мир взорвался зеленым светом.
Фигура в окне исчезла.
Зато теперь на стене дома, прямо над входом, куда направлялся Санчес, висел отчетливый, светящийся отпечаток ладони. Огромной, шестипалой ладони, которая медленно испарялась, как след от дыхания на стекле.
— Санчес, стой! — крикнул Сайзмор, но было поздно.
Санчес перешагнул порог.
Из глубины дома не раздалось выстрелов. Не было криков «Аллах Акбар».
Раздался звук.
Странный. Влажный. Будто кто-то с силой ударил мокрой тряпкой о бетонный пол.
Шлеп.
А потом радио Санчеса ожило. Но вместо голоса оттуда пошел Шум.
Это не была радиостатика. Это был звук, который Сайзмор слышал только внутри своей головы, когда надевал очки. Писк. Скрежет. Шепот на частоте, от которой лопались капилляры в носу.
— Санчес, статус! — заорал Сайзмор.
Тишина.
В зеленом свете очков Сайзмор увидел, как из дверного проема медленно вытекает лужа. Она была черной в ИК-спектре. Холодной.
Это была не кровь.
— Диксон, Пеппер — за мной, — скомандовал Сайзмор, чувствуя, как рукоятка винтовки М4 становится скользкой от пота в его ладони. — У нас «минус один». И у меня хреновое предчувствие, похоже мы здесь не одни.
Он шагнул в темноту дверного проема, и зеленый шум в его ушах стал громче, перерастая в отчетливый, голодный гул.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТОЧКА СБРОСА
За 24 часа до контакта
Фаллуджа, район Джолан.
Время: 14:30.
Температура: +38° C.
Мир сузился до прицельной планки коллиматора ACOG.
— РПГ! На крыше! — заорал Санчес, перекатываясь за бетонный блок.
Сайзмор не успел крикнуть. Воздух разорвало со свистом, похожим на визг Банши. Снаряд прошел в метре над башней их «Хамви» и ударил в стену мечети позади.
Взрыв.
Волна горячего воздуха и бетонной крошки ударила в лицо, забив рот вкусом мела. Уши заложило ватой.
— Контакт на двенадцать! Подавление! — голос лейтенанта в наушнике прорывался сквозь звон.
Сайзмор вскинул карабин М4. В пыльном мареве, в конце улицы, мелькали фигуры. Вспышки выстрелов. Трассеры летели навстречу, как злые красные осы.
— Диксон, пилу давай! Разбери их нахер! — орал Сайзмор, выпуская короткую очередь в сторону мусорных баков, откуда бил пулеметчик.
Диксон, обвешанный лентами, рухнул на капот «Хамви» и вдавил спуск пулемета SAW.
Брррррррррр-т!
Звук был плотным, разрывающим перепонки. Гильзы посыпались на броню дождем латуни. Стена здания в конце улицы начала крошиться, поднимая тучи рыжей пыли.
— Чисто! Вроде чисто! — прохрипел Дикс, меняя магазин. Руки у него тряслись, но движения были отточенными, механическими.
Радио ожило. Позывной «Крестный отец» (командование батальона).
— «Браво-6», это «Крестный». Прекратить продвижение. Закрепиться на точке «Виски-2». Ожидайте курьера.
— «Крестный», это «Браво-6». Мы под плотным огнем! Какой к черту курьер? Нам нужна поддержка с воздуха!
— Отставить воздух, «Браво-6». Это бесполётная зона. Ждите «Паломника». Конец связи.
— Какого хрена? — прорычал Сайзмор. — Мы тут как утки в тире, а они шлют нам посылку?
Через пять минут из-за угла, поднимая пыль, вылетел черный внедорожник без маркировки. Не армейский «Хамви». Гражданский, бронированный «Шевроле Тахо». На крыше торчал боец в бейсболке и тактической рубашке, поливая переулки из тяжелого пулемета.
ЧВК? Или ЦРУ?
Машина резко затормозила рядом с укрытием морпехов. Дверь открылась.
Оттуда вылез человек.
На нем не было камуфляжа MARPAT. Песочные штаны 5.11, черная футболка, тяжелый бронежилет без нашивок. Лицо гладко выбрито, глаза скрыты за зеркальными «Окли».
Он выглядел слишком чистым для этого ада.
— Кто тут старший? — Человек не кричал, хотя вокруг все еще постреливали.
— Сержант Сайзмор, — Сайзмор шагнул вперед, не опуская винтовки. — Вы кто такие, черт возьми?
Человек проигнорировал вопрос. Он вытащил с заднего сиденья массивный, ударопрочный кейс Pelican черного цвета.
— Это для вас, сержант. Приказ сверху. Ваш взвод переводится в резерв особого назначения.
— Мы пехота, сэр. Мы штурмуем дома, а не возим чемоданы.
Человек в очках подошел ближе. Он пах дорогим одеколоном и оружейным маслом.
— Сектор 4-Альфа. Промышленная зона на севере. Разведка докладывает о странной активности. Электромагнитные аномалии. Пропала группа «Дельта» прошлой ночью.
— И что мы должны сделать? — вмешался Санчес, вытирая пот со лба. — Найти их?
— Вы должны увидеть, что с ними случилось, — Человек протянул кейс Сайзмору. — Внутри прототипы GPNVG-X «Химера». Полный спектр. Тепло, ночник, и… экспериментальный алгоритм фильтрации помех.
— Алгоритм? — переспросил Дикс.
— В Секторе 4 глушат связь. Там какой-то новый тип постановщика помех. Но эти очки… — Человек на секунду замялся, и Сайзмору показалось, что за зеркальными линзами промелькнул страх. — Эти очки видят сквозь сигнал.
Где-то рядом разорвалась мина. Осколки цокнули по броне «Тахо». Человек в гражданском даже не моргнул.
— Инструкция внутри. Активировать только в «Зеленой зоне». И, сержант…
— Что?
— Если увидите статику… Не смотрите на неё долго. Батарейки жрет.
Человек запрыгнул обратно в джип.
— Удачи, «Браво-6». Вы теперь охотники за привидениями.
Черный джип рванул с места, оставив морпехов в облаке выхлопных газов.
Сайзмор посмотрел на кейс в своих руках. Он был тяжелым. На крышке белым маркером было криво написано: «ПРОЕКТ: ВАВИЛОН».
— Ну и что там? — спросил Диксон, закуривая. Руки у него все еще дрожали от отдачи пулемета. — Новая порнушка? Бухло?
Сайзмор щелкнул замками и открыл кейс.
Внутри, в мягком поролоне, лежали четыре пары чудовищно странных очков. Четыре объектива на каждом приборе напоминали глаза паука. Стекла отливали фиолетовым и зеленым.
— Выглядят дорого, — присвистнул Санчес. Он потянулся к одним. — Можно примерить?
— Руки, — рявкнул Сайзмор, захлопывая кейс. — Сказано же: активировать на месте.
— Сардж, — тихо сказал Дикс. — Ты слышал, что он сказал про «Дельту»? Они исчезли. Спецназ исчез, а нас посылают с экспериментальными игрушками искать их?
Сайзмор посмотрел на горизонт, где над Сектором 4-Альфа поднимался странный, зеленоватый дым, непохожий на дым от пожаров. Рация у него на плече вдруг издала резкий, высокий писк — тот самый звук, который через сутки сведет их с ума.
— Приказ есть приказ, Дикс, — сказал Сайзмор, чувствуя, как холодок пробегает по потной спине. — Грузимся. Мы идем в Сектор 4.
— Крестный говорит, там «мертвая зона», — буркнул Диксон, затаптывая окурок.
— Вот и проверим, насколько она мертвая.
Сайзмор забросил кейс в «Хамви». Он еще не знал, что только что собственноручно принес свою смерть на борт.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВРАТА ТИАМАТ
689 г. до н.э.
Зиккурат Этеменанки (Фундамент Вавилонской башни).
Падение Вавилона.
Небо над Междуречьем было черным от дыма горящих финиковых пальм. Каналы Ефрата, обычно мутно-коричневые, сегодня текли красными.
Ассирийская армия вошла в город. Это была не битва — это была бойня. Колесницы давили женщин, лучники добивали выживших в воде. Воздух дрожал от криков умирающих тысяч людей.
Но глубоко под фундаментом великого Зиккурата, в прохладной тишине каменного мешка, шла другая битва.
Набу-Зер, верховный Ашипу (изгоняющий) царя Синаххериба, дрожащими руками затягивал ремни на затылке. На его лице была тяжелая маска из кованой бронзы. Глазницы маски были закрыты не стеклом, а пластинами из шлифованного горного хрусталя, покрытого тонким слоем зеленой желчи священного крокодила.
— Они здесь, господин? — спросил раб-кисир, сжимая рукоять тяжелого железного меча. Его отряд — десять лучших щитоносцев Ассирии — стоял полукругом у запечатанных ворот. Факелы в их руках трещали, отбрасывая нервные тени.
— Великая Резня наверху… — голос Набу-Зера звучал глухо из-под маски. — Крови слишком много. Боль тысяч рабов просочилась сквозь землю. Она разбудила Галлу.
Набу-Зер посмотрел сквозь кристаллы маски.
Обычный мир исчез. В зеленом, мутном мареве стены подземелья стали прозрачными.
Он видел не камень. Он видел Их.
Сущности, которые спали здесь со времен Великого Потопа. Тени, у которых были зубы. Они висели в воздухе, словно черные пиявки в мутной воде. Они пили эхо криков, доносящихся сверху. Каждая смерть наверху делала их сильнее здесь, внизу.
— Держать строй! — крикнул Набу-Зер. — Не смотреть в темноту! Смотрите только на свет факелов!
— Я слышу их… — прошептал один из воинов. — Они шепчут… Как саранча.
Шум.
Древний, как сами звезды. Скрежет хитина о хитин. Жужжание миллиарда крыльев.
Набу-Зер знал этот звук. Это был звук голода.
В зеленом спектре кристалла он увидел, как одна из теней отделилась от стены. Она была огромной, выше человека в два раза. Ее конечности, тонкие и длинные, как у паука, тянулись к раб-кисиру.
— Саргон! Сзади! — заорал жрец.
Раб-кисир развернулся, рубанув мечом пустоту.
Бронзовое лезвие прошло сквозь воздух, не встретив сопротивления. Но тень дернулась. Она коснулась груди воина.
Саргон не закричал. Он просто… погас.
Набу-Зер видел через маску, как жизненная сила — золотое сияние души — вырвалась из тела воина и втянулась в черную пасть демона.
Тело Саргона упало на плиты. Кожа на его лице мгновенно потемнела и высохла, словно он пролежал в пустыне сто лет. Броня зазвенела о камни, но внутри доспеха уже была лишь горсть праха.
— Колдовство! — взвыли воины, пятясь к выходу.
— Стоять! — Набу-Зер поднял посох, увенчанный метеоритным железом. — Если мы уйдем, они поднимутся наверх! Они сожрут всю армию! А потом весь мир!
Жрец начал читать заклинание на шумерском — языке, который был мертв уже тогда. Это были слова-печати. Слова-замки.
Он знал, что убить Галлу нельзя. Их можно только запереть. Лишить пищи.
Но тени были голодны. Война наверху была слишком сладкой приманкой.
Они окружили отряд.
Набу-Зер видел, как демоны просачиваются сквозь щиты.
Второй воин упал, превратившись в сухую мумию. Третий начал биться в конвульсиях, выцарапывая себе глаза.
— Запечатывай! — крикнул последний выживший охранник, вонзая копье в рычаг механизма. — Мы задержим их!
Каменная плита весом в двадцать быков дрогнула и начала опускаться, закрывая проход во внутреннее святилище.
Набу-Зер смотрел сквозь зеленые кристаллы, как тени рвутся к нему.
— Простите нас, боги, — прошептал он. — Мы не знали, что пробуждаем.
В последнюю секунду перед тем, как плита упала, отрезая их от мира, жрец увидел Лицо.
Из хаоса теней сформировался образ. Гигантская, черная голова с шестью глазами.
Она посмотрела прямо на него. Прямо сквозь маску.
И Набу-Зер услышал голос. Не в ушах, а внутри черепа.
…Мы ждем…
Грохот. Плита упала. Тьма поглотила их.
Эта тьма хранила молчание две тысячи шестьсот девяносто три года.
Она терпеливо ждала, пока империи превращались в пыль, а имена богов становились просто надписями на музейных черепках. Песок заносил руины, скрывая тюрьму под метрами культурного слоя.
Безмолвие закончилось 8 ноября 2004 года, в 14:00
Прямое попадание 500-фунтовой авиабомбы GBU-12 с лазерным наведением сделало то, чего не смогли демоны. Ударная волна, рассчитанная на уничтожение бункеров, превратила священную печать в груду щебня.
Врата открылись.
И первым, кто заглянул в эту бездну спустя тысячелетия, стал не жрец в обсидиановой маске, молящий о прощении. Им стал сержант Сайзмор, опустивший на глаза четыре объектива прибора GPNVG-X.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
БЛЭКАУТ
Темнота навалилась, как мешок с цементом. Тяжелая, душная, пахнущая озоном и древней пылью.
Сайзмор сорвал с лица бесполезные очки «Химера». Они были горячими, пластик почти обжигал кожу. Батарейный блок на затылке шипел, как раскаленная сковородка.
— Пеппер, свет! — заорал он, отступая назад вслепую.
Он чувствовал, что в комнате кто-то есть. Невидимое присутствие давило на барабанные перепонки, вызывая тошноту. Волоски на руках стояли дыбом от статического электричества.
— Не работает! — голос Пеппера звенел паникой. — Фонарь сдох!
Сайзмор нащупал на разгрузке ХИС (химический источник света). Рванул упаковку зубами. Переломил пластиковую трубку.
Хруст.
Тусклое, химически-зеленое сияние залило коридор. Это был аналоговый свет, холодный и слабый, но он не зависел от батареек.
В мертвенном отблеске Сайзмор увидел Это.
Оно стояло в метре от него.
Не тень. Не глюк цифровой матрицы. Это была физическая плоть, но неправильная. Существо напоминало человека, с которого содрали кожу и растянули кости на дыбе. Его тело было черным, словно обугленным, но поверхность не отражала свет ХИСа — она его поглощала.
Лица не было. Вместо него — воронка из вибрирующей тьмы.
Существо протянуло длинную, суставчатую конечность к светящейся палочке в руке Сайзмора.
— Контакт! В упор! — взревел Диксон.
Пулемет SAW в узком коридоре заработал как отбойный молоток.
Тра-та-та-та-та!
Вспышки выстрелов разорвали темноту стробоскопическим кошмаром.
Сайзмор увидел невозможное.
Дульное пламя вело себя вопреки всем законам физики. Оно не рассеивалось. Его языки изгибались, втягиваясь прямо в грудь черной твари.
Она жрала энергию выстрелов. Она пила кинетическую силу пуль.
Свинец крошил бетонную стену за спиной существа, но сама тварь даже не вздрагивала. Она становилась больше. Плотнее.
— Не стреляй! — заорал Сайзмор, хватая Диксона за ствол пулемета (горячий металл обжег ладонь). — Ты её кормишь, идиот!
— Оно не дохнет! Сардж, оно не дохнет! — Диксон был в истерике. Его глаза, расширенные от ужаса, бегали по коридору.
Тварь сделала шаг вперед.
Сайзмор швырнул ХИС ей в «лицо». Существо дернулось, ловя палочку в воздухе. Химический свет мгновенно погас, высосанный досуха.
— Наверх! — скомандовал Сайзмор, толкая Пеппера к лестнице. — На крышу!
Они рванули по узким бетонным ступеням. Ботинки скользили по мусору. Сзади, из темноты первого этажа, доносился звук — сухой треск, словно тысячи кузнечиков терли лапками.
На втором этаже было светлее — лунный свет падал через проломы в стенах.
Но здесь было еще хуже.
Пеппер, чьи очки каким-то чудом еще работали (или твари специально оставили ему зрение, чтобы насладиться его страхом), вдруг замер.
— Господи Иисусе… — прошептал Пеппер.
— Двигай, мужик! — Сайзмор врезался в его спину.
— Сержант, посмотри на стены…
Сайзмор прищурился. Без очков он видел лишь тени. Но Пеппер видел всё.
— Они вылезают, — бормотал он. — Они везде. Из розеток. Из проводки. Они лезут по кабелям, как по шоссе.
Диксон, замыкающий, вдруг вскрикнул.
Сайзмор обернулся.
Пулеметчик стоял, прижавшись спиной к стене. Его «Химера» — те самые проклятые очки — сияла ослепительно-зеленым светом. Настолько ярко, что свет пробивался сквозь пластик корпуса.
— Сними их! — крикнул Сайзмор. — Диксон, сбрось очки!
— Не могу… — прохрипел Диксон. Он вцепился руками в шлем, пытаясь сорвать его, но пальцы не слушались. — Они… прилипли.
Сайзмор увидел, как от стены отделились две черные тени. Они подошли к Диксону с двух сторон. Они не били его. Они просто положили свои длинные пальцы на батарейный блок на его затылке.
Шшшшшуууух.
Звук был похож на вдох гигантского пылесоса.
Диксон затрясся.
Сначала погасли индикаторы на его рации. Потом перестал светиться ИК-маячок. А потом сам Диксон начал гаснуть.
Сайзмор видел, как кожа пулеметчика сереет. Как глаза закатываются, превращаясь в белые шары. Как мышцы, лишенные биоэлектричества, сжимаются, ломая кости изнутри.
— Помоги… — выдохнул Диксон.
И рассыпался.
Прямо внутри своей брони и одежды. Тело превратилось в сухой пепел и груду ломких костей. Тяжелый бронежилет и пулемет с грохотом рухнули на пол, подняв облако серой пыли.
— Диксон! — Пеппер рванулся к нему, но Сайзмор схватил его за лямку.
— Ему не помочь! На крышу, живо!
Они вывалились на плоскую крышу здания.
Ночной воздух Фаллуджи ударил в легкие гарью горящей нефти. Здесь было громче — где-то на юге работала артиллерия, небо чертили трассеры.
Сайзмор захлопнул за собой тяжелую металлическую дверь и подпер её куском арматуры. Снизу, из дома, раздался удар. Дверь выгнулась. Металл заскрипел, покрываясь инеем в месте удара.
— «Крестный», это «Браво-6»! — заорал Сайзмор в рацию, надеясь, что здесь, под открытым небом, связь пробьется. — Код «Сломанная Стрела»! Мы на крыше! Нас атакуют! Запрашиваю эвакуацию!
Рация молчала. Только белый шум.
Пеппер стоял у края крыши. Он не смотрел на дверь. Он смотрел на город.
Он медленно снял очки, его руки дрожали.
Лицо Пеппера было бледным, как мел.
— Сержант… — тихо сказал он. — Тебе лучше не знать.
— Что? — Сайзмор подбежал к нему, вырывая очки из рук.
— Не надевай, — попросил Пеппер. В его голосе была такая тоска, что Сайзмор замер. — Если наденешь — ты поймешь, что бежать некуда.
Сайзмор посмотрел на очки. Индикатор заряда мигал красным: 5%. Последние крохи энергии.
Он посмотрел на город.
Обычный ночной город. Вспышки взрывов. Дым. Темнота.
Любопытство. Оно было сильнее страха.
Сайзмор поднес «Химеру» к глазам.
Мир вспыхнул зеленым зерном.
И Сайзмор перестал дышать.
Небо над Фаллуджей не было пустым.
Оно кишело.
Миллиарды. Их были миллиарды.
Весь город был накрыт гигантским, пульсирующим куполом из статики. Огромные, левиафаноподобные сущности плыли в облаках, заслоняя звезды. Они ловили ртами снаряды гаубиц. Они обвивали минареты. Они висели над каждым домом, где шла перестрелка, всасывая смерть, как нектар.
Каждый выстрел, каждый взрыв, каждый крик в этом проклятом городе кормил их.
Война не была борьбой за демократию или территорию.
Война была фермой. А они — скотом.
Дверь на крышу за их спинами сорвалась с петель с оглушительным звоном.
Сайзмор медленно повернулся.
Из проема выходила тьма. Но теперь, глядя на небо, полное чудовищ размером с небоскребы, эта тьма казалась смешной.
— Мы просто батарейки, Пеппер, — сказал Сайзмор, опуская винтовку. Стрелять не было смысла.
— Мы просто батарейки, Пеппер, — прошептал Сайзмор, опуская винтовку. Его голос звучал глухо, словно он говорил из могилы. — А это… это просто ферма.
Пеппер всхлипнул, его пальцы вцепились в чеку гранаты М67.
— Я не хочу, чтобы они меня трогали, Сардж… Я лучше сам. Взрыв — и всё.
Сайзмор резко ударил его по руке. Граната, так и не активированная, покатилась по гудрону крыши.
— Ты идиот! — прошипел он, хватая Пеппера за грудки. — Посмотри на них! Они жрут энергию! Взрыв для них — это десерт. Ты просто покормишь их собой!
Дверь на крышу, которую они подперли арматурой, не вылетела. Она просто растворилась.
Металл вспыхнул сухим черным огнем и осыпался прахом.
Из темного проема на крышу шагнула Тварь.
На фоне колоссальных чудовищ в небе она казалась маленькой — всего три метра ростом. Но она была здесь, рядом.
Она не спешила. У неё не было глаз, но воронка на месте лица повернулась к морпехам.
Пеппер не выдержал. Инстинкт оказался сильнее разума.
Он вскинул пистолет.
— Иди на хер! — взвизгнул Пеппер.
Бах! Бах! Бах!
Три выстрела в упор.
Сайзмор увидел через свои умирающие очки, как пули врезались в черную грудь существа.
Они не прошли насквозь. Они не отрикошетили.
Кинетическая энергия пуль мгновенно впиталась. Тварь стала ярче. Её контуры стали четче, плотнее. Она поглотила агрессию Пеппера и стала сильнее.
Существо сделало рывок. Слишком быстрый для человеческого глаза.
Длинная, похожая на обугленную ветку рука схватила Пеппера за горло и подняла над землей.
— Нет… — только и успел выдохнуть Сайзмор.
Он ожидал, что Пеппера разорвут. Или высушат, как Диксона.
Но Тварь не убила его.
Она сжала пальцы.
Тело Пеппера выгнулось дугой. Его вены под кожей вспыхнули нестерпимым неоновым светом. Он закричал, но это был не крик умирающего. Это был звук трансформации.
Тварь подключила его к сети.
Пеппер перестал быть человеком. Он превратился в живой, кричащий генератор. Из его глаз, рта, ушей били лучи чистой энергии, уходящие в небо, к тем левиафанам в облаках.
Он не умер. Он завис в состоянии вечной агонии, перерабатывая свою душу в ток для хозяев.
Тварь отшвырнула светящееся, дергающееся тело медика в сторону, как использованный провод, и повернула безликую голову к Сайзмору.
Сайзмор попятился к краю крыши.
Его пятка нащупала пустоту.
Внизу, в переулке, было темно. Падение с третьего этажа — это переломанные ноги. Может быть, позвоночник.
Но это была честная, физическая боль. Не Это.
Сайзмор посмотрел на Тварь, которая медленно шла к нему, протягивая руку.
Он посмотрел на Пеппера, который корчился на гудроне, сияя, как прожектор в аду.
— Хрен тебе, — сказал Сайзмор.
Он не стал стрелять. Он сделал единственное, что лишало их пищи.
Он выключил свои очки «Химера», погрузив мир в темноту.
А затем шагнул спиной в пустоту, надеясь, что гравитация окажется милосерднее, чем эти боги электричества.
ЭПИЛОГ
ПРОЕКТ «ВАВИЛОН»
База «Кэмп-Виктори». Багдад. «Зеленая зона».
Оперативный центр (TOC) Объединенного командования.
Спустя 15 минут после падения сержанта Сайзмора.
В бункере было холодно. Кондиционеры гудели, поддерживая идеальную температуру для серверов, занимавших всю стену.
Доктор Артур Торн сидел в эргономичном кресле, глядя на стену из мониторов. Его лицо освещал мертвенно-зеленый свет экранов. Он сделал глоток воды, не отрывая взгляда от центрального дисплея.
На экране была статичная картинка: черный асфальт переулка, снятый с высоты третьего этажа. В углу мигала красная надпись: «СИГНАЛ ПОТЕРЯН. БИОМЕТРИЯ: НУЛЬ».
— Он мертв? — спросил генерал, стоящий за спиной Торна. Генерал не смотрел на экран, он смотрел на карту Ирака.
— Сержант Сайзмор… — Торн постучал пальцем по столу. — Технически, его сердце остановилось при ударе о землю. Но его нейронная активность в момент смерти… Генерал, это было великолепно.
Торн нажал несколько клавиш. На соседнем мониторе появился график. Кривая взлетела вертикально вверх в ту секунду, когда медик Пеппер превратился в живой генератор.
— Мы получили всплеск в 400 тераватт, — тихо сказал Торн. В его голосе звучал не ужас, а религиозный трепет. — Группе «Браво-6» удалось то, чего не смогли сделать мои инженеры за десять лет. Они замкнули цепь.
— Ценой целого взвода, — сухо заметил генерал. — И потери экспериментального оборудования.
— Это допустимые потери, — отмахнулся Торн. — Посмотрите на данные. В древности ассирийские жрецы использовали обсидиан и кровь рабов, чтобы сдерживать их. Они называли это «Вратами Тиамат» и боялись их до смерти. Мы же… мы использовали кремний и спутниковую связь, чтобы открыть дверь настежь.
Торн развернул на экране спутниковую карту Фаллуджи.
Раньше зона помех (зеленое пятно) покрывала только Индустриальный сектор.
Теперь зеленое пятно расползалось. Оно поглотило весь город. И оно двигалось дальше — по оптоволоконным кабелям, по радиоволнам, через систему спутников связи MILSTAR.
— Что это значит, доктор? — голос генерала стал жестче.
— Это значит, что эксперимент вышел из фазы «сдерживания», — Торн улыбнулся.
Он достал из кармана маленький бархатный мешочек. Развязал шнурок и вытряхнул на ладонь осколок черного, полированного камня. Древний обсидиан, найденный в фундаменте Вавилонской башни.
Торн поднес камень к свету монитора.
— Они больше не привязаны к тому подвалу, генерал. Они вошли в Сеть. Каждый солдат с ПНВ, каждая рация, каждый тепловизор на «Абрамсе» теперь — это открытая дверь для них. Мы только что дали древним богам высокоскоростной интернет.
Внезапно динамики в оперативной комнате ожили.
Обычно из них доносились доклады патрулей. Но сейчас оттуда шел звук.
Шшшшшшшш.
Скрежет хитина. Гудение миллиарда крыльев. Звук голодной саранчи.
Свет в бункере мигнул.
Генерал попятился к двери.
— Выключите это, Торн. Отрубайте серверы! Это приказ!
Торн не пошевелился. Он смотрел на свое отражение в черном мониторе. В отражении, за его спиной, из теней серверной комнаты уже формировались высокие, тощие фигуры.
— Нельзя выключить эволюцию, сэр, — прошептал доктор Торн.
Он надел свои очки.
Зеленый свет залил его лицо.
— Я хочу видеть, как они захватят мир.
Свет в бункере погас окончательно. В темноте раздался лишь влажный хруст и шелест, с которым древний Вавилон пришел забирать свои долги у современной Америки.

КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ ЖРЁТ СВОИХ ДЕТЕЙ
«Земля, пропитанная кровью,
стала похожа на огромное человеческое тело,
которое лежит на земле плашмя
и в предсмертных судорогах заставляет
дрожать всё своё гигантское тело».
— Франц Крюзе, письмо жене,
9 сентября 1812 г.
БОРОДИНО
9 СЕНТЯБРЯ 1812 ГОДА
Утро пахло не порохом, а сырым подвалом. Туман лежал на поле плотным, жирным одеялом, скрывая то, что ждало нас впереди. Земля под сапогами была мягкой, податливой, словно тесто, которое слишком долго расстаивалось в тепле.
— Царь, видать, опять забыл нас накормить, — прохрипел Семён.
Он сидел на корточках, выковыривая вшей из-под грязного ворота. В руках он держал кусок хлеба. Хлеб цвел. Зеленая плесень покрывала корку бархатным мхом, похожим на тот, что растет на могильных камнях. Но Семён грыз его с жадностью обреченного зверя. Зубы оставляли в мякише глубокие темные борозды, крошки падали на шинель, смешиваясь с сукровицей на его разбитых, потрескавшихся губах.
— Ешь, — буркнул он, заметив мой взгляд. — Земля сегодня голодная. Сами не поедим, ей пустыми достанемся.
Я хотел сплюнуть, но во рту пересохло. Я крестьянин. Я всю жизнь любил землю. Я знал, как она пахнет весной — обещанием жизни. Но здесь, под селом Бородино, она пахла иначе. Она пахла больным желудком.
Первая французская батарея ударила, когда солнце только попыталось проткнуть туман. Не было ни свиста, ни предупреждения. Просто воздух внезапно стал твердым, как чугунная плита, и ударил в грудь.
Мир перевернулся. Меня швырнуло лицом в грязь. На языке расцвел вкус железа и глины. Рядом кто-то завизжал, тонко, на одной ноте, будто свинью режут.
— Ноги… где мои ноги?!
Я поднял голову. Дым полз по низине желтыми клубами, как ядовитый газ. Там, где секунду назад стоял унтер, теперь была воронка. На ее краю сидел человек. Точнее, его верхняя половина. Из того места, где должен быть пояс, толчками, в такт угасающему сердцу, выплескивалась густая, дымящаяся жижа. Белые осколки тазовых костей торчали из месива, будто сломанный забор. Он смотрел на меня, и в его глазах застыло детское удивление.
Поручик наш, совсем мальчишка, открывал рот, как рыба на песке. Из ушей у него текли тонкие алые ниточки. Он пытался что-то крикнуть, поднять саблю, но второй залп накрыл нас картечью.
Это было похоже на дождь из свинцовых ос. Голова Фёдора, стоявшего прямо передо мной, лопнула с влажным чмоканьем. Не как арбуз, нет. Как гнилой тыквенный бочонок. Теплые, склизкие комки мозга ударили мне в лицо, залепили глаза. Я инстинктивно вытер щеку тыльной стороной ладони, на коже остались чьи-то зубы и вырванные с мясом ресницы.
Тело Фёдора сделало еще два шага по инерции, прежде чем рухнуть. Оно дергалось в грязи, суча ногами, будто пытаясь зарыться поглубже. Спрятаться.
А потом из дыма вышли они.
Синие мундиры. Высокие кивера. Лиц не видно, только черные провалы ртов, орущих что-то на чужом языке. А перед ними, как стальные клыки, блестел частокол штыков.
Наш залп выкосил первую шеренгу. Я видел, как их тела ломались, словно тряпичные куклы, из которых выпустили опилки. Но остальные шли. Не перешагивали через трупы, наступали прямо на них. Хруст ребер под сапогами был слышен даже сквозь грохот канонады.
Солдат рядом со мной, огромный детина из Рязани, с размаху впечатал дуло тяжелого мушкета в живот французу и нажал спуск. Выстрел в упор. Спину француза вывернуло наружу мокрым веером: позвоночник, мясо, лоскуты мундира брызнули на тех, кто шел сзади. Но их это не остановило.
Началась свалка. Месиво. Я потерял счет времени. Помню только фрагменты, яркие и безумные, как в горячечном бреду.
Я вдавил большой палец в глазницу какого-то офицера, глаз лопнул под ногтем, вытекая горячим студнем. Кто-то вцепился мне в горло зубами, рыча, как бешеный пес. Я бил, колол, грыз. Мы не были людьми. Мы были мясом, которое само себя перемалывает.
Удар сзади. Не боль — просто тупой, тяжелый толчок, от которого подкосились ноги. Горячая река хлынула по бедру. Я обернулся. Польский улан, щербатый, с лицом, покрытым копотью, выдирал саблю из моего тела. Клинок вышел с трудом, с мерзким присасывающим звуком, увлекая за собой кусок мяса. Улан оскалился, занося клинок снова. И тут Петя, наш барабанщик, вогнал ему штык под подбородок.
Сталь вошла мягко, прошла сквозь язык, нёбо и вышла из макушки. Улан застыл. Его язык, пробитый насквозь, пригвоздило к верхнему нёбу. Они повалились вместе — Петя и мертвый поляк. Мальчишка крутил мушкет в ране, будто мешал кашу в котле, а глаза у него были стеклянные, пустые.
Редут Раевского превратился в скотобойню. Трупы лежали в три слоя. Мы ходили по ним, скользили. Рядом в агонии билась лошадь: живот вспорот, кишки вывалились сизыми петлями и парили на холоде. Ее ребра блестели, как полированная слоновая кость.
Один из наших, обезумев, схватил оторванную голову за сальные волосы и швырнул её с вала вниз. Голова с глухим стуком врезалась в лицо наступающего француза, сбив его с ног.
— Нате, жрите, погань! — заорал солдат. — Кровью своей запейте!
И тут шальное ядро, не разобрать, чьего полка, чугуну всё едино, с визгом ушло в самое чрево порохового погреба
Мир исчез.
Мир утонул в белом пламени. Оно было таким яростным, что пробило плотно сжатые веки, и на долю секунды я увидел красную, пульсирующую паутину собственных сосудов. А потом звук умер.
Тишина. Плотная, ватная, удушливая. Она навалилась разом, как тяжелая перина, забила уши, отсекла мир. Ни звука. Ни боли.
Я лежал на спине. Небо над головой было серым, низким, тяжелым. На моем колене лежала чья-то печень — темная, глянцевая, она подрагивала, как живое существо.
Звук возвращался медленно, болезненно. Сначала звон, как от тысячи битых стекол. Потом, сплошной, нечеловеческий вой.
Я приподнялся. Западный фас редута просто исчез. На его месте была гладкая, дымящаяся воронка. Из глины торчала одна рука. Маленькая. Детская. На безымянном пальце блестело медное колечко, точь-в-точь такое я дарил Дуне. Но это был бред. Дуня за сотни верст. Или нет?
Дым катился волнами, жирными, маслянистыми. Сквозь него шли фигуры. Это уже не были люди. Кожа висела на них красными лохмотьями, открывая мышцы и сухожилия. Один артиллерист брел, прижимая руки к животу, но это не помогало, за ним по грязи тянулись кишки. Длинные, блестящие, они волочились следом, как роскошный свадебный шлейф невесты Сатаны. Они цеплялись за коряги, за трупы, но он шел вперед с пугающей целеустремленностью.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
