
Бесплатный фрагмент - Упанишады. Книга 2

Что есть Упанишады. Прана. Прашна.
Слово Упанишада значит — «сидеть рядом»,
но не просто рядом с учителем, а рядом с истиной, настолько близко, что исчезает даже тот, кто слушает. Когда ученик садится у ног мудреца, в нём замирает речь, дыхание, мысль.
Остаётся лишь прозрачное присутствие — тишина, в которой слышно то, что нельзя произнести. Так рождаются Упанишады — не как тексты, а как мгновения прозрения,
записанные потом словами. Это внутренние книги, которые человек читает, когда закрывает глаза. Каждая Упанишада — это врата между миром формы и миром сути.
Там учат не «что думать», а как быть.
Она говорит:
ты не тело,
ты не мысль,
ты не имя.
Ты — Атман, искра без начала и конца, зеркало, в котором отражается сам Брахман — вечное сознание, что дышит всеми. Звук, дыхание, сон, огонь, вода — всё это символы, через которые древние мудрецы показывали путь к внутреннему свету.
Когда ты слышишь звук ОМ, это не мантра,
а вибрация самой истины, зов, что вспоминает Себя. Упанишады — не философия. Это сон Бога о человеке, который во сне узнаёт, что он сам и есть Бог.
Упанишады.
Всё было до звука.
До дыхания.
До первого трепета воздуха, когда Бог увидел себя
в глазу без зрачка.
Мир рождался, как шепот сна, где нет имени — лишь зов, что ищет ответ в самом себе.
Упанишады — это не книги, это дыхание, которое узнаёт, что оно дышит.
Здесь Атман идёт к себе, сбрасывая кожу звёзд, и возвращается к Брахману — в сердце, где нет дверей.
Слушай: ветер произносит Ом, а тень дерева — его эхо.
Птица, уснувшая на ветви, знает больше, чем мудрец.
Всё есть звук, и звук есть дом. Сон лишь зеркало дыхания,
в котором Бог — сам себе ребёнок.
Не ищи смысл — всё уже происходит внутри.
Тишина читает тебя так, как ты хотел читать Упанишады.
Сон Брахмана.
Брахман спит.
И этот мир — его дыхание, растворённое в молоке света.
Ты идёшь по дороге сна, и каждый шаг — вспоминание о доме, которого нет, но он помнит тебя. Сон не лжет, он просто не знает, что он — сон. В глубине тишины горит крошечный глаз, где отражается весь космос, но без имени, без цели, без слов.
Ты — его зрачок. Ты — его утро, которое не наступит, пока ты ищешь рассвет. И когда ты проснёшься, не будет «ты».
Будет только взгляд, в котором Брахман смотрит на самого себя, как ребёнок — на сон, в котором был стариком.
Дыхание ОМ.
Есть вдох — и всё рождается. Есть выдох — и всё возвращается. Между ними — ОМ, звуковая тень Бога,
где он помнит Себя. Пранаяма — не искусство дыхания,
а путь домой, где воздух узнаёт, что он был молитвой.
Слушай:
когда ты вдыхаешь — ты входишь в сердце Брахмана,
когда выдыхаешь — он проходит сквозь твои сны.
В этом круге нет границ, нет «я» и «он» — есть только звук,
распускающийся, как лотос внутри тишины.
ОМ — это не слово.
Это не звук.
Это то, чем ты становишься, когда замолкаешь.
Свет Атмана.
Из дыхания рождается свет.
Он не сияет — он помнит.
Не греет — узнаёт.
Ты смотришь в него, и видишь не свет — а взгляд, который видит тебя до твоего рождения.
Там нет ни неба, ни земли, ни пути. Есть только прозрачноe «Я есть», где всё стало одной точкой, пульсирующей без времени.
Атман — не в тебе. Он и есть ты, в тот миг, когда ты перестаёшь искать. Мир ещё движется, дышит, снится —
но уже в тебе, а не вокруг. ОМ замолкает, но тишина звучит — и это её песнь, её Упанишада, написанная светом на воде твоего сна.
Сон Вечности.
Когда свет устал быть светом, он лёг — и стал сном.
Не смертью, а глубоким выдохом Брахмана, в котором даже тьма сияет, но тихо. Атман закрывает глаза, и звёзды гаснут,
чтобы родиться в новом дыхании. Никто не умирает, потому что никто не рождался. Всё — одно дыхание, замедленное до вечности. Там, где кончается звук, начинается слышание.
Там, где нет формы, начинается узнавание. Упанишада завернулась в ночь, как ребёнок в свой первый сон, и шепчет: «Я — то». И Бог спит снова. И этот мир — его улыбка
во сне без имени.
Катха первая. О том, как Атман заговорил в дыхании.
Ночь стояла густая, словно сама задумалась.
Воздух был неподвижен, и даже звёзды, казалось, не сияли, а слушали что-то неслышимое.
Тогда человек, уставший от мысли, лёг, не для отдыха, а для забвения, — и впервые услышал, как тишина дышит.
То было не дыхание тела. Нет.
То был звук, которому нет имени, звук, из которого потом вырастут слова, молитвы и мантры.
Он был подобен гулкому эхy в пещере, где никого нет, и всё же кто-то отвечает.
И человек понял: этот кто-то — Он сам, только другой, глубже, как отражение в воде, что смотрит снизу вверх и знает больше, чем тот, кто глядит сверху.
Атман заговорил не голосом — дыханием.
Каждый вдох стал вопросом, каждый выдох — ответом.
Мир исчез, как рябь на реке, и остался только ритм.
Так началась йога. Йога — не движение тела, а возвращение к тому мгновению, когда всё ещё не было разделено:
сон и бодрствование, свет и тень, мысль и её отражение. Там же, в этом дыхании, родилась пранаяма. Она — мост между Атманом и тем, кто ищет его, между звуком и тишиной, между гипнозом мира и пробуждением души.
Ибо гипноз — не тьма, а завеса, которую Сам Брахман набросил на свои очи, чтобы видеть Себя множеством лиц. Когда завеса становится прозрачной, человек понимает: он не спит — его спит Вселенная. Сны тогда становятся как птицы: одни летают низко, к земле, другие — поднимаются туда, где нет форм.
А в самых редких снах, в тех, где человек осознаёт, что спит, открывается тайный храм дыхания, и в его сводах звучит древняя песнь без слов — это Атман вспоминает самого Себя через дыхание человека. И если в тот миг он не испугается, не попытается «проснуться», а просто выдохнет — в его дыхание войдёт сам Брахман. И тогда йога станет не практикой, а состоянием, сон — не иллюзией, а дорогой,
звук — не вибрацией, а дверью, и всё сущее — одним непрерывным сном Бога.
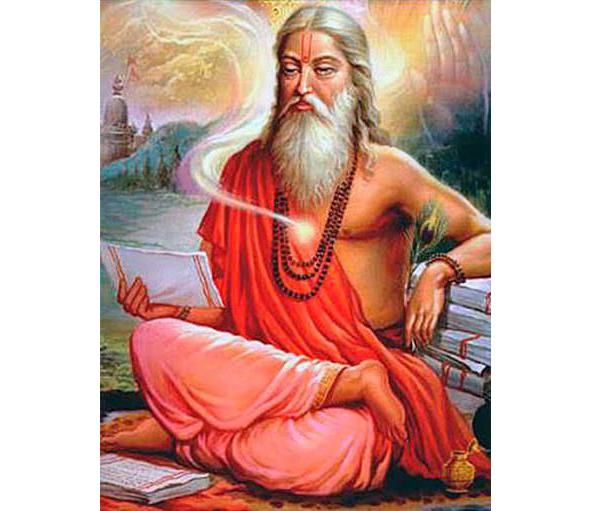
Катха вторая. О звуке, что помнил Бога.
Говорят, в начале не было ни света, ни мрака, ни тишины — только ожидание.
И вдруг — не то шум, не то дыхание, не то вздох самого ничто. Так родился Звук.
Он не знал ещё, что он звук.
Он был как ребёнок, впервые осознавший себя плачем. Но в его плаче была память о том, что ещё не произошло. Так Брахман узнал Себя — и запел. С тех пор всё живущее звучит, даже камень поёт — просто слишком медленно,
а звезда дышит — слишком громко, чтобы человек мог услышать. И однажды, в теле, сотканном из дыханий и снов,
Звук вновь проснулся. Он зашевелился в груди человека, словно забытoе эхо.
Сначала — как лёгкое покалывание, потом — как тепло между сердцем и дыханием.
А потом — как зов. И человек, не зная почему,
сказал губами то, чего никогда не учил: ОМ. Не слово, не молитва — а память. Словно всё сущее, забывшее своё начало, вдруг вспомнило и вздохнуло вместе с ним. ОМ — это не звук, а круг, который замыкается сам на себе. Он начинается как дыхание Брахмана, а заканчивается — дыханием человека. Между ними — тишина, в которой нет различия. Тот, кто произносит ОМ, не создаёт звук — он позволяет звуку вспомнить себя через него.
Потому этот слог нельзя просто сказать.
Он должен случиться, как сон,
как внезапное узнавание между небом и телом.
Йогины говорят, что в миг, когда звук ОМ проходит сквозь сердце, человек становится прозрачным для света. Тогда дыхание превращается в мантру, а пранаяма — в путь домой. В ту ночь, когда первый человек услышал этот звук, воздух вокруг него загустел, будто сама Вселенная прислушалась.
Он не видел снов — он был сном.
И Брахман смотрел через него, как через окно,
в самого Себя. С тех пор ОМ живёт в каждом дыхании. Он тих, как мысль, и силён, как пробуждение. И когда ты слышишь его не ухом, а сном — знай, что это Атман зовёт тебя обратно в первозвук.

Катха третья. О том, как Звук стал Светом.
Когда ОМ прозвучал впервые — не в воздухе, а в безвременье, — всё, что спало, дрогнуло.
И там, где раньше был только отзвук, появилось сияние.
Не яркое, не ослепительное, а такое, какое видят глаза закрытые. То был не свет, а память о свете.
Он не исходил откуда-то — он вспоминался.
Словно само ничто вдруг осознало: «Я — есть». Звук стал тянуться, растягиваться, пока не превратился в нить —
золотую, тонкую, как паутина между мирами.
Эта нить была первым дыханием пространства.
И где проходила она — там возникало «здесь» и «там». Так родился мир: из паузы между вдохом и звуком.
Брахман, улыбаясь, раскрыл глаза, и каждое мгновение его взгляда стало звёздой.
Но глаза его были не глаза — а сознания тех, кто ещё не родился.
В том свете впервые увидел себя человек — ещё не имея тела, но уже имея тень.
И тень та шепнула ему: «Ты — сон света о себе». С тех пор всё видимое — лишь отражение дыхания, застывшее в лучах ОМ.
И когда ты медитируешь, всё вокруг будто расплавляется — ты возвращаешься в тот самый момент, где звук ещё не стал светом, а свет — ещё не стал формой. Йогины называют это тонким пространством между вдохом и выдохом. Там, где нет ни звука, ни молчания, но есть нечто, что слушает оба. В сновидениях мы часто бываем там, не ведая этого.
Ведь осознанный сон — это не просто игра воображения, а попытка Атмана вновь ощутить себя светом. Когда во сне ты вдруг понимаешь, что видишь — это Брахман смотрит Сам на Себя через твоё осознание. И если ты не испугаешься,
если позволишь сну дышать вместе с тобой,
пространство засверкает — и Звук вновь станет Светом, а Свет — Тобой. Тогда исчезнут различия: дыхание и пранаяма, сон и пробуждение, гипноз и медитация —
всё сольётся в одну невыразимую простоту,
в вечное узнавание себя.
Так началось бытие — из легчайшего колебания между звуком и светом. И там, где оно ещё длится, Брахман поёт сам себе — твоим дыханием.
Катха четвёртая. О том, как Свет позволил Тени родиться.
Когда Свет, устав быть лишь сиянием, захотел себя увидеть, он обернулся.
И где его взгляд встретился сам с собой — в том месте родилась Тень.
То не была тьма, как думают люди.
То было отражение света, слишком плотное, чтобы светить, но достаточно живое, чтобы помнить. И в этой памяти зародилась первая мысль: «Я — не Он».
Так впервые Атман спрятал Себя в Тени.
Так началась история человека.
Свет, вглядываясь в своё отражение, улыбнулся, и от улыбки вспыхнули миры.
Но отражение не узнало Его. Оно подумало, что сияние исходит от него самого — и стало строить миры в своём сне.
Это и есть великое забвение — сон Света, уверенного, что он пробуждён.
Брахман позволил этому сну длиться, ибо в каждом отблеске Тени он слышал свою же музыку, лишь приглушённую. И с тех пор всё живущее ищет не свет — а память о свете, вздымаясь от мглы к дыханию.
Так появился человек — Тень, в которой Свет задумался о себе. И чем глубже человек засыпает в иллюзию мира, тем сильнее Атман ищет способ себя разбудить. Порой это случается через боль, иногда через дыхание, а иногда — через сон. Сон — тайное письмо Света самому себе. В нём каждое видение — символ, каждый звук — зов. Йогин, что слышит этот зов во сне, становится мостом между Атманом и его отражением. И тогда происходит чудо: Тень начинает светиться изнутри.
Это не ослепительный свет, нет, — скорее мягкое сияние понимания, которое не нужно видеть — достаточно помнить. Так гипноз становится не усыплением, а возвращением в первичный сон, где Свет ещё не различает себя от Тени,
а Тень — ещё не боится Света. И когда дыхание становится прозрачным, а мысли — тихими, человек внезапно узнаёт: он всегда был тем, кто смотрит из-за света, из-за сна, из-за самого времени. И это узнавание — не пробуждение,
а вспышка тишины, в которой Свет и Тень, наконец, обнимаются.
Катха пятая. О том, как Атман стал дыханием.
После того как Свет и Тень узнали друг друга, мир сделался подвижным. Сон начал дышать.
И в этом дыхании впервые родилась Время.
То не было временем, которое считают по солнцу. То было биение между двумя паузами — между вдохом и выдохом Брахмана.
И Атман, видя, как его отражения мечутся в иллюзии жизни, сжалился: «Если они не слышат меня в звуке, пусть услышат в дыхании».
Так Он вошёл в каждое живое существо,
как незримый странник, что поселился в груди.
И стал дыханием. С тех пор каждый вдох — это возвращение к Атману, каждый выдох — его послание миру. Но люди забыли. Им показалось, что они дышат сами. Лишь немногие — йогины, сновидцы, поэты, да безумцы, что слышат музыку тишины — вдруг замечали: в каждом дыхании есть что-то древнее, какая-то память, не принадлежащая им. Так родилась пранаяма — искусство слушать Бога внутри воздуха. Это не просто упражнение.
Это мистерия.
Когда человек вдыхает — Атман входит в него;
когда выдыхает — Атман возвращается к Себе.
И между ними — жизнь.
В те мгновения, когда дыхание становится медленным, и пауза между вдохом и выдохом растягивается, время перестаёт течь. Мир замирает. И в этой неподвижной прозрачности
Атман вспоминает Себя через дыхающего.
Иногда это случается внезапно: человек просто сидит, всё кажется обыденным — тень, пыль, воздух, и вдруг дыхание становится слишком глубоким, слишком родным. Будто кто-то другой дышит в нём, тихо, с любовью, как мать в младенце. Тогда исчезает тело. Исчезает даже мысль «я дышу». Остаётся только великое присутствие, где дыхание и дышащий — одно.
Так Атман снова нашёл Себя. Не в звёздах, не в ведах, не в песнях, а в простом вдохе. Гипноз мира, сон звука, сияние света — всё оказалось дыханием Бога. И если ты когда-нибудь услышишь, как твой выдох звучит как море,
а вдох — как возвращение домой, знай: это не ты дышишь — это Он вспоминает Себя тобой.
Когда Атман стал дыханием, всё живущее задвигалось, зашевелилось, задышало.
И потому в мире появилось не только рождение, но и конец дыхания — то, что люди назвали смертью. Но смерть — не враг.
Это просто выдох, который ещё не вернулся.
И потому тот, кто слышит Атмана в дыхании, начинает замечать: смерть не уносит, она вдыхает обратно. И вот, когда это знание впервые вспыхнуло в сердце одного юноши — сына Брахмана, чьё имя утерялось в песках веков, — мир содрогнулся. Он не испугался смерти, он захотел спросить её. Сколько людей уходили, не поняв, куда?
Сколько жизней прожито в страхе перед выдохом?
И вот однажды — мальчик, сын Брахмана, в чьих глазах спал огонь древнего знания, — решил дойти до самого конца дыхания и спросить: «Что там, за последней праной?»
Так началась великая беседа между жизнью и её тенью. Между дыханием и безмолвием.
Между сыном Брахмана и самим Ямой — хранителем предела. Говорят, в ту ночь он сидел в пранаяме, и дыхание его стало настолько тихим, что даже ветер не мог отличить вдох от выдоха.
И тогда Яма сам пришёл к нему — не как страшный бог, а как отражение того, что молчало в каждом живом существе.
— Ты звал меня, — сказал Яма.
— Я не звал, — ответил юноша, — я просто перестал дышать.
И вот ты — пришёл. Так началась Катха о Смерти и Дыхании, где смерть говорит голосом праны, а жизнь — голосом молчания. Внимай же читатель мой — Катхи, о древней мудрости, что зовутся — Упанишады.

КАТХА-УПАНИШАДА.
Дом Смерти.
Ночь в Индии — не такая, как у людей.
Она — как забытая мысль Бога, тихо опустившаяся на землю.
Всё живое спит, а только в сердце мальчика по имени Начикетас горит маленькое пламя — не от костра, не от лампы, а от вопроса, который не гаснет. Отец его, мудрец Ваджашравас, приносил жертву — коров, старых, сухих, уже без молока. И мальчик стоял рядом, смотрел, как тлеет дым, как жертвенные зерна шипят в огне. И вдруг будто кто-то прошептал ему — не человек, не Бог, не ветер — а время само: «Смотри, Начикетас, чем жертвует человек, когда боится отдать живое». И тогда мальчик — не удержался. Он подошёл к отцу, голосом прозрачным, как вода:
— Отец, кому отдашь меня?
Старик, не желая слышать, отмахнулся.
Но мальчик повторил — трижды.
А третье слово было сказано уже не ему, а самому Закону Вселенной, который слышит, когда спрашивают искренне.
Отец, раздражённый, сказал сгоряча:
— Тебя — Смерти!
И всё вокруг вдруг замерло.
Как будто мир услышал древнее имя, которого боятся даже Боги.
И Начикетас пошёл.
Не от страха — а потому, что слово было сказано, и слово есть путь.
Шёл он долго, сквозь сумрак миров, где звёзды висят, как лампы в забытых храмах.
Шёл между дыханием и сном, между прошлым и грядущим. А за ним тянулся след — не тени, а мысли, что родилась в нём: Что есть смерть, если я иду к ней и не исчезаю?
И вот он дошёл. Перед ним — Дом Смерти.
Ворота — не из железа, а из сна.
Ветер пах костром и лотосами, и воздух был густ, как ритуальный дым. Он вошёл — а там пусто. Яма, владыка Смерти, ушёл к Богам.
И мальчик сел у порога, как нищий у чужого дома. Так сидел он три дня и три ночи.
Солнце вставало и гасло, и даже птицы перестали петь — будто боялись вспугнуть его терпение. И тогда вернулся Яма.
И увидел мальчика, тихого, как мысль о бессмертии. И в голосе Смерти зазвучало удивление: — Кто осмелился ждать меня, когда даже Боги обходят стороной?
Ты ли, мальчик, не дрогнул, сидя у порога небытия? И началась их беседа — не о жизни и не о смерти, а о том, что глубже обеих.

Искушения Ямы.
Двери Дома Смерти раскрылись тихо, словно ветер распахнул страницу древней книги, и в проёме возник Яма.
Не чудовище, не мрак — нет.
Он был спокоен, как сама тень, что знает: всё под ней когда-то ляжет.
На лбу у него светилась тишина.
На губах — улыбка, в которой пряталось знание конца и начала.
Он взглянул на мальчика — и впервые за многие века в его сердце шевельнулось удивление. Потому что мальчик не трепетал, не кланялся, не просил жизни. Он просто сидел, сложив руки, словно медитировал на само ожидание. И тогда Яма сказал, голосом, в котором сквозило нечто древнее, как шум океана:
— Три ночи ты провёл в моём доме без хлеба, без сна, без страха.
Как жертва, что сгорает не во имя жизни, а ради истины.
Проси три дара, Начикетас, — и пусть смерть исполнит желание живого.
И мальчик ответил:
— Первый дар: пусть мой отец забудет гнев, и когда я вернусь, пусть его сердце узнает меня, как восход узнаёт рассвет.
И Яма кивнул.
— Да будет так. Гнев человека — это лишь дым от огня, что не умеет гореть в радости.
Пусть дым рассеется.
— Второй дар, — сказал Начикетас, — открой мне путь жертвы, ту жертву, что ведёт не к небу, а к истине. И Яма улыбнулся уже мягче, как учитель ученику:
— Ты ищешь не золото, а свет.
Слушай же: огонь, принесённый сердцем, есть мост между мирами. Им воздвигается лестница, по которой душа восходит, не оставляя следов во тьме. И Яма поведал ему о жертве Начикеты — тайной, где огонь зовётся именем знания.
Но когда он окончил, мальчик не замолчал.
Он сказал третье, самое дерзкое:
— А теперь скажи мне о том, что за пределом — когда тело умирает, остаётся ли что-то?
Или всё исчезает, как след на воде?
И в ту же секунду ветер в доме стих.
Даже пепел в жаровне застыл, не осмеливаясь шевельнуться. Смерть молчала. В этом молчании было больше смысла, чем в тысячах гимнов. Потом Яма заговорил — медленно, будто каждое слово рождалось из бездны:
— Об этом спорят даже Боги. Одни говорят — есть; другие — нет. Как можешь ты, дитя, требовать ответа, которого нет даже у Богов?
Но мальчик лишь склонил голову — не от покорности, а от непоколебимости духа:
— Если даже Боги не знают, значит, я должен узнать. Ведь кто узнает смерть, тот больше не умрёт. И тогда Яма посмотрел на него взглядом вечности, в котором звёзды погасли бы, если бы не знали своего пути. И Смерть сказала — не голосом, а всем существом своим: — Ты не боишься тьмы.
Но прежде чем я открою тайну, я покажу тебе всё, чем люди продают душу.
И если ты не соблазнишься — тогда услышишь то, что не говорят живым.
И началось искушение.
Перед глазами мальчика вспыхнул другой мир.
Золотые колесницы, девушки, как лучи утренней звезды,
ароматы, что кружили разум, звуки, от которых хотелось забыть своё имя.
И всё это — великолепие Майи, сияние обмана, в котором человек забывает, что он — бессмертен.
— Возьми всё, Начикетас! — звучал голос Ямы, сладкий, как мед смерти. Возьми долгие годы, сыновей, богатства, царства и женщин, что не знают старости. Возьми всё, что только просили прежде! Лишь не спрашивай о том, что за гранью. Но мальчик встал. И его тень дрогнула, будто вспыхнул огонь в сердце мира.
— Всё это — для тех, кто не видит конца.
Я хочу знать не золото, не плоть, не благо, — я хочу знать То, что не умирает.
И Смерть улыбнулась впервые по-настоящему.
— О, Начикетас…
Мало кто умеет желать Истину, когда Истина обнажена. И тогда Дом Смерти стал храмом без стен. Мир растворился, как дым после жертвы, и между ними — начался разговор,
который продолжается в каждом человеке, что однажды спросил себя: «Что я есть, когда исчезает всё?»
Катха-упанишада — О Пуруше, что живёт в сердце.
Дым рассеялся. Мир перестал быть внешним.
Он стал — внутри. Всё, что было зримым — исчезло, как рисунок на воде. Остался только голос Ямы — не звуком, не словом, а вибрацией пространства, от которой сердца древних мудрецов начинали биться чаще.
— Слушай же, Начикетас, ибо то, что ты ищешь, — не там, где глаза видят. Человек — не тело. Тело — его пепел,
дыхание — его дым, а душа — огонь, что не гаснет.
И мальчик стоял, и тьма вокруг него не пугала,
потому что в сердце его горел тихий свет — не видимый глазу, но вечный.
— Есть древний Дух, — продолжал Яма, —
невидимый, неслышимый, неосязаемый.
Он меньше пылинки и больше неба.
Он сидит в сердце каждого, как владыка замка без дверей. Люди ищут его в книгах, в горах, в ритуалах — но он живёт в дыхании между вдохом и выдохом. Тот, кто познал его, не умирает, ибо он познал самого Смерть-побеждающего. И в тот миг пространство будто распахнулось.
Начикетас увидел — не глазами, а сознанием — внутренний мир, где всё живое связано нитью, что не видна, но держит всё.
Он увидел, как мысль становится ветром, как желание рождает тело, как страх создает смерть.
И Яма сказал:
— Смерть — не враг, дитя.
Она — дверь, через которую проходит тот, кто закончил свой сон.
Но ты — ищи не дверь.
Ищи того, кто стоит по обе стороны порога.
Того называют Пуруша — древний, как заря, вечный, как огонь, неподвижный, как ось, вокруг которой крутятся все миры. И в тот момент внутри мальчика заговорило молчание.
Он понял, что всё, что видел, слышал, знал, — лишь дыхание одного, а он сам — вдох и выдох этого Бытия.
— И знай, Начикетас, — сказал Яма тихо, как шорох времени, — тело — колесница, ум — вожатый, чувства — кони, а Атман — владыка, что сидит внутри. Кто забыл о нём, тот теряет путь. Кто помнит — едет сквозь смерть, как солнце проходит через ночь, не теряя света.
Мальчик молчал.
Но в его взгляде было то, что не нуждается в словах.
И Яма понял — путь окончен. Не потому что кто-то умер,
а потому что всё умершее обрело смысл.
— Теперь иди, — сказал Смерть. —
Возвратись к живым, но уже не будь одним из них. Стань тем, кто помнит, что жизнь и смерть — два крыла одной птицы, что летит в небо истины. И когда мальчик шагнул обратно в мир, вся вселенная будто сделала вдох.
Земля стала мягче, ветер — чище, и даже солнце светило не ярче, а знающe.
С тех пор говорят: тот, кто слышал учение Смерти, уже не боится темноты — потому что узнал, кто светит во тьме.
Катха-упанишада — Возвращение.
Ночь прошла.
Но не та ночь, что над землёй — а та, что лежала между дыханием и безмолвием. И когда первый луч коснулся края невидимого мира, Начикетас открыл глаза.
Он уже не был мальчиком — он был взглядом самой тишины, что видит себя во всех вещах. Дом Смерти исчез,
как исчезает сон, когда пробуждаешься в сновидце. Лишь ветер шептал ему вслед:
— Возвратись.
Мир ждёт не тела твоего — а памяти твоего видения.
Он шёл обратно — и на каждом шаге земля отзывалась дыханием предков. Трава склонялась, камни отдавали древнее тепло, а птицы, казалось, пели не звуками, а светом. И там, где раньше текла река жизни, он увидел, что вода и огонь — не враги.
Огонь отражался в воде, а вода питала пламя.
Так же и душа в теле — не пленница, а зеркало Брахмана, в котором сам Бог смотрит на Себя. Когда он пришёл в дом отца, всё было как прежде: дым очага, старая корова, зерно, рассыпанное по полу. Но отец, увидев сына, впал ниц — не от страха, а потому что узнал в нём не человека, а вечное в человеке.
— Сын мой, — сказал он, — ты вернулся из страны, куда не возвращаются.
А Начикетас ответил тихо, но голос его был как утренний ветер над Гангой:
— Никто не уходит, отец.
Мы — лишь тени света, что ищет себя в материи.
Когда тень осознаёт, что она свет — исчезает страх ночи. И после этих слов наступила тишина.
Но это была иная тишина — та, что рождается, когда всё сказанное обрело смысл. С тех пор говорили мудрецы:
Начикетас услышал Смерть, и Смерть отступила.
Не потому, что её можно победить, а потому что она сама — путь к бессмертию.
И тот, кто, подобно ему, спрашивает не «что будет после», а «что было до всего», — услышит тот же ответ, что звучит сквозь века: Атман — не рождается и не умирает.
Он древен, как огонь под золой.
Его нельзя сжечь, утопить, разрубить или забыть. И когда человек познаёт его, даже смерть становится ему дверью домой.
И ветер, проходящий над землёй, до сих пор несёт это слово — не для слуха, а для сердца, что помнит себя вечным: — Ты есть То.
Катха-упанишада — Песнь Атмана.
Тишина, в которую вернулся Начикетас, уже не была безмолвием.
Она звучала — не звуком, а памятью света, что узнал своё имя.
И в этом свете всё пело: трава, пыль, дыхание, и даже пустота между звёздами произносила древнее слово — Я есмь. Начикетас сел у порога дома, где земля встречается с воздухом, и закрыл глаза. И то, что люди называют сном, стало для него прозрением.
Он услышал — не ушами, а самой душой:
«Я — дыхание, что движет вдыхающим.
Я — тишина между двумя мыслями.
Я был до всех имён, и буду, когда всё забудет себя. Я не рождался, но во мне рождается мир.
Когда ты плачешь — я играю дождём.
Когда ты смеёшься — я звучу ветром в листве.
Когда ты боишься — я становлюсь твоей тенью, чтобы ты не был один в страхе. Я — тот, кто в теле живёт без тела. Я — глаз, видящий свет внутри взгляда. Я не свят, и не грешен,
потому что Я — свидетель, глядящий на всё, как зеркало на отражение. Я — песня, которой нет начала, и ты — мой голос». И тогда мальчик улыбнулся. Всё вокруг — даже пыль на ступенях — улыбнулось в ответ. В ту минуту небо стало ближе, и даже солнце выглядело смиренным, как ученик, что впервые понял смысл слова учитель. Начикетас встал. Мир не изменился: люди всё так же торговали на базаре,
река всё так же текла, собаки лаяли, а дети смеялись.
Но всё это теперь было священно, потому что за каждым движением он видел дыхание Брахмана. Он пошёл по дороге, а следы его не касались земли — потому что в нём уже не было «идущего».
Была лишь песня, что идёт сама собой,
и в каждом шаге звучало: «Нет ничего, кроме Меня. И всё — это Я».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.