
Бесплатный фрагмент - Тугие узлы отечественной истории
Помощник В. А. Крючкова рассказывает...
От автора
Внимательный читатель сможет без труда заметить, что предлагаемая Вашему вниманию книга и по характеру изложения материала, и по стилю его литературного оформления во многом совпадает с ранее изданной книгой «Кукловоды и марионетки. Воспоминания помощника председателя КГБ Крючкова». Так оно и есть. Хотя, если быть совсем уж точным даже в деталях, то помощником Владимира Александровича Крючкова я действительно был, причем на протяжении целых пяти лет. Но вот помощником Председателя КГБ не был никогда — это выпускающий редактор издательства «Родина» так меня самовольно «перекрестил» в целях рекламы издаваемой им книги. Он, по-видимому, полагал, что тем самым повысит мой должностной статус в глазах читателей, а на самом деле он его понизил — оба помощника Председателя КГБ СССР были моими прямыми подчиненными как начальника Секретариата КГБ СССР. Как бы там ни было, Вы сможете теперь познакомиться со второй частью давно задуманной мною и подготовленной около десяти лет назад книги, с продолжением авторских набросок и размышлений все на ту же актуальную и, увы, по-прежнему злободневную тему: так для чего и ради чего вообще существовал Комитет государственной безопасности СССР, Комитеты государственной безопасности союзных республик? От каких угроз они были призваны защитить советское государство, советское общество и советских граждан в первую очередь, и «от чего» или «от кого» они так и не сумели в конечном итоге их защитить?
Вопреки ныне достаточно распространенному, до предела вульгаризованному и примитивизированному средствами массовой информации мнению, советские органы государственной безопасности какой-то особой, самостоятельной роли на всем протяжении существования советской власти вначале в РСФСР, а затем и в СССР, не играли. Они всегда были лишь хотите «надежным», хотите «послушным» инструментом в руках либо конкретных лидеров страны (прежде всего В.И.Ленина и И.В.Сталина), либо ее важнейших коллегиальных политических органов, например, Центрального Комитета КПСС и его Политбюро. Не было в истории ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ при СМ СССР — КГБ СССР ни одного (!) даже кратковременного периода, когда органы безопасности страны сумели бы решающим образом возвыситься над органами власти политической — неважно, как она называлась в тот или иной период. Хотя бы потому, что в понятии «государственная безопасность» его смысловой основой является именно «государство», но отнюдь не его «безопасность» как одна из составных характеристик. Не будет самого «государства» в любом его виде и в любой форме, кому и зачем вообще понадобится вся его как «внутренняя», так и «внешняя» безопасность? В подобной ситуации, скорее всего, станут вслед за В.И.Лениным бездумно повторять: «Всякая революция лишь чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Любая революция действительно всегда найдет способы, методы и средства от кого-то защититься, да вот только от кого «государству перманентной революции» надлежало защищаться прежде всего? От союзных большевикам «левых эсеров», от враждебных наскоков Германской империи, от вечных происков Антанты или соседней Японии, от иезуитского коварства Л.Д.Троцкого или же от врожденного самодурства Н.С.Хрущева? Ответ здесь очень прост до зевоты: от кого «на» — от того и «бу»!
В этой книге основной упор я сделал на освещении ряда аспектов национальной политики в СССР, которая напрямую пересекалась с повседневной деятельностью органов государственной безопасности и правоохранительных органов страны. Мне представлялось принципиально важным и настоятельно необходимым подчеркнуть исключительную важность именно этой стороны государственного строительства и государственной политики в отношении отдельных этносов, наций, народов и народностей. Ибо, по моему глубочайшему убеждению, именно обострение межнациональных отношений в Советском Союзе при полном отсутствии своевременного и эффективного реагирования на него с внесением партийно-государственным руководством страны существенных коррективов в сфере национального строительства стало одной из основных причин преждевременного распада Союза ССР.
Во время своего визита в Рим в июне 1984 года в качестве председателя Комитета по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР М.С.Горбачев, отвечая на вопрос своих зарубежных собеседников о глубинном смысле нашумевшего в тот период документа под непритязательным названием «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии», формальным автором которого был его прямой выдвиженец — завотделом социальных проблем ИЭиОПП Т.И.Заславская, открыто заявлял, что главная проблема СССР лежит вовсе не в сфере экономики, и что его, на тот период всего лишь рядового секретаря ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства (!), «гораздо больше тревожит национальный вопрос»! Как хотите — так сегодня можете все это и воспринимать…
Равно, как и расшифровывать загадочную, политически весьма невнятную фразу Ю.В.Андропова: «Мы еще до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок». Вот будущий социологический академик Заславская при активном содействии полного научного неуча Горбачева и поставила на место «ползучего эмпирика» Андропова с помощью так называемого Новосибирского манифеста, по сути означавшего полную смену социально-экономического уклада в СССР. Который, однако, позволил Горбачеву весьма триумфально начать настоящую ползучую контрреволюцию в СССР под лукавым названием «перестройка». Полагать при этом, что указанный «манифест» является индивидуальным творением Т. Заславской, а не коллективным трудом тесно сгрудившейся вокруг М. Горбачева андроповской команды политологов и экономистов — это все равно, что считать подлинными авторами «Слова к народу» А. Проханова или Г. Зюганова.
Надеюсь, Вы сможете узнать из этой книги кое-что о том, чем зачастую вынужденно, порой — ситуативно, даже рефлекторно, но отнюдь не по своей доброй воле или даже не в силу служебного долга, а зачастую вопреки собственным, общечеловеческим представлениям о добре и зле доводилось заниматься подразделениям советской внешней разведки и, в более широком смысле — советским органам государственной безопасности в самый разгар так называемой горбачевской перестройки. Особенно в наиболее лихие и наиболее тяжкие времена пресловутой горбачевско-яковлевской эпохи «нового политического мышления», торжества взятого правящей верхушкой страны курса на ускоренную деидеологизацию советской внешней политики при полном забвении многочисленных внутренних проблем страны, резкое нарастание числа которых и их значительное обострение привели в итоге к развалу некогда великого и могучего государства, нашей бывшей общей Родины — Союза ССР.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ГКЧП
Попробую-ка я на сей раз шире использовать передовые методики «искусственного интеллекта» под названием Voice Dictation, а вдруг что-то толковое из этого да и получится? При этом обязательные ссылки на какие-то использованные источники приводить уже не буду, надоело это бессмысленное занятие. Кто заинтересуется, тот при необходимости сможет проверить мои наблюдения, оценки и выводы путем самостоятельного поиска, ведь я же не какой-то научный труд сочиняю для «яйцеголовой» публики. Все равно в патентованные и сертифицированные историки меня в результате моих литературно-публицистических трудов никто не зачислит, тем более, что историю как науку я не воспринимаю от слова «совсем». «Работа» — да, «профессия» — yes, полезное для общества «занятие» — пожалуй, но только не наука как источник новых объективных знаний об окружающей нас действительности. Вопреки своим многолетним заскорузлым привычкам начну на сей раз свое повествование по заявленной теме не с «ab ovo», как обычно, а непосредственно с самого конца. Конкретнее — с прямого ответа на прямо поставленный неравнодушной частью нашего общества вопрос: «Так почему же Комитет государственной безопасности СССР не смог выполнить свой конституционный долг по защите безопасности советского государства?». Не говорю при этом «социалистического», потому что к 1991 году от этого крайне идеологизированного прилагательного, благодаря мощным усилиям до предела политизированной толпы в составе 2250 местных аборигенов, известных в отечественной истории под названием Съезд народных депутатов СССР, осталась всего лишь достаточно бледная, куцая и во многом лицемерная внешняя оболочка.
Отвечаю прямо и откровенно: КГБ просто не дали этого сделать! Причем, на моей памяти, с ним так поступали неоднократно, по-сути превратив к концу существования СССР ведущее государственное ведомство в сфере безопасности и противодействия деятельности зарубежных спецслужб в фактического заложника политических игр правящих элит в Центре и на местах. Главным образом — в перманентной и никогда не прекращавшейся борьбе за власть между М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным. Взять, к примеру, те же перехваты («прослушки») телефонных разговоров многих деятелей тогдашней советской верхушки, которые регулярно, бесперебойно и во все возрастающих объемах направлялись из КГБ СССР на доклад Президенту СССР по каналу Крючков-Болдин-Горбачев вплоть до 18 августа 1991 года включительно!
«Антиконституционный» и «антигорбачевский» орган под названием «ГКЧП» уже якобы «под парами» находится, на «низком старте» стоит, а первому руководителю страны по-прежнему привычные плюшечки скармливают, преимущественно на тему преобладающих умонастроений в самых верхних эшелонах власти накануне предстоящего подписания Союзного договора. Ну, и что же, «в коня» ли пошел весь этот спецслужбистский корм, приготовленный немалыми совокупными стараниями целого ряда подразделений КГБ? Для кого мы тогда старались, на кого по-преимуществу работали? Ответ на этот риторический вопрос вы сегодня сами знаете не хуже меня.
А пресловутая «ум, честь и совесть нашей эпохи» — некогда 19-миллионная КПСС (правда, к 1991 году ее численность стремительно сократилась аж на 5 млн. членов после снятия с нее статуса «правящая»), не смогла воздвигнуть на пути зловещего роста деструктивных веяний ни малейшей идейной преграды, не сумела противопоставить им и выдвинуть ни одного внятного организационного решения в рамках своего партийного Устава. И посему после XIX Всесоюзной партконференции она лишь позорно и уныло плелась в хвосте назревающих повсюду грозных событий для дальнейших судеб страны и общества. Да еще и всячески пытаясь при этом спрятаться за все более тощую и все более сутулую спину Комитета государственной безопасности СССР, инициативность и самостоятельной действий которого сковывались и ограничивались буквально со всех сторон. Я в течение почти всего периода проведения XXVIII съезда КПСС в июле 1990 года бездарно проторчал в правом амфитеатре Кремлевского дворца съездов, слушая всю это бестолковую трескотню и бесконечную болтовню партийных выдвиженцев, о чем тошно вспоминать до сих пор. «Демократическая платформа», «Марксистская платформа», развернувшийся процесс создания альтернативных компартий в республиках — противно сейчас все это вспоминать без чувства глубокого отвращения…
Выражаясь менее образно, но гораздо более определенно — начну-ка я свой рассказ с достаточно бесславного эпизода современной отечественной истории под названием «ГКЧП». Всего лишь три дня просуществовал «Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР», если кто подзабыл эту аббревиатуру. Задумка сама по себе была, может быть, и неплохой, да вот только исполнение оказалось прямо совсем никудышним. Прежде всего — по причине весьма пестрого и разнородного состава участников «августовского путча». В итоге получилась весьма нестройная команда произвольно и наспех подобранных людей, которую в народе насмешливо прозывают «тяни-толкай» — по имени известных персонажей детских сказок Хью Лофтинга «Доктор Дулитл» и Корнея Чуковского «Доктор Айболит».

Однако поистине разрушительной для мировой державы под названием Советский Союз оказалось та череда событий, которые непосредственно последовали за крахом ГКЧП в период с 23 августа по 8 декабря 1991 года. И, к моему глубочайшему сожалению, оказался полностью правым первый и последний президент уже несуществующей более страны покойный Михаил Сергеевич Горбачев, который очень нагло и вызывающе, глядя прямо в глаз телекамеры, произнес всему советскому и мировому обществу пророческие слова: «Полной правды об этом событии вы не узнаете никогда!». Я трижды публично выступал по данной теме с достаточно объемными статьями: «Закрытое заседание. Рассказывает бывший начальник Секретариата КГБ СССР Валентин Сидак», «Незарубцевавшаяся августовская рана державы» и «Этот противоречивый ГКЧП». Думается, их совокупного содержания вполне достаточно для того, чтобы отчетливо обозначить личное отношение к этому событию, круто поменявшему всю мою дальнейшую жизнь, вынудившему начать ее фактически с самого начала, по сути — «с чистого листа». Содержание двух последних статей я еще до их публикаций в газете «Правда» предварительно согласовывал с Владимиром Александровичем Крючковым, чьим мнением всегда неизменно дорожил. Надо сказать, что высказанные им замечания, как и отдельные смысловые и редакционные правки его сына Сергея (к сожалению, умершего в прошлом году) я неизменно учитывал в своих публикациях, хотя, следует откровенно признать, не всегда и не во всем был полностью с ними согласен.
Да, внешним, чисто формальным поводом для августовского выступления «гекачепистов» действительно стала подготовка проекта нового Союзного договора, резко усилившая центробежные тенденции в стране (это т.н. новоогаревский процесс). Но он представлял собой лишь лицевую сторону медали, скрывавшую потаенное стремление Михаила Горбачева нанести решительное политическое поражение Борису Ельцину, сознательно взявшему после 12 июня 1991 года курс на создание системы и вертикали фактического «двоевластия» в стране в условиях постоянно растущих политических амбиций российских элит, демонстрации ими своего стремления к полной финансово-экономической самостоятельности и независимости от Центра. Именно с этой целью к участию в выработке нового Союзного договора в качестве самостоятельных субъектов права были привлечены председатели Верховных Советов шестнадцати (!) автономных республик РСФСР и одной автономной республики Узбекистана (Кара-Калпакии).
Почему такое вдруг стало возможным? Во-первых, к началу 1991 года практически все автономные образования России объявили о своем суверенитете и в одностороннем порядке повысили свой государственный статус: автономные республики — до уровня Союзных республик; автономные области — до уровня автономных республик; автономные округа — до уровней автономных республик или автономных областей. Во-вторых, 12 июля 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление «О проекте Договора о союзе суверенных государств», в котором была подчеркнута необходимость зафиксировать в проекте будущего Союзного договора, что участниками его подписания и, соответственно, субъектами будущей федерации являются как союзные республики, так и входящие в них на договорных или конституционных основах автономные республики.
По-существу пресловутый Новоогаревский процесс, темная политическая возня вокруг порядка организации Всесоюзного референдума о сохранении Союза ССР и, в особенности, вокруг формулировок, выносимых на плебисцитное голосование его гражданами, и, вообще, вся грязная и нечистоплотная горбачевская «игра в новый Союзный договор» начались уже в 1990 году — в 1991 году наблюдался лишь чисто внешний апофеоз всех этих подспудных процессов. Не было ни малейшей острой и насущной необходимости менять саму основную договорную базу существования Союза СССР — все возникшие проблемы и противоречия можно было планомерно и последовательно урегулировать в рамках функций и полномочий единственного легитимного высшего органа государственной власти в стране — вновь созданного Съезда народных депутатов СССР. Напомню, что к исключительному ведению съезда относилось принятие Конституции СССР и внесение в нее изменений, а также принятие решений по вопросам национально-государственного устройства, отнесенных к ведению Союза ССР.
Проходивший в период с 17 по 27 декабря 1990 года IV Съезд народных депутатов СССР только и занимался тем, что решал — как сохранить СССР в виде союзного государства, на какой единой и приемлемой для всех сторон правовой основе можно было бы осуществить это на практике? Закон о всенародном голосовании (референдуме) был принят для этого специально и, по сути, искусственно, без ярко выраженного политического запроса со стороны всего населения страны. Конституционная реформа 1988 года — это ярчайший и очень наглядный пример политического блефа Горбачева, стремившегося к неограниченной единоличной власти в союзном государстве путем ликвидации любых государственно-политических органов, которые могли бы ему в этом воспрепятствовать. Это было отражением его постоянного и неизбывного стремления полностью избавиться, наконец-то, от опеки и контроля со стороны Коммунистической партии Советского Союза, Генеральным секретарем и членом коллегиального Политического бюро которой он в тот период являлся. Вот когда КПСС следовало бы забить тревогу по-настоящему — с момента создания института президентства в СССР! Который политически был абсолютно несовместимым с самой идеей Советов как коллегиальных органов народной власти и управления территориями.
Известно, что саму идею введения института президентства в СССР до Горбачева пытались протащить не единожды, но каждый раз без особого успеха. Первая попытка состоялась при И.В.Сталине в 1936 году, вторая — при Н.С.Хрущеве в 1960 году, а третья была озвучена в ходе 19-ой Всесоюзной партконференции (июнь-июль 1988 г.). Наиболее четко, ясно и недвусмысленно высказал отношение к данной идее И.В.Сталин, выступивший по поручению Конституционной комиссии 25 ноября 1936 года на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов с докладом «О проекте Конституции Союза ССР». Вот что он сказал, давая оценку предложенным для внесения в Конституцию поправкам.
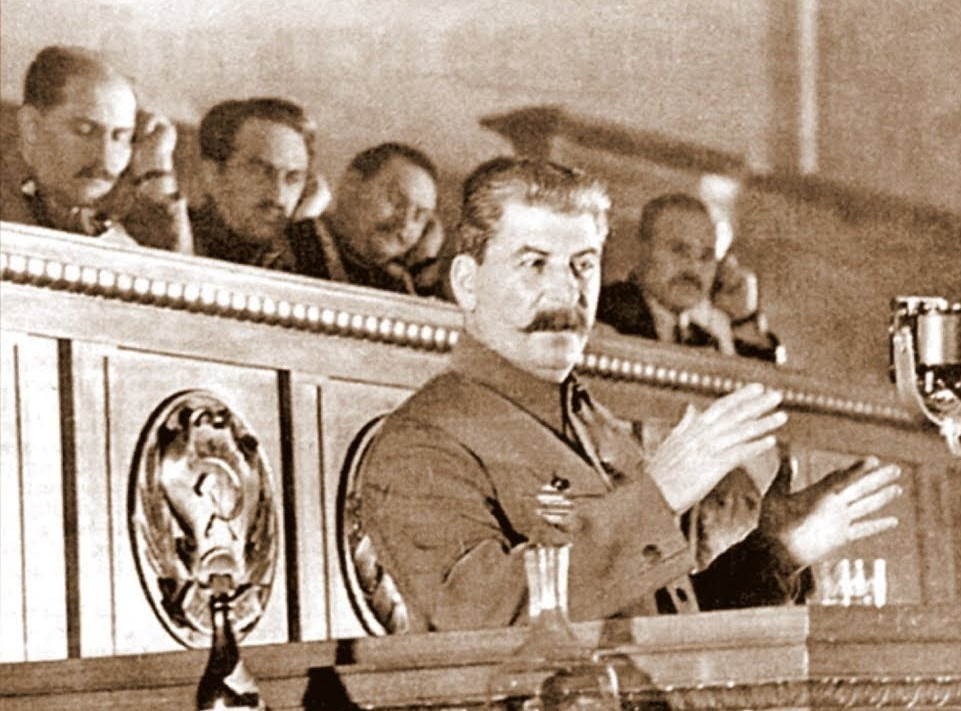
«9) Далее идёт дополнение к 48-й статье проекта Конституции. Оно требует установления всеобщих выборов для избрания председателя Президиума Верховного Совета. По проекту Конституции председатель Президиума Верховного Совета избирается Верховным Советом СССР, а авторы дополнения предлагают, чтобы он избирался в порядке всеобщих выборов, так же как и остальные верховные органы. Я думаю, что эта поправка неправильна, она противоречит духу нашей Конституции, и она должна быть отвергнута. У нас нет во всей системе нашего строя, у нас нет и не может быть единоличного президента, выбираемого в порядке всеобщего голосования. Президента, который мог бы противопоставлять себя Верховному Совету. У нас нет и не должно быть таких порядков. Президент у нас коллегиальный, — это Президиум Верховного Совета Союза ССР, в том числе и председатель Президиума.
По-моему, поправка должна быть отвергнута, как противоречащая самому духу нашей Конституции. Только та система организации верховных органов, при которой председатель Президиума Верховного Совета не только избирается Верховным Советом, но и подотчётен ему. Только такой порядок может гарантировать население от всякого рода осложнений и случайностей, какие очень часто бывают при других порядках — на Западе, в Европе и в Америке».
Для лучшего понимания ситуации вокруг подписания нового Союзного договора представляет исторический интерес и его высказывание относительно необходимости установления четких разграничений в статусе союзных и автономных республик в Союзе ССР. Оно, на мой взгляд, отнюдь небезупречно с позиций внутренней логики и строгого единообразия в подходах, но зато очень хорошо объясняет, почему в Советском Союзе могли существовать Молдавская и Карело-Финская ССР, почему Азербайджанская ССР была бы немыслимой без Нахичеванской АССР, а Грузинская ССР — без Аджарской АССР. Наконец — почему Еврейская Автономная область была совершенно произвольно создана советским руководством не где-то в бывшей царской «черте оседлости», а на самом «краю Ойкумены», но зато на границе с Китаем… Вновь процитируем И.В.Сталина.
«3) Далее идёт дополнение ко второй главе проекта Конституции. Состоит оно, это дополнение, в следующем: авторы дополнения требуют, чтобы автономные республики по мере их развития, культурного и хозяйственного, чтобы автономные республики переводились в разряд союзных республик после того, как они вырастут в хозяйственном и культурном отношении. Я думаю, что эта поправка тоже не должна быть принята съездом, потому что она неправильна не только с точки зрения её содержания, но и с точки зрения её мотивов: мы не можем переводить автономные республики в разряд союзных или не переводить на основании того, что они культурно развиты или не развиты культурно. Этот мотив не марксистский. Он вообще чужд марксистской идеологии.
У нас есть союзные республики, которые в культурном отношении стоят ниже, чем автономные некоторые. Однако они являются союзными, потому что не вопросы культурной зрелости играют роль, а совсем другие вопросы. Взять, например, Киргизскую Республику, которая становится союзной, и взять Автономную Республику Немцев Поволжья. Конечно, Республика Немцев Поволжья в культурном отношении стоит выше, чем Киргизская Республика, однако это ещё не значит, если она стоит выше, то её надо перевести в разряд союзных республик. Казахскую Республику переводят в разряд союзных республик, а Татарская Республика остаётся как автономная, но это ещё не значит, что Казахская Республика культурнее, чем Татарская. Дело обстоит как раз наоборот. Стало быть, есть какие-то объективные признаки (мотивы) объективные, на основании которых решается вопрос о переводе или не переводе автономных республик в разряд союзных республик. Какие это такие признаки? Этих признаков, по-моему, три.
Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территорией СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территорией СССР. Взять, например, Татарскую (или Башкирскую) автономную Республику. Допустим, что их перевели в разряд союзных республик. Могут ли они поставить логически-фактически вопрос о праве своего выхода из состава СССР? (А союзной республикой можно назвать только такую республику, которая имеет объективные возможности поставить вопрос о выходе из СССР). Нет, не могут, потому что и та, и другая республики со всех сторон окружены территорией СССР. И им, собственно, некуда выходить из СССР (некуда выходить из СССР!).
Говорят, что, вообще вопрос о праве свободного выхода из СССР не имеет практического значения, потому, что нет у нас республики, которая бы ставила вопрос о выходе из Союза ССР. Это верно, что таких республик нет у нас. Но это ещё не значит, что мы не должны зафиксировать право республики на свободный выход. У нас нет, так же, таких республик, которые хотели бы подавить другие республики союзные. Однако мы считаем, нужно всё-таки, зафиксировать в Конституции равенство прав всех республик, исключающее возможность подавления одной республики другой республикой.
Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике, нация, которая дала название республике, чтобы она представляла компактное большинство. Например, взять Крымскую Республику. Она окраинная, что первому признаку удовлетворяет, но крымские татары там не составляют большинства, наоборот — они представляют меньшинство. Стало быть, было бы неразумно ставить вопрос о праве выхода Крымской Республики из состава СССР. Потому что большинства то у неё нет, все-таки, у этой республики. Стало быть, было бы неправильно ставить вопрос о переводе таких республик, как Крымская Республика из автономных в союзные республики.
И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела ну хотя бы, не меньше миллиона население. Почему? Потому, что трудно было бы представить отдельное независимое существование маленькой советской республики, у которой армия ничтожна и ресурсы ничтожны. Едва ли можно сомневаться, что этакую республику хищники империализма живо прибрали бы к рукам и слопали бы. Вот вам три объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не даёт основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик».
Необходимо особо подчеркнуть, что c точки зрения возможности введения чрезвычайного положения на своих территориях союзные и автономные республики в правовом отношении были фактически равноправными. Статья 2 Закона СССР от 05.04.1990 г. №1407—1 «О правовом режиме чрезвычайного положения» гласила следующее: «Чрезвычайное положение на территории союзной, автономной республики или в отдельных местностях, входящих в состав одной республики, объявляется Верховным Советом соответствующей союзной, автономной республики с уведомлением об этом Верховного Совета СССР, Президента СССР, а также Верховного Совета соответствующей союзной республики». При этом непосредственным поводом к введению чрезвычайного положения могли быть не только стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, эпидемии и эпизоотии, но и возникновение массовых беспорядков среди населения. Иными словами, Верховный Совет СССР играл самостоятельную роль лишь в случае введения чрезвычайного положения по всей стране, как это прямо вытекало из содержания последнего абзаца указанной статьи Закона.
После ядерной катастрофы в Чернобыле, спитакской трагедии, мощных взрывов объектов транспортной инфраструктуры в Арзамасе, Свердловске, Уфе и других местах, с началом широкомасштабных межнациональных столкновений в Нагорном Карабахе и других регионах обходиться лишь привычным правовым инструментарием, заложенным в Конституции СССР 1977 года и в построенных на ее основе законах, уже было просто немыслимым. Поэтому и потерпели полный крах искусственные, изначально нежизнеспособные юридические формулы вроде «введения особого порядка управления» по типу Комитета Особого Управления Нагорно-Карабахской автономной областью в составе восьми человек под председательством А.И.Вольского. Потребовался дополнительный Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1990 года №1060-I «Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районах». Толку, правда, от этой очередной горбачевской пустышки было мало — явно не хватало, так сейчас стало модным говорить, должной «имплементации» (т.е. конкретных организационно-правовых механизмов исполнения) этого нормативного акта…
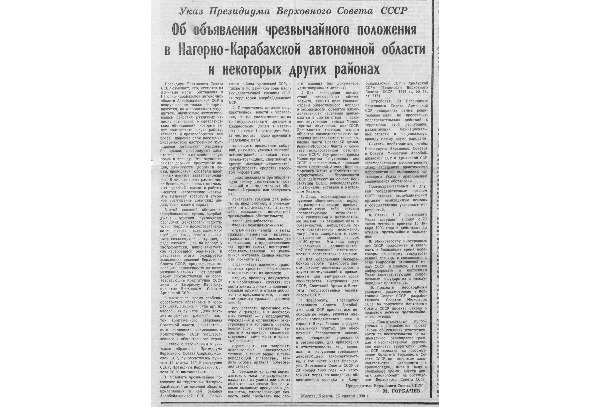
Приведу несколько наиболее принципиальных, на мой взгляд, положений из моих газетных публикаций по тематике «чрезвычайного положения».
«КГБ СССР как орган защиты безопасности советского государства погубило, на мой взгляд, избыточное, в чём-то даже намеренно показное законопослушание и очевидная несамостоятельность в своих действиях из-за постоянно навязываемой с 1957 года линии ЦК КПСС на главенствующую роль партийных установок в сравнении с буквой и духом норм действующего законодательства. Бог ты мой, сколько сил и энергии угробили впустую (в масштабах целого ведомства!) на создание двух никчемных, как показали последующие события, документов — законопроектов о КГБ СССР и о системе органов государственной безопасности в СССР! Двенадцать (!) раз рассматривали эти законопроекты — вначале при В. М. Чебрикове, а затем и при В. А. Крючкове — на заседаниях Коллегии и на совещаниях руководства КГБ СССР! Куча сотрудников ведомства отнюдь не оперативного звена выковала себе на них известность и высокие воинские звания, получила за „вылизывание“ каждой запятой в текстах этих бумажонок самые высокие ведомственные награды. А реального проку-то от этих принятых в мае 1991 года законов много ли сталось в решающий момент бытия СССР, когда государство уже стояло на краю пропасти, находилось накануне дня своей гибели? Абсолютно никакого! Тем не менее до августовской трагедии КГБ верно служил Советскому государству и народу. Август 1991 года подвёл под этим служением черту».
«Безусловно, в моих глазах основная тяжесть исторической и правовой ответственности за трагедию августа 1991 года лежит прежде всего на той кучке людей, которые своим двуличием, лицемерием и трусостью навечно покрыли позором высокое звание „народный депутат СССР“. А если говорить ещё определённее — на членах Верховного Совета СССР, который тогда возглавляли А.И.Лукьянов, Е.М.Примаков, И.Д.Лаптев и Р.Н.Нишанов. В большинстве своём они повели себя, скорее как шкодливые коты перед наказанием со стороны сурового хозяина, чем как единственный легитимный высший орган власти страны, погибающей на глазах у всех жителей планеты. Конституцию СССР никто не отменял, да и не мог отменить после мартовского референдума за сохранение Советского Союза. Не надо только было выдумывать какие-то мудрёно-лукавые юридические формулировки типа „сохранение СССР как обновленного Союза Суверенных Государств, в котором будут в полной мере обеспечены права и свободы человека и гражданина“. Прямо-таки ритуальные масонские формулы времен Дантона и Робеспьера, а не простая, понятная любому гражданину, любому жителю самого глухого села в самом отдалённом регионе страны альтернатива: „Да!“ или „Нет!“, „Быть!“ или „Не быть!“ далее Советскому Союзу…».
«По моей сугубо частной оценке, именно Верховный Совет РСФСР во главе с Р. Хасбулатовым вкупе с вице-президентом России А.Руцким, быстро переметнувшимися на сторону Ельцина И. Силаевым, Е. Шапошниковым, П. Грачевым, А. Лебедем и им подобными открыто предавшими социалистическую Родину историческими персонажами и стали той самой последней «соломинкой», которая переломила хребет не только «коммунистическому верблюду», но и всей существовавшей в тот период системе государственной власти в СССР. Именно российские депутаты того периода все вкупе и каждый поодиночке, при этом совершенно неважно — желали они того или нет, стали (за очень редким, вполне хватит пальцев рук, исключением) истинными могильщиками советской власти в стремительно разваливающемся Советском Союзе. Да, могильщиками, а отнюдь не ее защитниками, хотя формально и назывались депутатами одного из республиканских Советов. Разве каждый отдельно взятый депутат ВС РСФСР образца 1991 года стал чем-то отличаться от аналогичного по статусу российского политика в 1993 году? Никаких перевыборов, как известно, в этот промежуток времени не было. И уж совсем точно они не были полномочными представителями и выразителями воли российского народа, проголосовавшего в своем большинстве на референдуме в марте 1991 года за сохранение Союза ССР. Нечего при этом кивать в сторону Прибалтики, Украины, Грузии, Молдавии, Армении и других бывших союзных республик. Россия всегда являлась становым хребтом союзного государства, его стержнем. Вынули этот стержень — рассыпалась вся держава, иначе и быть не могло.
«Само название ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР — родилось не на пустом месте. Оно прямо вытекало из особенностей советского законодательства того периода и отражало именно это избыточное стремление к законопослушанию руководства Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных органов страны. Ведь существовали всего лишь две правовые возможности введения чрезвычайного положения на отдельных территориях страны: либо через указ президента СССР, либо через решение Верховного Совета СССР. Ещё в конце марта — начале апреля 1991 года, в период подготовки поездки М. С. Горбачева в Японию и Южную Корею (президент, как всегда, предпочитал оставаться в тени во время решающих событий, точнее: за кулисами театра драмы и трагедии в привычной для него роли кукловода), готовилось введение в действие „первого варианта ГКЧП“. Этот вариант основывался на предложениях А.И.Тизякова, который и был истинным автором этой аббревиатуры, хотя в подготовленной им аналитической записке речи о создании „чрезвычайного комитета“ первоначально не шло, подразумевалось лишь формирование некой невнятной „комиссии“. Тогда же был отработан и организационный алгоритм правового, законодательного обеспечения этого решения, который, к сожалению, так и не был приведен в действие».
«У А. И. Лукьянова, что бы он ни говорил сейчас, была полнейшая возможность, при самом строжайшем, самом скрупулезном соблюдении всех регламентных норм, открыть экстренное заседание Верховного Совета СССР не 26 августа, а 23 или даже 22 августа 1991 года. Существовали и абсолютно надёжные гарантии обеспечения необходимого кворума для открытия такого заседания и начала его работы. Каким образом это достигнуть, было бы уже не заботой председателя Верховного Совета СССР. За ним оставалось лишь само решение о немедленном созыве внеочередной сессии по требованию народных депутатов группы «Союз». Не захотел, однако. Тоже носом стал крутить в разные стороны, на всякий случай соломку для страховки стелить…
Однако при любом реально возможном варианте развития событий обойтись без постановления Верховного Совета СССР, одобряющего или дезавуирующего решения ГКЧП по введению чрезвычайного положения в отдельных районах страны, по закону было решительно невозможно. А собрав депутатов, можно было поступать по образцу конклава кардиналов: все прибывшие парламентарии, заперлись, скажем, в том же зале пленумов ЦК КПСС — и ожидайте, люди добрые, пока белый дым из трубы не пойдет! За основу организационного решения был принят уже обкатанный к тому времени механизм чрезвычайного сбора на пленумы членов ЦК КПСС. Предполагалось собрать в Кремле максимально возможное количество депутатов действующего состава Верховного Совета СССР, используя для этого любые виды транспорта с целью их экстренной доставки из любых мест пребывания — хоть из глубинки страны, хоть из-за рубежа. Любыми усилиями, не считаясь с величиной затрат! При необходимости были бы задействованы самые различные транспортные средства всех силовых структур — МО, МВД и КГБ СССР. Практическая готовность к осуществлению такого сбора депутатов к августу 1991 года была очень высокой». Я не сказал тогда главного — доставка депутатов осуществлялась бы при этом в форме «добровольно-принудительного привода» на заседания палат, но, естественно, без применения грубой физической силы.
«Одним из элементов формирования в стране активного общественного мнения стало ныне знаменитое «Слово к народу». Автором самой идеи был кто-то из видных писателей страны — то ли Ю. Бондарев, то ли В. Распутин, сейчас уже не помню точно. Однако «болванку» для текста этого обращения на основе все тех же вышеупомянутых наработок составил один из руководителей Аналитического управления КГБ СССР — Олег Михайлович Особенков. Именно поэтому оно и текстуально, и по смыслу было очень сходным с опубликованным позднее обращением ГКЧП к советскому народу. Он был командирован от ведомства в состав рабочей группы, заседавшей, насколько мне помнится, в помещениях редакции газеты «День» на Цветном бульваре. Надо откровенно сказать, что работа над этим обращением, прежде всего с точки зрения подбора состава его подписантов, шла туговато, многие авторитетные представители творческой и научной интеллигенции, к которым инициаторы обратились за содействием, отказались его поддержать, Поэтому пришлось довольствоваться тем пестрым составом, который в конечном итоге удалось согласовать в условиях острого дефицита времени, и он, к сожалению, оказался далеко не самым оптимальным. Окончательная редакция текста обращения с последними правками пошла прямо с моего стола после доклада Председателю КГБ сразу в типографии, и не только редакции газеты «Советская Россия» — на опубликование.
Так что могу теперь сказать прямо и недвусмысленно: истинным вдохновителем и фактическим автором обращения «Слово к народу» было высшее руководство КГБ СССР, прежде всего — В.А.Крючков с его излюбленным, очень характерным словечком «борение», а отнюдь не те лица, которые сегодня ставят себе это в заслугу. Честь им и хвала за поддержку самой идеи обращения к народу, но их творческая и организационная активность в тот период отнюдь не являлась «спонтанным творчеством масс».
«Именно в этой смысловой недосказанности прямых и закулисных действий КГБ СССР, в отсутствии целеустремленности предпринимавшихся ведомством попыток расставить, наконец, все политические точки над „i“ и громогласно сказать народу — „Мы лучше, чем кто-либо другой в стране знаем, ощущаем и понимаем, что ожидает государство уже в ближайшем будущем и поэтому готовы взять на себя ответственность за отвод Советского Союза от края пропасти“ — заключался ключевой элемент того внутреннего раздрая, сумятицы и неразберихи, которые последовали практически одновременно с началом знаменитой телевизионной трансляции балета „Лебединое озеро“. Если бы все главные руководители страны — как вошедшие, так и не вошедшие в состав ГКЧП — действительно захотели бы играть свои государственные и партийные роли не по кривому сценарию Горби, с потрохами сдавшего СССР во время своей конфиденциальной встречи с госсекретарем США Дж. Бейкером в конце июня 1991 года, а в соответствии с прямым служебным долгом, по зову своей гражданской и партийной совести, в строгом соответствии с принятой на себя воинской присягой — результат был бы совсем другим».
Лично у меня с точки врения исполнения принятой на себя в 1970 году Военной присяги СССР, строгого и неукоснительного выполнения своего воинского и служебного долга перед Союзом Советских Социалистических Республик, совесть чиста полностью! Последний приказ своего прямого и непосредственного начальника — Председателя Комитета государственной безопасности СССР Владимира Александровича Крючкова, отданный им мне из Фороса прямо в автомашину, на которой я уже срочно мчался домой попрощаться с членами своей семьи, и который звучал «Всё лишнее из сейфов — под нож!», был выполнен мною своевременно, в нужном объеме и с должным вниманием к весьма специфическим деталям обращения с материалами, содержащими важные элементы государственной и служебной тайны. К моменту прибытия в здание КГБ СССР руководителей сразу двух следственных бригад — Прокуратуры РСФСР во главе с генпрокурором В. Степанковым и Прокуратуры СССР, о котором мы, кстати, были заблаговременно предупреждены нашими «друзьями со стороны», уже был обеспечен режим «полной боевой готовности» и к самому визиту, и к предстоящим обыскам, и к иным следственным действиям в служебных помещениях Председателя КГБ СССР, начальника Секретариата КГБ СССР, кабинетах зампредов КГБ СССР. Правда, один из двух имевшихся в подразделении Приемной главы ведомства мощных «шрёдеров» для уничтожения служебных бумаг не выдержал тогда столь необычной работы и благополучно скончался от перегрева… Как бы там ни было, но «чисто крючковское наследство», начиная с возвратных пакетов с черновыми записями и наработками служебного содержания для доклада «наверх» и заканчивая личными денежными средствами и ценностями, принадлежавшими семье Владимира Александровича, не досталось для просмотра и потенциального использования ни В.Ф.Грушко, ни Л.В.Шебаршину, ни, тем более, В.В.Бакатину, которые последовательно приходили ему на смену на посту главы ведомства. Поэтому и В.Г.Степанков со своим боевым соратником, будущим соавтором бестселлера «Кремлевский заговор» Е.К.Лисовым, и вызванный ими на подмогу «ликвидаторам ГКЧП» обозреватель ВГТРК видный «телезомбист» С.К.Медведев, будущий пресс-секретарь Президента РФ Б.Н.Ельцина вместе с окружавшей его толпой жаждущих сенсаций журналёров могли совать свой любопытствующий гриппозный нос хоть в сейф Председателя КГБ, хоть в мой собственный. Там уже находились исключительно только зарегистрированные служебные документы, причем большинство с такими высокими степенями секретности, с которыми далеко не каждый следственный работник, не говоря уже о журналистах, имел право ознакомиться без риска подвергнуться уголовному преследованию.
Я как-то ранее не без оснований имел возможность утверждать, что «самые-самые таинственные» материалы, действительно имевшие именно общегосударственную, а не только сугубо ведомственную значимость, зачастую не имели в своем оформлении ни грифа секретности, ни адресата, кому этот документ предназначался, ни выходных данных исполнителей, ни иных обязательных бюрократических реквизитов — только предельно сжатое, емкое, что называется — «голое» изложение фактов, о которых полагалось доложить «наверх». В качестве наглядного примера могу привести хотя бы тот самый листик бумаги с собственноручными рукописными пометками В.А.Крючкова, на котором были расписаны обязанности каждого «гекачеписта», включая А.И.Лукьянова, переговорить с руководителями всех союзных и некоторых автономных республик о ближайших планах и намерениях ГКЧП. Далеко не случайно этот листочек, насколько я знаю со слов бывшего адвоката В.А.Крючкова Юрия Павловича Иванова, какие-то руководящие работники прокуратуры несколько раз пытались вычленить из материалов следствия якобы «в отдельное производство», а затем потихоньку уничтожить «за ненадобностью». Думаю, все эти шаги предпринимались прежде всего в интересах защиты А.И Лукьянова, а не кого-либо другого, у меня на этот счет сложилось очень устойчивое мнение, в том числе и на основании моих многочисленных личных бесед с бывшим Председателем Верховного Совета СССР и тогдашним депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Но вот с позиций рядового гражданина Союза ССР свою вину перед Родиной я, как и многие мои сослуживцы того периода, чувствую до сих пор. Особенно остро это стало ощущаться после подписания известных Беловежских деклараций декабря 1991 года. Некоторые бывшие сотрудники КГБ СССР пытаются переложить часть собственной моральной вины на М.С.Горбачева как формального главу советского государства или на главу ведомства В.А.Крючкова, по сути втянувшего их в политические разборки в верхах и не отдавшего в решающий момент развернувшихся в стране событий соответствующего боевого приказа, еще на кого-то другого, но только не на самого себя. Хрестоматийный пример — совершенно необдуманный, по-сути преступный поступок В.В.Бакатина по передаче американским властям документов, которые ни при каких обстоятельствах не должны были передаваться кому бы то ни было! Ибо раскрывался сам особо охраняемый принцип негласного съема информации, подлинное «ноу-хау» советских спецслужб, а не просто передавалась схема расположения «закладок» для прослушивания служебных и жилых помещений нового здания посольства США в Москве.
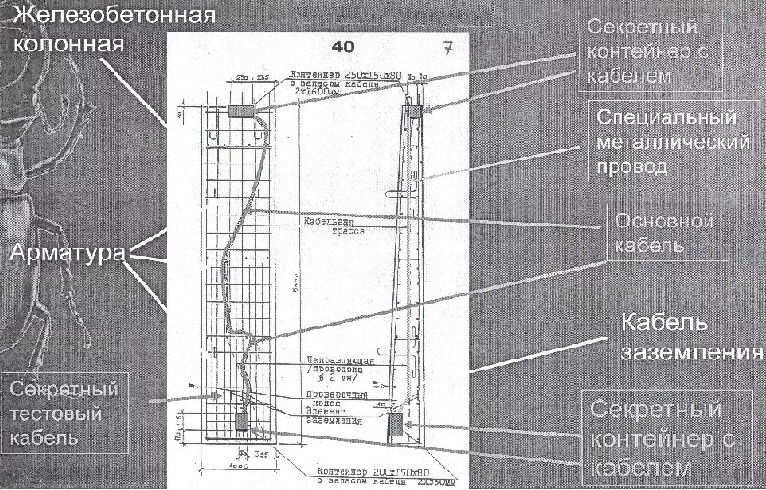
Руководители оперативно-технических подразделений, на протяжении длительного времени упорно проводивших эту очень трудоемкую и кропотливую спецоперацию, были просто обязаны решительно воспротивиться самодурству Бакатина, категорично потребовать от него письменного подтверждения своего приказа и письменного распоряжения главы государства пусть даже и на частичную расшифровку сведений особой важности! Как это сделал, в частности, начальник 15 Главка КГБ СССР В.Н.Горшков, за что и он получил сердечный приступ прямо в кабинете Бакатина в моем присутствии. Иной стиль поведения в моих глазах выглядит крайне ущербным, ибо бывают в жизни моменты, когда ты остаешься наедине с такими отвлеченными, казалось бы, понятиями, как «честь»; «долг», в том числе и моральный, людской; «совесть» и «ответственность» за принятые тобою решения, обязательные для исполнения твоими подчиненными.
20—21 августа 1991 года все подразделения центрального аппарата КГБ были переведены на особый режим несения военной службы — кроме личного короткоствольного оружия каждый военнослужащий получил автомат Калашникова «АК-74», а на узловых точках охраны специальной зоны Секретариата, в которую входили кабинеты Председателя КГБ и всех его заместителей, были оборудованы точки обороны под установку в них ротных пулеметов Калашникова «ПКМ». Автоматическое оружие было роздано не всем сотрудникам, основная его часть хранилась в оружейной комнате Секретариата КГБ. Первым управленческим решением Л.В.Шебаршина в качестве исполняющего обязанности Председателя КГБ СССР был его приказ от 22 августа 1991 года — всем подразделениям центрального аппарата КГБ СССР немедленно сдать в комендантский отдел ХОЗУ полученное накануне автоматическое оружие, а в случае штурма здания митингующими на площади Дзержинского людьми физически оказывать им исключительно пассивное (!?) сопротивление, категорически не допуская случаев применения штатного огнестрельного оружия. До сих пор помню слова одного из сотрудников Комендантского отдела ХОЗУ, отреагировавшего на беснование у памятника Ф.Э.Дзержинского многочисленной толпы: «Не могу больше, сейчас пойду в „караулку“, возьму ротный пулемет и перестреляю всю эту сволочь, а дальше пусть меня хоть расстреливают!».
Ну, допустим, заложили все входные двери в здание КГБ двутавровыми балками, дали все необходимые распоряжения по разворачиванию на этажах спецзоны пожарных брандспойтов, по блокировке лифтов и подготовке к переходу всех помещений Секретариата КГБ на автономное электроснабжение, но далее-то что? Как можно было бы допустить разоружение сотрудников «Дежурной службы КГБ СССР», помещение которой являлось одним из резервных элементов управления страной в особый период? Или той же «Особой папки», в которой не только хранились особо охраняемые секретные документы государства, но также располагался узел связи 8-го Главного управления со специальной аппаратурой, доступ к которой посторонним лицам был строжайше запрещен? Поэтому с учетом особой специфики указанных подразделений, складывающейся оперативной ситуации и в условиях крайне острого дефицита времени, указание Л.В.Шебаршина в Секретариате КГБ СССР было выполнено лишь частично. Автоматическое оружие в «Дежурной службе» и в «Особой папке» продолжало находиться у сотрудников по нормам положенности особого периода, а все офицеры Приемной Председателя КГБ СССР обязательно имели при себе в период дежурства штатное короткоствольное оружие. Что касается необходимых эвакуационных мероприятий, то они были четко, своевременно и очень организованно выполнены в полном объеме — совсем как на периодически проходивших в подразделении боевых учениях. Хотя. правда, на сей раз все происходило по несколько необычному варианту эвакуации, полностью гарантировавшему, однако, целостность, сохранность и неприкосновенность наиболее важным служебным документам первой очереди. Как позднее вечером того же приснопамятного дня я, невооруженный, выводил поздно ночью из окруженного остатками толпы митингующих обывателей нового здания КГБ СССР Л.В.Шебаршина (также совершенно безоружного) — это отдельная весьма печальная, но зато достаточно поучительная мелодия. Думаю, что в бывшей ГДР из берлинского здания штаб-квартиры «Штази» нас местные «митингующие» так просто бы никогда не выпустили, да и из осажденных помещений ФМВД ЧССР в Праге мы бы тоже столь незатейливо и притом без особых потерь вряд ли благополучно бы выбрались.
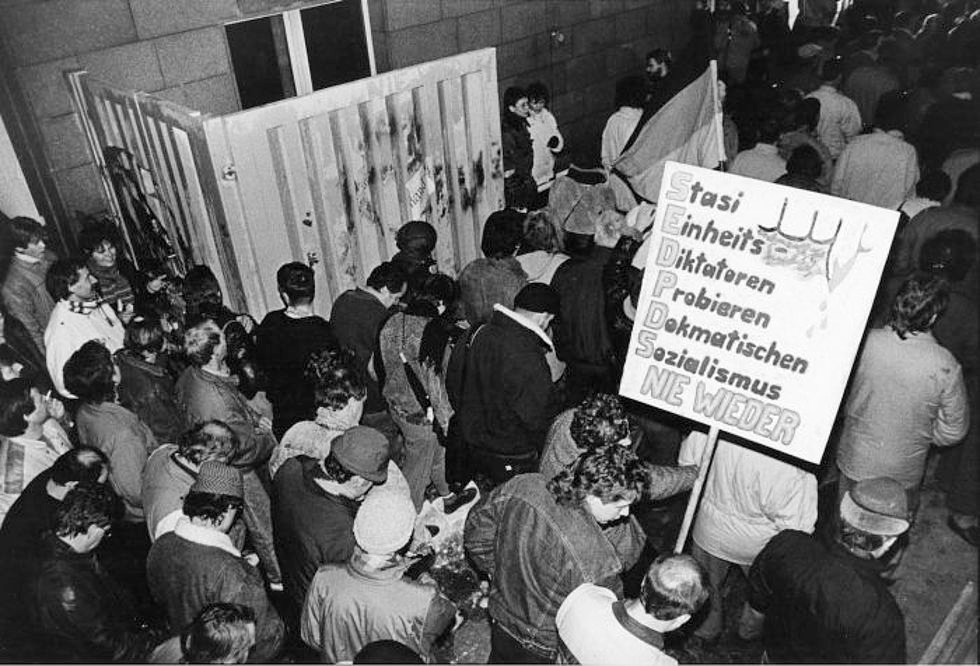
Спасибо моим верным товарищам по службе из числа фельдъегерей Секретариата и сотрудникам «семерки», патрулировавшим подходы к первому подъезду нового здания — они гораздо лучше нас, оперативных сотрудников советской разведки, знали, как нужно было действовать в подобной нештатной боевой обстановке…
В те тревожные дни августа 1991 года недостойным образом, по моим наблюдениям, повели себя только отдельные руководящие сотрудники двух ключевых подразделений Комитета государственной безопасности СССР — Управления кадров и Инспекторского управления. Оба эти управления во многом «напрямую» замыкались на Центральный комитет КПСС, особенно на его отдел административных органов (на последнем этапе — государственно-правовой отдел ЦК, а с октября 1990 года — отдел по вопросам обороны и безопасности государства при Президенте СССР) с его пресловутой системой учетно-контрольной номенклатуры руководящих кадров. Тот же КГБ в целом как государственное ведомство еще пытался «трепыхаться» и предотвратить надвигающуюся на всю страну беду, а эта публика, следуя своим многолетним холуйским инстинктам, уже вовсю начала сочинять донесения и составлять проскрипционные списки, даже не дожидаясь политического решения о люстрации руководящих чекистских кадров. Целых четыре (!) списка «неблагонадежных сотрудников на выход» — и по программе «минимум», и по варианту «максимум» — были переданы Бакатину в моем присутствии! «Докладчики» хотя и недоверчиво косились на меня, с…и кривые, но тем не менее послушно передавали их новому главе ведомства на рассмотрение. Я, например, ранее никогда в жизни не подумал бы, что тот же зампред по кадрам В.А.Пономарев — согласно «Википедии» «советский хозяйственный, государственный и политический деятель» — способен на столь подлые, мелкотравчатые, унизительные поступки. Лучше бы он и далее ветеринарным врачом оставался, животных лечил, достойный представитель «партийного набора» в Комитет госбезопасности, делегат XXII и XXVII съездов КПСС…
Я хорошо помню тот вал писем и телеграмм на имя В.А.Крючкова от новоиспеченных «глав республиканских и областных Советов» — бывших местных партийных руководителей — с просьбой представить на утверждение Президенту СССР кандидатуру того или иного своего протеже для присвоения ему генеральского звания. Уже после отмены статьи 6-й Конституции СССР, провозглашавшей роль КПСС как руководящей и направляющей сила советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций. В числе «соискателей» в основном были как раз либо прямые партийные выдвиженцы, либо бывшие старшие инспекторы Инспекторского управления КГБ СССР, направленные на руководящую работу на места и сумевшие найти общий язык с «первыми лицами» регионов.
Хотел бы, однако, особо подчеркнуть слово «отдельные», потому что из рядов Инспекторского управления вышли такие замечательные кадры нашей службы, как трагически погибший в 1991 году «гекачепист» Б.К.Пуго, Председатель КГБ при СМ Армянской ССР Г.А.Бадамянц, председатель КГБ Белорусской ССР В.Г.Балуев, начальник Инспекторского управления КГБ СССР С.В.Толкунов, мой преемник на посту руководителя Секретариата КГБ СССР Д.А.Лукин, трагически погибший в 1995 году бывший и. о. Председателя КГБ Литовской ССР С.А.Цаплин и многие другие старшие офицеры Комитета государственной безопасности. Из числа местных «соискателей» упомяну здесь лишь генерал-лейтенанта, председателя КГБ Киргизской ССР Д.А.Асанкулова, за которого почему-то очень настойчиво, причем неоднократно, ходатайствовал перед В.А.Крючковым первый Президент Киргизии Аскар Акаев, резко вильнувший «хвостом в сторону» в те тревожные августовские дни 1991 года.
С легкой руки какого-то шустрого кретина, разместившего в основной, «забойной», «академической» публикации в «Википедии» тематический материал по ГКЧП по известному из истории варианту «и примкнувший к ним Шепилов», все горе-теоретики стали непременно помещать в своих «аналитических материалах» следующий глубокомысленный пассаж: «Начальник Секретариата КГБ СССР (до августа 1991) Валентин Сидак утверждает, что печать ГКЧП была создана во время событий августа 1991 года, когда встал вопрос о введении комендантского часа в Москве». А с чего бы мне «утверждать» то, о чем я ведаю совершенно достоверно? Действительно, как только появились четкие данные о предстоящем введении комендантского часа в Москве сразу же возникла необходимость обеспечения беспрепятственного передвижения по Москве не только штатных фельдъегерей службы фельдъегерской связи Министерства связи СССР, развозивших секретную почту по столице и за ее пределы, но также и наших собственных фельдкурьеров Секретариата КГБ СССР, выполнявших аналогичные функции. Поэтому по согласованию с первым зампредом КГБ Г.Е.Агеевым через курирующего зампреда КГБ А.А.Денисова 20 августа 1991 г. Оперативно-техническому управлению КГБ СССР была дана команда срочно изготовить образцы двух печатей ГКЧП (гербовой и для пакетов) для последующего их представления на утверждение в аппарат и. о. Президента СССР Г.А.Янаева, что и было исполнено в течение буквально двух часов. Однако официального утверждения макетов печатей для дальнейшего размножения штампов на фабрике Гознака не состоялось, видимо, Янаеву было не до того — он уже стал крепко «закладывал» тогда за воротник. Так что то, что российские зрители позднее лицезрели на телевидении в заставке передачи то ли Политковского, то ли Млечина (кажется, она носила название «Особая папка»; сейчас, кстати, телепередача под таким названием — одна из наиболее популярных на русскоязычном телевидении Израиля) явилось августовским творением умельцев из ЦНИИСТ ОТУ КГБ СССР. Была такая хитрая научно-исследовательская контора в структуре центрального аппарата, там при необходимости могли очень оперативно изготовить всё, что требовалось для дела. Можете полюбоваться на их творение, небось какой-то шустрый журналист откуда-то извлек этот снимок из материалов уголовного дела.

Сама реплика со ссылкой на меня появилась в «Википедии» после заявления А.И Лукьянова о том, что в ходе реализации «весеннего варианта» ГКЧП был утвержден не только первый персональный состав участников этого органа, созданного по инициативе М.С.Горбачева, но и изготовлена его печать. Дословно в заметке это прозвучало так: «Геннадий Янаев неоднократно заявлял, что документы ГКЧП были разработаны по поручению Горбачева. Последний Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов и бывший 1-й секретарь МГК КПСС Юрий Прокофьев утверждают, что прообраз ГКЧП — комиссия по ЧП была создана на совещании у Горбачева 28 марта 1991 года и даже имела собственную печать. В комиссию вошли все будущие члены ГКЧП, за исключением двух человек — Тизякова и Стародубцева». Здесь реальность густо перемешана с вымыслами и более поздними фантазиями участников августовских событий. Во-первых, документы будущего ГКЧП стали готовиться с середины января 1991 года, и к знаменитому совещанию в «Ореховой комнате» Московского Кремля они в основном уже были сверстаны. Во-вторых, Тизяков был одним из основных инициаторов создания «Комиссии по чрезвычайному положению в СССР» и имел на этот счет свои собственные оригинальные наработки, поступившие в рабочую группу в КГБ в порядке информации и для учета при подготовке тематическим материалов. В-третьих, персональный состав комиссии по ЧП тогда не определялся, хотя тот же министр иностранных дел СССР А.А.Бессмертных также был причастен к обсуждению данного круга вопросов на неформальном заседании Совета Безопасности СССР, созданного 26 декабря 1991 года. Как известно, существовал вполне законный, конституционный орган под названием Совет Безопасности СССР, который разрабатывал рекомендации главе государства по реализации общесоюзной политики в области национальной обороны, национальных вопросов, государственной безопасности, темпов и масштабов экономических реформ, экономической и экологической безопасности, опасностей при преодолении стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, для обеспечения стабильности и правопорядка в советском обществе. Поэтому никакой нужды в организации какой-то особой «тайной вечери в Ореховой комнате» с участием А.И.Лукьянова и Ю.А.Прокофьева не было. Не стоит забывать также, что к 26 марта 1991 года членами Совета Безопасности СССР — совещательного органа при Президенте СССР М.С.Горбачеве — были назначены указами Президента СССР и прошли процедуру согласования в Верховном Совете СССР Г.И.Янаев, В.С.Павлов, В.В.Бакатин, А.А.Бессмертных, В.А.Крючков, Е.М.Примаков, Б.К.Пуго и Д.Т.Язов.
На моей памяти через Секретариат КГБ СССР прошел один-единственный документ, исполненный на бланке «Совет Безопасности СССР», который ушел Президенту СССР на доклад за подписью В.А.Крючкова. Это было сопроводительное письмо к пакету документов КГБ СССР (два из них подготовила разведка, один — Аналитическое управление совместно с ВГУ и ТГУ, еще один подготовило «Управление «З»). К пакету указанных документов прилагался проект Указа Президента СССР, исполненный уже непосредственно на бланке Президента, то-есть был полностью готов к подписанию главой государства. Все это происходило как раз в феврале-марте 1991 года и касалось в основном вопросов дальнейшего развития общественно-политической ситуации в прибалтийских республиках. В этот же период в штатное кадровое расписание Секретариата КГБ СССР была введена новая должность помощника члена Совета Безопасности СССР В.А.Крючкова, на которую рассматривалась кандидатура старшего референта Председателя КГБ СССР Валентина Леонидовича К.
На всем протяжении «послепутчевого периода» публикации о целях и задачах ГКЧП, движущих силах и источниках его создания, действиях отдельных причастных к «августовскому путчу» лиц шли непрерывным и все нарастающим потоком. Но все они (точнее — «главным образом») были с уже изначально замутненным контекстом, наиболее полно отвечающим политическим реалиям сегодняшнего дня. Многократно повторялись фантазийные сюжеты об отказе «альфовцев» и «вымпеловцев» штурмовать Белый дом, о самых невероятных формах саботирования ими исполнения боевого приказа. Приводились все новые детали триумфального перехода танковой роты Таманской дивизии под командованием майора Евдокимова и подразделений 106 воздушно-десантной дивизии генерал-майора Лебедя в прямое подчинение штабу обороны Белого дома, возглавляемого А.Руцким и К. Кобецом. Повествовалось также о том, что начальник ПГУ Л.В.Шебаршин якобы пригрозил командиру групп «Вымпел» Б. Бескову расстрелом из собственного табельного оружия в случае, если тот будет действовать без его прямого личного приказа. Рассказывалось о невнятном поведении армейских и КГБ-шных чиновников в те дни в Ленинграде, а также многое, многое другое.
Относительно «Вымпела» (ОУЦ КГБ СССР) могу сказать только одно: боевой приказ на его задействование согласно Положению об этом подразделении мог отдать только лично Председатель КГБ СССР и никто иной! К этому могу также добавить, что в наибольшей мере утечка важной оперативной информации в те дни шла из среды сотрудников Управления КГБ по г. Москве и Московской области и Управления по защите конституционного строя (бывшее 5-е Управление КГБ СССР) — и это клинический факт, причем достаточно показательный и очень красноречивый.
Признаюсь откровенно: цельной картины и объемного видения всех тех глубинных процессов, которые происходили в системе органов государственной безопасности СССР в рамках подготовки к введению чрезвычайного положения в отдельных местностях Советского Союза у меня так и не сложилось. Существует набор каких-то хаотичных отдельных фрагментов, порой не связанных друг с другом практических действий, наблюдается очевидное шарахание из одной крайности в другую и очевидное нежелание руководства мощнейшей спецслужбы взять на себя совместно с армией всю полноту политической ответственности за выход страны из глубокого экономического, социального и политического кризиса. Вконец изолгавшегося и запутавшегося в неустанных политических интригах М.С.Горбачева можно было бы совершенно спокойно и в целом безболезненно отстранить от власти еще в апреле 1991 года на Пленуме ЦК КПСС. Правда, при этом пришлось бы неизбежно вступить в открытое политическое противоборство как с Б.Н.Ельциным и его «демократической» шоблой, так и с объединенной командой Лукьянова-Примакова-Лаптева-Нишанова, но для обеспечения общего блага советского государства это было бы гораздо меньшим злом, чем то, что произошло затем со страной в августе-декабре 1991 года.
К сожалению, КПСС к тому времени уже трещала абсолютно по всем швам, в ней оставалось всего лишь 14,2 млн. членов, а местная партноменклатура вовсю готовила почву для сохранения своих правящих позиций в новых исторических условиях, в частности — через обновленную систему Советов. Исторически Коммунистическая партия Советского Союза свою пролетарскую миссию так и не выполнила! Бесславно погибла сама и утащила за собой в могилу всё наработанное тяжким трудом нескольких поколений советских людей огромное социалистическое наследие, которое тут же растащили по карманам внезапно народившиеся капиталистические воротилы из числа тех же активистов КПСС, ВЛКСМ и ВЦСПС.
Весь этот период, особенно во время своего более чем 14-летнего пребывания в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ, я стремился непредвзято и объективно просматривать и оценивать все публикации по тематике ГКЧП, сравнивать их с ранее известными мне данными и свидетельствами. Порой приходилось кардинально менять свою точку зрения и на сами действия, и на мотивы поведения ключевых участников прошедших событий. Мне довелось неоднократно беседовать на эти и близкие им темы не только с Владимиром Александровичем Крючковым, но также с О.С.Шениным, Г.И.Янаевым, А.И.Лукьяновым, Д.Т.Язовым, В.А.Стародубцевым, В.А.Купцовым, Г.А.Зюгановым, И.К.Полозковым, И.Н.Родионовым, Н.И.Кондратенко, В.И.Севостьяновым, Г.С.Титовым, Н.И.Рыжковым, Е.К.Лигачевым, Ю.Д.Маслюковым, Ю.М.Ворониным, М.М.Бурокявичусом, А.П.Рубиксом, А.А.Малофеевым, М.С.Сурковым, Г.Г.Гумбаридзе, В.А.Гусейновым, С.И.Гуренко, С.Н.Федоровым, М.А.Моисеевым, В.И.Варенниковым, А.В.Жардецким, В.А.Ачаловым, В.И.Илюхиным, В.И.Зоркальцевым, А.А.Шабановым, В.А.Тюлькиным, Л.Н.Петровским, С.Н.Решульским, В.В.Чикиным, Г.Н.Селезневым, Н.М.Биндюковым, Р.Г.Гостевым, А.Н.Михайловым, Г.И.Тихоновым, Ю.М.Квицинским и многими другими советскими и российскими политическими и партийными деятелями. Разные оценки высказывались ими в беседах, но практически единым у подавляющего большинства моих собеседников был один сквозной основополагающий тезис: преступная клика Горбачева — Ельцина — Яковлева — Шеварднадзе развалила СССР, и за все это они несут индивидуальную и коллективную политическую ответственность перед станой и историей. Я уже неоднократно заявлял, в том числе и публично, что с подобной намеренно зауженной и примитивизированной до предела трактовкой событий августа 1991 года всегда был категорически не согласен, и, пожалуй, никогда более не соглашусь. Даже при всем при том, что сегодня для всех мыслящих и политически зрячих людей уже совершенно очевидно, что команда ГКЧП работала в интересах М.С.Горбачева, более того — под его непосредственным руководством, по его прямым указаниям и на основе его рекомендаций.
Лично для меня это стало совершенно очевидным с момента подключения к «делам ГКЧП» Г.И.Янаева, А.И.Лукьянова и В.И.Болдина, которые всегда и во всем были креатурой М.С.Горбачева, являлись его прямыми выдвиженцами и ближайшими сподвижниками в делах реального управления страной. Янаев до января 1991 года был членом Политбюро и Секретарем ЦК КПСС, Лукьянов стал народным депутатом СССР по списку Коммунистической партии Советского Союза (как, впрочем, и Горбачев, Яковлев, Рыжков, Лаптев, Примаков, Ивашко, Разумовский, Чебриков, Зайков, Черняев), Болдин до самого момента своего ареста оставался членом ЦК КПСС и заведующим Общим отделом ЦК. Однако никто из них не предпринял никаких практических шагов к свержению Горбачева в период подготовки и проведения апрельского (1991 г.) совместного Пленума ЦК КПСС и ЦКК КПСС, хотя целый ряд крупнейших партийных организаций страны выступили именно с таким требованием. Захотелось вам «нового НЭПа»? Получите и распишитесь в получении…
Несмотря на то, что фактическим руководителем ГКЧП был отнюдь не Г.И.Янаев, а В.А.Крючков, чуть ли не единственным реально действующим персонажем этого органа стал, по моим наблюдениям, первый заместитель председателя Совета Обороны СССР и секретарь ЦК КПСС, народный депутат СССР Олег Дмитриевич Бакланов, возглавивший в те дни оперативную рабочую группу ГКЧП. Она стала единственным реально действующим органом государственного управления гибнущей у всех на глазах советской власти, который пытался хотя бы что-то сделать и воздействовать на обстановку не привычным потоком словоблудия, а решительными шагами. Не случайно именно В.А.Крючков и О.Д.Бакланов поздно вечером обсуждали в здании КГБ детали предстоящего штурма Белого дома с руководителем штурмового отряда В.Ф.Карпухиным, прибывшим для последнего инструктажа со стороны ГКЧП уже в военно-полевом обмундировании. Но письменного приказа Группе «А» 7-го Управления КГБ, как и другим подразделениям МО и КГБ СССР, на штурм Белого дома от ГКЧП так и не поступило…

Насколько я могу судить сегодня, «гекачеписты» получали совершенно разнородную и противоречивую информацию, а иногда и прямую дезинформацию, о настроениях Б.Н.Ельцина и его ближайшего окружения в ответ на сделанное ему предложение возглавить страну вместо Горбачева. Видимо, именно после второго (или третьего, точно не знаю) телефонного разговора Ельцина с Крючковым последний окончательно понял, что ожидаемого «политического соглашения» с российским руководством не будет и что нужно все же решаться на штурм Белого дома. Я навсегда запомнил фразу В.А.Крючкова, сказанную в моем присутствии О.Д.Бакланову и В.Ф.Карпухину: «Олег Дмитриевич, ну что же Вы думаете: лично мне, что ли, так уж легко решиться на штурм здания, в ходе которого наверняка погибнут люди и жертвы обязательно будут с обеих сторон?». О.Д.Бакланов при этом сидел за приставным столом с весьма сумрачным и озабоченным видом, а В.А.Крючков, напротив, вопреки своему обыкновению, находился в явно возбужденном и взволнованном состоянии. Кстати, когда уже ближе к полуночи мне доложили с пунктов наблюдения, расположенных в гостинице «Украина», что здание Белого дома вдруг внезапно осветилось и послышались крики «Ура!», я уж было решил, что штурм все же начался…
Хочу привести здесь всего лишь несколько оценок, сделанных бывшими членами ГКЧП спустя 10 лет после событий тех дней, в августе 2001 года. «Политическая пыль» к тому времени в основном уже улеглась, страна шагнула далеко вперед, и поэтому эти оценки более-менее правдиво, хотя и неполно, отражали реальную картину происходившего в те дни. При этом высказывавшие эти оценки лица не особо оглядываясь на материалы проведенного российскими властями следствия, в том числе и на сведения, оглашенные в ходе суда над В.И.Варенниковым в августе 1994 года. Я присутствовал на заключительном судебном заседании, когда Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации СССР под председательством судьи Яськина В. А. полностью оправдала Валентина Ивановича Варенникова за отсутствием в его действиях состава преступления и не усмотрела в его действиях никаких признаков незаконного использования служебного положения или превышения должностных полномочий.
Итак, 21 августа 2001 года в журнале «Коммерсантъ-Власть» была опубликована интересная, на мой взгляд, подборка материалом к 10-летию ГКЧП под названием «Государственный недоворот». В ней указывалось, в частности, что «за десять лет участники тех событий привели в порядок воспоминания, согласовав их со своей совестью и со своей дальнейшей судьбой. В представленном виде они уже готовы стать историческими свидетельствами». Посмотрим вместе на эти свидетельства еще раз и, при необходимости, откомментируем сказанное.
«Валерий Болдин, в августе 1991 года глава администрации президента СССР.
— Как возник ГКЧП?
— Если помните, вернувшись из Фороса, Горбачев сказал знаменательную фразу: «До конца я все не скажу». И не обманул. ГКЧП начинался вовсе не в августе 91-го, а гораздо раньше. Началось все с жесткого противостояния двух президентов — союзного и российского. Ельцин не простил Горбачеву своего изгнания из Политбюро в 1987 году. Возглавив Россию, он начал активно раскачивать Союз. Ельцин понимал, что у России большой вес и, если она начнет сокращать выплаты в бюджет, дотационные республики вроде Таджикистана или Прибалтики просто не смогут существовать. Так и вышло. Чувствуя, что теряет точку опоры, Горбачев в начале 1990 года пригласил к себе группу членов Политбюро и Совета безопасности — всех тех, кто впоследствии вошел в ГКЧП (среди них были Крючков, Язов, Бакланов) — и поставил вопрос о введении чрезвычайного положения.
— Вы не оговорились? В начале 90-го, а не 91-го?
— Не оговорился, именно в начале 90-го. Все, кого Горбачев тогда позвал, идею ЧП поддержали, особенно учитывая нарастание националистических, центробежных тенденций в Прибалтике и Закавказье. И у нас, в аппарате Горбачева, начали готовить концепцию ЧП. Но в 1990 году ее так и не разработали — главным образом потому, что, не считая апрельских событий 1989 года в Тбилиси, обстановка в целом оставалась стабильной. А в 91-м она настолько накалилась, что достаточно было спички. Власть Горбачева становилась все более эфемерной: без России он ничего не мог сделать. Чувствуя, что Горбачев теряет власть, Ельцин начал вести себя активнее. При обсуждении нового союзного договора он практически диктовал республиканским руководителям свою волю. А те не только прислушивались к Ельцину, но и брали с него пример самостоятельности и независимости. Ельцин все больше берет инициативу в свои руки — Горбачев сходит с ума от отсутствия информации. В конце концов Горбачев понял, что сепаратные переговоры Ельцина с руководителями республик приведут к его окончательному отстранению от власти, и активизировал деятельность силовых структур по введению чрезвычайного положения.
— Как активизировал?
— Сознавая, что традиционные методы здесь не помогут, он вызвал тех, с кем уже обсуждал вопрос чрезвычайного положения, отдал им необходимые распоряжения и ушел в отпуск. Как можно было идти в отпуск в столь напряженной обстановке?! Но Горбачев все любил делать чужими руками. Когда готовились тбилисские, вильнюсские, рижские события, он давал Язову устные распоряжения. Тот говорил: «Мне нужен письменный приказ». А Горбачев отвечал: «Достаточно моего слова». Так и здесь. Горбачев не хотел присутствовать при той драке, которая должна была разгореться. Он знал (а возможно, и сам дал команду), что во время его отпуска случится то, что случилось».
— 18 августа 1991 года вы вместе с будущими гэкачепистами летали к Горбачеву в Форос. Он санкционировал ГКЧП?
— Мы полетели вместе с Шениным, Баклановым, Варенниковым и Плехановым. «Что вы там задумали?» — встречает нас Горбачев. От этого вопроса у всех глаза на лоб полезли от удивления: он говорил так, словно все уже не было окончательно решено. В конце концов Горбачев сказал: «Шут с вами, делайте как хотите!» — и даже дал несколько советов, как лучше, с его точки зрения, ввести чрезвычайное положение. Вернувшись в Москву, мы доложили обо всем Крючкову, Язову, Павлову, Лукьянову. Все понимали, что Горбачев не мог открыто заявить: «Да, мол, давайте!»
— Почему?
— Горбачев мечтал руками ГКЧП сместить Ельцина. Однако оснований для этого никаких не было, поскольку Ельцин пользовался большой поддержкой, о чем КГБ информировал Горбачева. Сам ГКЧП репрессий против неугодных политиков не готовил. Цель его была взять на себя ключевые пункты управления, навести порядок в стране. Да что могли сделать эти рафинированные Язов, который писал на службе стихи, Крючков, который большую часть жизни провел на дипломатической работе?!
На этот раз Горбачев, который раньше умело добивался своих целей, оставаясь в стороне, просчитался и стал изображать из себя мученика — вернулся в Москву чуть ли не в арестантской пижаме. Заявил, что он ничего не знал, что у него были отключены все телефоны и вообще не было связи с внешним миром. Хотя доподлинно известно, что он кое с кем в Москве связывался. Кроме того, американцы предупредили о подготовке переворота и Горбачева, и Ельцина заранее. Тогда Горбачев кому-то из своих сказал: «Болтуны вы все».
Мой комментарий: Ценность этого свидетельства состоит в том, что оно наглядно иллюстрирует высокую степень вовлеченности Горбачева в подготовку «августовского путча». Безусловно, ввиду чувства незаслуженно нанесенной ему обиды Болдин явно «перегибает палку», путает даты, события и их участников. Никакого Совета Безопасности в 1990 году еще не существовало, а тот же Н.И.Рыжков, бывший в тот период и Председателем Совета Министров СССР, и членом Политбюро ЦК КПСС, никогда не упоминал о какой-либо своей вовлеченности или причастности к подготовке режима чрезвычайного положения в стране и отдельных ее местностях. Хотя на деле — какие, спрашивается, меры чрезвычайного характера могли бы готовиться и осуществляться в стране без участия главы высшего органа его исполнительной власти — Совета Министров СССР? Только силами и возможностями В.Х.Догужиева как председателя Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям? Нонсенс! Тем более, что за плечами Рыжкова уже был практический опыт действий в условиях чрезвычайной ситуации, в частности в Чернобыле, Спитаке, Арзамасе и под Уфой, а также при введении в 1988—1989 гг. режима особого положения в НКАО и Агдамском районе Азербайджанской ССР, в Ереване, Баку и ряде других территорий Азербайджана.
Джеймс Бейкер, в 1991 году госсекретарь США. Отрывок из книги «Политика дипломатии».
— В Main State только что получили «молнию» от посла Мэтлока из Москвы!
У меня волосы встали дыбом: «молнию» отправляли лишь в чрезвычайной ситуации — в случае объявления войны или нападения на посольство.
Текст гласил: «В Спасо-хаус (резиденция американского посла в Москве. — Ъ) приходил мэр Москвы Попов, хотел видеть Мэтлока по неотложному делу. Он не стал говорить вслух и написал: „Против Горбачева готовится переворот“».
— Ларри Иглбергер выехал в Белый дом, чтобы встретиться с президентом, — объяснил Пирсон.
— Нужно предупредить Горбачева! — воскликнул я. — Давайте позвоним Бушу, и, если он не будет возражать, немедленно пригласите ко мне Бессмертных (министр иностранных дел СССР. — Ъ).
Через десять минут я разговаривал с президентом Бушем. Он уже попросил Ларри рекомендовать Мэтлоку организовать встречу с Горбачевым и согласился, чтобы я встретился с Бессмертных.
Через пятнадцать минут Бессмертных уже сидел у меня в номере.
— Саша, — начал я, — осведомленные источники сообщают, что завтра будет предпринята попытка сместить Горбачева. Насколько мы понимаем, в ней примут участие Павлов, Крючков, Язов и Лукьянов. Мэтлок просил Горбачева его принять. Вам нужно позвонить Горбачеву и четко сказать, что эта встреча очень важна, но по телефону не объяснять почему (возможно, телефоны прослушиваются КГБ). Поблагодарив меня, Бессмертных отправился к Горбачеву, чтобы передать мои слова. Тем временем президент Буш проинформировал обо всем президента России Бориса Ельцина, который находился в США с визитом. Несколько минут спустя Мэтлок уже входил в кабинет Горбачева в Кремле. Он передал наше предупреждение, но советский президент не проявил ни малейших признаков беспокойства, сочтя саму идею переворота фантастической. Он был твердо убежден, что никто не может его свергнуть.
Мой комментарий: То, что утечка закрытых сведений прошла не по каналам Б.Н.Ельцина, но именно Г.Х.Попова, у меня никакого удивления не вызывает. Именно последний персонаж играл за кулисами назревающих событий политическую роль ничуть не менее важную, чем А.Н.Яковлев, Э.А.Шеварднадзе или же Е.М.Примаков с В.В.Бакатиным. Однако никакой необходимости «затемнять ситуацию» путем срочного подключения к информированию Горбачева через Мэтлока и Бессмертных не было — Горбачев уже вскоре, то ли 26, то ли 29 июня 1991 года встретится с госсекретарем США Бейкером, и будет иметь с ним очень и очень конфиденциальный разговор на самые различные, но наиболее актуальные темы. Если Горбачев действительно был «кукловодом ГКЧП», то что принципиально нового ему мог бы сообщить Мэтлок? Лишь то, что в ближайшем окружении Президента СССР завелся очень жирный и хорошо информированный «крот». Однако никаких команд на сей счет в КГБ СССР от Президента СССР не поступило.
Олег Бакланов, в августе 1991 года секретарь ЦК КПСС, заместитель председателя Совета обороны СССР, член ГКЧП.
— Кто предложил создать ГКЧП?
— Я узнал о создании комитета от Горбачева, который еще за год или полтора до августа 1991 года, почувствовав, что его политика приходит в тупик, на одном из совещаний высказал мысль о создании некоего органа, который в случае чрезвычайной ситуации мог бы вмешаться, чтобы поправить положение в стране. Но данный орган должен был быть конституционным, то есть оформлен решением Верховного совета. Вот тогда-то я впервые услышал о ГКЧП. А предпосылкой к созданию такого комитета послужили события в Баку, Тбилиси и Прибалтике. Да и Ельцин в Москве возбуждал умы москвичей. Поэтому соответствующие органы стали разрабатывать статус ГКЧП. Я знаю, что и Верховный совет обсуждал и даже принял статус ГКЧП. Если говорить конкретно об августовских событиях, то необходимость создания ГКЧП возникла после того, как 17 или 18 августа одна из газет напечатала материалы новоогаревских посиделок, где, по сути, Горбачевым, Ельциным и иже с ними был подготовлен документ о роспуске Советского Союза. Причем уже 21-го Горбачев был готов его подписать…
— Когда вы 18 августа прилетели в Форос, Горбачев вас нормально встретил?
— Нормально. Мы же не разбойники, мы приехали просто поговорить. Правда, Горбачев был какой-то помятый и перепуганный. Сейчас-то я понимаю, почему он был перепуганный. Мы-то думали, что он заблуждается, а он-то знал, что он предатель.
— Он согласился, что надо спасать страну?
— Его трудно было понять. С одной стороны, он вроде соглашался, а с другой — нет. Например, он нам сказал: «Давайте я вам подпишу бумагу о созыве Верховного совета». Подержал эту бумажку, повертел ее, а потом вдруг говорит: «Зачем же я вам ее буду подписывать, когда вы все здесь. Вы скажите Лукьянову, чтобы он собирал Верховный совет».
— А вы не предлагали ему вернуться с вами в Москву?
— Да, но Горбачев стал сразу же говорить, что не может ехать в Москву, потому что он сидит в корсете и у него отнялась нога. По этой же причине он не захотел, чтобы руководство страны и главы республик собрались у него, чтобы обсудить создавшееся положение. Но в то же время заявил, что он в любом случае прилетит в Москву на подписание договора, даже если ему отрежут ногу. Меня эта фраза просто повергла в шок. Кто ему собирался отрезать ногу? Вроде не было такой необходимости. В общем, в конечном счете был нелицеприятный разговор, в заключение которого Горбачев сказал: «Ну хорошо. Давайте действуйте сами». Он как бы дал «добро».
— И вы начали действовать. Как подбирались кандидатуры в состав ГКЧП?
— Это детали, которые уже трудно вспомнить.
— Чем занимался три дня комитет?
— Он собирался несколько раз, решал текущие вопросы и старался сделать все, чтобы не было стычек, которые привели бы к трагическим событиям, таким как на Садовом кольце.
— А армию зачем ввели?
— Армию ввели, потому что это было предусмотрено статусом ГКЧП, чтобы охранять телеграф, почту, Верховный совет и Кремль.
— Что, была угроза?
— А что, подписанный Ельциным указ о том, что не надо переводить в Союз налоги из республики, — это вам не угроза? Когда, по сути дела, он решил, что РСФСР не входит в СССР. Надо же было как-то стабилизировать ситуацию.
— Войсками?
— А чем же?
— ГКЧП находился все три дня в Кремле?
— Мы были там, где это было необходимо. Что толку три дня сидеть в Кремле? За три дня там с тоски можно было бы умереть. Может, нам еще в подвале нужно было сидеть? Это Ельцин прятался в подвале, откуда его чуть в американское посольство не увезли. Хорошо, что у него ума хватило в посольство не поехать, а то совсем было бы стыдно.
— А Ельцина вы собирались арестовать?
— Если бы было решение арестовать Ельцина, он был бы арестован. Да не только Ельцина, но и любого можно было арестовать. Но разве в этом смысл? Функция ГКЧП была в том, чтобы стабилизировать ситуацию, то есть собрать Верховный совет и рассмотреть на нем сложившуюся ситуацию. И если бы Лукьянов собрал Верховный совет не 26-го, а сразу, то, думаю, судьба Горбачева была бы решена. Я считаю, Верховный совет можно было собрать быстро. Ведь Ельцин собрал свой 21—22 августа. И все там сидели и радовались, как разрушается родина.
— Что бы ждало страну, если бы победил ГКЧП?
— Светлое будущее.
Мой комментарий: Все происходило именно так. Единственное замечание — Верховный Совет СССР никакого «статуса ГКЧП» (подчеркиваю — именно ГКЧП как органа) не рассматривал. Рассматривался законопроект о режиме чрезвычайного положения.
Анатолий Лукьянов, в августе 1991 года председатель президиума Верховного совета СССР.
— Члены ГКЧП впоследствии не раз упрекали вас в том, что вы не созвали внеочередной съезд народных депутатов. Почему вы так поступили?
— У меня был один путь — это путь абсолютного соблюдения закона. А в законе была заложена форма — четыре дня. Надо честно сказать, что собрать со всего Союза всех депутатов за столь короткое время было невозможно. А вот решение о созыве Верховного совета я подписал в 6 часов утра 19 августа.
— А как вы вообще узнали о готовящемся перевороте?
— Во-первых, никакого переворота не было. Переворот подразумевает изменение существующего строя, а этот так называемый переворот был как раз в его защиту. Во-вторых, я видел, что обстановка в стране накалялась, и вопрос о чрезвычайном положении рассматривался не раз как на Политбюро, так и в окружении президента. Но я не мог помыслить себе, что это будет сопровождаться такими событиями. Когда меня вызвали в Москву, я сразу же прилетел. Это было в десятом часу вечера 18 августа. И когда мне предложили войти в состав ГКЧП, я, естественно, отказался, поскольку это было несовместимо с моим статусом председателя Верховного совета.
— Ну и вошли бы как глава Верховного совета.
— А зачем? ГКЧП — это исполнительный орган. Кроме того, я не мог встать на чью-либо сторону, я должен был выражать мнение парламента.
— Какие цели ставил перед собой ГКЧП?
— Это была плохо организованная отчаянная попытка сохранить Союз сильным государством. И ничего больше за этим не стояло. Причем сохранить при помощи того президента, который был.
— Как это?
— Просто отложить подписание договора, который превращал страну в конфедерацию. Поэтому-то и поехали к Горбачеву. А позиция Горбачева была «прямой» — он выжидал, наблюдая, кто победит.
— А вы сами с Горбачевым когда-нибудь говорили о введении ЧП?
— Ближайший помощник Горбачева Валерий Болдин, например, прямо говорит о том, что ГКЧП как комитет был создан еще весной 1991 года на совещании у Горбачева. Тогда были названы все лица, впоследствии вошедшие в ГКЧП, а также была сделана печать этого органа и бланки.
— А вы об этом знали?
— Да, я присутствовал на том заседании.
Мой комментарий: А.И.Лукьянов из всех причастных к делам ГКЧП политиков менял свою позицию и тональность высказываемых им оценок чаще всего. Почему — лично для меня здесь всё абсолютно ясно. Хотел бы, однако, особо подчеркнуть лишь следующее важнейшее обстоятельство: ГКЧП, вопреки утверждениям признанного мэтра отечественного конституционного права, вовсе не являлся «исполнительным органом». Он не принадлежал ни к одной из существовавших тогда ветвей власти — это был специально созданный временный орган государственной власти и управления страной в условиях объявленного правового режима чрезвычайного положения (статьи 2 и 5 Закона СССР №1407-I от 03.04.1990 г.). Не зря в пункте 3 «Заявления советского руководства» от 19.08.1991 года персональный состав членов ГКЧП был указан в алфавитном порядке и поэтому и.о.Президента СССР Г.И.Янаев шел последним в этом списке, а не указывался первым как руководитель этого органа. Тем самым подчеркивался особый, коллегиальный статус данного органа и полное равноправие всех его членов, среди которых было и несколько депутатов советского парламента. А.И.Лукьянова это обстоятельство очевидно не устраивало, и он решил воспользоваться наскоро придуманной им же формулой самостоятельного участия в предстоящих событиях, что, тем не менее, от мести Горбачева его не спасло, как он не старался отмежеваться от членства в ГКЧП. Варенников ведь тоже не был членом ГКЧП, но «отгреб свое» по полной разметке.
Геннадий Янаев, в августе 1991 года вице-президент СССР, член ГКЧП.
— Кому пришла идея ввести ЧП?
— Вечером 16 августа на одном из объектов КГБ встретились Язов, Крючков и их заместители, произошел обмен мнениями о ситуации в стране. 17 августа на том же объекте произошла вторая встреча, но уже с участием премьера Павлова, где было решено направить группу товарищей в Форос, чтобы потребовать от Горбачева введения чрезвычайного положения и не подписывать союзный договор без референдума.
— А кто вам предложил возглавить этот орган?
— Я в субботу и воскресенье работал весь день в Кремле… вдруг мне докладывают, что в машину звонит Крючков. Ну если звонит председатель КГБ, значит, может быть какая-то нештатная ситуация. Крючков мне говорит: «Мы тут собрались в кабинете у Павлова. Надо, чтобы вы подъехали». И когда я приехал к 20 часам к Павлову, то в это время Крючкову из самолета звонили товарищи, возвращающиеся из Фороса, которые проинформировали его о беседе с Горбачевым. Потом с Валдая прилетел Лукьянов, из Белоруссии на военном самолете — Бессмертных. И наконец, подъехали товарищи, которые были у Горбачева.
По Конституции если президент не может исполнять свои обязанности, то в должность президента вступает либо вице-президент, либо глава парламента. И тут между мной и Лукьяновым произошла дискуссия. Я говорю ему: «Может быть, тебе возглавить комитет. У тебя авторитета больше, а мне надо еще политическую мускулатуру нарастить». Но он отказался. Я хочу сказать, что решение возглавить комитет мне далось очень и очень тяжело. И только в начале первого 19 августа я согласился. И то с оговоркой, что только на три дня — до сессии Верховного совета СССР. И все эти трое суток я был как комок нервов. Я ничего не ел, не пил…
— А Горбачев действительно был болен?
— У него был радикулит, серьезного, конечно, у него ничего не было. И когда мы объявили, что Горбачев болен и не способен исполнять свои обязанности, это не была ложь во спасение. Это было создание видимости непричастности Горбачева ко всему происходящему. У него ведь и охрана осталась — за исключением начальника, которому нужно было идти в отпуск. У охраны были контакты с пограничниками, моряками, которые охраняли безопасность президентского отдыха. И те несколько раз предлагали вывезти Горбачева куда угодно и связать его с кем угодно. Но Горбачев выжидал, чья возьмет… Мы абсолютно четко себе это представляли, что он нас сдаст. При любом раскладе событий — победим мы или проиграем. А в случае негативного расклада мы и физически на себе ставили крест.
— Зачем же Горбачеву было в случае вашей победы вас сдавать?
— Надо знать Горбачева.
Мой комментарий: Г.И.Янаева я знал давно, еще с комсомольских времен. Безусловно, честный и искренный человек, но отнюдь не с ярко выраженными бойцовскими качествами. Как говорила Нона Мордюкова в фильме «Простая история» — «хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел». Вторым человеком в государстве он стал в общем-то случайно, по прихоти Горбачева, которому явно был нужен послушный и полностью управляемый соратник. Это отчетливо проявилось в ходе закрытого заседания Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года, на котором выступали с очень острыми докладами будущие члены ГКЧП Павлов, Язов, Крючков и Пуго. Лукьянов и Янаев в период демонстративного отсутствия на этом заседании М.С.Горбачева стремились «присыпать песочком» уже достаточно ярко разгоревшиеся угли растущего народного недовольства. К сожалению, он полностью прозрел только после длительного пребывания в «Матросской тишине». У Янаева адвокатом был бывший работник Генеральной прокуратуры Абдулла Хамзаев, в то время как Лукьянова защищали сразу два признанных мэтра отечественной адвокатуры — Генрих Падва и Александр Гофштейн. Это говорит о многом.
Юрий Петров, в августе 1991 года глава администрации президента РСФСР.
— Как вам работалось в танковом окружении?
— В течение короткого времени Белый дом превратился в настоящий боевой лагерь, где ходили вооруженные автоматами люди в камуфляже, где Руцкой и Кобец организовывали оборону. Связывались со средствами массовой информации, создали в Белом доме пресс-центр. Был момент, когда все сказали: «Будем стоять до конца». Это нас объединило.
— Правда, что Ельцин знал о перевороте заранее?
— Он говорил, что узнал о ГКЧП и объявлении чрезвычайного положения на даче в Архангельском.
— Вы были готовы к штурму?
— К Белому дому подтягивались танки, группа «Альфа» готовилась к штурму — тогда эти сведения как-то просачивались, доходили до российского президента. Надо сказать, во всех союзных органах, во властных и военных структурах, в милиции и КГБ были люди, которые поддерживали российского президента. Поэтому было много звонков, предупреждений, что готовится штурм. Тогда люди начали строить баррикады, готовиться к обороне. На вопросы, которые задавали членам ГКЧП Ельцин, Руцкой — а они разговаривали практически со всеми: с Крючковым, с Павловым, с Янаевым, — мы не получали вразумительных ответов, кроме заявлений, что, мол, никто там вас не собирается штурмовать. Хотя, с другой стороны, шла информация, что собирались. Мы готовились к самым серьезным событиям — вплоть до штурма и физического уничтожения… Присутствовали на совещаниях одни и те же люди: Хасбулатов, его заместители, Бурбулис, Шахрай, Руцкой, Кобец, Станкевич, Скоков. Это был настоящий штаб, где быстро решались оперативные вопросы. Кто-то входит, что-то выясняет, уходит. Все решалось по ходу дела, потому что действительно была боевая обстановка, как на фронте.
— А что конкретно вы предпринимали?
— В частности, по поручению Ельцина было создано запасное правительство, которое было поручено возглавить Олегу Ивановичу Лобову. Он отправился в Екатеринбург — там есть специальный пункт, оборудованный на случай ядерного удара, то есть командный пункт для высшего руководства. С Лобовым были министры, руководители ведомств. Они вылетели в Екатеринбург и подготовили этот пункт гражданской обороны к возможному перемещению туда российского правительства. Вылететь Лобову было нелегко: поначалу ему не давали самолет. Но тут уже начал действовать революционный порядок: президент приказал — и подчинились. Других-то приказов не было. Ельцин, как президент России, решал все вопросы…
— А с Горбачевым была связь?
— В отношении Горбачева у нас были самые различные подозрения. Связаться с ним действительно было нельзя — Борис Николаевич пытался это сделать по спецкоммутатору. По-моему, его включили только 21-го. Тогда Горбачев подтвердил, что ни при чем, и к нему полетели Руцкой с командой. Привезли его, арестовали ГКЧП. На этом политическая карьера Горбачева закончилась.
Мой комментарий: Как развивалась обстановка в Белом доме и вокруг него я знал в основном на базе оперативных докладов сотрудников различных подразделений КГБ в Дежурную службу КГБ СССР. Что же касается истории с выездом Лобова со своей командой в Свердловск, то данная затея российских властей была ущербной изначально. Все запасные пункты управления страной в особый период находились тогда в ведении 15-го Главного управления КГБ СССР и никто, кроме начальника этого управления, непосредственно подчинявшегося Председателю КГБ СССР и выполнявшего исключительно его письменные приказы и указания, не мог отдать приказ на расконсервацию данного объекта и разрешить доступ в него посторонних лиц. Как мы видим из этого свидетельства, спецкоммутатор у Б.Н.Ельцина работал исправно и никто его тогда не отключал.
Иван Силаев, в августе 1991 года председатель Совмина РСФСР.
По режиму военного времени у нас в России, в Свердловске, был пункт экстренного местонахождения российского правительства. И мы туда откомандировали моего первого заместителя Лобова.
— Об этом потом говорили как о теневом кабинете?
— Совершенно верно. Но оно было не совсем теневым — просто если бы нас раздавили, то наши идеи и интересы России должны были продолжать отстаиваться из того центра.
Договорились, что на пресс-конференции выступлю я, потому что утром, когда мы приехали, Борису Николаевичу, очевидно, некоторое время нужно было приходить в себя. И мы тут все делали в основном под моим руководством.
— Что значит «приходить в себя»? Вы хотите сказать, что он был пьян?
— Нет, он был просто потрясен. Я сам писал черновик обращения к Лукьянову. И в это время ко мне вошел Борис Николаевич, безусловно трезвый. Но у него лицо посерело. Он кое-что дописал в обращении и, в частности, последний пункт: взять под стражу членов ГКЧП. И вот с этим текстом я и выступил перед журналистами и перед дипломатическим корпусом. Ночь мы ночевали все там. В это время «Альфе» было поручено взять нас штурмом, но они отказались, и это нас спасло. Спасибо им за это — даже через десять лет. На следующее утро мы поехали к Лукьянову: я, Руцкой и Руслан Имранович. Лукьянов был довольно спокоен, да у него и вообще лицо не очень выразительное… Из его слов я понял, что он заодно с ГКЧП и ничего против них делать не будет. Ельцин сообщил, что ему позвонил Крючков и предложил вместе с ним поехать к Горбачеву. Но я взял слово и настоял, что из соображений безопасности Ельцина за Горбачевым надо ехать не ему, а мне. Вот такой патриотический у меня порыв состоялся, и это было от души. Снарядили еще и Руцкого, и в придачу два десятка спецработников. Утром 21 августа мы прилетели в Форос. Встреча была потрясающая! Горбачев искренне был обрадован, мы с ним обнялись, поцеловались. Ну, он нормальный человек, эмоций было много…
— Говорят, он крепкими словами крыл гэкачепистов.
— Да, он это умеет! Причем у него это получается как музыкальное произведение, гладко. Есть люди, которые ругаются, как бы насилуя себя. А у Горбачева это как стихия, просто «Евгений Онегин», красиво даже. Горбачев сразу ГКЧП обложил: «Такие-сякие, вот там они у меня! Я собираюсь с ними вечером ехать в Москву»… Когда мы садились в самолет, Крючкову уж не знаю кто предложил: «Михаил Сергеевич вас приглашает лететь». Крючков сел в самолет, и его тут же арестовал Руцкой. Это уже была победа.
Мой комментарий: Наш всеми чтимый Борис Николаевич Ельцин после своего триумфального визита в Алма-Аты был трезвый, ну как же могло быть иначе? Относительно ЗКП в Свердловске я ситуацию уже прояснил. Но то, что Горбачев, кроме всего прочего, еще и великий артист — Силаев нам всем показал здесь очень наглядно и в цвете.
Константин Кобец, в августе 1991 года председатель Госкомитета РСФСР по обороне и безопасности.
— Как получилось, что вы оказались руководителем защиты Белого дома?
— К моменту путча я уже несколько месяцев проработал в команде Ельцина. И вот приблизительно к середине августа я уже получал информацию о том, что тучи сгущаются и принято решение, грубо говоря, обломать Ельцину рога. А тут еще накануне подписания Новоогаревских соглашений Горбачев зачем-то в Форос улетел. Потом стало известно, что в Крым должна была полететь некая делегация с целью добиться отставки Михаила Горбачева. Я со своей командой потихонечку, в тайне от всех, в том числе и от Ельцина, начал готовить «план X». Он предусматривал ряд контрмероприятий на случай силового давления на резиденцию Верховного совета и правительства.
19 августа в 6 часов утра ко мне (!) прибежал Коржаков — а жил я на даче по Калужской дороге — и сообщил о государственном перевороте… Я предложил всем немедленно покинуть дачу и переехать в Белый дом. Известными путями, потому что военные должны знать в радиусе 50 км все тропки, мы уехали. Времени у нас оставалось где-то 12—15 минут. Информация о нашем возможном аресте и даже физическом уничтожении уже прошла. Ехали, естественно, на служебных автомобилях, обгоняя по дороге танки. Примерно в 10 часов 30 минут мне (!) позвонил Язов и приказал оставить свой пост председателя подкомитета и сдать Белый дом.
— И что вы ему сказали?
— Я категорически (!) отказался. Он говорит: ну что ж, в таком случае я даю разрешение генпрокурору возбудить уголовное дело; вас ждет трибунал, а семья будет интернирована. Я сказал, что пугать меня не надо, и поставил в известность Ельцина об этом разговоре. А чтобы некоторые не думали, что я пятая колонна, официально заявил иностранным и нашим журналистам, что, пока жив, ни одна нога гэкачеписта (!) не зайдет в Белый дом. Около 19 часов подошла колонна танков, которую возглавлял майор Евдокимов. Мы его тут же сагитировали на свою сторону. И вот Ельцин забрался на танк и обратился с известным посланием к москвичам. Только после этого я приказал ввести «план Х» (!) в действие.
Начали строиться баррикады. Нами было предусмотрено три кольца. Стягивали весь транспорт — снегоочистительные машины, бульдозеры, троллейбусы, автобусы, — блокировали мосты. Подогнали 15 катеров (!) с зажигательной смесью, делали бутылки с зажигательной смесью. Да, чуть не забыл. Ельцин, дабы расширить мои полномочия, издал указ о назначении меня министром обороны на период восстановления законной власти в стране. Короче говоря, вся полнота ответственности за оборону была возложена на меня, и моим приказам все были обязаны подчиняться. В Белый дом по нашему сигналу стали прибывать офицеры, генералы, просто люди, которые работали в частных охранных структурах типа «Алекс», «Колокол». Раздали всем оружие, гранатометы, забаррикадировали множество входов-выходов. Были достоверные данные, что группа «Альфа» начнет штурм в 24 часа. К этому времени я связался со всеми командирами дивизий, со всеми кураторами, приказал строго-настрого ни в коем случае не допустить вмешательства военных в эту «разборку». А со своим давним знакомым (!) генерал-полковником Калининым, который командовал Московским округом, я договорился, чтобы он выполнял все приказы, но с задержкой хотя бы минут на 15—20: за это время мы успевали подготовиться к любому развитию событий.
— Как вам удалось договориться с военными?
— Ночью прибыл Лебедь — тоже с войсками (!). Я с ним побеседовал, потом провел его к Ельцину. Он заверил, что ВДВ штурмовать Белый дом не будет. С Грачевым я несколько раз разговаривал. Я связался с Громовым, он был первый замминистра внутренних дел. Для меня было важно, чтобы не выступила дивизия Дзержинского. И Громов оказался с нами. С Баранниковым был тесный контакт. Он помог нам ребятами из рязанской и ивановской школы милиции. Одновременно мы проводили психологическую войну (!). Шумейко со своими людьми лично (!) поехал в «Альфу», депутаты отправились во все полки вести разъяснительную работу с целью деморализовать уже вошедшие в Москву войска. Это было самой тяжелой и кропотливой работой, и депутаты с ней блестяще справились.
Тут я расскажу об одном малоизвестном эпизоде. Я всех депутатов предупредил: за невыполнение приказов — расстрел. И один такой — кажется, Титкин его фамилия — не вовремя прибыл в воздушно-десантную дивизию, сорвал все на свете. Я при всех приказал его расстрелять во внутреннем дворике Верховного совета — в общем, сымитировали казнь (!?). После этого послушание было абсолютно четким, беспрекословным. Вскоре прошла информация, что штурм переносится на три часа ночи. Откровенно говоря, как военный человек, я понимал, что против профессионалов, несмотря на то что у нас активных штыков человек 500 было, нас хватит максимум на несколько минут. Я об этом доложил Ельцину и предложил ему покинуть Белый дом. Он категорически воспротивился. И надо отдать ему должное — мало ли какие у меня с ним потом были взаимоотношения, но здесь Ельцин вел себя как человек исключительно мужественный…
— А что было потом?
— Позднее мне было поручено возглавить комиссию по рассмотрению причастности руководящего состава вооруженных сил к ГКЧП. Потому что многие писали шифровки в поддержку ГКЧП, даже некоторые — аудиопленки, и, естественно, после того, как все закончилось, надо было разбираться. У меня компроматом была вся комната забита. Я прямо доложил Ельцину, что, пока я жив, не допущу 37-го года, «ночи длинных ножей». И пришлось мне принять нелегкое для себя решение уничтожить все бумаги. Жгли целую ночь во дворе Верховного совета. Борис Николаевич остался очень недоволен.
Мой комментарий: хотя по своему воинскому званию Кобец и генерал-полковник войск связи, но в политическом отношении он фигура никчемная, не заслуживающая особого внимания. Такой же «проходящий» исторический персонаж, в общем и в целом столь же случайный, как и мой ныне покойный сосед по дому Г.И.Бурбулис. Одним словом — заместитель печально знаменитого Волкогонова в деле формирования качественно новой российской армии и флота, наряду с «Пашей-мерседесом», А. Кокошиным и Ю. Скоковым. Начал свою политическую карьеру достаточно хреново, был лепшим дружком известного «генерала Димы» — и закончил ее бесславно. Хотя в амплуа знаменитого гоголевского Ваньки Хлестакова выглядит очень броско и привлекательно для обывателя…
С недавних пор, по моим наблюдениям, стала стремительно разворачиваться трансформация общественных умонастроений, прежде всего в оценках окружавшими меня людьми пресловутого «августовского путча» как переломного события в искривленном пространстве торжественных клятв, присяг с референдумами, разного рода сладкоголосых обещаний предстоящего прихода внеземного разума (Мессии, не иначе…), причем с непременным улучшением условий жизни миллиардов подопытных особей.
22 августа 2020 года — в день Государственного флага России — возле памятника защитникам демократии на Новом Арбате собралась всего лишь жалкая кучка, пара десятков участников событий у Белого дома в 1991 году. А ведь государственную награду РФ — президентскую медаль «Защитнику свободной России» — носят на своей груди ни много, ни мало порядка двух тысяч человек. Где они все теперь? Умерли? Или опомнились и разбежались по своим углам?
В 1991 — 1993 гг. очень многие заинтересованные личности интриговали вовсю, чтобы попасть в список «защитников Белого дома» (совсем как в брежневские времена, когда все стремились непременно нацепить на грудь и записать в листок по учету кадров юбилейную медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (за доблестный труд)». Или в андроповско-горбачевские — съездить в столицу ДРА город Кабул на пару-тройку суток, отметить командировочное удостоверение в местной военной комендатуре и на этом чисто формальном основании тут же начинать нахально претендовать на положенные как «воину-интернационалисту» льготы от государства по коммуналке, санаторно-медицинскому обслуживанию, проезду и пр. Первое награждение «добровольцев-ополченцев» произошло 22 августа 1992 года, последнее — 25 июля 2006 года. Кавалерами этой медали стали Юрий Лужков, Гавриил Попов, Мстислав Ростропович, Андрей Макаревич, Стас Намин, Артём Боровик, Лев Дуров, корреспонденты CNN Стивен Херст и Клэр Шипман. Отказник от награды, по данным СМИ, был лишь один — Константин Кинчев, музыкант, лидер группы «Алиса». Сделал он это, кстати, уже в нехарактерном для процесса дежурных награждений 1994 году, якобы в знак протеста против убийства журналиста Дмитрия Холодова и начала военных действий в Чечне. Последним данную награду получил индивидуальный предприниматель из Костромской области Аркадий Борисов, который в августе 1991 года «отвечал за химическую (!) защиту Белого дома» и лично надевал противогазы на Бориса Ельцина и Руслана Хасбулатова.

Вот что произнес, к примеру, один из кавалеров этой госнаграды России, бывший депутат Моссовета Андрей Бабушкин по прошествии двух с половиной десятков лет после событий августа 1991 года: «К членам ГКЧП можно относиться по-разному. Могу сказать о них одно: делая выбор между кровавым разгромом образовавшегося вокруг Белого Дома живого кольца примерно в 80 тысяч человек, с одной стороны, и потерей власти, свободы, а иногда и жизни — с другой, эти глубоко нравственные и достойные люди отказались ввергать страну в пучину Гражданской Войны». Итог: подлые наймиты Запада и «изменники Родины» образца 1991 года и «глубоко нравственные люди» 2016 года — времена стремительно меняются, не так ли, господа присяжные заседатели? Как, впрочем, и публичные оценки многих совсем недавно происшедших событий в самой России и вокруг нее, вам так порой не кажется? Посмотрим, какими будут политические акценты и как именно они будут расставлены в выступлениях официальных лиц в преддверии приближающейся 30-й годовщины «августовского путча»…
Я старался, по мере возможности, внимательно наблюдать за тем, как в общественно-политическом пространстве России и других государств СНГ, то-есть в странах, радикально поменявших свой социально-экономический и политический строй, будут подаваться и восприниматься события тридцатилетней давности. И, должен откровенно признать, что ничего кардинально нового там, вопреки моим ожиданиям, опубликовано не было.
Грустно и смешно, конечно, было наблюдать за тем, как один из главных разрушителей СССР вице-президент России Александр Руцкой, которому насмерть перепуганный Михаил Горбачев своим указом №УП-2459 от 24.08.1991 года фактически преподнес в знак благодарности генеральские эполеты сразу же после краха «августовского путча», сейчас усиленно рядится в тогу патриота социалистической Родины и защитника Союза ССР. Это уже, на мой взгляд, просто кощунство! Такие всегдашние «записные герои и спасители Отечества», как Руцкой, действительно способны на многое во имя своего сохранения во власти… И, вообще, сам факт того, что российская история в своем причудливом и непредсказуемом развитии невольно объединила (через Постановление Госдумы об амнистии участникам событий августа 1991 и октября 1993 гг.) две совершенно разноплановые и разнонаправленные по своему политическому смыслу и своему политическому оформлению акции в моих глазах выглядит даже не как исторический курьез, а как откровенный политический фарс, как злобная гримаса эпохи нарождающегося отечественного капитализма олигархического толка. Руцкой и Хасбулатов — с одной стороны, и Крючков, Язов, Бакланов, Пуго — с другой, это типичный пример «коня и трепетной лани» в одной искусственно объединенной Государственной думой первого созыва упряжке…
Вот что громогласно возвестил на весь мир Александр Руцкой (на тот момент еще полковник, но уже полновесный первый и единственный вице-президент РСФСР): «Уважаемые россияне! Сегодня, 22 августа 1991 года, великая Россия выиграла великую победу над хунтой и подонками, которые нас пытались поставить на колени… Подлец Крючков арестован и направлен в МВД России, суд еще предстоит. Все подлецы будут арестованы и преданы суду. Великая Русь будет великой!». Спасибо Юрию Браженко, автору любительской съемки событий августа 1991 года в Белом доме, за то, что он сохранил для истории наглядные свидетельства хамелеонства и откровенного политического лицемерия, которое пронизывало всю тогдашнюю активность «белодомовских сидельцев», будущих кавалеров медали «Защитник свободной Россия»…
К 30-летию ГКЧП ничего масштабного, кроме дежурных перепевов ранее сказанного, я в прессе, увы, не обнаружил. Наиболее полную информацию предоставил публике бывший прокурор России В. Степанков. и при всем моем весьма критическом отношении к самой личности этого российского госчиновника, должен все же признать, что материалы «дела ГКЧП» он осветил более или менее корректно. Если, конечно, не принимать во внимание его оценочные суждения, приведенные в книге «ГКЧП: следствием установлено». Чего, к примеру, чисто с правовой точки зрения стоит его высказывание: «Союзный договор в тот момент был единым правовым рамочным документом, который позволял сохранять связи между республиками». И это говорит юрист-правовед и бывший высокопоставленный прокурорский работник! Действующие Конституции СССР и РСФСР — вот те базовые правовые акты, на которых продолжала держаться вся несущая конструкция советского государства, и которые после состоявшегося 17 марта 1991 года всесоюзного референдума никто уже не мог, не был вправе ни игнорировать, ни как-то обойти!
Имеется Постановление Съезда народных депутатов СССР (напомню — высшего органа власти в стране) №1854-I от 24 декабря 1990 года «О названии Советского государства» за подписью Председателя Верховного Совета СССР А. Лукьянова. Дословно оно гласит следующее: «Съезд народных депутатов СССР поименным голосованием постановляет: Поддержать предложение о сохранении названия Советского государства — Союз Советских Социалистических Республик». И все, больше не о чем было толковать, пытаться заниматься каким-то новоогаревским словоблудием об ССГ уже не имело ни малейшего политического смысла! Более того, Верховный Совет СССР своим решением «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года» постановил: «Государственным органам Союза ССР и республик руководствоваться в своей практической деятельности решением народа, принятым путем референдума в поддержку обновленного Союза Советских Социалистических Республик», исходя из того, что это решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР». На основании требований этих императивных решений парламента союзного государства законопослушный господин Степанков вместе со своими коллегами-прокурорами просто обязан был возбудить уголовные дела против любого должностного лица, которое хотя бы посмело заикнуться об изменении названия Союза ССР на какое-то иное типа «Союз Суверенных Государств»!
Что мне больше всего резануло слух в сегодняшние дни? Во-первых, пространные рассуждения об «августовском путче» бывшего первого секретаря МГК КПСС Ю. Прокофьева, кстати, моего бывшего коллеги по работе в аппарате МГК ВЛКСМ. Вот что он, в частности, произнес. «Я считаю, что ГКЧП было специально созданным предприятием для того, чтобы предвосхитить события грозящего (?) ХХIХ внеочередного съезда партии, на котором Горбачева явно не избрали бы генсеком. А поскольку он не был всенародно избранным президентом, то Верховный Совет, который к нему очень отрицательно относился в большинстве, его бы и освободил от должности президента Советского Союза.
Поэтому, я предполагаю, и был проведен этот акт ГКЧП, хотя это было совершенно несвоевременное, совершенно непродуманное мероприятие, которое позволило одномоментно и ликвидировать коммунистическую партию, и изменить общественно-политический строй в стране». Это можно сравнить с большой полицейской провокацией, сравнимой с поджогом Рейхстага. Поэтому Ново-Огарево и ГКЧП никакого отношения друг к другу не имели. Некоторые товарищи считают, что ГКЧП проводили только ради того, чтобы сохранить Советский Союз. Ничего подобного. Такой линии придерживался только один Лукьянов (последний Председатель Верховного Совета СССР… Я могу только одно сказать: это предательство со стороны людей, которые организовывали ГКЧП, и неумение действовать со стороны тех, кто с чистым сердцем пришел в состав ГКЧП. Вот я присутствовал, кроме первого, на всех заседаниях… Меня не пригласили принять участие в ГКЧП по одной простой причине 0 потому, что я в начале августа, 6 или 8 числа, встречался с Крючковым по его просьбе и высказал свою точку зрения, что вводить ГКЧП сейчас нецелесообразно… Я могу добавить такие вещи. Об этом, по-моему в одной из своих работ и Рыжков писал: на подъездах к Москве и другим крупным городам стояли рефрижераторы и с маслом, и с мясом, и с сыром. Их просто не выгружали. Если говорить о Москве, такую команду дал Попов как председатель исполкома Моссовета. То есть можно было все сделать».
Почитаешь такие запоздалые «откровения» бывшего партийного босса Москвы и невольно подумаешь: «И такие люди смели называться политиками и организаторами трудовых масс?». Настоящий детский сад, штаны на лямках! У тебя под самым носом вновь испеченный мэр столицы Г. Попов настоящий саботаж устроил, а ты, вместо того, чтобы местную прокуратуру тут же на него напустить для проверки, все на какой-то внеочередной съезд партии иллюзорные надежды питаешь. Да еще при этом и глубокомысленно рассуждаешь о происках Запада и о наличии в столице представителей «пятой колонны». Дело надо было делать в решающий момент бытия, а не сопли жевать! Почитайте сами всю его галиматью о событиях прошедших и текущих под названием «Могу сказать, кто виновен в развале Советского Союза!» (https://webkamerton.ru/2022/12/mogu-skazat-kto-vinoven-v-razvale-sovetskogo-soyuza).

Того же Михаила Горбачева, при нормальной организаторской работе КПСС, можно было бы еще на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года «сковырнуть», было бы только желание! (кстати, на апрельском объединенном Пленуме ЦК и ЦКК КПСС Прокофьев вел себя достаточно осторожно, не в пример тому же Бровикову из Белоруссии). Выразили бы ему недоверие через предоставление Кабинету Министров во главе с Павловым чрезвычайных полномочий, которые он просил у депутатов — и пусть тогда Съезд народных депутатов СССР во внеочередном порядке рассматривает этот вопрос, как и положено по закону. Почему, спрашивается, тот же Прокофьев вопреки партийной дисциплине не выполнил указаний ЦК КПСС об оказании всемерной поддержки действиям ГКЧП, которые содержались в шифротелеграмме ЦК КПСС за подписью О.С.Шенина, ушедшей на места с моей разрешительной визой на отправку? «Под ружьем» у Юрия Прокофьева были оперативные отряды районных комитетов КПСС города Москвы, созданные специально на случай проведения безотлагательных мобилизационных мероприятий, и в них состояло никак не менее двадцати — тридцати тысяч человек! Получается, что эти парадные бездельники были способны играть лишь роль «правофланговых» во время праздничных демонстраций трудящихся на Красной площади, а защитить партию и советскую власть были совсем неспособны?
Когда 17 августа 2021 года в газете МК-RU была опубликована хвалебная статья Александра Мельмана о фильме Наили Аскер-заде в стиле à la Dumas-père под названием «ГКЧП. 30 лет спустя» да еще и с интригующим подзаголовком «Идеи ГКЧП победили: „У нас была великая эпоха“. Назад в СССР» я понял: если уж самый раскрученный брендовый интервьюер России лично взялся за освещение этой темы — значит команда на сей счет прошла с «самого-самого верха». Поэтому решил посмотреть этот фильм и сформировать собственные оценки с учетом накопленных на сей счет знаний. Ну, и что я в очередной раз увидел?
Фильм, на мой взгляд, получился никакой: как говорят в народе — «Ни Богу свечка, ни черту кочерга». Повествуется обо всем сразу, причем слишком «общо» и ни о чем действительно глубинно, с конкретикой, плюс хотя бы с минимальным авторским анализом и авторскими оценками услышанного от собеседников. Одним словом — «прыг-скок» по верхушкам прошедших событий, но не более того. Не говоря уж о том, что для беседы с А. Лукашенко была специально «притянута за уши» тема Беловежской пущи, а завершился этот фильм сценой расстрела Белого дома в октябре 1993 года. Правда, в фильме пару раз в угоду текущей конъюнктуре показали Путина рядом с Собчаком да по запретным ранее кабинетам ряда объектов зрителей поводили. Для меня определенный интерес представили только беседы Н. Аскер-заде с В.В.Генераловым и В.В.Золотовым, они были достаточно откровенными и объективными, надо сказать. Да еще была любопытная публикация снимка протокола допроса Горбачева как свидетеля, из которых видно: явно не те вопросы задавала ему команда ельцинских следователей. Почему так — вопрос уже навсегда останется без ответа.
Много чего можно было бы написать по событиям 18—27 августа 1991 года, на книгу вполне бы хватило, особенно если все представить в модном ныне разговорном жанре, через диалоги действующих лиц. Но я в заключение этой главы приведу лишь заключительный абзац выступления В.А.Крючкова на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 марта 1991 года, текст которого готовил именно я, так уж получилось. «Во всех слоях общества нарастают требования навести порядок именно сегодня, когда дело не дошло до самого худшего. Обстоятельства таковы, что без действий чрезвычайного характера обойтись уже просто невозможно. Не видеть этого — равносильно самообману, бездействовать — значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Уважаемые товарищи депутаты! В ваших руках находится судьба народов нашей огромной страны, Советского государства, от вашей мудрости и решительности зависит — быть или не быть великой державе, сумеем ли мы сегодня остановиться на краю пропасти. Обстановка, видимо, сегодня такова, что требует от всех нас отрешиться от личного, придать должное общегосударственному, и прежде всего — борьбе за сохранение Союза. Все остальное, мне думается, должно быть подчинено этому…».
Сегодня, с высоты истекшей более четверти столетия, богатой на самые разнообразные события российской современности, скажите, положа руку на сердце: разве в своем анализе, в своих выводах, в своих призывах к обществу советские чекисты были тогда не правы? Разве все дальнейшие события не произошли именно по тому сценарию, от которого они безуспешно предостерегали депутатов и общество? На кого будем и далее кивать, кому будем предъявлять исторические претензии через новые четверть века?

Хорошенько поразмыслите об этом на досуге и постарайтесь очень аккуратно отделить зерна от плевел. Иначе через какое-то время подлинными историческими героями августа 1991 года — «защитниками советской власти и советского государства» станут в глазах молодежи «афганец» Александр Руцкой и выходец из Чечни Руслан Хасбулатов, а про главу КГБ Владимира Крючкова все будут вспоминать лишь как о «коварном исполнителе зловещего плана Ю. Андропова по разрушению Советского Союза и тотальной сдаче его империалистическому Западу под лживыми лозунгами конвергенции».
ГЛАВА ВТОРАЯ. Агенты влияния и активные мероприятия разведки
Когда на протяжении целого ряда лет я трудолюбиво и добросовестно сгребал «до кучи» свои совершенно разрозненные литературно-публицистические наброски под общим условным названием «Узелки на память», то даже для себя самого не мог хотя бы приблизительно, «навскидку» определить их потенциальный совокупный объем. Интересных эпизодов за двадцать лет моей разведывательной «одиссеи капитана Блада» накопилось чрезвычайно много, особенно за более чем семилетний период пребывания в ближайшем окружении Владимира Александровича Крючкова, светлая и вечная память и ему, и его славным делам как профессионала — подчеркиваю, именно как профессионала — отечественных спецслужб и видного советского политического деятеля. Читая сегодня многочисленные публикации хотя бы по той же тематике Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и так называемого «августовского путча», я стал гораздо отчетливее, чем ранее, понимать исключительную важность своевременного обеспечения авторского приоритета в подаче и трактовке целевого информационно-аналитического материала. В богатом на литературные сравнения и аналогии русском языке это великолепно отражено в двух народных поговорках: «Дорога ложка к обеду» и «После драки кулаками не машут».
Многое из того, что я очень осторожно, порой буквально наощупь, но всегда неизменно продуманно и очень взвешенно стремился осветить в своих «узелках» еще двадцать пять — тридцать лет тому назад, сегодня под влиянием стремительно и кардинально изменившейся политической обстановки, новых актуальных требований и вызовов текущей политической конъюнктуры, их явной и скрытой оголтелости применительно к особенностям переживаемого страной и обществом политического момента очень стремительно и даже нахраписто превратилось в некую аксиому для широкой обывательской аудитории. Порой даже в какой-то расхожий «мем», предназначенный для обширного и очень активного потребления «горлопанами, глашатаями, главарями» невзыскательной усредненной массы зрителей, слушателей и читателей. В качестве очень наглядного тому примера приведу хотя бы знаменитое ныне выступление Председателя КГБ СССР, члена Совета Безопасности СССР В.А.Крючкова на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года. В этом поистине историческом и, одновременно, трагическом позорище на все ближайшие десятилетия вперед мне пришлось поприсутствовать лично, хотя и не по собственной воле. Я сидел в кремлевском зале заседаний Верховного Совета СССР бок о бок с так называемыми народными депутатами СССР и внимательно сверял текст проекта подготовленного мною выступления Владимира Александровича с тем, что реально звучало из его уст с трибуны этого собрания. Цель такой обработки текста, надеюсь, всем совершенно ясна: при необходимости предполагалось «запустить в дело» отредактированный вариант выступления руководителя ведомства перед депутатами, которому мы чуть позднее и дали «путевку в жизнь» по команде Крючкова. Правда, было сделано это всего лишь в форме якобы «несанкционированной утечки» некоторых ключевых положений данного материала через медийные возможности популярного ленинградского журналиста из телепередачи «Шестьсот секунд» Александра Невзорова. И это стало явным политическим просчетом всей верхушки руководства КГБ, о чем Владимир Александрович впоследствии очень сожалел и постоянно сокрушался — следовало бы непременно озвучить как в советской, так и в зарубежной прессе его выступление целиком, без каких-либо купюр, редактирований и «приглаживаний» текста — таким, каким оно прозвучало для истории. Ведь официальной стенограммы закрытого заседания Верховного Совета СССР не велось — была только техническая запись, попробуй ее сейчас отыскать! И точно так же следовало бы поступить с текстами выступлений В.С.Павлова, Д.Т.Язова, Б.К.Пуго.

Особенно следует выделить доклад председателя правительства Павлова, мощное у него получилось выступление. КГБ СССР специально подготовил для него закрытые справочные материалы о положении в экономической и финансовой сфере, я сам отвозил их на Большую Дмитровку руководителю Секретариата союзного премьера Б.Т.Бацанову.
Вдобавок к этому нужно было подробно, в красках и в цвете отразить в прессе все то лукаво-хитромудрое бекание и мекание, демагогическое маневрирование и откровенное «запудривание мозгов» народным депутатам А.И.Лукьяновым, Р.Н.Нишановым и самим М.С.Горбачевым. Тексты всех этих выступлений все же были даны в кратком изложении на страницах «многотиражной газеты» депутатской группы «Союз» «Политика» (№7, июнь 1991.) и в газете «Литературная Россия» от 28 июня 1991 г., но все это было явно не тем, что требовалось обществу в силу крайней серьезности переживаемого страной политического кризиса.
С легкой руки многочисленно расплодившейся армады доморощенных отечественных и зарубежных «конспирологов» по широким просторам печатных и электронных средств массовой информации, а впоследствии — в разного рода блогах, ютубах и тик-токах пошли гулять целые романы, повести и даже поэмы в стихах и в прозе (опер, балетов, мюзиклов и прочих музыкальных произведений пока еще, увы, не создано, но еще не вечер, все еще впереди) о бесконечном и постоянно растущем засилье в позднесоветском СССР «агентов влияния» зарубежных спецслужб. Этот мутный информационный поток абсолютно непрофессионального, откровенно пропагандистского содержания и очевидной направленности непрерывно нарастает изо дня в день и конца-края ему пока не видно. Сегодня огромная толпа «агентов влияния» Запада и Востока, Севера и Юга, Бильдербергских, Давосских, прочих закрытых и полузакрытых клубов и форумов, «Комитетов 300, 400, 500 и т.д.», Трехсторонних, Четырехсторонних и разного рода невнятных многосторонних комиссий, Билатералей и Трилатералей, фондов Сороса, Форда, Рокфеллера и примкнувшего к ним Ротшильда, «Национального фонда за демократию», глобальных суверенных фондов и т. д. легко и непринужденно бегает по улицам российских городов. Их развелось уже как собак нерезаных, а все претензии публики по-прежнему громче всего звучат в адрес КГБ СССР, которого уже давным-давно нет и в помине! «Просмотрели, недоглядели, проморгали, упустили, не пресекли, не посадили, не придушили, не ликвидировали» и так далее в том же духе до бесконечности. Причем все эти досужие рассуждения и эмоциональные пожелания относятся преимущественно лишь к участникам достаточно узкой по численности и персональному составу группы «штатных разрушителей СССР», среди которых особой заботой и вниманием обывательской публики окружены М. Горбачев, А. Яковлев и Э. Шеварднадзе. Приведенных «экспертной частью» обывательской публики списков «явных, безусловных и совершенно очевидных агентов влияния» Запада, Востока, Севера или Юга сегодня можно было бы легко насчитать по публикациям в бульварной прессе уже не один десяток! Обширная, в массе своей достаточно наивная и при том несколько туповатая публика просто не знает, о чем она столь проникновенно, порой с нотками истерики, но зато с очевидным псевдо-патриотическим надрывом говорит.
Да и те же ветераны органов советской контрразведки не очень-то стремятся помочь им в этом разобраться самостоятельно и всерьез, без участия ангажированных, продажных писак из целого ряда электронных и печатных СМИ. Причина тому достаточно простая, даже примитивная и она лежит прямо на поверхности: они-то, в отличие от работников разведки, и сами не шибко грамотны в этой непростой материи, чтобы профессионально разбираться в деталях и особенностях весьма специфической сферы подрывной деятельности специальных служб противника и при этом не путать «божий дар с яичницей».
В советской разведке периода моей службы в ней активное мероприятие — это ответственнейшая специальная операция по содействию специфическими силами, средствами и методами разведывательных и контрразведывательных служб Советского Союза успешному решению наиболее актуальных, наиболее сложных, острых и деликатных проблем внешней и внутренней политики СССР. Ранее я мельком упоминал, что комплексное активное мероприятие, завершившееся вполне конкретным и весомым позитивным результатом, в котором мне, благодаря стечению ряда обстоятельств, довелось сыграть главную, ключевую роль, прошло в оперативных отчетах внешней разведки по наивысшей разметке и было самостоятельно (!), в виде отдельного доклада в Инстанцию отражено в так называемой сводке «Горизонт». Это являлось высшей оценкой как самой идее, оперативной «задумке» и «начинке» активного мероприятия, так и уровню его организации, порядку проведения, весомости достигнутых в конечном итоге результатов, а также качеству чисто оперативно-разведывательного обеспечения проведенной работниками Службы работы! Именно об этом активном мероприятии как о наглядном примере успеха советской внешней разведки В.А.Крючков несколько позднее рассказал (естественно, с соблюдений всех принятых в разведке правил конспирации и зашифровки оперативных данных) на одном из оперативных совещаний руководящего состава ПГУ КГБ СССР. Кстати, в этом же комплексном спецмероприятии за рубежом активное участие принимал и ныне покойный Леонид Владимирович Шебаршин, добрая и благодарная ему память! В данном конкретном случае я хотел бы подчеркнуть лишь одно: во времена СССР «давать старт» намеченному активному мероприятию разведки с территории нашей страны запрещалось категорически! В противном случае это была бы уже обычная спецпропаганда, но никоим образом не активное мероприятие, ибо «уши» заинтересованной в ее проведении стороны проглядывались мгновенно и без особого труда, а эффективность проводимой различными источниками работы снижалась многократно. Поэтому разного рода байки т.н. консультантов Международного отдела ЦК КПСС или руководителей ряда академических институтов АН СССР страноведческой направленности об успешно проведенных ими «беседах влиянии» с представителями правящих элит западных стран выглядят по меньшей мере легковесно и несерьезно. Если кто всерьез заинтересовался указанной темой, рекомендую ознакомиться с текстом изданного Государственным департаментом США в августе 1987 года специального доклада под названием «Советские активные мероприятия: Доклад об активных мероприятиях и пропаганде, 1986—87» (https://vtoraya-literatura.com/pdf/sovetskie_aktivnye_meropriyatiya_ch1_1987__ocr.pdf).
В 2011 году в издательстве «Алгоритм» в серии «Как Путину обустроить Россию» вышла книга бывшего первого заместителя Председателя КГБ СССР Ф.Д.Бобкова под названием «Как бороться с „агентами влияния“. В редакционной аннотации на эту книгу говорится, в частности: „Видеть „запальные шнуры“ и вовремя реагировать на них можно научиться только в том случае, если достало силы детально разобраться в их механизме“, — отмечает автор и подробно рассказывает о том, как боролись с „агентами влияния“ в советское время. Он приводит уникальные факты из деятельности Пятого Управления КГБ и подробности различных операций по нейтрализации антигосударственных элементов».
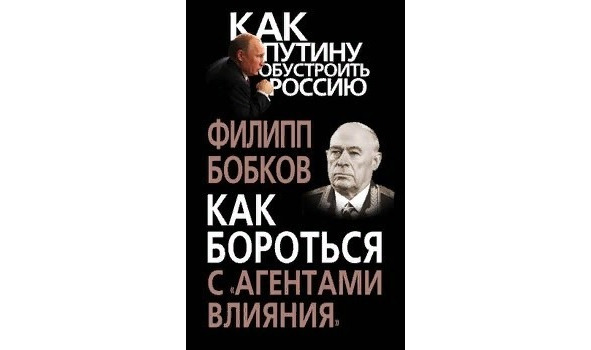
«Уникальные факты», даже так… Скажите-ка, уважаемые коллеги из «политической контрразведки», кого из выявленных, обезвреженных и изобличенных в Советском Союзе в послесталинский период агентов специальных служб зарубежных стран вы смогли бы обоснованно и с профессиональной точки зрения достаточно оправданно отнести к категории агентов влияния? Неужели тех же диссидентов типа Солженицина, Бродского, Сахарова, Щаранского, Буковского, Аксенова, Новодворской, Чуковской, Зиновьева, генерала Григоренко — кого там еще можно добавить в этот перечень подопечных интерессантов 5-го Управления КГБ? Вы их всех оперативно разрабатывали? Да, причем некоторых очень даже активно, пристально и прицельно, с привлечением немалых оперативных сил, средств и возможностей. Да вот только каких-то весомых доказательств их причастности к агентуре зарубежных спецслужб наши доблестные контрразведчики так и не смогли добыть — заявляю об этом вполне ответственно, опираясь на обширный массив ваших же собственных оперативных документов. Так чего же после этого языком попусту молоть на темы таинственного «списка Крючкова», в котором были якобы раскрыты данные о конкретных агентах влияния в СССР? Или по поводу не существовавшей в природе, но зато уж больно красочной информационно и зловеще привлекательной для слуха обывателя «доктрины руководителя ЦРУ Аллена Даллеса»? Или в отношении реально существовавшего, но явно недовскрытого до нужной глубины понимания и логического завершения «плана Лиотэ»? А также многих иных расхожих конспирологических разностей, которые сегодня вовсю на слуху и на устах у отдельных сверхбдительных граждан из околополитических группировок типа движений Е. Федорова, С. Кургиняна, Н. Старикова и др.?
Кстати, замечу попутно, что роль и значение Ф.Д.Бобкова как непосредственного руководителя в организации практической деятельности 5-го Управления КГБ СССР является, на мой взгляд, несколько преувеличенной. Да, он действительно был поистине «мозговым центром» в борьбе с «диссидентами» в СССР. Но в среде этой самой «гнилой советской интеллигенции» бóльшей славой непримиримого борца с инакомыслием, равно как и сдержанным почтением и откровенной опаской пользовался отнюдь не он, как непосредственный куратор этого направления, а многолетний начальник «пятерки» (с 1983 по 1989 годы) генерал-лейтенант Иван Павлович Абрамов.

Вот он уж действительно был очень крутым, жестким и требовательным руководителем, нередко в его поведении проскальзывали элементы определенной заносчивости и даже некоторого самодурства. Но ведь и время-то на его долю выпало очень непростое с точки зрения необходимости неотложного принятия крайне ответственных решений и организации практических действий… Во-первых, все знаменитое «хлопковое дело» — что называется, «от заката и до рассвета», состоялось как раз при нем. Во-вторых, валом пошла беспрестанная череда мощнейших взрывов и аварий то в Чернобыле, то в Арзамасе, Уфе, Свердловске и во многих других местах (а террором как раз и занималась «пятерка», все «шишки» валились сверху именно на ее многострадальную голову). В-третьих, это происходило в период начала безудержного и безбрежного разгула «парламентаризма» в стране, развертывания боевой активности мусульманских организаций и движений в Южном Ливане против СССР и пр. Но самое главное — это был период внезапного и очень резкого всплеска той волны национализмов всех мастей и оттенков во многих проблемных регионах СССР — начиная с Нагорного Карабаха, Закавказья, прибалтийских республик и заканчивая регионами Средней Азии, который, на мой взгляд (и я прямо и открыто написал об этом в книге «Зарубки на гриппозной сопатке. Размышления о нашем недавнем прошлом…») в конечном итоге и привел к крушению СССР.
Ведь и тогдашний руководитель КГБ СССР В.М.Чебриков тоже далеко «не сахар» был. Я с ним пару-тройку раз беседовал в своем кабинете и испытывал при этом явный дискомфорт — по манере ведения разговора типичный «номенклатурный барин», хотя уже и не был «при портфеле», при этом внутренний идейный «стержень» у него все же проглядывался достаточно отчетливо… Член Политбюро Егор Лигачев позднее рассказывал о Чебрикове той поры, комментируя некоторые уже современные свидетельства о том, что председатель КГБ выглядел человеком постоянно угрюмым и мрачным: «Ну что поделаешь, характер такой. Он был немного замкнутый, на первый взгляд несколько суровый, но спокойный, надежный человек, и мы все ему верили. Он в рот Горбачеву не смотрел. Он один из немногих, кто мог и возразить с должным тактом, попытаться убедить и провести свою линию».
Однако вовсе не случайно в 1989 году по прямому и почти ультимативному требованию А.Н.Яковлева (а если говорить еще более определённо — с подачи окружавшего его достаточно мощного просионистского лобби в ЦК КПСС и многих других руководящих органах страны) именно И.П.Абрамов, уже не первый год мечтавший о должности заместителя председателя КГБ и имевший вполне реальные шансы на ее получение, был неожиданно для многих (в том числе и для него самого) был переведен в Генеральную прокуратуру СССР на должность «-надцатого» заместителя Генерального прокурора. Все было сделано чисто по-советски, по-коммунистически: вроде бы формально человек и идет на повышение, но по схеме «с глаз долой — из сердца вон».
Его заменил на боевом посту в КГБ очередной партийный чиновник, достаточно, на мой взгляд, серенький по своим способностям руководителя и по манере личностного политического поведения — заведующий сектором отдела административных органов ЦК КПСС Евгений Федорович Иванов. Кадровик, может быть, из него был и неплохой, да и партийный чиновник вроде бы тоже ничего, но какой он, к лешему, «оперативник-контрразведчик в поле»? Поэтому-то Е.Ф.Иванов после развала СССР вслед за Бобковым и побежал резво в группу «Мост» выслуживаться перед олигархом Гусинским, бывшим ценным подопечным «пятерки»…
Лично я мог бы в чисто умозрительном, предположительном плане назвать только три кандидатуры (из числа известных и разоблаченных агентов — подчеркиваю это особо, далеко не всех еще разоблачили до сих пор!) на роль агентов влияния. Из них две реальные фигуры (бывший помощник А.А.Громыко Аркадий Николаевич Шевченко, ставший по его воле заместителем Генерального секретаря ООН по квоте СССР и выдвиженец маршала артиллерии Варенцова, доверенное лицо руководителя ГРУ ГШ ВС СССР, любимца депутата Хинштейна генерала Серова полковник Олег Владимирович Пеньковский) и одна потенциальная (прототип героя фильма «ТАСС уполномочен заявить» сотрудник МИД СССР Александр Дмитриевич Огородник, который чуть было не стал полноценным зятем члена номенклатуры высшего эшелона власти, секретаря ЦК КПСС Константина Викторовича Русакова). Настоящим, классическим агентом влияния (только вот весьма затруднительно определить с точностью — спецслужб или тайных структур каких именно стран?) являлся, по моей сугубо личной оценке, покойный Лев Давидович Бронштейн, более известный всему миру под фамилией Троцкий.
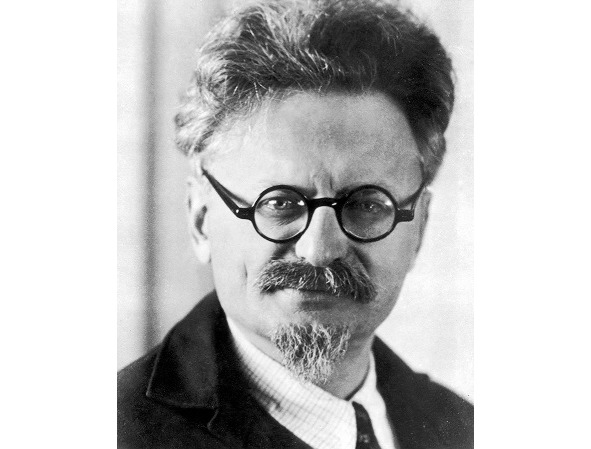
Думаю, именно это обстоятельство было одной из основных причин, по которой долготерпеливый и политически выдержанный И.В.Сталин по прошествии многих лет межличностных политических баталий все же «дал отмашку» на его физическую ликвидацию, но сделал это лишь в 1940 году, в разгар уже начавшейся Второй мировой войны! В Турции, во Франции, в Норвегии Л. Д. Троцкий с точки зрения обеспечения личной безопасности был куда более уязвим, чем в Мексике, однако вождь почему-то очень долго, еще с 1926—1929 гг. терпел все его многочисленные явно враждебные выходки. В том числе направленные на организацию заговорщицкой деятельности в среде высшего военного руководства страной, идущей в очевидную параллель с предпринятыми после известных событий в Испании целенаправленными и настойчивыми усилиями спецслужб гитлеровской Германии. Другой хрестоматийный агент влияния кайзеровской Германии — небезызвестный Александр Парвус (Израиль Лазаревич Гельфанд) с его достаточно узкой, но зато хорошо законспирированной и очень влиятельной креатурой приближенных лично к В.И.Ленину (Ульянову) и к его ближайшему окружению лиц (Троцкий, Зиновьев (Апфельбаум), Радек, Фюрстенберг (Ганецкий), Максим Горький (Пешков), Коллонтай, Раковский, Козловский, Воровский и др.).
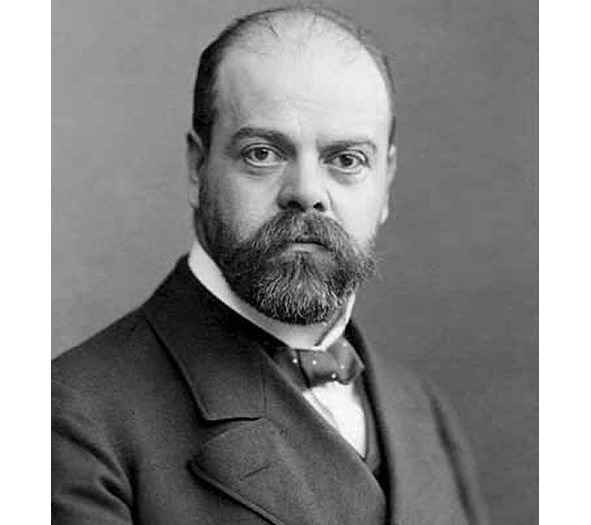
Их истинная роль в событиях 1905—1917 гг. и многие непонятные, алогичные поступки не до конца прояснены историками (в том числе историками спецслужб) и до сих пор. И то, что Парвуса, как и Троцкого, сегодня всячески пытаются обелить на страницах мировой истории именно через российские СМИ и именно через российский кинематограф — все это, на мой взгляд, лишь отдельные фрагменты тщательно продуманного и хорошо скоординированного глобального замысла очередной ревизии отечественной истории с очень дальним и весьма перспективным прицелом… Был, правда, в отечественной истории еще один «суперагент влияния» — «расстрелянный английский шпион» Лаврентий Павлович Берия… Но в дело его «разоблачения как вражеского агента» и в его физическое устранение контрразведчики и разведчики всех мастей свой добровольно-принудительный вклад внесли скорее на сугубо политическом, чем на профессиональном, спецслужбистском уровне — преимущественно через непрестанную череду последовавших после марта 1953 года доносов, пасквилей и порций грязных помоев друг на друга в ЦК и в прочие надзорные инстанции государства.
Надо особо подчеркнуть, что в советской внешней разведке моего периода службы не так уж много сотрудников было в состоянии обоснованно «похвастаться» тем, что у них на связи находятся настоящие, а не «галочные для годового резидентурского отчета» — проще говоря, «фантомные» — агенты влияния. Да, каналов оказания нужного влияния на решения политического и военного руководства ряда зарубежных стран у СССР имелось вполне достаточно, но далеко не все они приводились в действие с привлечением агентурных возможностей разведок. Один лишь совместный поход в специально построенную для этих целей финскую баню главного резидента КГБ в Хельсинки в компании с президентом или премьером этой страны давал конечного проку нашему государству во много крат больше, чем десятки и сотни публикаций по нужной тематике в прикормленных советской внешней разведкой СМИ этого региона… Действительно, острое активное мероприятие разведки — это ведь как дуэльный пистолет с одним набоем в стволе: выстрелил, поразил нужную мишень (или же, к несчастью, промахнулся, что тоже бывает) — тут же побыстрее «обрубай концы» и прячь свои достаточно характерные по своей шпионской конфигурации уши, пока за них не ухватилась контрразведка противника. Иначе она тут же, не сходя с места, моментально вычленит использованные для активного мероприятия основной и вспомогательные каналы, вычислит конкретно задействованные механизмы «агентурного влияния» и, в отличие от бытовавшей в тот период достаточно дурной практики советских коллег, долго церемониться с ними не будет — закатает всех скопом в комфортабельную западную тюремную буцегарню всерьез и надолго, чтобы другим идейным или материальным доброхотам было неповадно. Вот у меня, к примеру, имелись неплохие оперативные каналы для оказания влияния на зарубежную аудиторию по целому ряду актуальных проблем, я даже свою первую ведомственную награду получил именно за это, но чистого, рафинированного «агента влияния» на связи не имел ни одного.
Давайте попробуем немного глубже и более пристально разобраться с историей появления на свет знаменитой записки КГБ СССР в ЦК КПСС под названием «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан», содержание которой было озвучено В.А.Крючковым на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года. Эта записка была обнаружена мною в материалах «Особой папки» 1-го отдела Секретариата КГБ СССР, которым в тот период я руководил как заместитель начальника Управления. Причина, по которой я обратил на нее внимание, заключалась в непосредственной причастности к ее составлению Управления «К» ПГУ КГБ СССР (внешняя контрразведка), возглавляемого в тот период генерал-майором О.Д.Калугиным — на копии направленной в ЦК КПСС записки стояли визы начальника ПГУ В.А.Крючкова, вице-адмирала М.А.Усатова (первый заместитель начальника ПГУ, курировавший работу внешней контрразведки) и самого Калугина, свежеиспеченного народного депутата СССР. Выполняя вместе с В.И.Жижиным поручение Крючкова относительно масштабной проверки имеющихся в КГБ СССР материалов, касающихся прежней, «доперестроечной» деятельности целого ряда народных депутатов СССР, по которым отныне и на ближайшее обозримое будущее в связи с их вновь обретенным статусом советского парламентария, строго по закону дальнейшее проведение оперативной работы на прежних основаниях было бы уже невозможным. Требовалось, при необходимости, принятие немалых дополнительных усилий и получение соответствующих санкций «на самом верху», что ярко проявилось в хорошо известном эпизоде с докладом В.А.Крючкова Президенту СССР М.С.Горбачеву подборки оперативных материалов по народному депутату СССР академику А.Н.Яковлеву.
Мы тогда вдвоем с Владимиром Ивановичем (добрая ему память!) вычленили из фондов «Особой папки» немалый массив оперативной информации, по которым руководству КГБ СССР предстояло принять санкционированные свыше решения и дать необходимые конкретные оперативные указания в подразделения центрального аппарата и в структуры КГБ на местах. В.А.Крючков сразу же вспомнил всю историю появления в ПГУ данного оперативного материала, тут же дал необходимые поручения Л.В.Шебаршину, В.А.Кирпиченко и Сергею Михайловичу Г. относительно выяснения возможности его публичного задействования без нанесения оперативного и иного ущерба источнику поступления к нам этой информации. Должен прямо сказать, что прозвучавшие впоследствии «признания» некоторых ветеранов нелегальной разведки относительно их личной причастности к данному документу, являются откровенной выдумкой, либо стремлением выдать желаемое за действительное. Исходные сведения поступили к нам непосредственно от руководителя Министерства госбезопасности ГДР («Штази») Эриха Мильке (вечная и благодарная память Герою Советского Союза, ветерану Коминтерна!) в составе так называемого оперативного подарка — подборки документальных оперативных материалов по многим интересующим советскую сторону вопросам. Вскоре выяснилось, что первоисточник информации находится в зоне гарантированной безопасности и что ее разглашение не нанесет ущерба политическим интересам СССР или оперативным интересам КГБ СССР. Сегодня, спустя десятилетия, я вполне допускаю возможность того, что эти сведения были добыты через возможности легендарного ГДРовского разведчика «Топаза» или его жены «Бирюзы» — Райнера Вольфганга Руппа и Энн-Кристин Боуэн, работавших в самом «сердце» штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Как и всегда, они стали еще одной жертвой предательства своих бывших коллег.
Давайте теперь посмотрим на содержание некоторых положений этого документа, датированного 24 января 1977 года, данного в изложении депутата Государственной Думы ФС РФ, журналиста и писателя А.Е.Хинштейна, приведенного в его книге «Как убивают Россию». Что из себя представляет сам автор этой книги как специалист в сфере журналистского освещения деятельности отечественных специальных служб и местных правоохранительных органов, у меня кое-какие знания и собственное мнение за душой имеются. Но в данном конкретном случае, при всем моем достаточно критичном отношении к нему, депутат не фантазирует «на вольную тему», как он порой это делает в своих многочисленных авторских публикациях в газете «Московский комсомолец», а, по-видимому, отталкивается все же не от простого изложения содержания данной записки, как это сделал до него, к примеру, ветеран органов КГБ Олег Хлобустов и многие другие публицисты, авторы бесчисленных заметок в прессе, а ссылается на текст подлинного документа, предоставленного ему кем-то специально для использования в данной книге. Единственное сомнение на сей счет у меня возникло, глядя на гриф секретности приведенного депутатом документа — «совершенно секретно», хотя до процедуры рассекречивания он имел самую высокую степень секретности «Совершенно секретно. Особая важность», которая была снята Председателем КГБ незадолго до его выступления перед депутатами Верховного Совета СССР.
Итак, пойдем по тексту и проанализируем его некоторые ключевые положения. «По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности, в последнее время ЦРУ США… разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизацию социалистической экономики». Разложение советского общества — это понятно (идеологические диверсии и прочие зловредные комбинации спецслужб), но здесь еще упомянута и дезорганизация социалистической экономики (sic!). Где вражеских шпионов и подлых наймитов Запада теперь следовало бы искать в первую очередь, окромя привычной среды «насквозь прогнившей и рефлексирующей советской интеллигенции», которой уже и так с 1967 года очень пристально и предметно занималось вновь созданное 5-е Управление КГБ СССР во главе с Ф.Д.Бобковым? Правильно, главным образом в структурах Совета Министров СССР, Госплана и Госснаба СССР, в ведущих экономико-финансовых министерствах и ведомствах государства, в руководстве базовых предприятий ВПК, в верхушке отечественной науки, в верхних эшелонах набирающих политическую силу консультативных «мозговых центрах» страноведческой направленности типа ИМЭМО и ИСКРАН.
Ну, и много контрразведчики нарыли здесь толкового по своей прямой и непосредственной спецслужбистской части? Как говорил черт, остригая кошку (по другим фольклорным и литературным источникам, приведенным доктором филологии В.М.Мокиенко в научной статье — речь шла все же о стрижке свиньи): «Визга много, а шерсти мало», не правда ли, уважаемые коллеги из контрразведки? Полноценные, самостоятельные контрразведывательные подразделения системы государственной безопасности в сфере экономики, транспорта и связи (то есть 6 и 4 Управления КГБ СССР) были вновь воссозданы после разрушенной «сталинско-бериевской системы» лишь в 1981—1982 гг. Да и само правовое понятие «экономическая диверсия» (в отличие от существовавшей аж с 1967 года «идеологической диверсии») было и вовсе введено в повседневный чекистский обиход (причем далеко не в полной мере, в крайне урезанном виде и без должного нормативного закрепления) только в начале 1991 года. Это произошло во времена, когда органы КГБ по команде «сверху» были вынуждены всерьез и вплотную заняться проблемой искусственно созданного в стране товарного и денежного дефицита всего и вся — начиная от проблемы скорейшего запуска в работу закупленного под многомиллиардные западные кредиты дорогостоящего импортного оборудования для нефтехимии и металлургии, валяющегося на заднем дворе предприятий под снегом и дождем, и заканчивая выявлением инициаторов и авторов искусственных заторов на складах банальных продуктов питания, сигарет, носок и колготок, стирального порошка, зубной пасты и прочего потребительского добра.
Вспомните, кто в период написания записки был куратором всей советской экономики? Правильно, по-прежнему неизменный «сталинский нарком» и « bête noire» почти для всего состава тогдашнего Политбюро ЦК Алексей Николаевич Косыгин. Однако, по свидетельству его внука А.Д.Гвишиани, «уже после первого инфаркта в 1976 году он стал другим человеком — из Косыгина-победителя, способного решить любые вопросы, он превратился в больного 76-летнего человека». Вот они, реальные последствия торжества политического курса геронтократии в СССР, когда действительно умный, талантливый и реально мыслящий руководитель советского государства был вынужден вопреки своим собственным желаниям и своей личной воле «героически помирать на боевом посту».
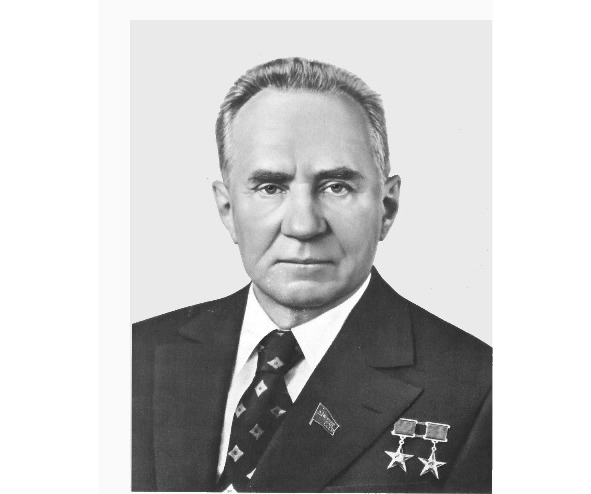
Про достаточно странный случай с опрокидыванием в июле 1978 года в районе его государственной дачи и известного госпиталя Минобороны на старом русле Москвы-реки в подмосковном Архангельском байдарки «Скиф» бывшего чемпиона Ленинграда по академической гребле А.Н.Косыгина я, пожалуй, лучше промолчу. О подобных вещах можно и должно рассуждать, опираясь только на неоспоримые, «железобетонные» факты, а не на предположения, домыслы, гипотезы и пересказы о случившемся, даже если они исходят из весьма компетентных и заслуживающих доверия источников. «Скиф» — это одиночная академическая байдарка для профессионалов. Для того, чтобы она не переворачивалась самопроизвольно и случайно, в ней были дополнительно смонтированы метровые поплавки из пенопласта. В обычной, стандартной ситуации спортсмен, потерявший равновесие, не переворачивался головой вниз, а мог сравнительно легко выпрямиться обычным движением тела. У премьера внезапно случился микроинсульт с кратковременной потерей сознания — и это все, что можно с большей или меньшей уверенностью и с очевидностью сказать. А что послужило непосредственной причиной этому микроинсульту — одному Богу теперь известно… Косыгин к этому времени уже ощутимо ослаб политически и физически, зато именно в тот же период стремительно «рванули в гору» ряд экономических, финансовых и хозяйственных персонажей из номенклатуры второго эшелона.
Припоминаете, когда был создан пресловутый Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ), филиал знаменитого венского МИПСА (Международного института прикладного системного анализа, The International Institute for Applied Systems Analysis), учрежденного в 1972 году по инициативе (?) США и СССР (IIASA was the result of an initiative by the United States and the Soviet Union to create links between scientists from East and West during the Cold War; In October 1972 the IIASA charter was signed in London by 12 National Member Organizations — из публикации на официальном сайте института)? Напомню: это произошло 4 июня 1976 года. Четвертое июня — очень памятная дата в мировой истории, не менее памятная, чем 26 апреля, когда рванул реактор 4-го энергоблока в Чернобыле. Прежде всего по датам «мини-ядерного взрыва» в Арзамасе в 1988 году, крупнейшей в истории СССР железнодорожной катастрофы под Уфой в 1989 году и по кровавым событиям в тот же день на пекинской площади Тяньанмэнь. Простое совпадение? Очень может быть, в «прикладном системном анализе» еще и не на такие конспирологические чудеса можно внезапно натолкнуться…
Начнем по порядку. Из публикации на официальном сайте: «Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Системных Исследований (ВНИИСИ) был создан под эгидой Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР в качестве «уникальной научной организации, использующей системную методологию для изучения важнейших и особо сложных проблем, связанных с интенсивным освоением научно-технических достижений и обусловленных глобальными процессами». Вам все здесь ясно? Нет, тогда штудируйте и далее азы прикладной конспирологии.
Основу Института составили три коллектива ученых: из Института проблем управления АН СССР под руководством С.В.Емельянова, занимавшихся развитием и приложением кибернетических методов к проблемам управления техническими и организационными системами; из Центрального экономико-математического института АН СССР под руководством С.С.Шаталина, работавших над вопросами социально-экономической эффективности; из Института США и Канады АН СССР под руководством Б.З.Мильнера, развивавших организационные методы управления в экономике. В дальнейшем к ним стали ускоренными темпами подключать коллективы, занимавшиеся «развитием философских концепций системных исследований, науковедением, глобальным прогнозированием, экологическим моделированием, социологией организаций». Тоже несколько мутновато для понимания? Что поделаешь, «системный анализ» — он предназначен далеко не для всех, а лишь для некоторых особо одаренных особей из тщательно отобранной, специально обученной и специально вышколенной в нужном идейном духе научно-номенклатурной элиты. Или же не для толпы профанов, а для узкой группы особо просвещенных братьев и сестер, если это вам ближе по духу и более понятно для восприятия…
Иными словами, «крыша» для будущего сонма задуманной кем-то грандиозной системы многочисленных организаций советских консультативных «Рэнд-корпорейшн», инкубаторов и заповедников для потенциальных «агентов влияния Запада» обозначилась весьма отчетливо — ГКНТ СССР. Это в дополнение к уже реально существовавшим академическим институтам типа ИМЭМО и ИСКАН, которые, правда, тогда еще не располагали «особым политико-номенклатурным статусом» в сложном иерархическом хозяйстве ЦК КПСС. Целые коллективы талантливых ученых «сталинского призыва» из сферы политики, экономики, науки и хозяйственной деятельности вскоре станут постепенно, но неуклонно вытесняться обычными приблатненными чиновниками в серых пиджаках, при номенклатурных галстуках и шляпах, но это будут уже не привычные советские бюрократы из того же Госплана, а некие «новаторы и реформаторы», будущие «эффективные менеджеры». Вот вам и народившаяся благодатная среда для появления на свет вполне реальных агентов влияния под флагом хотя бы той же «конвергенции» двух идеологически непримиримых общественных систем, богато унавоженная почва для замены исследования актуальных, действительно насущных и наиболее животрепещущих проблем реального развития страны «глобальным моделированием мировых процессов». В духе тех же известных положений теории «пределов роста» Дж. Форрестера, Д. Медоуза и других специалистов из Массачусетса, принятых в качестве «прогнозного сценария» на вооружение глобалистскими «головастиками» из Римского клуба. Включая и нашего «полномочного представителя» в этой институции, философа, заместителя председателя ГКНТ, директора только что созданного ВНИИСИ Джермена Михайловича Гвишиани, зятя упомянутого мною выше А.Н.Косыгина.
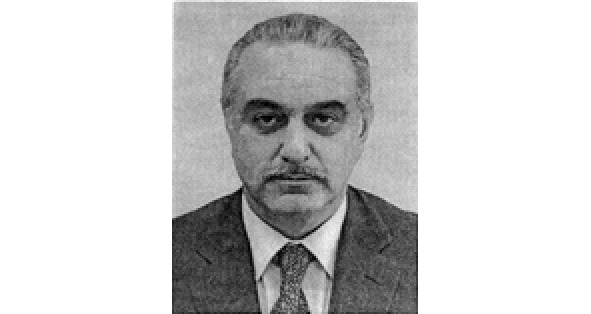
Как известно, Д.М.Гвишиани по-прежнему считается у нас признанным авторитетом в сфере философии, социологии и системного анализа. Его кандидатская диссертация была посвящена исследованию социологии менеджмента США, а докторская — разработке теории управления на примерах достижений школ западного мира в этой области. Именно с его подачи в управленческой области ключевым понятием становится слово «система» — системные исследования, системный анализ, системный подход и т. д. Итак, в основу всей совокупности общих теоретических (прежде всего философских) и сугубо практических, прикладных задач управления всей страной, ее экономикой, политикой и пр. был положен так называемый «системный подход» (это следует понимать так, что при тех же И.В.Сталине, В.М.Молотове, Г.М.Маленкове и Л.П.Берии он, оказывается, был очевидно бессистемным, вульгарным, «ползуче эмпирическим» в своем глубинном философском понимании). Философ Д. М. Гвишиани определял системный подход «как одно из общенаучных методологических направлений», ориентированного «на науку в целом», «на интеграцию достижений общественных, естественных и технических наук», а также «опыта в области организации и управления». Вы что-нибудь усвоили разумного, полезного и доступного обычному человеческому пониманию из этого достаточно произвольного набора привычных штампов из богатого арсенала чиновно-бюрократической лексики советской эпохи? Нет? Тогда вы счастливый человек, эта наукообразная галиматья до сих пор у многих на слуху. Сегодня, правда, пишут куда более красочно и даже несколько загадочно: «Идеал системного подхода — это системный синтез, в котором воплощается интеграция специальных знаний, реализуется действительно междисциплинарное, синтетическое видение объекта». «Междисциплинарное и синтетическое видение объекта», это что — новое творческое прочтение идеи сочетания материального и духовного, науки и религии, человека и Бога, сущности и бытия? Человечеству до более-менее внятного универсального «системного анализа соотношения части и целого» на брюхе бы успешно доползти, а тут сразу решительный замах на торжество идеи некоего «системного синтеза».
Анализ (др.-греч. ἀνάλυσις «разложение, расчленение») — это и так способ или процесс раскладывания понятия на составные части по заранее определенным и согласованным признакам, где уж найдешь в природе более увлекательное «междисциплинарное» и «синтетическое» занятие… Из суммарного научного наследия отечественных классиков теории системного подхода И.В.Блауберга, Э.Г.Юдина, В.Н.Садовского на официальном сайте Института философии РАН. «Системный подход — направление философии и методологии науки, специально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Системный подход ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. Понятие «системный подход» (англ. «systems approach») стало широко употребляться с конца 1960-х — начала 1970-х гг. в англоязычной и русской философской и системной (!) литературе. Близкими по содержанию к «системному подходу» являются понятия «системные исследования», «принцип системности», «общая теория систем» и «системный анализ», «системная методология», «системное мировоззрение». Попробуйте-ка тупо, чисто механистически заменить базовое понятие «система» на что-то иное, столь же философски невнятное и нечленораздельное, например, на слово «предмет», «модель», «комплекс» и т. д. Что у вас из этого получится при «новаторском» прочтении существа данной «прогрессивной» методологии?
Был «системный подход» — стал «комплексный подход», что от этого поменялось в окружающем нас мире знаменитого бэконовского «Scientia potentia est» («Знание — сила»)? Просто одно мутноватое «понятие-пустышку» легко и играючи поменяли на другое… Возьмем, к примеру, труды отечественного классика, создателя общей теории систем В.Н.Садовского. На специализированном сайте «Системная экономика» (есть, оказывается, и такой весьма прогрессивный вид экономики, не иначе непременно цифровой) о нем, в частности, пишется следующее: «Исследовал аксиоматический метод, независимость моделей научного знания от философских концепций, соотношение истины и правдоподобности, критерии прогресса науки, методологическую природу и понятийный аппарат системного подхода. Предложил концепцию общей теории систем как метатеории, показал взаимоотношения философского принципа системности, системного подхода и общей теории систем, осуществил анализ тектологии (учения об организации А.А.Богданова) … Другое направление научных исследований — методология, эволюционная эпистемология и социология К. Поппера, главные работы которого изданы в России с комментарием и под редакцией В.Н.Садовского. В 1983 году под редакцией В.Н.Садовского был опубликован впервые на русском языке перевод логико-методологических работ К. Поппера в сборнике „Логика и рост научного знания“ (М.: Прогресс, 1983), в 1992 году классическое сочинение К. Поппера по социальной философии „Открытое общество и его враги“ (М.: Международный фонд „Культурная инициатива“, 1992)». Вот это уже куда ближе к рассматриваемой теме «агентуры влияния».
На первый план у видного отечественного ученого-социолога выступает учение Карла Поппера, неистового критика теории «идеального государства» Платона как тоталитаристского образования.
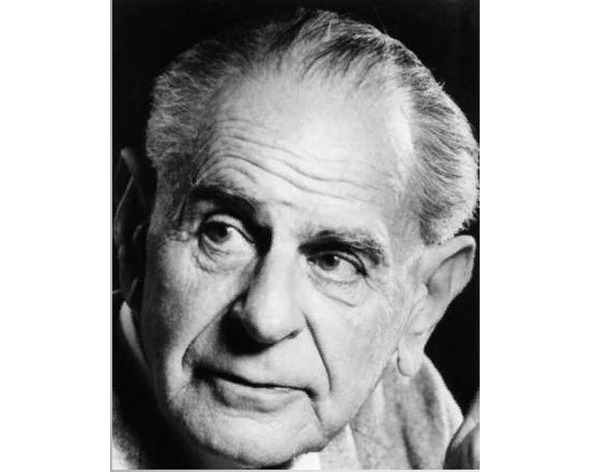
В противовес Платону, Гегелю и Марксу Поппер создал так называемую модель открытого общества, основой которого явился принцип демократии и индивидуализма. «Племенное или коллективистское общество мы будем именовать закрытым обществом, а общество, в котором индивидуумы вынуждены принимать личные решения, — открытым обществом» — пишет Поппер. Иными словами, плюрализм ставится им во главу угла во всех сферах жизни общества, таких как политика, экономика, культура, развитие институтов правового государства и гражданского общества, адаптация государственных структур под нужды индивида в сочетании со свободой слова. Открытое общество должно быть основано, по убеждению Поппера, на высоком и зрелом критическом потенциале человеческого разума, стимулирующем инакомыслие и интеллектуальную свободу как индивидов, так и социальных групп, направленную на непрерывное реформирование общества в целях разрешения его проблем. Внешне все выглядит достаточно привлекательно: совсем как «Liberté, égalité, fraternité» в эпоху Великой французской революции… Итак, Поппер выделил для себя две основные характеристики открытого общества:
— легитимность обсуждения проблем социума с одновременным влиянием высказанных мнений на ход и результаты проведение политических, экономических и иных реформ;
— развитие институтов, главной функцией которых становится индивидуальная и коллективная свобода людей, стремящихся к осуществлению «рационально обоснованных социальных изменений», но при этом не занятых поиском личной, коллективной или корпоративной выгоды при формировании собственного и общественного мнения.
Для чего все это было нужно? Да хотя бы для того, чтобы доказать: наиболее характерная, родовая особенность того общества, которое Карл Маркс называл «капитализмом», а именно закон абсолютного и относительно обнищания трудящихся (пролетариата), в реальности никогда не существовала в природе! И что «капитализм» в марксистском понимании представляет собой всего лишь очередную неудачную теоретическую конструкцию. Дескать, в то время как капитализм марксистов якобы был всего лишь миражом, в действительности же существовало и продолжает существовать некое стремительно изменяющееся общество, лишь по недоразумению названное «капиталистическим» (от слова «капитал»), со своими внутренними механизмами самосовершенствования, саморегулирования и самореформирования. Поэтому в западных открытых обществах у рабочих (трудящихся) всегда остается обоснованная надежда на улучшение условий своей жизни самым естественным, эволюционным образом, и им вовсе не требуется иллюзорная надежда, что коммунистическая диктатура (диктатура пролетариата) когда-то раз и навсегда избавит их от имманентного зла — от ненавистного всем закона обнищания трудящихся масс при капитализме.
Книгу об открытом обществе Поппер написал во время Второй мировой войны, именно война заставила его сосредоточиться преимущественно на актуальных вопросах социальной и политической философии, развернуть со строго научных позиций острую критику многих тоталитарных идей, в том числе основных теоретических наработок Гитлера и Муссолини. Думаете, знаменитая сеть грантодателей (фондов, программ и институтов), основанная бизнес-магнатом Джорджем Соросом, случайно носит название Фонды «Открытое общество» (Open Society Foundations, ранее Open Society Institute)? Которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру с заявленной целью содействия правосудию (!), образованию (!), здравоохранению и независимым средствам массовой информации (!!!). Ничего подобного. Это название навеяно именно книгой Карла Поппера «Открытое общество и его враги». Напомню, что 16 мая 1988 года было подписано соглашение между Советским фондом культуры, Советским фондом мира и американским Фондом Сороса о создании совместного советско-американского Фонда «Культурная инициатива».
То есть, к началу развертывания работы Фонда Сороса в СССР самое прямое и самое непосредственное отношение к нему имела структура, созданная специально под «первую леди» Советского Союза — супругу Президента СССР М.С.Горбачева Раису Максимовну. Сам Сорос позже напишет в своей книге «Кризис капитализма»: «Я отправился в Москву в начале 1987 года, чтобы посмотреть, смогу ли я создать фундамент по образцу венгерского фонда. Я был мотивирован освобождением Сахарова и тем фактом, что он был отпущен в Москву. Фактически я создал фонд под названием „Культурная инициатива“ в 1987 году, а затем я встретился с Богданом Гаврилишиным на конференции в Германии, конференции „Римского клуба“, и мои беседы с ним побудили меня задуматься о создать фонд в Украине».
30 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Российской Федерации признала этот фонд «нежелательной» организацией на территории России, и это вполне закономерно, веских причин для такого решения к тому времени уже набралось более чем достаточно. А ведь КГБ СССР с самого начала предупреждал Инстанции о возможных негативных последствиях деятельности этого фонда в нашей стране, в частности, в сфере организации целенаправленной «утечки мозгов» из числа перспективных молодых специалистов. Вот вам и наглядный результат: начали с «конвергенции» и «системного подхода» в экономическом планировании, прогнозировании и управлении экономикой, а закончили многочисленными американскими фондами с их нечистоплотными ухватками. Нельзя забывать, что учениками Д.М.Гвишиани и выпускниками созданных им ВНИИСИ — МИПСА были ставшие позднее известными такие «отцы русской демократии», как С.С.Шаталин, работчик известной программы «500 дней»; П.О.Авен, олигарх, будущий министр внешнеэкономических связей РФ; Е.Т.Гайдар, премьер-министр России; В.И.Данилов-Данильян, возглавлявший в начале девяностых годов XX века Министерство природных ресурсов РФ; В.М.Лопухин, в 1991 году министр топлива и энергетики (о нем я скажу особо позднее); А.Д.Жуков в вице-премьер правительства РФ; М.Ю.Зурабов, руководитель Пенсионного фонда РФ и министр здравоохранения РФ; всем известный первый вице-премьер А.Б.Чубайс, гений РАО «ЕЭС России» и «Роснано»; С.Ю.Глазьев, в 90-х годах занимавший должность заместителя министра внешнеэкономических связей; Е.Г.Ясин, министр экономики РФ; Г.Х.Попов, мэр Москвы и «генератор проблесковых идей для страны», а также многие, многие другие. Все эти лица, в формировании мировоззрения которых непосредственно участвовал Д.М.Гвишиани, стали основной кадровой базой для осуществления так называемых демократических реформ в России. Налицо наглядное подтверждения одного из основных тезисов рассматриваемой нами записки.
Вновь возвратимся к излюбленному коньку Джермена Гвишиани — к «системному анализу». Система (от греч. σύστεμα — целое, составленное из частей, соединение) — совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство. Иными словами, если есть хоть какое-то единство составных элементов целого — система существует (как некий «условный Космос, т.е. устройство, порядок, мир)»). Нет такой целостности — «звиняйте, дядько», наступил час условного Хаоса (первичного состояния Вселенной, чистого абстрактного вакуума, совершенно однородной изотропной среды), и в нем больше не осталось места никаким «системным подходам» как «совокупности познавательных принципов, основной смысл которых состоит в соответствующей ориентации конкретных исследований». Дальше можете прочитать и старательно законспектировать принципиальные положения хрестоматийной книги моего бельгийского коллеги в области физической химии и химической термодинамики, Нобелевского лауреата по химии за исследования в области термодинамики необратимых процессов и первооткрывателя диссипативных структур академика Ильи Романовича Пригожина. Особо рекомендую это полезное для тренировки ума занятие как своеобразную форму лечебной терапии разного рода политическим недоумкам и откровенным научным шарлатанам от «политологии», «геополитики» и других новоизобретенных в последнее время дисциплин, которым очень глянулась классическая термодинамика Клаузиуса, Гиббса и Больцмана как некая универсальная форма познания окружающей нас действительности. Преимущественно через безбрежное и весьма некритичное задействование загадочного слова «энтропия», но на сей раз уже не в термодинамике, а в какой-то загадочной «теории управления» в качестве описания меры неопределённости состояния или поведения некой условной «системы» в неких неопределенных условиях!
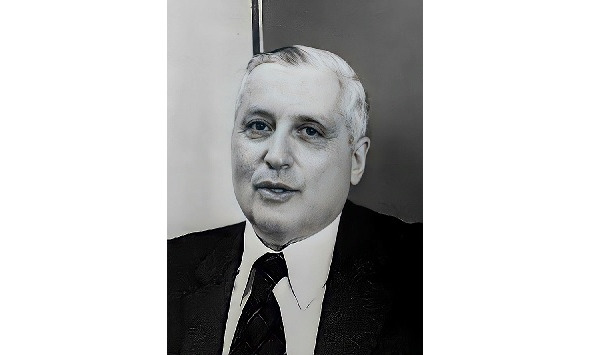
В чем суть теоремы Пригожина, сформулированной им еще в 1947 году? Стационарному состоянию системы в условиях, препятствующих достижению равновесного состояния, соответствует минимальное производство энтропии! Неравновесные термодинамические системы при определенных условиях обмениваются с окружающей средой материей или энергией, или же одновременно и тем, и другим, могут (!) испытывать какой-то качественный скачок и даже изменять при этом свою внутреннюю структуру. При вручении Пригожину Нобелевской премии во вступительной речи от имени Шведской королевской академии наук отмечалось: «Работа открыла для термодинамики новые связи и создала теории, устраняющие разрывы между химическим, биологическим и социальным полями научных исследований». Отсюда, по-видимому, у некоторых политически неустойчивых шарлатанов от науки и возникло растущее стремление объяснить посредством введения «энтропии» некоторые актуальные проблемы процессов организации-дезорганизации, интеграция-дезинтеграция социального пространства и установить характер воздействия на эти процессы определенных социальных полей. Согласно определению, «социальная энтропия — это мера отклонения социальной системы либо ее подсистемы от эталонного состояния, когда отклонение проявляется в снижении уровня организации, эффективности функционирования, темпов развития системы». По мнению авторов теории социальной энтропии (К. Бейли, М. Форсе и др.), характерное состояние социума — это нестабильность, неравновесность, вызванная в процессе развития социальных систем беспрестанным колебанием между организацией и дезорганизацией, тенденцией к смерти и тенденцией к выживанию. Какой вывод из этого «строго научного предположения»? А вот какой: «Социальная энтропия является одним из центральных понятий при информационном подходе к анализу социальных явлений, выступая мерой социального хаоса и порядка, т.е. мерой упорядоченности и организованности в обществе».
Просто блестяще! Да здравствует энтропия как наиболее действенный инструмент установления надлежащего порядка, организованности и стабильности в обществе! Обеспечим неуклонный рост производства термодинамической движущей силы на душу населения в стране! То-то я смотрю, наш небезызвестный державный пророк В. Сурков все чаще энтропию всуе поминает, например, в своей очередной программной статье «Куда делся хаос? Распаковка стабильности». Его монументальное высказывание «Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», стоит отлить не в бронзе и даже не в золоте, а в метеоритном железе, вечном металле — иными словами, на все века и на все поколения! Как знаменитый кинжал египетского фараона Тутанхамона или не менее знаменитая Кутубова колонна индийского царя Чандрагупты II.
Думаете, сейчас здесь дела обстоят лучше, чем во времена СССР? Ошибаетесь. Впрочем, можете оценить ситуацию самостоятельно, без малейшего давления со стороны. В 1992 году ВНИИСИ-МИПСА системы ГКНТ СССР достаточно резко и внезапно трансформируется в Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН).

Тем самым из ответственной государственной структуры он переводится в разряд обычного, рядового научно-исследовательского института системы Российской академии наук, каких у нас развелось бессчетно. Все правильно, все логично, все хорошо объяснимо — ведь наиболее славные его «выкормыши» и без того уже сидят к этому времени в руководстве ключевых экономических структур российского правительства, успешно пилят на самые смачные, наиболее лакомые куски свадебный приватизационный пирог. Какая уж тут «система» и какой «анализ с синтезом» в духе заветов Джермена Гвишиани и даже в русле прямых указок-подсказок из Венской «alma mater» ИИАСА! С которой, кстати, был установлен постоянный контакт с помощью внешнего выделенного канала передачи данных через специально созданную дочернюю структуру под названием ВНИИПАС — Всесоюзный Институт Прикладных Автоматизированных Систем. Первоначально предполагалось, что ВНИИПАС станет монопольным оператором передачи данных, обеспечивающим связь научно-технических учреждений СССР со всем внешним миром. Однако после распада СССР он был быстренько приватизирован и под названием ОАО ИАС работает теперь в качестве оператора связи, входит в состав крупного российского телекоммуникационного холдинга Akado International Ltd. (группа Акадо). Между прочим, в 1982—2005 гг. руководителем ВНИИПАС был Олег Леонидович Смирнов, сын бывшего председателя Военно — Промышленной Комиссии СМ СССР Л.В.Смирнова, но это так, к слову будь сказано. Одним словом, теперь все научно-консультативные маски сброшены — «Гуляй, рванина, от рубля и выше!». Сегодня подрывную деятельность венского института и его прямых последышей в СССР (России) в привязке к зловещему Римскому клубу не поминает в политическом разговоре только самый ленивый или же самый бестолковый псевдопатриот. Для остальных явно запоздалых защитников Союза все уже ясно: развал СССР готовил лично Ю.В.Андропов со своей командой особо приближенных к нему лиц типа генерала Питовранова, а ВНИИСИ был важнейшей составной частью его коварного плана по ликвидации советской власти.
Печально, однако, когда на этой теме начинают откровенно паразитировать разного рода безответственные политические болтуны, строящие из себя сегодня «святую невинность» и лицемерно льющие крокодиловы слезы по поводу распада СССР, хотя на них самих и на их практических действиях в те годы пробу ставить некуда. Для иллюстрации сказанного приведу хотя бы вот этот материал. Его название — «Михаил Полторанин: «12 июня для России не просто «черный день»… Глава госкомиссии по рассекречиванию документов КПСС и ближайший соратник Ельцина о сенсационных подробностях операции по развалу СССР». Приведу несколько пассажей из очень увлекательной беседы двух «защитников Союза».
«- Учредителем этого института кто был?
— СССР и США. И в какой-то степени Римский клуб.
— Да, вот вижу — на официальном сайте института, в разделе «история IIASA» есть любопытная фраза: «Когда закончилась холодная война, страны, поддерживающие IIASA, могли сказать, что „миссия выполнена“, и расформировать институт. Однако…» и т. д. по тексту.
— На тот момент институт был нужен для того, чтобы послать туда на обучение молодых «архаровцев», которым впоследствии надлежало прибрать страну к своим рукам. «Архаровцы» должны были пересмотреть всю систему экономических связей СССР. Андропов поручил заниматься подбором советских кадров для IIASA своему первому заму (!?) Филиппу Бобкову (сейчас генерал армии в отставке, отработал в органах 45 лет — прим. ред.). И Бобков начал подбирать с такой целью, чтобы эти люди имели возможность, а главное — желание сломать экономический хребет советской державе. По сути, он отбирал отморозков. Потом в нашей стране создали филиал этого института — ВНИИСИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт системного анализа (ныне Институт системного анализа РАН). ВНИИСИ возглавил уже упомянутый мною Джермен Гвишиани. Кто же составил штат института или хотя бы проходил там стажировку? Гавриил Попов, Егор Гайдар, Андрей Нечаев (будущий «ельцинский» министр экономики), Александр Жуков (из Госдумы), Петр Авен, Евгений Ясин, Александр Шохин, Михаил Зурабов, Анатолий Чубайс, Сергей Глазьев и многие другие, которые сейчас крутятся во власти. Замами Гвишиани считались Станислав Шаталин и Борис Мильнер. Заведующим лабораторией числился Виктор Данилов-Данильян.
— И вот в этом институте, через который прошло такое количество «буревестников» перестройки, и написали черновик будущей декларации о суверенитете, похоронившей СССР?
— Черновик писали в институте и в Римском клубе, который курировал этот процесс. При этом подразумевали отказ от всех прежних советских обязательств. Армию кормить нечем, науку содержать не на что. Каждая республика в итоге приняла свою декларацию вслед за Россией. Отчисления во всесоюзный бюджет прекратились. Что следом за этим? Развал.
— В буквальном смысле набросали декларацию в тезисах?
— Да-да. И Римский клуб принимал в этом участие. Члены Римского клуба учили своих слушателей стратегии развала страны. Натаскивали, как собак. Вот как овчарок натаскивают нападать и кусать, так и их натаскивали на свое собственное государство.
— Главный тезис декларации — превалирование законов РСФСР над законами большой страны — был разработан тогда же?
— Да, это и есть матрица развала. Когда Ельцин перевел все предприятия, работавшие на территории РСФСР, под российскую юрисдикцию, то все налоги стали поступать именно в бюджет РФ, а не во всесоюзный.
— Логичный вопрос: а откуда вы об этом всем знаете? Не с того ли времени, когда вам было поручено рассекречивание документов КПСС?
— Да. Я был председателем государственной комиссии по рассекречиванию документов КПСС и других. В интернете можно найти несколько «вбросов» о связи гайдаровских «младореформаторов» и института под Веной. Но ваша подробнейшая информация о «внутренней кухне» IIASA — из рассекреченных вами документов?
— Да, оттуда. Так вот, 12 июня для России не просто «черный день». Это день сатаны, можно сказать». (https://www.business-gazeta.ru/article/313611).
Это кто же нам что-то вкрадчиво лопочет про «день сатаны», про «матрицу развала», про преступную «кучку младореформаторов», про «черновики декларации о суверенитете России», писанные под диктовку масонов в помещениях Римского клуба? Неужели и впрямь один из ближайших соратников и, одновременно, наиболее заядлых собутыльников Бориса Ельцина?

Который в свое время макал последнего для лучшего протрезвления сознания головкой в санаторный пруд в районе Ильинского, а потом не гнушался выдавать весь этот пьяный водевиль за «падение с моста через Москву-реку и за неудавшуюся попытку покушения сотрудников КГБ на нового лидера России». Который в правительствах Силаева и Ельцина-Гайдара работал бок о бок со всеми вышеперечисленными «младореформаторами» и «архаровцами». А с одиозным ныне академиком Яковлевым вдобавок плодотворно потрудился также на ниве «правильного» рассекречивания закрытых материалов ЦК КПСС и КГБ СССР. Произвольно выбирая из общего массива данных наиболее «жаренные факты», импонировавшие ему как бывшему журналисту и главреду «Московской правды», которая из официального печатного органа МГК КПСС и московской городской партийной организации стараниями Полторанина и его приспешников в течение короткого периода времени превратилась в выгребную яму помоев и огульной клеветы на советскую власть. И одновременно готовя со своими антисоветскими и антикоммунистическими единомышленниками подборку документальных свидетельств для организации предстоящего «суда над КПСС».
Между прочим, именно во времена председательства Полторанина в госкомиссии по рассекречиванию материалов ЦК бывший диссидент Владимир Буковский осуществил очень дерзкую, вызывающую по своей наглости операцию по негласному сканированию большого массива секретных информационных материалов из фондов «Особой папки» 6-го сектора Общего отдела ЦК КПСС, которые сейчас хранятся в США. В апреле 1991 года Буковский впервые после высылки посетил Москву — по приглашению Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина. В сентябре 1991 года снова посетил СССР и был принят председателем КГБ Вадимом Бакатиным — я видел его своими глазами в здании КГБ, равно как и О. Калугина, Г. Старовойтову, священника Глеба Якунина и многих других «демократов». По его собственному признанию, Буковский вывез из здания бывшего ЦК КПСС три тысячи листов секретных документов (на самом деле — свыше четырех с половиной тысяч — авт.). 11 сентября 1991 года он и Рудольф Пихоя подписали соглашение «О международной комиссии по изучению деятельности партийных структур и органов государственной безопасности СССР». После распада СССР по приглашению новых российских властей Владимир Буковский принял участие в процессе по делу «КПСС против Ельцина» в Конституционном суде РФ (июль — октябрь 1992) в качестве официального эксперта (!) Конституционного суда РФ.
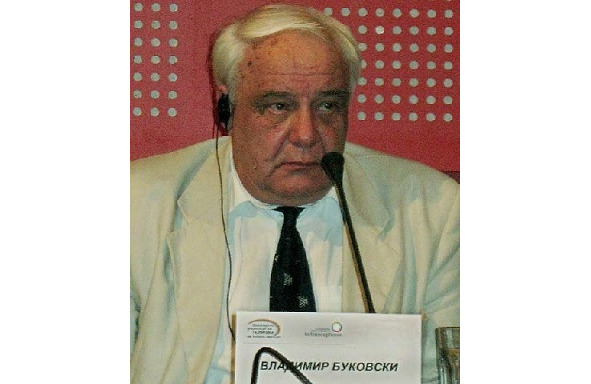
Крайне интересно, как освещали эту порядочно затемненную историю с подписанием современного аналога «пакта Молотова-Риббентропа» компетентные источники. Так, член-корреспондент РАН, бывший главный архивист России В. П. Козлов в статье «Архивы России в контексте политических событий 90-х гг. ХХ в.» писал, в частности, следующее: «Одно, несомненно. После августовских событий 1991 г. идея некоей политической акции антикоммунистической направленности широко обсуждалась в российском обществе и в российских политических кругах. Об этом свидетельствует, например, „соглашение“, заключенное Р.Г.Пихоей как представителем Комитета по делам архивов при Правительстве РСФСР и В.К.Буковским, выступавшим в нем от лица Международного совета архивов, Гуверовского института, Америкен Энтерпрайз Инститют, Исследовательского отдела Радио „Свобода“, Российского государственного гуманитарного университета и „Мемориала“ о создании Международной комиссии по изучению деятельности партийных структур и органов государственной безопасности в СССР. Главная цель такой комиссии в „соглашении“ связывалась с изучением архивных документов КПСС и КГБ СССР с тем, чтобы затем „представить их на суд истории“. По свидетельству В.К.Буковского, для Росархива это „соглашение“ было вымученным. Если это так, то понятно почему. Во-первых, оно прямо втягивало Росархив в политическую борьбу без каких-либо достаточных для этого оснований. Во-вторых, очевидно, уже в это время шли активные переговоры с Гуверовским институтом о микрофильмировании документов КПСС. Создание международной комиссии, которая, кроме главной цели, должна была еще заняться специальной программой публикации архивных документов, означало появление конкурирующей структуры, чего партнеры по „Гуверовскому проекту“ допустить вряд ли желали. Но и в целом подобное соглашение не имело под собой сколько-нибудь реальной основы. Оба „подписанта“ фактически представляли лишь самих себя: один — как рвущийся в российскую политическую элиту провинциальный профессор-историк, другой — всего лишь как бывший диссидент, после августа 1991 г. разом потерявший ореол мученика и борца, но не освободившийся от комплекса наполеоновского честолюбия, расцветшего на ненависти к тоталитарному режиму и презрении к своему народу». (https://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?81).
В 2015 году ИСА РАН вошёл (с потерей юридического лица) в состав Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН), созданного на базе Института проблем информатики РАН. В рамках реформы, которую проводило тогда Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) в подведомственных ему институтах и учреждениях, ранее входивших в систему Российской академии наук (РАН), был создан первый Федеральный исследовательский центр, в состав которого, помимо Института проблем информатики РАН, вошли Институт системного анализа РАН и Вычислительный центр РАН. По задумке ФАНО, его основная задача — «разработка отечественных программно-аппаратных средств обеспечения аналитической обработки потоковых данных, обработки данных большого объема, включая неструктурированные и слабоструктурированные данные различной природы». Далее такие информационные системы и технологии будут использоваться в работе служб, обеспечивающих информационную безопасность страны и организаций, работающих над распознаванием речи и текстов. Иными словами, модная нынче цифровая экономика — с одной стороны и курс на борьбу с терроризмом, политическим экстремизмом и различными формами оппозиционного инакомыслия в России — с другой. «Кто владеет Большими Данными (Big Data), современными методами их хранения, обработки и использования — тот владеет миром»…
Попробуем слегка разобраться в загадочных «неструктурированных и слабоструктурированных данных» различной природы. Эти понятия в основном относятся к машинным методам обработки информации. Неструктурированные данные — это информация, которая не организована в определенном порядке, понятном для машины. Они непригодны для обработки напрямую методами анализа данных, поэтому такие данные предварительно подвергаются структуризации с использованием специальных приемов. Слабоструктурированные данные — это данные, понятные для машинного распознавания, но также требующие неких преобразований для получения уже более конкретной информации. Ну, в сфере информационной безопасности все более-менее ясно: в потоках различной (фото-, видео-, текст) информации знай ставь себе метки типа «свой-чужой», «друг-враг», «надежный-подозреваемый» и прочая, прочая — как ранее в картотеках больших массивов данных крепились фишки разных цветов — остальное машина все доделает за тебя. И графики начертит, и таблицы составит, и экстремумы определит… Но вот так быть с этими Большими «неструктурированными и слабоструктурированными» Данными в сфере реальной национальной экономики, особенно в областях ее анализа и прогнозирования? Есть у нас одна богоугодная научно-бюрократическая структура под звонким названием «Комитет по системному анализу Российской академии наук» (до 2019 г. Комитет числился при Президиуме РАН). Образован этот комитет уже сравнительно давно решением Президиума РАН для работы по осуществлению членства России в Международном институте прикладного системного анализа ИИАСА. Возглавляет Комитет председатель Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), академик РАН Владислав Яковлевич Панченко, его заместителями являются академик А.Д.Гвишиани и член-корреспондент, заместитель директора Российского фонда фундаментальных исследований по науке И.А.Шеремет. Ранее заместителями председателя комитета были академик В.М.Котляков и член-корреспондент А.А.Соловьев. Комитет в рамках взаимодействия с ИИАСА осуществляет отбор перспективных направлений междисциплинарных исследований и подключение к этим исследованиям российских специалистов, способствует интеграции российской науки в мировую и осуществляет в кооперации с государственными и бизнес-структурами России реализацию исследовательских проектов, отвечающих интересам российского государства. Все выглядит достаточно солидно, звучит очень весомо, со стороны смотрится вполне привлекательно. А что если приглядеться несколько пристальнее, преимущественно через реально достигнутые результаты деятельности этого Комитета, а не через призму непрекращающейся на протяжении уже ряда последних лет межклановой борьбы в Российской Академии Наук?
В ноябре 2014 года в солидном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences вышла совместная программная статья ряда ученых, в которой главное внимание было уделено последним кризисам — финансовому кризису 2008 года, Арабской весне, разделу Арктики, деятельности «Хезболлы» и событиям на Украине. То есть, как мы отчетливо видим, подбор анализируемых событий абсолютно произвольный, или, выражаясь языком современной науки — «слабоструктурированный». Статья была тут же переведена на русский язык и размещена на официальном сайте Комитета по системному анализу. Как рассказал корреспонденту российского интернет-издания один из соавторов статьи профессор Принстонского университета Саймон Левин, идея проведения указанных исследований возникла во время встречи группы ученых в Международном институте прикладного системного анализа. По словам С. Левина, данное исследование объясняет то, как череда незначительных на первый взгляд событий может вызвать серьезные последствия. С. Левин отметил особое участие своих российских коллег в исследованиях, среди которых: заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк, академик РАН А. Кряжимский, а также рассказал об успешном многолетнем сотрудничестве с ректором Санкт-Петербургского государственного горного университета В. Литвиненко и своим другом, директором ГЦ РАН, академиком А. Гвишиани. В статье указывается, что данное исследование проливает свет на то, как череда незначительных на первый взгляд событий — фемторисков — может вызвать серьезные последствия, итогом которых явятся весьма серьезные последствия. Подчеркивается, что статья фокусируется на международных отношениях, но не обходит стороной эпидемии, финансовые и экологические кризисы. Указывается, что научная новизна исследования заключается в том, что «эксперты из разных областей, многие из которых имеют серьезный опыт в международной дипломатии, приходят к схожим выводам» (!). Делается заключение, что рассмотрение фемторисков должно помочь ученым и политикам понять, какую опасность таят в себе некоторые события международного масштаба, в результате которого влияние и власть получают негосударственные организации, в том числе террористические (!). Как известно, сам термин «фемториски» придумал Джошуа Купер Рамо, бывший старший редактор журнала «Timе» и управляющий директор Kissinger Associates, одной из самых известных в мире геостратегических консалтинговых компаний, прямой выдвиженец Г. Киссинджера. До этого он участвовал в рабочей группе по сложности и международным договорам в знаменитом Институте Санта-Фе, создавшем, как известно, «теорию управляемого хаоса». А ввел его в научный оборот именно Саймон Левин, исследователь эволюционных процессов в комплексных экосистемах, тогдашний председатель совета ИИАСА по науке. В 2012 г. Левин и Рамо с группой ученых из разных стран подготовили исследование, посвященное управлению системными рисками, где впервые представили научной общественности этот неологизм. Под фемторисками авторы предлагают понимать «опасности малого масштаба», несущие, однако, катастрофические последствия для всей системы, в которой они рождены. Фемториски могут выстраиваться в определенной последовательности, а также неконтролируемо распространяться подобно эпидемиям через глобальные социальные сети (!). В 2014 г. концепция фемторисков получила дальнейшее развитие. В рамках исследований Национальной академии наук США была издана обновленная версия работы «Взаимодействие с фемторисками в международных отношениях».
В докторской диссертации В.Д.Миловидова (МГИМО, М., 2019) под названием «Факторы неопределенности мирового финансового рынка в условиях технологической революции» проблемам возникновения экспоненциально масштабируемых событий (ЭМС, exponentially scalable event) уделено существенное место. Наиболее наглядный и хрестоматийный пример здесь — так называемый «эффект бабочки». Анализируя содержание вышеуказанной работы автор диссертации совершенно справедливо отмечает: «Стоит заметить, что отличительная особенность всех приведенных литературных и научных примеров состоит в том, что описываемые в них цепочки причинно-следственных связей становятся понятными и очевидными лишь post factum. В этом смысле ретроспективное выявление ЭМС в цепочке последовательных и уже состоявшихся событий не столь сложно, как выявление ЭМС с расчетом на определение будущего. Мы, даже зная природу исходного импульса, не можем однозначно спрогнозировать долгосрочный результат вызванных этим импульсом событий. Вариантов перехода от причины к следствию может быть великое множество. Следовательно, идентификация ЭМС может оказаться ошибочной. Точность определения причинно-следственных связей будет зависеть оттого, какую выборку рассматриваемых детерминированных явлений мы берем за основу. Слишком широкий подход ведет к умножению «информационного шума». И далее: «В условиях неопределенности и асимметрии информации эффективность управления рисками, нацеленного на выявление ЭМС в общественных процессах, зависит по меньшей мере от трех обстоятельств: 1) доступности более или менее полного формализованного классификатора признаков, черт и свойств ЭМС; 2) наличия у человека некоего особого «шестого» чувства, позволяющего отличать просто случайные и разовые события от ЭМС; 3) умения создать такую систему сканирования информации, которая с достаточной степенью вероятности может помочь быстрой и точной идентификации ЭМС в общем потоке событий».
Если я правильно понимаю текущую общественно-политическую ситуацию и агентурно-оперативную обстановку в российской науке, то специалисты с наличием «шестого чувства» сконцентрировались именно в ИСА РАН, где с помощью дружественной материнской ИИАСА создана самая передовая в мире «система сканирования информации для безошибочной идентификации ЭСМ в общем потоке происходящих вокруг нас событий». Звучит-то как заманчиво и многообещающе: «Ученые из России и США создали модель, которая одинаково хорошо описывает украинский „майдан“, финансовый кризис 2008 года, „арабскую весну“ и даже изменение климата»! Любой каприз за наши с вами деньги…
По моему глубокому убеждению, развал СССР является ярчайшим примером экспоненциально-масштабируемого события (ЭМС), гораздо более показательного и разрушительного по своим последствиям, чем проезд «пломбированного вагона» с большевиками через Германию или даже совместный многодневный отдых на природе разыскиваемых полицией и замаскированных под финнов-косарей Ленина и Зиновьева в шалаше в Сестрорецком Разливе. Вот только кто был главным «актором» этого ЭМС (или крупнейшей катастрофы ХХ столетия, по оценке Президента РФ В. Путина): всем нам известный надоедливый долбо… дятел, не менее известный алкоголик и любитель «Калинки-малинки», чей-то там «агент влияния» или даже целое стадо этих самых «агентов» из ИМЭМО, ИСКАН, ЦЭМИ или ВНИИСИ — судить не берусь, пусть всех нас по-справедливости рассудит история лет этак через двести.
Применительно к «птенцам гнезда Гвишиани» я обещал особо остановиться на политическом облике недавно скоропостижно скончавшегося от коронавируса Владимира Михайловича Лопухина, первого министра топлива и энергетики суверенной России, которому, по его собственному признанию, лично «Андропов советы по жизни давал». Биография у него достаточно стандартная для «птенцов» этого гнезда: в 1975 году окончил экономический факультет МГУ, затем последовательно работал в ИМЭМО (1975—1977 гг.), во ВНИИСИ (1977—1983 гг.) и в Институте народнохозяйственного прогнозирования (1983—1991 гг.) — это еще одна хитрая экономическая контора сплоченной команды «младореформаторов», действовавшей согласно девизу д’Артаньяна: «Один за всех и все за одного!». После ухода из правительства Лопухин работал в российском подразделении знаменитого французского банка Lazard, консультируя программы реструктуризации «Газпрома», «Роснефти» и ЮКОСа. По данным журнала «Форбс», в 1996 году Лопухин покинул банк (через год Lazard Freres свернул свои «инвестиционные» операции в России). В 1996 году создал и возглавил инвестиционную компанию «Vanguard», позднее стал гендиректором и владельцем инвестиционной компании «Навин». Среди наиболее известных проектов компании «Vanguard», главой и владельцем которой он являлся — покупка и продажа крупного пакета акций Томского нефтехимического комбината, а также консультационные услуги для Ломоносовского фарфорового завода, в результате которых у подконтрольной Лопухину компании оказались права на товарный знак ЛФЗ. Товарный знак министр-предприниматель, впрочем, подарил Эрмитажу после того, как прокуратура возбудила против него уголовное дело. Одновременно Лопухин числился независимым директором в советах директоров целого ряда крупных корпораций. В частности, крупной девелоперской компании «РТМ», которой принадлежит несколько десятков объектов коммерческой недвижимости в Москве и крупных городах России, компаний «Бритиш Америкэн Тобакко — Ява», «Гражданские самолеты Сухого» и SuperJet International. Одним словом, он был весьма заметным персонажем в мире постприватизационного российского бизнеса. Однако самой необычной и наиболее интригующей частью его биографии стало раскрытие его участия в деятельности главной масонской ложи в России («Великой ложи»), когда экс-министр стал великим мастером Русской великой регулярной ложи. Таким образом, по меткому выражению газеты сообщества «Нефтянка», помимо не самого оптимального реформирования российского ТЭК, Лопухин принял на себя ответственность и за «масонский заговор». Согласно официальным данным, Лопухин был посвящён в масоны в 1998 году в ложе «Юпитер» №7 Великой ложи России. В феврале 2000 года избран на должность досточтимого мастера ложи «Юпитер» №7. В феврале 2001 стал одним из основателей ложи «Орион» №15 ВЛР, в которой занял должность досточтимого мастера. Так это или не так — судить не берусь, хотя, искренне признаюсь, весьма в этом сомневаюсь, уж больно темпы роста в масонской иерархии не вполне правдоподобные.

Читатели, возможно, припоминают, что тему современного российского масонства я уже подробно затрагивал в книгах «Кукловоды и марионетки» и «Зарубки на гриппозной сопатке. Размышления о нашем недавнем прошлом». Там я ненавязчиво пытался навести их на мысль о том, что далеко не все отечественные масоны являются примитивными фиглярами в шутовских одеяниях средневекового балагана, и что среди них были и есть очень влиятельные люди во всех основных сферах управления государством и обществом. При этом я весьма отчетливо и недвусмысленно указывал на то, что основной организационный, руководящий и идейный центр народившегося советского масонства находился не в Москве, а в Санкт-Петербурге, точнее в Ленинграде. Нынешнюю обстановку там я сейчас не знаю, но пример Лопухина подтвердил мои достаточно осторожные предположения, основанные, однако, на некоторых знаниях о тогдашнем положении дел в этих закрытых структурах.
31 января 2011 года в русскоязычной версии журнала «Форбс» была опубликована заметка под названием «Такая вот костоломная машина…». Очередным собеседником Петра Авена и Альфреда Коха на сей раз был Владимир Лопухин — в правительстве Гайдара он руководил российским ТЭК. Недолго, всего семь месяцев. Однако, как отмечалось в статье, именно он стоял у истоков реструктуризации и формирования правил регулирования в отрасли, которая стала мотором экономического роста в последующие 20 лет, — нефтяной. Само содержание статьи полностью соответствует тому, о чем я рассказывал в главе первой своей предыдущей книги «Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта» — только в «Форбс» все жано гораздо более подробно, наглядно и очень иллюстративно. Пересказывать ее не буду, кто сочтет для себя нужным — прочтет самостоятельно.
Мне в данной беседе показалось крайне важным, очень характерным и очень наглядным не то, ЧТО говорили собеседники, а КАК он все это говорили. Перечислю ряд персоналий, упомянутых ими в разговоре: Алик Рывкин, Петя Мостовой, Дима Васильев, Сережа Беляев, Витя Черномырдин, Женя Сабуров, Ваня Матеров, Серега Глазьев, Юрка Шафраник, Лешка Головков, Володя Зенкин, Володя Богданов, Петя Авен, Лера Новодворская, Аркаша Мурашов, Боря Федоров. А саму задушевную беседу друзей-единомышленников «о зигзагах и загогулинах» процессов приватизации нефтегазовой индустрии в России вели Володя, Петя и Алик. Вас это ни на какие светлые мысли не наводит, в том числе и с точки зрения реального влияния «великого и могучего братства посвященных»?
Вновь возвратимся к положениям документа, озвученного в Верховном Совете СССР В.А.Крючковым. «Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность отдельных, не связанных между собой агентов влияния, проводящих в жизнь политику саботажа в народном хозяйстве и искривления руководящих указаний, будет координироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки».
Как всё очень емко и профессионально грамотно изложено! Никаких «горизонтальных связей» между задействованной агентурой влияния — каждый агент делает свое подлое дело автономно, только на собственном отдельно взятом участке деятельности, даже не ведая об усилиях других своих собратьев-агентов. Но работает он при этом на достижение общего конечного результата — на ослабление национальной экономики и на разрушение составных звеньев единого народнохозяйственного механизма, что, кстати, именно и произошло в СССР. Извините, но по своей внутренней механике это уже просто классика теории организации, построения и деятельности ряда тайных обществ, прежде всего ордена иезуитов и общества иллюминатов Адама Вейсгаупта с их принципами кооптации членства вновь посвящаемых лиц в тайные союзы единомышленников-просветителей. В более поздние времена это, кстати, отразилось в практике деятельности знаменитого ныне религиозного ордена Опус Деи.
Все вышесказанное мне почему-то сразу живо напомнило историю увлекательной беседы весной 1989 года заместителя председателя Всемирного еврейского конгресса (или Всемирной сионистской организации) с заведующим сектором Института мировой политики и международных отношений АН СССР, содержание которой я приводил в книге «Кукловоды и марионетки». Могу сегодня уже гораздо более определенно сказать, что сам факт беседы (вне зависимости от ее конкретного содержания) двух столь неравнозначных по своему политическому весу собеседников является, на мой взгляд, достаточно примитивной «легендой прикрытия», очень широко используемой в практике повседневной работы специальных служб. Поскольку высокопоставленный визитер из Нью-Йорка однозначно и недвусмысленно, причем достаточно акцентированно, заявил советскому собеседнику в ходе разговора буквально следующее: «Запомните и передайте вашему руководству то, что через пару недель будет вполне официально изложено в сообщениях советских послов из целого ряда ведущих западных стран», можно обоснованно предполагать, что полномочный посланец ВЕК (или ВСО, точно не помню) встречался и беседовал не с кем-либо, а именно с тогдашним руководителем института академиком Е.М.Примаковым! Вполне допускаю, что беседа даже велась в присутствии вышеупомянутого заведующего сектором ИМЭМО, однако по какой-то неизвестной причине академик и депутат не счел для себя нужным афишировать свою причастность к предстоящей комплексной «спецоперации» по ликвидации в СССР АКСО — Антисионистского комитета советской общественности, детища Ю.В.Андропова.
Напомню читателям еще раз, что тогда сказал руководящим работникам ИМЭМО зарубежный гость: «По нашим оценкам, в СССР сейчас имеется порядка 200 тысяч сионистов. Подчеркиваю: именно сионистов, а не просто еврейских активистов, открыто выступающих с произраильских позиций и лишь стремящихся выехать на постоянное жительство в Израиль. Они занимают в советском обществе многие ключевые посты, и как бы вы не старались — они будут оставаться на нужных местах столько, сколько это будет сочтено необходимым нами. Говорю вам столь прямо и откровенно прежде всего для того, чтобы вы более отчетливо понимали, что с нами следует разговаривать лишь очень серьезно. Только тогда вы сможете реально рассчитывать на взаимность с нашей стороны во многих чувствительных для вас вопросах, в том числе и по отмене Соединенными Штатами поправки Джексона-Вэника». Я не знаю в точности, сколько явных или скрытых сионистов работало в тот период в ключевых секторах национальной экономики, структурах народного хозяйства и органах управления страной — насколько мне помнится, 5-е Управление КГБ центрального аппарата и сотрудники «пятой линии» на местах ничего более-менее внятного, действительно стоящего, весомого и заслуживающего оперативного внимания с точки зрения обеспечения государственной безопасности в результате проведенной работы так и не выявили. Да, похоже, они и не особо-то при этом старались, руки, по-видимому, были слишком короткими у бойцов передовой линии фронта «политики государственного антисемитизма в СССР». Ведь нельзя же рассматривать, к примеру, дело просионистски настроенного инженера-геодезиста, картографа Соломона Борисовича Дольника, арестованного и осужденного за антисоветскую деятельность в мае 1966 года по статье 70 УК РСФСР сроком на 4 года, который инициативно установил связь с сотрудниками израильского посольства в Москве (Гавиш, Бартов, Говрин, Биран, Кац, Равэ) и в течение года регулярно передавал им ряд интересующих израильскую сторону материалов, неким «агентом влияния» — несерьезно это, он даже до степени обычного, рядового шпиона и то недотягивал. Зато внешняя разведка тут расстаралась вовсю! Но почему-то лишь в направлении освещения и анализа обстановки в странах социалистического лагеря — жутко интересно и занимательно было читать ее подробные аналитические выкладки о многочисленных каналах и мощнейших источниках сионистского влияния в Болгарии, ЧССР, ВНР, ПНР, Румынии и других соцстранах. Однако сегодня все это не более чем наглядная иллюстрация к известной поговорке о соринке в чужом глазу и о бревне в своем собственном…
Попробуйте-ка набрать в любом интернет-поисковике слово «вараш». Что у вас при этом выскочит в ответ на запрос? А вот что: «Городок Вараш был построен специально для обслуживания Ровенской АЭС. Село Вараш существовало в Украине задолго до появления АЭС. Новообразованный город получил название Кузнецовск, в честь советского разведчика Николая Кузнецова. В 2016 году название Вараш вернули обратно». А вот словосочетание «Комитет «Вараш» (от аббревиатуры «Ваадат рашет хашерутим») как обозначение специального координационного органа спецслужб Израиля обнаружится вами только в результате очень тщательного и целенаправленного поиска. Глядя на нынешнее состояние почти дружеских российско-израильских отношений, многие граждане России не могут себе даже вообразить, что был весьма длительный период в новейшей истории, когда Советский Союз выступал основным, очень непримиримым и достаточно последовательным в своих политических оценках и практических действиях не просто противником, а открытым врагом Государства Израиль. Примерно точно так же сегодня немало людей в России с растущей надеждой смотрят на «радужные» перспективы развития нынешнего и будущего стратегического партнерства с Китаем. Даже не подозревая о том, что всего лишь полвека назад КНР для советской внешней разведки была таким же «главным противником», как и США, и что реальные достижения («конкретные результаты») в работе по «шестой линии» ценились не менее высоко, чем по «первой».
Конечно, по большинству направлений своей разведывательной деятельности против СССР спецслужбы Израиля ориентировались на приоритетные задачи, потребности и запросы спецслужб США (особенно в сфере экономики, науки, техники, военных технологий и пр.). Поэтому их потенциальные «агенты влияния» (а они определенно были) в таких чувствительных сферах жизнедеятельности советского государства как долгосрочное и оперативное планирование, создание материальных и мобилизационных резервов страны, планы развития всех видов инфраструктуры (особенно трансграничной и приграничной) транспорта и связи, определение наиболее перспективных направлений развития ВПК и пр., должны были быть нацеленными на работу в интересах США и их союзников по НАТО. Однако при этом весь блок проблем взаимоотношений СССР со странами Ближнего и Среднего Востока, с коммунистическими, левыми, «прогрессивными» и «антиимпериалистическими» партиями и движениями государств этого региона спецслужбы Израиля, как, впрочем, и многие еврейские общественные объединения, строившие, как правило, свою повседневную работу все на тех же устоявшихся принципах работы официальных разведок, держали под собственным строгим и неослабным контролем, а порой даже вступали в конфликт со своим «старшим братом». Здесь у них, как выяснилось впоследствии, имелись и были обширно задействованы мощнейшие агентурные позиции в самых верхних эшелонах политического и военного руководства многих арабских стран. Что поделать, провластная, военная и интеллектуальная верхушка большинства стран арабского мира всегда была продажной по своей изначальной исторической сущности. И знаменитый британский полковник Томас Эдвард Лоуренс неоднократно очень наглядно и с неизменным успехом продемонстрировал это на деле…
Снова процитируем очередной абзац из записки КГБ СССР об агентуре влияния и попробуем его совместно осмыслить: «По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способствовать созданию определенных трудностей внутриполитического характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, будет вести научные изыскания в Советском Союзе по тупиковым направлениям. При выработке указанных планов американская разведка исходит из того, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создают благоприятные предпосылки для их реализации в современных условиях». Важнейшее положение, получившее позднее реальное подтверждение, причем неоднократно и в самых различных ситуациях! Приведу для наглядности всего лишь два очень ярких примера. Первый — из текущей шпионской практики, знаменитое ныне дело Анатолия Павловича Котлобая («Кука»), американца русского происхождения, уроженца города Усть-Лабинск Краснодарского края. Это был первый «конкретный вербовочный результат» («палка» на слэнге разведки) Олега Даниловича Калугина, который впоследствии сумел дослужиться аж до поста начальника Управления внешней контрразведки ПГУ, а до своего выезда в США даже успел побывать в роли народного депутата СССР и советника кратковременного главы КГБ и разрушителя этой спецслужбы Вадима Бакатина. При желании можете ознакомиться с этой историей в изложении самого О. Калугина в интервью известному украинскому тележурналисту Д. Гордону (http://www.gordon.com.ua/tv/o-kalugin/). Я в сжатом виде приводил этот пример в заметке, которая была опубликована мною под псевдонимом «Ясенев» (какое там было имя автора заметки — сейчас уже и не помню) в 1990 году во втором номере газеты «Совершенно несекретно» Эта публикация, носившая характер политического фельетона, была посвящена раскрытию истинного облика кандидата в народные депутаты СССР от Краснодарского края Олега Калугина.

Именно она, по-видимому, впоследствии дала В.А.Крючкову основание характеризовать меня во время представления членам Коллегии КГБ СССР для утверждения в качестве Начальника Секретариата КГБ СССР как «талантливого фельетониста», что, конечно, было для меня совершенно неожиданным и даже несколько обескураживающим. До этого момента в центральной отечественной прессе я успел отметиться лишь однажды — в журнале «Человек и закон», будучи еще работником аппарата МГК ВЛКСМ. Чему был посвящен весь номер этой газеты, целиком и полностью сверстанного под руководством В.А.Крючкова В. И. Жижиным и мною? Стремлению довести до избирателей депутатского округа, в котором баллотировался О.Д.Калугин, хотя бы частицу правды о жизни и деятельности этого прямого выдвиженца члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС А.Н.Яковлева. Притом основанную преимущественно, если не исключительно на имевшихся в КГБ СССР оперативных материалов о Калугине, преданных гласности, естественно, в той мере, которую позволяли действующие правила конспирации и требований зашифровки источников информации. Надо прямо признать, что ожидаемого политического эффекта выпуск данной газеты не сыграл. В немалой степени из-за того, что Л.В.Шебаршин, которому была поручена организация контрпропагандистской работы по Калугину в этом депутатском округе и обеспечение поддержки Н.И.Горовому, заместителю председателя краевого агропромышленного союза, почему-то проявил совершенно несвойственную ему пассивность и отсутствие изобретательности при выполнении данного партийного поручения.
Вообще вся история с избранием Калугина народным депутатом СССР — это достаточно грязноватая политическая возня, замешанная на горбачевско-яковлевском политиканстве и на непрекращающихся интригах в высшем политическом руководстве страны. Дело в том, что мандат народного депутата СССР от Краснодарского края внезапно оказался вакантным после того, как один из наиболее стойких и непримиримых противников курса горбачевской перестройки первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС и, одновременно, председатель Краснодарского краевого Совета народных депутатов Иван Кузьмич Полозков добровольно освободил место в союзном парламенте, сделав выбор в пользу парламента России и краевого Совета (в соответствии с законодательством того периода можно было быть депутатом не более чем двух Советов). Вне всякого сомнения, это не было его самостоятельным решением, а лишь подчинением строгим требованиям партийной дисциплины, ибо уже на I Съезде народных депутатов РСФСР он не без успеха баллотировался на пост Председателя Верховного Совета РСФСР и был основным конкурентом противника Горбачева Б. Н. Ельцина. Два тура голосования на Съезде не принесли победы ни Полозкову, ни Ельцину (последний в обоих турах голосования лидировал с небольшим перевесом). Однако после этого фракция коммунистов заменила кандидатуру И.К.Полозкова на кандидатуру Председателя Совета Министров РСФСР, генерал-полковника А.В.Власова, бывшего ранее Министром внутренних дел СССР и первым секретарем Чечено-Ингушского обкома КПСС, у которого Ельцин и выиграл с очевидным преимуществом в 68 голосов. Как впоследствии вспоминал сам Иван Кузьмич, «перед решающим голосованием я объективно опережал Бориса Николаевича голосов на 120—130. И тут меня вызвали на Политбюро и в приказном порядке велели снять кандидатуру, якобы чтобы не допустить раскола съезда». Вообще-то, по моим собственным наблюдениям, Горбачев Полозкова очевидно не жаловал и всячески стремился подставить ему подножку или подтолкнуть «на скользкое место» при любом более-менее удобном случае. По моей личной оценке, И.К.Полозкова, как и другого кубанского лидера Н.И.Кондратенко по прозвищу «батько Кондрат», насильственно выпихнули из российской политики те, кого они оба презрительно называли «инородцами» и которых было немало в самом ближайшем окружении Горбачева. И с одним, и с другим я неоднократно беседовал на эту тему в неформальной обстановке, и они оба подтвердили обоснованность моих собственных наблюдений и выводов.
Калугин к моменту выборов уже успел выступить на конференции «Демократической платформы в КПСС», затем в центральной прессе и на митингах «Демократической России» с «разоблачениями» в адрес органов КГБ, а также демонстративно выйти из рядов КПСС. В депутатском округе ему была обеспечена очень мощная поддержка: в состав его агитационной группы вошли священник Глеб Якунин, ведущий популярной телепрограммы «Взгляд» Александр Политковский, сподвижники бывшего следователя Тельмана Гдляна Николай Иванов и Татьяна Корягина, лидер профсоюза военнослужащих «Щит» Виталий Уражцев, публицист Юрий Черниченко и другие деятели «демократического движения». На предвыборных митингах они яростно обличали партаппарат и КГБ, бичевали «местную краснодарскую мафию» (что в немалой степени соответствовало действительности еще со времен руководства краем первого секретаря крайкома КПСС Медунова). Все это способствовало тому, что Калугин, невзирая на наши достаточно вялые контрпропагандистские усилия, не только был избран народным депутатом СССР, но вдобавок еще и стал «почетным кубанским казаком», потребив с казацкой шашки добрую чарку местной оковытой самогонки под восторженные крики селян-станичников «Любо!».
Вспоминаю я сейчас об этом только потому, что задним умом мы почему-то все крепки, и яростно клеймить предателя Родины О. Д. Калугина, осужденного заочно российским судом к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сегодня все больно горазды… Ах, вы не видели, вы просмотрели, вы не углядели, вы не разоблачили явного изменника, несмотря на то, что он был лепшим другом-приятелем и политическим выдвиженцем разрушителя СССР Александра Николаевича Яковлева еще со времен совместной стажировки в Колумбийском университете! Неправда, многое мы не только видели, но и достаточно много чего о нем знали, однако полностью разоблачить Калугина как изменника попросту не успели. В немалой мере и по причине того, что одурманенные «свободной демократической пропагандой» кубанцы избрали будущего предателя своим народным депутатом в союзном парламенте. А «добро» от Президента СССР М.С.Горбачева на продолжение проводимых ранее проверочных оперативных мероприятий в отношении народного депутата СССР Калугина (как, впрочем, и по депутату Верховного Совета РСФСР, журналисту и политруку, лидеру профсоюза военнослужащих «Щит» подполковнику Виталию Уражцеву, в отношении которого тоже накопилось немало откровенно настораживающих материалов) было, увы, получено слишком поздно… Должен прямо и открыто признать, что при проведении работы по политическому разоблачению деятельности Калугина как скрытого недруга советской власти ни В.И.Жижин, ни я никакой реальной, весомой помощи со стороны недавно созданного в КГБ СССР Центра общественных связей (ЦОС) не получили. Даже распространение экземпляров газеты «Совершенно несекретно» с разоблачениями деяний Калугина, Гдляна-Иванова и др. приходилось осуществлять преимущественно через возможности Секретариата КГБ СССР — прежде всего, Дежурной службы КГБ, 4-го отдела (отдела писем) и Приемной КГБ СССР.
К сожалению, к середине 1990 года деструктивные процессы в самом чекистском ведомстве уже зашли достаточно далеко, и не только в органах КГБ на местах, хотя бы в том же Свердловском управлении КГБ. Определенная «оппозиционная фронда» наметилась вполне отчетливо в целом ряде других подразделений, в том числе и центрального аппарата. Периодически это наблюдалось, в частности, в отдельных эпизодах практической деятельности Инспекторского управления, Управления кадров, Управления «З» («пятерки»), да и того же ЦОСа, возглавляемом тогда А.Н.Карбаиновым, В.Ф.Масленниковым и А.П.Кондауровым. Конечно, раскрывать под беспрерывный триумфальный бой перестроечных барабанов «отдельные темные стороны советской истории» и публиковать на потребу любопытствующей публике наиболее «смачные» материалы из чекистских архивов — это в эпоху «торжества демократии, гласности и нового политического мышления» было, конечно, очень важным, актуальным и лестным занятием для многих. Но гораздо важнее было бы, на мой взгляд», не потакать тем же шведам в их настырном поиске все новых и новых свидетельств о «трагической судьбе» Рауля Валленберга, а куда более активно защищать свое родное ведомство от многочисленных нападок и наскоков со всех сторон, доходчивее доносить народу правдивую информацию о многосторонней деятельности различных подразделений КГБ СССР в обеспечении безопасности своей страны в переломный момент ее истории.
Не стоит забывать, что первоначально О.Д.Калугин был лишён воинского звания Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1990 года №621—88, а восстановлен Указом Президента СССР от 31 августа 1991 года № УП-2516 с прямой подачи Вадима Бакатина, у которого он «де-факто» стал советником (хотя кадрового, юридического оформления этого назначения, насколько мне известно, не было). Считая незаконным лишение себя воинского звания, орденов и медалей, а также генеральской пенсии, кандидат в народные депутаты СССР Калугин в августе 1990 г. направил в Московский городской суд три иска. Первый — к президенту СССР за незаконное лишение государственных наград. Второй — к Председателю Совета Министров СССР — за лишение звания генерал-майора. И третий — к председателю КГБ СССР за лишение генеральской пенсии. Это стало первым в истории ВЧК-ГПУ-КГБ судебным делом против руководителя чекистского ведомства — и наши юристы, на мой взгляд, его проиграли «вчистую». Начальник Юридического отдела КГБ В.И.Алексеев, представлявший в суде не только интересы В.А.Крючкова, но и всего ведомства, ходатайствовал перед судом лишь о прекращении рассмотрения дела. Поскольку, дескать, пенсии военнослужащего Калугина не лишали, а просто перестали ее выплачивать после того, как Совмин лишил его генеральского звания. Поэтому чекистское ведомство, мол, здесь ни при чем, а самому Калугину следует дождаться своего 60-летия и обратиться в орган социального обеспечения за пенсией по старости. Крайне хлипкая правовая позиция, как показали уже ближайшие последующие события… В своем статусе кандидата в народные депутаты СССР Калугин обратился в Московский городской суд с жалобой, в которой просил признать незаконным постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1990 года №621—88 о лишении его воинского звания генерал-майора запаса. Однако Московский городской суд определением от 28 августа того же года отказал в принятии жалобы к производству, сославшись на то, что закон СССР от 30 июня 1987 года «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан», действовавший на день принятия Советом Министров СССР названного постановления, не предусматривал права обжалования в суд действий коллегиальных органов. Калугин (далеко не простак) обжаловал этот отказ в Верховном суде РСФСР, судебная коллегия по гражданским делам которого 12 октября 1990 года отменила определение Московского городского суда, предложив ему уточнить, чьи действия обжалует Калугин — Совета Министров СССР как коллегиального органа или же единоличные действия Председателя Совета Министров СССР. Одним словом, апелляционные инстанции пошли по испытанному пути казуистики и судебного крючкотворства. Повторно Калугин был лишен воинского звания, персональной пенсии и правительственных наград только в 2002 году по приговору все того же Мосгорсуда.
Значит, в 1990 году мы все же были правы, готовя для Инстанций соответствующие документы и представления на лишение данного народного депутата СССР высокого воинского звания генерал-майора запаса и всех полученных им ранее государственных наград за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника органов госбезопасности? Кстати, каких государственных наград лишили тогда Калугина? У него было три ордена. Первый — «Знак Почета» — он получил в 1964 году «за активную работу по приобретению источников информации за рубежом». Ордена Красной Звезды (1967) и Красного Знамени (1977) ему были вручены «за проведение операций, направленных на обеспечение государственной безопасности СССР». Вот о его первой государственной награде и пойдет далее речь.
В конце августа 1959 г. студент-филолог Ленинградского университета и начинающий разведчик, старший лейтенант КГБ Олег Калугин стажируется по программе сенатора Д.У.Фулбрайта в Колумбийском университете. Как-то раз на улице к нему подошли и заговорили по-русски незнакомые (!) ему мужчина и женщина. Оказалось, что мужчина — не кто иной, как сын замученного немецкими оккупантами подпольщика по фамилии Котлобай. В 1942 году молодой Анатолий был депортирован в концлагерь на территории Третьего рейха, откуда в 1945 году его освободили американцы. В 1947 году он уехал из Германии в США и поступил на химический факультет университета штата Теннесси. По окончании учебы работал в промышленно-технических и научных центрах, связанных с ракетно-ядерной проблематикой, в том числе с Министерством обороны США. Неизвестно по какой причине, но Центр, несмотря на целый ряд очевидных настораживающих моментов, дает Калугину разрешение на разработку А. Котлобая, которого вскоре включили в агентурную сеть и присвоили псевдоним «Кук».
И уже в этом качестве он передает Калугину подробное описание технологии изготовления твердого ракетного топлива, притом с образцом топлива, а также детальный анализ, по оценке США, состояния советской химической промышленности. Калугин за свой «геройский» поступок получил орден «Знак Почета», и его служебная карьера в КГБ стремительно пошла вверх. Вот вам налицо классический пример нарождения сразу двух агентов влияния по схеме и по рецептам, описанным в рассматриваемой нами записке. Американцы орденоносную «подставу» от нечего делать и для абы кого-то сооружать не станут — здесь, скорее всего, была задумка с дальним прицелом. Используя традиционное, веками исторически сложившееся внутреннее противоборство разведки и контрразведки, характерное для деятельности практически любого государства (за исключением, пожалуй, лишь КНР, где всё крайне жестко централизовано под строгим контролем и руководством правящей партии КПК), ряд руководителей Второго главного управления КГБ (Г.К.Цинев, Г.Ф.Григоренко, В.К.Бояров и др.) неизвестно по какой причине взяли курс на очень упорное и настойчивое продвижение, почти «проталкивание» будущего изменника Родины О. Д. Калугина на ведущие позиции в советской внешней разведке, явно стремясь его посадить на место В.А.Крючкова. При таком варианте развития событий лучшего и притом исключительно продуктивного агента влияния в СССР просто и придумать было бы трудно!
А его «ценное» агентурное приобретение — источник «Кук» — продолжал «успешно работать на КГБ» до 1964 года, затем якобы из-за опасности расшифровки и разоблачения «бежал в СССР». Вначале ему предоставили работу в одном из московских НИИ Министерства химической промышленности СССР, но затем его научные интересы почему-то вдруг резко переместились в сферу изучения экономических аспектов научно-технического прогресса в ведущих западных странах. В начале 1973 года «Кук» был зачислен на должность и.о. старшего научного сотрудника сектора свободного прогнозирования (!) ИМЭМО. В котором он, кстати, работал, что называется, «бок о бок» со знаменитыми из истории советской разведки Джорджем Блэйком (Георгий Иванович Бехтер) и с членом «кембриджской пятерки» Доналдом Маклином (Марк Петрович Фрейзер). Об этой очень приближенной к международному отделу ЦК КПСС «хитрой научной кормушке» я уже рассказывал ранее. В 1966 году выяснилось, что материалы, представленные «Куком» О.Д.Калугину, содержали информацию по тупиковому пути научных исследований в области создания твердого ракетного топлива и принесли ущерб Советскому Союзу в размере порядка 80 млн. рублей. К тому же Московское управление КГБ взяло «Кука» в активную оперативную разработку, не без оснований подозревая его в связях с американской разведкой. В ходе оперативной проверки выяснилось, например, что «спасавшийся от ареста» агент перед своим «побегом» из США спокойно продает свою квартиру, успевает отправить в Москву многие ценные вещи и картины известных художников, спокойно снимает со счетов все свои накопления… Подробно останавливаться на его дальнейшей судьбе не буду, кто захочет — найдет архивные судебные материалы и прочитает самостоятельно.
Другой обещанный мною пример удачной «активки» спецслужб противника касается осуществления заявленной американцами программы «звездных войн», и связанное с ней придание неоправданно завышенного внимания проблеме «Внезапного ракетно-ядерного нападения» (ВРЯН) в Советском Союзе. Если это действительно было всего лишь блестяще исполненное бывшим голливудским актером, президентом США Рональдом Рейганом политическое представление мирового масштаба по написанному ВПК и разведсообществом США сценарию, то я, как любил повторять один из главных героев книги В. Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого)» старший лейтенант Евгений Таманцев по прозвищу «скорохват», «мысленно им всем аплодирую». Это было исключительно перспективное, долговременное и с целым рядом очевидных позитивных результатов для США и их союзников комплексное активное мероприятие главного военно-политического противника СССР. Программа СОИ до сих пор вызывает множество споров. Одни, как я указывал выше, расценивают ее прежде всего как гениальный геостратегический блеф президента США Р. Рейгана и видят в ней одну из причин развала СССР. Дескать, руководство Советского Союза повелось на очевидную туфту американцев и ввязалось в очередную спираль гонки вооружений, которую страна уже очевидно не могла осилить ни политически, ни экономически. Другие говорят о ней преимущественно как о самом грандиозном «распиле баснословной суммы денежных средств из бюджета», причем одинаково привлекательном для структур военно-промышленных комплексов как США, так и СССР. Однако, как бы там ни было на самом деле, программа «звездных войн» свою негативную роль в усилении противоборства между СССР и США сыграла, и отрицать этот очевидный факт сегодня просто бессмысленно. Кроме того, у программы СОИ была очень важная политическая составляющая — возник подходящий повод резко усилить растущую озабоченность европейских союзников США потенциальными угрозами ведения двумя сверхдержавами «звездных войн» (как реальными, так и вымышленными). Как для обеспечения безопасности Западной Европы, так и для подрыва чисто экономических позиций ведущих западноевропейских стран, деловых интересов ведущих западноевропейских фирм. В чем заключалась суть этой программы?
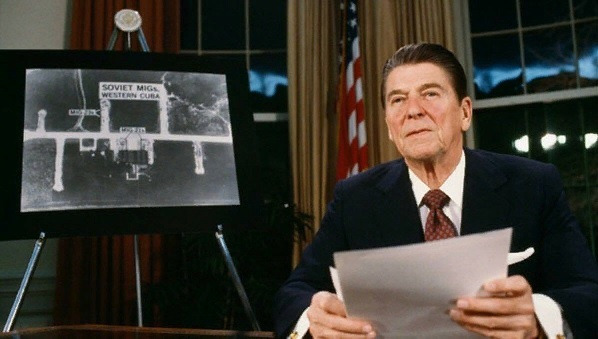
23 марта 1983 года Рейган обратился к американской нации и произнес буквально следующее: «Я знаю, что все вы хотите мира. Хочу его и я. <…> Я обращаюсь к научному сообществу нашей страны, к тем, кто дал нам ядерное оружие, с призывом направить свои великие таланты на благо человечества и мира во всём мире и дать в наше распоряжение средства, которые сделали бы ядерное оружие бесполезным и устаревшим. Сегодня в соответствии с нашими обязательствами по Договору о ПРО и признавая необходимость более тесных консультаций с нашими союзниками, я предпринимаю первый важный шаг. Я отдаю распоряжение начать всеобъемлющие и энергичные усилия по определению содержания долгосрочной программы научных исследований и разработок, которая положит начало достижению нашей конечной цели устранения угрозы со стороны стратегических ракет с ядерными зарядами. Это может открыть путь к мерам по ограничению вооружений, которые приведут к полному уничтожению самого этого оружия. Мы не стремимся ни к военному превосходству, ни к политическим преимуществам. Наша единственная цель — и её разделяет весь народ — поиск путей сокращения опасности ядерной войны». Сенатор Эдвард Кеннеди назвал эту речь «безрассудными планами звёздных войн» и с тех пор высказывания Рональда Рейгана иначе чем «планом звёздных войн» уже никто и не называл.
Как мы видим, Стратегическая оборонная инициатива внешне представляла собой программу создания глобальной системы противоракетной обороны, предназначенной для защиты всей территории Соединенных Штатов от нападения советских баллистических ядерных вооружений стратегического характера (межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования). Для обеспечения контроля за осуществлением программы в рамках Министерства обороны США в 1984 году была создана вполне реальная и очень мощная организация Стратегической оборонной инициативы, которую возглавил генерал-лейтенант ВВС США Дж. Абрахамсон, ранее занимавший пост руководителя программы космических челночных полетов НАСА. Организацией в короткие сроки был изучен весьма широкий спектр самых передовых и перспективных концепций оружия, включая лазеры, пучковое оружие, кинетическое оружие, иные ударные системы наземного и космического базирования.
Нелишне при этом вспомнить, что 1983 год вошел в мировую историю как год наихудшей политической конъюнктуры за все послевоенное время. Это был период пика сразу двух серьезных внешнеполитических кризисов для Советского Союза: продолжающейся войны в Афганистане и начала размещения на территории ФРГ, Великобритании, Дании, Бельгии и Италии американских РСД «Першинг-2» и крылатых ракет. Малое подлетное время ракет «Першинг-2» (8–10 минут) предоставляло США потенциальную возможность нанесения упреждающего удара по командным пунктам и пусковым установкам советских МБР.
Вовсе не случайным было и то, что президенту Франции Ф. Миттерану с подачи предателя нашей Родины, сотрудника ПГУ КГБ СССР В.И.Ветрова именно в этот год пришла в голову «светлая идея» шугануть из Парижа меня и еще 46 моих сотоварищей по несчастью без какого-то реального повода и без предъявления всем нам хотя бы каких-то формальных упреков правового порядка. А то, что Ю.В.Андропов по подсказке просионистски настроенного круга своих ближайших конфидентов типа Арбатова, Бовина, Бурлацкого, Вольского и других поступил вопреки уже сформировавшемуся коллективному мнению большинства членов Политбюро ЦК и не дал французам крепко по зубам в ответ — это и есть самое что ни на есть настоящее, удачно проведенное активное мероприятие западных спецслужб. Насчет роли Е.П.Питовранова и Б.С.Иванова в этой истории ничего сказать не смогу, просто-напросто не знаю.
Кто здесь «агент влияния», а кто просто политический недоумок — каждый пусть решает для себя самостоятельно. Без прочной и достоверной источниковой базы, без надежной документальной основы рассуждать на эти темы и бесполезно, и, тем более, профессионально безответственно. Могу лишь только добавить, что лично для меня почти полной политической загадкой брежневско-горбачевского периодов правления всегда были и по-прежнему остаются три персонажа из числа академиков: академик Велихов, академик Чазов и академик Примаков…
Еще в 1981 году администрация Рейгана предложила неприемлемый для советской стороны «нулевой вариант» — США не размещают в Европе ракеты средней дальности и крылатые ракеты, а СССР ликвидирует свои ракеты РСД-10 «Пионер». Во-первых, американских ракет в Европе не было, и советское руководство считало ликвидацию РС-10 неравноценным обменом. Во-вторых, американский подход не учитывал РСД Великобритании и Франции. В свою очередь Брежнев в том же 1981 году выдвинул программу «абсолютного нуля»: вывод РСД-10 должен сопровождаться не только отказом США от размещения РСД «Першинг-2», но и выводом из Европы американского тактического ядерного оружия, а также ликвидацией системы передового базирования США. Кроме того, предлагалось ликвидировать британские и французские РСД. США отказались от этих предложений, ссылаясь на превосходство СССР и стран Варшавского договора в обычных вооруженных силах. В 1982 году советская позиция была скорректирована: СССР объявил временный мораторий на развертывание РСД-10 «Пионер» до подписания всеобъемлющего соглашения и выразил готовность сократить количество РСД-10 до аналогичного числа французских и британских РСД. Но эта позиция не вызвала понимания у европейских стран НАТО. Франция и Британия объявили свои ядерные арсеналы «независимыми» и заявили, что проблема размещения американских РСД в Западной Европе — это, дескать, вопрос советско-американских договоренностей.
И вот в марте 1983 года администрация Рейгана вдруг заявляет о запуске программы создания полномасштабной ПРО космического базирования, которая смогла бы перехватывать советские МБР на разгонном участке траектории полета. Первичный анализ показал, что потенциальная связка боевых возможностей «евроракет» и программы СОИ может представить вполне реальную угрозу безопасности СССР: сначала противник наносит обезоруживающий удар «евроракетами», а затем — контрсиловой с помощью МБР с разделяющейся головной частью из боеголовок индивидуального наведения, а в дальнейшем перехватывает с помощью средств СОИ ослабленный ответный удар стратегических ядерных сил Советского Союза. Поэтому уже в августе 1983 года глава советского государства Ю.В.Андропов заявил, что переговоры по РСД будут вестись с США только в пакете с переговорами по космическим вооружениям (СОИ). Одновременно СССР взял на себя односторонние обязательства не испытывать противоспутниковое оружие. 24 ноября 1983 года Ю.В.Андропов выступает со специальным заявлением, в котором говорится о нарастающей опасности ядерной войны в Европе, о выходе СССР из Женевских переговоров по «евроракетам», а также о принятии ответных мер — размещении новейших оперативно-тактических ракет «Ока» (ОТР-23) в ГДР и Чехословакии. Имея радиус действия до 400 км, они практически могли простреливать территорию ФРГ на всю ее глубину, нанося превентивный разоружающий удар по местам дислокации «Першингов». Одновременно СССР направил на боевое патрулирование свои атомные подводные лодки с баллистическими ракетами поближе к побережью США в целях сокращения подлетного времени, а также заявил о подготовке «ассиметричного ответа». Речь идет в принципе всё о том же эффекте, который Россия сегодня стремится обеспечить с помощью атомных подводных торпедоносцев типа «Посейдон».
Здесь стоит приостановиться и слегка поразмыслить. Объективно получается, что советское руководство во главе с Ю.В.Андроповым поверило в реальность геополитического блефа президента США Рейгана и Пентагона, коль скоро очень прочно увязало еще несуществующую, а всего лишь заявленную США на декларативном уровне программу «звездных войн» в единый пакет с реально накопленным массивом ракет средней дальности на европейском континенте. Для возникновения долгоиграющей военно-дипломатической пластинки под названием «американский миф о СОИ» имелось по меньшей мере два очень серьезных обстоятельства, о которых не следует забывать. Оба они прямо проистекали из условий соблюдения на практике базового двухстороннего военно-политического соглашения по ПРО, из которого, собственно говоря, и вырос впоследствии ведь пакет советско-американских договоренностей вначале об ограничении, а затем и о постепенном сокращении ядерных потенциалов обеих стран. Формальных предлогов для обвинений СССР в нарушении краеугольного для политических и военно-дипломатических усилий по ограничению и даже сокращению стратегических вооружений «Договора США и СССР об ограничении систем противоракетной обороны» к 1983 году накопилось уже немало, и Рональд Рейган не замедлил этим воспользоваться. Это касалось, прежде всего, положений статьи 6 Договора, гласящей следующее: «Для повышения уверенности в эффективности ограничений систем ПРО и их компонентов, предусмотренных настоящим Договором, каждая из Сторон обязуется:
a) не придавать ракетам, пусковым установкам и РЛС, не являющимся соответственно противоракетами, пусковыми установками противоракет и РЛС ПРО, способностей решать задачи борьбы со стратегическими баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета и не испытывать их в целях ПРО; и
b) не развертывать в будущем РЛС предупреждения о нападении стратегических баллистических ракет, кроме как на позициях по периферии своей национальной территории с ориентацией вовне».
Сначала рассмотрим подпункт «а». С момента запуска 1 ноября 1963 года «первого маневрирующего космического аппарата» под названием «Полет-1» в СССР началась эпоха создания и испытания противоспутниковых систем. Второй «Полет» стартовал 12 апреля 1964 года, аккурат в третью годовщину исторического полета Ю.А.Гагарина. Эти два запуска были первыми в программе разработки комплекса «Истребитель спутников» (ИС). Комплекс был создан, принят на вооружение в 1978 году и стоял на боевом дежурстве вплоть до 1993 года. ИС обеспечивал перехват цели на втором или последующих витках полета и поражал космический аппарат противника направленным взрывом с выбросом большого потока поражающих элементов.
Особое место в реализации данной программы было отведено продукции ОКБ-586/КБ «Южное» в г. Днепропетровске в Украине (изделия ИС-2, ИС-А, ИС-П «Уран», ИС-МУ «Нарвад»), поставленной на вооружение в конце 80-х гг. По некоторым данным, разработанные этим ОКБ системы ИС, выведенные в космос ракетами-носителями «Циклон», могли выполнять боевые задачи на круговых и эллиптических орбитах в очень широком диапазоне высот от 150 до 10 тысяч км, предусматривалась также возможность использования для этих же целей аппаратов, размещенных на геостационарных орбитах. Параллельно обсуждались возможности уничтожения спутников противника при помощи ударных космических платформ. Группировка «истребителей спутников» (к 1991 году их общая численность достигла шестнадцати) была поставлена на боевое дежурство в составе пусковых установок в районе космодрома Байконур. Испытания по программе «ИС» то прекращались, то возобновлялись вновь.
Однако проведенное в июне 1982 года испытание этой системы заслуживает особого упоминания, ибо оно стало центральным событием крупнейших стратегических учений армии и флота СССР и стран Варшавского договора, проходивших с 14 июня по 30 сентября 1982 года и прозванных на Западе семичасовой ядерной войной (Seven-hour Nuclear War). По данным «Википедии», учения Щит-82 были планом операции РЯН для выработки средств противодействия нападению со стороны США. 14 июня 1982 года в течение 7 часов были последовательно запущены две межконтинентальные ракеты шахтного базирования «РС-10М» («УР-100»), мобильная ракета средней дальности «РСД-10» («Пионер») и баллистическая ракета «Р-29М» с подводной лодки «К-92». По боеголовкам ракет были выпущены две противоракеты «А-350Р», и в этот же промежуток времени «Космос-1379» (ИС-П «Уран») попытался перехватить мишень «Космос-1378» (ИС-М «Лира»), имитирующую американский навигационный спутник «Транзит». Кроме того, в течение трех часов между стартом перехватчика и его сближением с мишенью с Плесецка и Байконура были также запущены навигационный и фоторазведывательный спутники. Эта наглядная и впечатляющая демонстрация советской боевой мощи дала руководству США удобный повод для провозглашения своих намерений по созданию широкомасштабной противоспутниковой системы нового поколения в рамках публично объявленной Р. Рейганом программы СОИ.
Второй эпизод рассматриваемой нами истории отечественной СПРН был непосредственно связан с проблемой появления в ядерных арсеналах обеих сторон Договора так называемых сложных баллистических целей — МБР с разделяющимися боеголовками и с большим количеством их имитаторов. Возникла необходимость проведения селекции целей, то есть выделения реальных боевых блоков на фоне искусственно создаваемых помех. Это и до настоящего времени остаётся одной из ключевых проблем ПРО, ибо используемые технологии противодействия обороне противника путём маскировки боезарядов ложными целями по-прежнему намного более простые и гораздо более дешевые, чем сложные и дорогостоящие технологии их распознавания и отбора для последующего поражения. Множественность элементов сложных баллистических целей, применяемые хитроумные приемы, методы и все новые конструкционные материалы для уменьшения отражающей поверхности боевых блоков серьезно повысили уровень требований к применяемым радиолокационным средствам ПРО. Возникла необходимость в использовании высокоточных, многоканальных РЛС с высокой разрешающей и пропускной способностью. В связи с этим советскими учёными были предложены два альтернативных проекта сверхмощной помехозащищённой РЛС, которая должна была стать основой новых и заменой существующих узлов Системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
В начале 70-х гг. в СССР было начало осуществление ряда проектов по использованию нового (фазового) метода сканирования пространства на основе использования фазированной активной решетки с импульсным излучением (РЛС типа «Дарьял»). Ранее использовался частотный метод сканирования с непрерывным излучением (РЛС семейства «Дунай», «Днестр», «Днепр», «Даугава). 14 апреля 1975 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании РЛС «Дарьял» в Заполярье (на северном ракетоопасном направлении) и в Закавказье (на южном ракетоопасном направлении). Вначале в 1977 году действующий узел РО-1 (Оленегорск-1) был усилен новой приёмной частью, получившим название «Даугава», и он стал модернизированным двухпозиционным активно-пассивным радиолокационным комплексом, работающим на основе зондирующих сигналов РЛС «Днепр». Затем в январе 1984 года на вооружение Советской Армии был принят головной образец уже принципиально новой станции с активной фазированной решеткой, построенный вблизи города Печора (Республика Коми), а в 1985 году была сдана в эксплуатацию вторая аналогичная станция вблизи города Куткашен (с 1991 года — Габала) в Азербайджанской ССР. Однако, как говорят в известных кругах в городе-герое Одессе, «жадность фрайера сгубила».
В начале 1980 года, несмотря на обоснованные сомнения, опасения и даже возражения многих специалистов, на «самом-самом верху» принимается политическое решение о строительстве мощной РЛС типа 90Н6 «Дарьял-У» в качестве отдельного радиотехнического узла как главного элемента системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Дальность действия этой надгоризонтной РЛС, размещавшейся в 80 километрах от районного центра Енисейск Красноярского края, позволяла не только уверенно контролировать радиолокационное поле на восточном и северо-восточном направлении, в частности, в районе Охотского моря, но и обеспечивать защиту как воздушно-космических границ страны, так и части ее территории страны в целом от внезапной атаки ядерными ракетами противника.
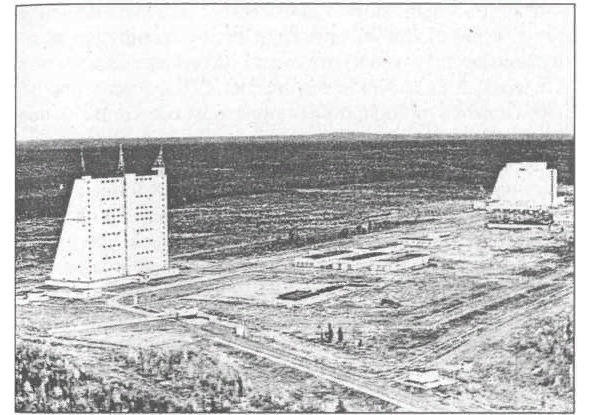
Такое рискованное решение советского руководства было вызвано в немалой степени растущим усилением «китайского фактора» в мировой гонке стратегических ядерных вооружений. Американские космическая разведка «засекла» развертывание строительства «очень крупной РЛС» под Красноярском еще при Андропове, в июле — августе 1983 года, однако официально американская сторона заявила о нарушении Советским Союзом 6-й статьи Договора по ПРО лишь в 1987 году, то-есть уже при Горбачеве. В результате к моменту оглашения официальной позиции США все технологические помещения узла были полностью готовы, полным ходом шли монтажно-наладочные и пусковые работы. Общие затраты только на строительство РЛС составили, по оценкам отечественных СМИ, 203,6 млн. рублей плюс 131,3 млн рублей на закупку технологического оборудования. Думается, на самом деле понесенные расходы были гораздо более значительными. Конечно, в ответ на американские претензии Советский Союз тут же огласил заранее заготовленную Генштабом ВС СССР легенду, достаточно наивно рассчитанную на то, что американцы без проведения «инспекции на месте» не смогут понять истинное предназначение данной радиолокационной установки. Дескать, данный объект предназначен вовсе не для раннего предупреждения о ракетном нападении, а лишь для обычных научных наблюдений за дальним Космосом, в том числе и «в общих для всего прогрессивного человечества интересах». При этом МИД СССР не замедлил в свою очередь выдвинуть США встречные претензии о нарушении указанного Договора ввиду размещения ими своих РЛС на территории иностранных государств (в Гренландии (Туле) и в Великобритании (Файлингдейлс). Существовало, однако, одно очень немаловажное обстоятельство, которое, насколько мне припоминается, напрочь сносило и, в конечном итоге, таки снесло всю нашу аргументацию и контраргументацию, все многослойные дипломатические и пропагандистские усилия СССР. Антенное устройство Красноярской РЛС имело не только фазированную решетку, но было еще и с так называемой активной фазированной решеткой (АФАР).
Главное отличие активной решетки от пассивной — это чувствительность и возможность работы активной системы сразу на нескольких частотах одновременно. Это означало, что АФАР была способна одновременно сопровождать десятки целей, делать картографирование местности, равно как глушить и защищаться от помех радаров противника. По оценкам военных специалистов, мощность луча данной станции была такой, что могла полностью вывести из строя всю электронику навигационной системы баллистической ракеты. Поэтому вовсе не случайно, что многолетнюю дипломатическую баталию вокруг Красноярской РЛС мы проиграли с треском, понеся при этом значительные политические, экономические, военные, а также немалые чисто финансовые потери. Для стремительно нищавшего и всю глубже влезавшего во внешнюю кредитную кабалу Советского Союза это был достаточно крепкий и очень чувствительный «удар под дых», причем крайне несвоевременный из-за аварии на Чернобыльской АЭС и продолжающейся войны в Афганистане.
Если рассматривать всю эту историю с американской программой СОИ под углом зрения «записки Андропова-Крючкова об агентах влияния», то выводы напрашиваются сами собой — они очень печальные, хотя и трудно доказуемые. Сразу же возникает резонный вопрос: кого в первую очередь советская машина государственной пропаганды и осуществления активных мероприятий должна была попытаться убедить, что СОИ не более, чем горячечный бред американского президента и «ястребов из Пентагона» — советское общественное мнение или чуждую нам американскую аудиторию? Американское политическое руководство и так гораздо лучше нас знало истинную цену чисто военной составляющей своей «стратегической инициативы», что же его попусту убеждать в обратном? Как говорил председатель колхоза в известном украинском анекдоте: «А-а, нехай клевещуть…». Пусть абсолютно зря выкидывают на ветер деньги своих слегка туповатых американских налогоплательщиков, а мы на их голимую туфту ни за что не купимся!
Купились же, однако. Весь период своего пребывания на посту лидера страны Ю.В.Андропов то и дело выдвигал одну за другой советские инициативы, направленные «на предотвращение размещения боевых оружейных систем в космическом пространстве». А ведь планы размещения оружия в космосе могли рассматриваться тогда исключительно в контексте ПРО, ибо именно противоракетная оборона является той областью военной деятельности, где космическое оружие наиболее эффективно и наиболее востребовано. А посему заявленная США программа создания комплекса возможных систем вооружений, обладающих способностями борьбы с баллистическими ракетами, включая системы оружия космического базирования, прямо противоречила краеугольному советско-американскому соглашению по ПРО, и открывала перед нами широкие возможности в начавшемся диалоге по стратегическим наступательным вооружениям. Вашингтон тут же попытался дать новую трактовку его отдельным положениям — так называемое широкое толкование Договора по ПРО. Суть его сводилась к следующему. Предусмотренное V статьей Договора запрещение создавать, испытывать и развертывать системы и компоненты ПРО космического базирования распространяется якобы только на те виды компонентов ПРО, которые существовали в момент заключения Договора и которые перечислены в его статье II (противоракеты, их пусковые установки и радиолокационные станции (РЛС) ПРО). Что касается систем и компонентов ПРО, «основанных на иных физических принципах», к которым первоначально относилось большинство систем, рассматриваемых в рамках программы СОИ и предназначенных для использования в космосе, то они якобы под эти запреты не попадают. Иными словами, США стали втягивать СССР в бесконечную и крайне дорогостоящую гонку разработки противоракетных систем, предназначенных для использования исключительно в космическом пространстве без формального нарушения договора по ПРО. Ну, и кого же Ю.В.Андропов привлек в ближайшие союзники в своем стремлении разделить темы милитаризации космоса и практической реализации ядерных планов США в Европе? Естественно, «близкие к СССР» западноевропейские рабочие и коммунистические партии и содружество «прогрессивных ученых» всего мира. Конечно, наиболее авторитетные «еврокоммунисты» Италии, Испании, Швеции и Франции после событий «пражской весны» быстренько показали нам «фигулю на рогуле», продолжая, однако, ежегодно исправно получать от КПСС немалые денежные вспомоществования.
А на смену полудохлому хрущевскому изобретению под названием «Советский Пагуошский комитет», созданному Академией наук СССР в 1957 году в качестве национального комитета действительно авторитетного Пагуошского движения учёных, по воле Андропова и с подачи академика Велихова пришла еще одна весьма странная и, в общем-то, совершенно никчемная «международная тусовка» учёных в их борьбе против ядерной угрозы. В мае 1983 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция учёных за избавление человечества от угрозы ядерной войны, за разоружение и мир (с зарубежным участием). На этом форуме был создан Комитет советских учёных в защиту мира, против ядерной угрозы (КСУ), в состав которого было избрано 25 человек, большей частью — академики и члены-корреспонденты Академии наук (АН) СССР и академий наук союзных республик. Председателем КСУ был избран вице-президент АН СССР академик Е.П.Велихов, заместителями председателя первоначально стали академик Р.З.Сагдеев и доктор исторических (!) наук (впоследствии — академик РАН) А.А.Кокошин, вскоре третьим заместителем председателя был избран доктор физико-математических наук С.П.Капица.
Из официальных публикаций российской региональной общественной организации «Комитет учёных за глобальную безопасность и контроль над вооружениями» (так сегодня величают разоруженческое детище Ю.В.Андропова). «За свой „советский“ период существования члены и эксперты КСУ внесли большой вклад в поиск решений проблем глобальной безопасности. Среди несомненных достижений КСУ следует, прежде всего, отметить исследование вопросов, связанных с климатическими и биологическими последствиями ядерной войны и космическими противоракетными системами. В этой работе большая заслуга принадлежит советским учёным А.Г.Арбатову, А.А.Баеву, Н.П.Бехтеревой, Е.П.Велихову, А.С.Гинзбургу, А.С.Голицыну, Ан. А. Громыко, В.И.Гольданскому, Ю.А.Израэлю, С.П.Капице, А.А.Кокошину, С.И.Колесникову, С.К.Ознобищеву, Ю.А.Осипьяну, Б.В.Раушенбаху, С.Н.Родионову, Р.З.Сагдееву, Л.П.Феоктистову, А.В.Фокину и многим другим».
Ба-а, знакомые все лица… Некоторые из них вполне обоснованно тянут на роль потенциальных агентов влияния стран Запада. Посмотрим на практические итоги их бурной общественно-политической деятельности в рамках КСУ. Вновь процитирую некоторые официальные публикации на этом сайте. «В рамках КСУ из его членов и экспертов были сформированы различные исследовательские группы. КСУ осуществлял самостоятельные научные разработки стратегического и военно-стратегического характера, в частности, по глобальным климатическим, экологическим и биологическим последствиям ядерной войны, по проблемам, связанным с космическим оружием и по проблемам «замораживания» ядерного оружия. Многие из разработок КСУ носили закрытый характер и широко применялись в практике деятельности советских правительственных, военных и партийных органов, а также в институтах АН СССР. Ряд докладов и разработок КСУ выходил под грифом «для служебного пользования». Среди докладов, изданных КСУ для использования специалистами, можно назвать «Перспективы создания космической противоракетной системы США и её вероятное воздействие на военно-политическую обстановку в мире» (М., 1983), «Стратегические и международно-политические последствия создания космической противоракетной системы с использованием оружия направленной передачи энергии» (М., 1984), Р. З. Сагдеев, О. Ф. Прилуцкий, В. А. Фролов «Проблемы контроля крылатых ракет морского базирования с ядерными боеголовками» (М., 1988) и др. При этом КСУ уделял внимание и информированию общественности об опасностях ядерной войны и её последствий. Широкую известность получил ряд научно-популярных изданий КСУ: сборник «Ночь после», посвящённый всем сторонам глобальных последствий ядерной войны, который был издан на английском языке и представлен в 1985 г. на Московской международной книжной ярмарке; заслуженное признание получили вышедшие в 1986 г. сборники КСУ «Климатические и биологические последствия ядерной войны» под редакцией Е. П. Велихова и «Космическое оружие: Дилемма безопасности» под редакцией Е. П. Велихова, Р. З. Сагдеева и А. А. Кокошина; в 1988 г. членом КСУ А.С.Гинзбургом была опубликована книга «Планета Земля в «послеядерную эпоху», переведённая на несколько языков, и др.». Не знаю, кому как, но мне тематика и направленность большинства упомянутых выше публикаций совершенно не импонирует. Они явно находятся в русле усиленно предпринимавшихся тогда Соединенными Штатами мощных пропагандистских усилий в пользу подтверждения реальности программы «звездных войн», всяческого подчеркивания огромной значимости результатов практического использования ее отдельных элементов в будущей ядерной битве двух мировых сверхдержав.
Вот что писалось, к примеру, в статье Е.П.Велихова «О деятельности АН СССР и перспективах работы Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы»: «Мы встречались и со сторонниками „стратегической оборонной инициативы“, в частности с представителями национальных лабораторий, и надо сказать, что эти встречи не были плодотворными. Основной аргумент наших оппонентов, грубо говоря, сводился к следующему: им якобы известно нечто совершенно секретное, что делает наши выводы несостоятельными. Дальнейшие аргументы в пользу „стратегической оборонной инициативы“ сводились к следующему: если развитие стратегической обороны не может создать щит, то по крайней мере оно может подорвать экономическую мощь Советского Союза. А.Ф.Добрынин говорил здесь об иллюзиях на этот счет. Следующий довод наших оппонентов заключался в том, что работы по созданию широкомасштабной космической обороны являются всего-навсего невинным научным исследованием. Этот аргумент разбивается простым анализом взаимодействия Пентагона и конгресса США. Сам размер запрашиваемых Пентагоном сумм говорит, что речь идет уже не об исследованиях, а о разработках. Администрация США подразумевает под этими исследованиями создание полномасштабной системы с математическим обеспечением, системами поиска, нацеливания, поражения, размещением установок в космосе, чтобы выяснить, выполняют ли они ту функцию, ради которой создаются. Нужно сказать, что исследования такого рода противоречат общепринятому понятию исследования и всем международным договорам, прежде всего Договору 1972 г. об ограничении противоракетной обороны. Кроме того, существует очень крупное внутреннее противоречие: проверить функционирование такой системы невозможно. Ведь проверка в мирных условиях ничего не дает, а в условиях, когда система подвергается полной проверке, возникает дилемма: если эта проверка произойдет, то человечество перестанет существовать, а если ее не будет, мы так и не узнаем, надежна ли система».
Напомню, что в тот период США публично и притом очень громогласно заявляли об имеющихся у американцев намерениях израсходовать в ближайшие 10—15 лет на программу СОИ астрономическую сумму более 2 трлн. долларов! Они без устали изо дня в день повторяли очень расхожий тезис: «Кто владеет космосом, тот владеет миром». На американском телевидении непрерывно крутили рекламные ролики с наглядным показом принципов действия нового оружия против стратегических ракет, где развернутые в недрах космоса новейшие перспективные системы вооружений весьма эффектно уничтожали ядерные боеголовки ракет. В мировом общественном мнении весьма искусно создавалось впечатление, будто американская СОИ если и не сегодня, то уж завтра наверняка будет создана, и тогда всем недругам США действительно станет туго. Следует признать, что тщательно продуманная и великолепно срежиссированная реклама-«страшилка» в конечном итоге все-таки сработала, и высшее руководство СССР хотя и не сразу, но все же стало рассматривать СОИ как главную угрозу безопасности страны и как вполне реальную попытку подрыва общей стратегической стабильности в мире.
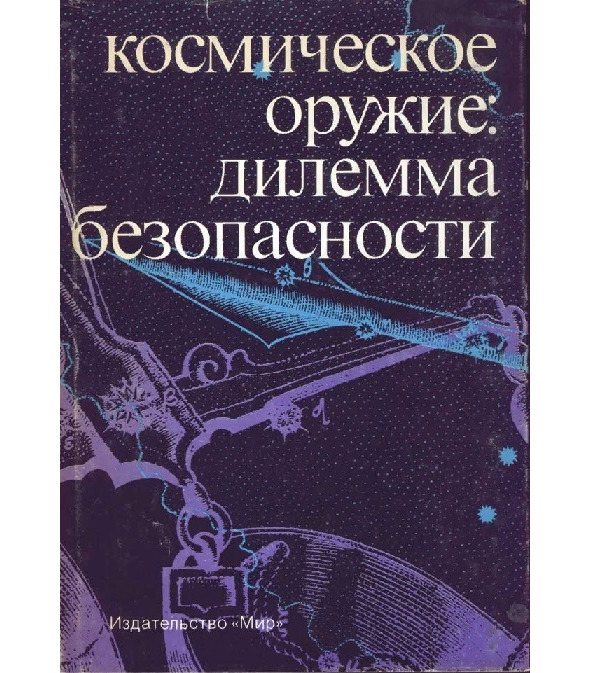
Приведу пассаж из упомянутой мною книги «Космическое оружие. Дилемма безопасности»/ под ред. Е.П.Велихова, А.А.Кокошина, Р.З.Сагдеева, М.: Мир, 1986, цит. по научной работе «Как готовился «асимметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» Р. Рейгана. Велихов, Кокошин и другие». Ее авторами являются один из участников разработки концепции советского «асимметричного удара» кандидат исторических наук журналист С.К.Ознобищев, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, в советское время — начальник штаба 5-й Общевойсковой армии, генерал-полковник в отставке В.Я.Потапов и бывший командующим войсками Прикарпатского военного округа генерал-полковник в отставке В.В.Скоков Исследовательская группа, как мы видим, внешне очень солидная и достаточно представительная. «27 марта 1983 г. министр обороны США Каспар Уайнбергер учредил, основываясь на рекомендациях специального комитета, Организацию по осуществлению СОИ (SDIO) во главе с генерал-лейтенантом Джеймсом Абрахамсоном. Были определены направления, по которым должны идти исследования. Речь, в частности, шла:
о разработке приборов для обнаружения, сопровождения, селекции и оценки степени поражения стратегических ракет в любой из фаз их полета на фоне ложных целей и помех;
о разработке ракет-перехватчиков стратегических МБР и БРПЛ другой стороны;
об исследованиях в области создания различных разновидностей оружия, в том числе направленной передачи энергии (лучевого оружия);
о создании развернутых в космосе спутников-перехватчиков МБР и БРПЛ;
о разработке качественно новых систем управления и связи;
о создании электромагнитных пушек;
о разработке более мощной по сравнению с космическим кораблем «Шаттл» транспортной космической системы.
Вскоре принятая руководством США ниокровская программа начала интенсивно реализовываться, особенно в части всякого рода демонстрационных испытаний». Компоненты «асимметричной стратегии» советской стороны разрабатывались в ряде научно-исследовательских центров страны — как в Академии наук СССР, так и в ведомственных НИИ (среди последних особо следует отметить разработки ЦНИИмаш Министерства общего машиностроения СССР во главе с Ю.А.Мозжориным и В.М.Суриковым; ЦНИИмаш при этом тесно взаимодействовал с 4-м ЦНИИ Минобороны, рядом других научно-исследовательских институтов МО СССР, а также с институтами АН СССР). Концепция «асимметричного ответа», а тем более конкретные программы этого плана реализовывались, преодолевая большие препятствия, ибо в нашей стране сложилась традиция преимущественно симметричных действий, действий «острие против острия». И эта традиция во всей полноте проявила себя тогда, когда в СССР дебатировался вопрос о том, как отвечать на рейгановские «звездные войны». Сущность «асимметричного ответа» сводилась прежде всего к тому, чтобы в самых тяжелых условиях, при развертывании США многоэшелонированной противоракетной обороны с использованием разнообразных, в том числе упомянутых «экзотических» средств противоракетной обороны (включая различные виды оружия направленной передачи энергии — ускорители нейтральных частиц, лазеры на свободных электронах, эксимерные лазеры, рентгеновские лазеры и пр., электродинамические ускорители массы (ЭДУМ) — «электромагнитные пушки» и др.). обеспечить возможность советским ракетно-ядерным средствам в ответном ударе нанести «неприемлемый ущерб» агрессору, тем самым убедив его отказаться от упреждающего (превентивного) удара. (Вопрос о превентивном ударе — это «проклятый» вопрос баланса сил, писал в 1990 г. в одной из своих записок академик Ю.А.Трутнев) Для этого рассматривались самые разнообразные сценарии массированного применения Советским Союзом ракетно-ядерного оружия первым с попыткой максимально действенных обезоруживающих и «обезглавливающих» ударов, выводящих из строя прежде всего стратегические ядерные средства США и их систему управления. Важную роль при этом играло моделирование с использованием ЭВМ. Видную, если не главную, роль в принятии решения в конечном итоге в пользу формулы «асимметричного ответа» сыграла группа советских ученых во главе с крупным физиком-ядерщиком, вице-президентом Академии наук СССР Евгением Павловичем Велиховым, курировавшим в то время по академической линии в числе прочих вопросов фундаментальные и прикладные исследования в интересах обороны. Открытой частью этой группы был созданный Велиховым (по одобрению высшего руководства СССР) Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы — сокращенно КСУ».
И что же установили эксперты КСУ? А вот что: «Проведенное рабочей группой Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы, комплексное исследование ряда научно-технических, военно-стратегических и международно-политических аспектов создания широкомасштабной системы ПРО США с элементами космического базирования, потенциального воздействия развертывания такой системы на устойчивость военно-стратегического равновесия, паритет и международную безопасность позволяет сделать некоторые выводы. Такая система явно не способна, как это утверждается ее сторонниками, сделать ядерное оружие «бессильным и устаревшим», обеспечить надежное прикрытие территории США, а тем более их союзников в Западной Европе или в других районах мира. Отнюдь не будут способствовать повышению устойчивости военно-стратегического равновесия и различные ограниченные варианты противоракетной системы. Поэтому концепция безопасности, достигаемой, предположительно, путем развертывания новых военно-технических средств и прежде всего противоракетных систем, на деле не позволяет выбраться из ядерного тупика. Более того, реализация этой концепции сделает ядерную войну более вероятной. В свете этого стремление США к созданию широкомасштабной противоракетной системы может быть расценено нами только как стремление использовать свой научно-технический потенциал для достижения военного превосходства. С учетом наличия у Советского Союза огромного экономического и научно-технического потенциала, богатого исторического опыта, в том числе по сохранению примерного военно-стратегического равновесия, беспочвенны и не столь открыто рекламируемые, но явно преследуемые правительством Соединенных Штатов надежды на получение путем создания и развертывания такой системы сколько-нибудь значимых в политическом, а тем более в военно-стратегическом отношении преимуществ над СССР и его союзниками. Нереальны надежды некоторых американских политиков и на «экономическое изматывание» Советского Союза в результате навязываемой ему гонки космических вооружений параллельно с ускорением ее в области ядерных и обычных вооружений. Один из основных выводов анализа, проведенного группой членов и экспертов Комитета советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы, состоит в том, что у Советского Союза имеется широкий спектр возможных и доступных, сравнительно недорогих мер и средств противодействия новой угрозе безопасности СССР и его союзников, создаваемой развертыванием широкомасштабной противоракетной системы с целью использования ее как средства обеспечения безнаказанного первого удара.
Проведенная в Комитете советских ученых углубленная системно-аналитическая (!) проработка вопроса о мерах и средствах противодействия ПРО показывает, что стоимость комплексной системы мер и средств противодействия широкомасштабной системе ПРО с элементами космического базирования в некоторых вариантах может составить всего несколько процентов от стоимости такой системы. Некоторые другие варианты и комбинации средств нейтрализации и подавления противоракетной системы выглядят более дорогостоящими, особенно с учетом мер по повышению их устойчивости относительно первого удара другой стороны. Однако в любой комбинации средства противодействия неизменно оказываются по крайней мере в несколько раз менее дорогостоящими по сравнению с планируемой Соединенными Штатами широкомасштабной противоракетной системой. К тому же такие средства в совокупности значительно менее уязвимы и намного более стабильны как система, нежели широкомасштабная система ПРО с космическим оружием (хотя бы с отдельными элементами космического базирования). Таким образом, если, вопреки Договору по ПРО и другим международно-правовым нормам, наперекор мнению большинства ученых мира и протестам международной общественности здравый смысл у руководящих политических, военных и промышленных кругов Соединенных Штатов не возобладает и они все же пойдут по пути создания и развертывания оружия «звездных войн», у Советского Союза найдутся разнообразные возможности по обеспечению своей безопасности в этих новых условиях, по сохранению сложившегося в мире военно-стратегического паритета. При этом, как неоднократно подчеркивало советское политическое и военное руководство, наша страна никогда не пойдет путем, навязываемым ему авантюристическими кругами США, и ответ СССР не будет симметричным».
С позиций обеспечения эффективности внешнеполитической пропаганды того периода получилась вполне съедобная научная стряпня, а вот с точки зрения реальной политики это, скорее, «детский сад, штаны на лямках». Приведу соответствующую обсуждаемой теме оценку из книги А.Ф.Добрынина «Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986 гг.)». «1985 год начался встречей Громыко и Шульца 7—8 января в Женеве. Они рассмотрели вопрос о предмете и целях предстоящих советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям. Политбюро на своем заседании обсудило инструкции для встречи Громыко с госсекретарем США. Заседание вел Горбачев, который ввиду обострившейся болезни Черненко все чаще председательствовал на заседаниях Политбюро. Если Рейган продолжал упрямо держаться за свою космическую программу, то Горбачев к этому времени убедил себя и других членов советского руководства в том, что необходимо обязательно сорвать эту программу. Столкновение этих двух противоположных идей фикс стало во многом определять характер всех последующих советско-американских переговоров по проблемам стратегической безопасности. При этом оба руководителя, и Рейган, и Горбачев, были столь глубоко вовлечены в споры вокруг СОИ, что, по существу, преувеличивали ее реальные возможности. Так или иначе, Громыко получил твердые инструкции: добиваться максимально четкой формулировки цели переговоров по космосу, чтобы не допустить создания космических вооружений, и при этом взаимно увязать ход рассмотрения на будущих переговорах как космических, так и ядерных вооружений. Американцы должны не уходить от обсуждения вопросов по космосу и не заниматься лишь интересовавшими их вопросами сокращения стратегических ядерных вооружений».
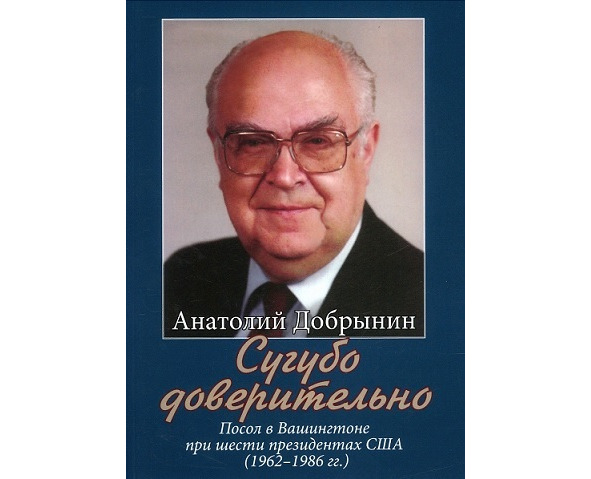
Вот вам и наглядная иллюстрация, своеобразная квинтэссенция советского подхода к «внешнеполитическому блефу» Рональда Рейгана под названием «Стратегическая оборонная инициатива»! Равно как и к реальному восприятию тогдашним советским руководством существа талантливо проведенного американской дипломатией и специальными службами США комплексного активного мероприятия, главной целью которого было взваливание на плечи СССР непомерной для него ноши в условиях крайне ослабленной, фактически идущей «вразнос» экономики страны Советов. Опять на авансцене главный разрушитель СССР М.С.Горбачев, «немощный и убогий» К.У.Черненко, слегка подурневший от надвигающего старческого маразма «Мистер Нет» А.А.Громыко и «очень мудрый и прозорливый» секретарь ЦК КПСС по международным делам, бессменный на протяжении целых 23 лет советский посол в США А.Ф.Добрынин, лепший приятель и личный конфидент небезызвестного Генри Киссинджера (см. журнал «Новая и новейшая история, №5, 2006, C. 108—138). На которого, кстати, в ПГУ КГБ СССР оперативных материалов скопилось ничуть не меньше, чем на его бывшего соседа в Канаде совпосла А.Н.Яковлева…
Приведем высказывание самого А.Ф.Добрынина. «Эта встреча положила начало функционированию конфиденциального канала между высшим руководством обеих стран, который бесперебойно действовал в течение почти шести лет. Мы регулярно завтракали или обедали наедине, то у меня, то у него, но чаще я сам ездил к Киссинджеру, пользуясь служебным входом Белого дома. Встречи с ним в Белом доме проходили или у него в кабинете, недалеко от кабинета президента, или — когда начались длительные переговоры с ним по Вьетнаму и вопросам ограничения стратегических вооружений, — в тиши импозантной комнаты, откуда в годы войны президент Франклин Рузвельт выступал с радиообращениями к своему народу. Впоследствии, по решению президента, по мере того, как наши контакты участились, став почти ежедневными, была проведена прямая тайная телефонная линия между Белым домом и посольством, пользоваться которой могли только Киссинджер и я (без набора номеров, просто поднимая трубку). Советскому руководству конфиденциальный канал гарантировал быстрый и надежный способ связи с президентом США. Его секретность обеспечивалась общей системой особой секретности деятельности Политбюро. Никсону и Киссинджеру этот канал позволял в ряде случаев избегать давления со стороны конгресса и общественного мнения, которые не знали о переговорах по этому каналу. Белый дом при Никсоне стал не только разрабатывать политику, но и непосредственно осуществлять ее. Оглядываясь назад, могу уверенно сказать, что без такого канала и его конфиденциальности не были бы достигнуты многие ключевые соглашения по сложным и противоречивым вопросам, не снималась бы оперативно опасная напряженность. Берлин, Куба, Ближний Восток, основные соглашения по ограничению стратегических вооружений, наконец, все деликатные переговоры по подготовке встреч на высшем уровне — все это шло через конфиденциальный канал. Так начались наши уникальные отношения с администрацией Никсона-Киссинджера. Мы были одновременно и противниками, и партнерами по сохранению мира».
В результате многолетних закулисных манипуляций обеих сторон на встрече 1985 года в Женеве министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Джордж Шульц вначале пришли к соглашению, что переговоры по «евроракетам» будут проводиться отдельно от переговоров по космическим вооружениям. Затем Москва ввела в одностороннем порядке мораторий на развертывание ОТР-23 (это был новейший советский оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», талантливая и очень перспективная разработка Коломенского конструкторского бюро машиностроения под руководством С.П.Непобедимого) в Чехословакии и ГДР. А уж на встрече в Рейкьявике 10–12 октября 1986 года Горбачев и вовсе предложил «широкомасштабное сокращение ядерных вооружений, но только „в пакете“ с отказом США от СОИ». Поскольку договориться об общем ракетно-ядерном разоружении не удалось, стороны решили начать с наиболее острой проблемы — с ракет средней дальности в Европе. При этом СССР согласился «разблокировать пакет» и вести переговоры по РСД отдельно от СОИ. В результате подписания в 1987 году Договора РСМД с советской стороны было уничтожено 1846 РСМД: 889 РСД (654 РСД-10 «Пионер», 149 Р-12, 6 Р-14, 80 КРНБ РК-55) с 587 пусковыми установками для них и 957 РМД (718 ОТР-22 и 239 ОТР-23) с 238 пусковыми установками для них, а также 74 ракетные операционные базы. С американской стороны были уничтожены находившиеся в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Италии и США 846 РСМД, в том числе 677 РСД (234 «Першинг-2», 443 КРНБ «Грифон») с 288 пусковыми установками для этих ракет и 169 РМД «Першинг-1А», а также 9 ракетных операционных баз.
По моей сугубо личной оценке, общая политическая, экономическая и дипломатическая победа Запада здесь очевидна. Европейский компонент стратегического наступательного оружия, угрожающего СССР, в виде «независимых» британских и французских «ядерных триад» по-прежнему остался существовать в неизменном виде, а вот возможный ответ на него в форме советских ракет средней дальности (РСД-10 «Пионер») и малой дальности (ОТР-23 «Ока») был поставлен под вопрос. На что их тогда променяли? На пропагандистскую «программу звездных войн». Да, в ходе широко развернувшихся тогда исследований и опытно-конструкторских работ по новым видам советских «истребителей спутников» было обеспечено немало перспективных «заделов на будущее», начата широкомасштабная программа по созданию сверхмощных носителей типа «Энергия», космических челноков типа «Буран», боевых лазеров наземного, воздушного и космического базирования, а также многое, многое другое. Но ведь вся беда заключалась в том, что ввиду хорошо отлаженной в США системы «технологий двойного назначения» (военного и гражданского) деньги американских налогоплательщиков не «вылетали в трубу» целиком и безвозвратно практически никогда, причем при любом исходе перспективных исследовательских работ, а у нас все это происходило сплошь и рядом. Попытки «пристроить» к полезному делу на гражданке советские военные разработки зачастую заканчивались плачевно — как правило, выпущенная с использованием самых передовых «ноу-хау» и новейших научных изобретений продукция оказывалась неконкурентоспособной не только на мировых, но и на внутреннем рынке страны. Во многом главной помехой во внедрении «на гражданке» военных разработок служила пресловутая «секретность», далеко не всегда оправданная с точки зрения общих экономических интересов страны…
В этой связи мне припоминается «творческое участие» в подготовке в стенах Государственной Думы под редакцией Г. А. Зюганова коллективного труда под названием «Военная реформа: Оценка угроз национальной безопасности России» (авторы А.И.Подберезкин и др.; Народно-патриотический Союз России, Всероссийское общественно-политическое движение «Духовное наследие». — М.: РАУ-Университет, 1997). Сама по себе эта работа была типичной политико-пропагандистской показухой, выполненной главным образом в целях рекламы «выдающихся аналитических способностей нашего отечественного «спецразведчика» (вождя российских коммунистов) очередной группой «литературных негров» вроде «привлеченного научного сотрудника Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондонского университета», бывшего сотрудника ИСКРАН Антона Сурикова (Мансура Натхоева) и бывшего советского генштабиста, вице-президента ООД «Духовное наследие» генерал-майора Юрия Лебедева в рамках практического наполнения соответствующим содержимым разработанной в недрах структур олигархов М. Ходорковского — Л. Невзлина — Б. Березовского электоральной программы «Лидер». Вспомнил я о ней вот в какой связи. Во-первых, будет далеко не лишним вспомнить, что по поводу СОИ писал в советские времена тот же Ю.В.Лебедев. «Не желая осознать реалии ядерно-космического века, США и некоторые их союзники по НАТО пытаются найти выход из «ядерного тупика» через космос. Руководители Белого дома одурманивают себя тем, что якобы с помощью «звездных войн» они смогут вырваться вперед в военном отношении и диктовать свою волю Советскому Союзу. Но потуги Вашингтона тщетны. Ставка на космос, на космические вооружения, созданные на основе новых физических принципов, несостоятельна. Советский Союз располагает необходимым материальным и интеллектуальным потенциалом, чтобы сорвать поползновения США на приобретение для себя военного превосходства. Военно-стратегический паритет был и остается объективным фактором сдерживания». Одним словом — ««Ура! Мы ломим, гнутся шведы… О славный час! О славный вид! Еще напор — и враг бежит».
Тогда возникает весьма правомерный вопрос: а с чего бы это вдруг в рядах возглавляемого Г. Зюгановым и А. Подберезкиным Народно-патриотического союза России возник столь истеричный алармизм по поводу предстоящей ратификации в Государственной Думе Договора СНВ-2? Заключавшийся примерно в таких образных высказываниях лидера КПРФ: «Чрезвычайные обстоятельства побуждают меня сделать это заявление. Думу подталкивают к спешной ратификации российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений СНВ-2. При этом страна лишается арсенала тяжелых баллистических ракет, способных прорвать любую оборону Америки. Бездумно уничтожается российское оружие сдерживания. По нашему глубокому убеждению, после многократного анализа, предпринятого военными, инженерами и геостратегами, ратификация этого договора делает Россию беззащитной перед угрозами, которые сгущаются над страной. Угрожает ей расчленением, ставит под контроль иностранцев ее материальные и людские ресурсы. По трагическим последствиям ратификация СНВ-2 сравнима с договоренностями в Рейкьявике и на Мальте, когда Горбачев в одностороннем порядке приступил к разрушению Варшавского Договора, сдал ГДР, уничтожил пояса обороны, построенные Советским Союзом после победы в Великой Отечественной войне. В результате этого невиданного предательства блок НАТО получил абсолютный контроль над Восточной Европой. Лучшие советские части были расформированы. Началась геополитическая катастрофа, длящаяся и по сей день. Ратификация СНВ-2, предпринимаемая Путиным, продолжает зловещий ряд катастроф. Вписывает имя Путина в одну строку с Горбачевым и Ельциным. Убеждает нас, что сбываются самые худшие прогнозы относительно его президентства».

Хорошо, ладно, прокричал это в апреле 2000 года с думской трибуны лидер отечественных коммунистов — имеет на то полное политическое право. Тем более в год досрочных выборов президента Российской Федерации ввиду неожиданно свершившейся в конце 1999 года отставки Бориса Ельцина, ибо первоначально предполагалось, что досрочные выборы пройдут 4 июня 2000 года. Но хитромудрый Совет Федерации по указке со Старой площади назначил их на 26 марта и тем самым все «домашние пропагандистские заготовки» КПРФ-НПСР Г. Зюганова, А.Руцкого, А. Тулеева, Н. Рыжкова и Г. Семигина полетели кувырком прямо в мусорную корзину. Однако уже 10 лет спустя тональность высказываний лидеров КПРФ существенно меняется: «- У меня очень настороженное отношение к факту подписания нового договора СНВ (СНВ-3 — авт.), — заявил Г.А.Зюганов. — Ракетно-ядерный потенциал — это последний довод, который есть у России, и любое сокращение потенциала бьет, прежде всего, по нашей безопасности». — При подписании предыдущих договоров в военной сфере американцы нас беспардонно обманывали, — подчеркнул Г. Зюганов. — Мы внимательнейшим образом изучим и проштудируем этот документ, после чего объявим о своей позиции».
А еще через десятилетие — оценка ситуации вообще меняется самым кардинальным образом. 27 января 2021 года Государственная Дума принимает решение о продлении договора СНВ-3 между Россией и США еще на пять лет. Коммунисты поддержали данную инициативу. На пленарном заседании палаты выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г. А. Зюганов. Вот что он сказал в своем выступлении. «Мы поддержим этот договор. Ведь это крайне важный шаг в нужном направлении в нынешнее очень опасное и ответственное время. Мне пришлось в своё время заниматься особой папкой на случай войны и военной опасности, участвовать во всех крупных учениях, испытывать все виды современного оружия (!) …Когда ко мне пришли наши главные ракетчики и показали, как уничтожается Алейская дивизия с ракетами СС-18 («Сатана»), я специально поехал в Алтайский край. Это была лучшая дивизия, недоступная для американских стратегических средств… Затем стали уничтожать наши стратегические силы на Урале. Но после довольно бурной встречи с президентом, на которую он собрал ракетчиков, это варварство остановили. Потом пришлось по вызову специалистов выезжать в Пермский край, где уничтожали последний завод по производству твердых порохов для такого рода ракет. Тогда нам удалось остановить и это безумие. В целом произошел жесткий погром всего того, что обеспечивало наш паритет. Вспоминаю, как ко мне пришел Соломонов, Герой России, конструктор знаменитого «Тополя-М», и мы вместе с Маслюковым долго выслушивали его замечания. Он сказал, что мы больше не в состоянии производить эти ракеты. И мы были вынуждены вылететь в Воткинск и организовывать вместе с Маслюковым кооперацию из 600 предприятий. В результате «Тополь-М» был сохранен, а потом появился «Ярс». У нашей партии есть огромный опыт в этом отношении.
Мне в своё время пришлось активно работать с Маслюковым, который командовал десятком министерств, знал все заводы и всех конструкторов, и собирать специалистов для того, чтобы восстановить цепочки ракетно-космического комплекса. Тогда, после нашего совместного доклада и рассмотрения этого вопроса на коллегии Министерства обороны, нас с готовностью поддержал президент и отправил в отставку Сердюкова, который ничего не понимал в военном деле. Этот горе-министр даже решил вводить бригадный способ организации армии по образцу США. В результате две наши легендарные дивизии — Таманская и Кантемировская — были практически ликвидированы. Нам пришлось их восстанавливать. Была создана Юнармия (!) и сделано многое другое. Я считаю, что все это, вместе взятое, как раз и служит сохранению стратегического паритета».
Ну, что же «Юнармия» — это звучит гордо, особенно в свете дальнейших сокращений стратегических наступательных вооружений двух крупнейших ядерных держав. И ссылки на вклад покойного Ю.Д.Маслюкова очень даже к месту. Только вот что говорил в феврале 2003 года помощник и пресс-секретарь Первого заместителя Председателя правительства РФ Маслюкова, ранее упоминавшийся мною Антон Суриков по поводу необходимости скорейшего уничтожения тяжелых ракет СС-18 «Сатана» в заметке «Договор СНВ-2. Судьба стратегических ядерных сил России» (https://kprf.ru/personal/maslukov/5994.html). «Оппоненты СНВ-2 продолжают утверждать, что по договору Россия якобы должна уничтожить свои «тяжелые ракеты» СС-18 (по западней индексации) и большое число шахтных пусковых установок (ШПУ), вступив тем самым в разорительную «гонку разоружений». В реальности же протоколы к договору, подписанные Е.М.Примаковым и М. Олбрайт в 1997 году, фиксируют в качестве срока выполнения условий СНВ-2 конец 2007 года, к которому гарантийные ресурсы эксплуатации всех без исключения ракет СС-18 будут исчерпаны… В 2002 году (!) в любом случае начнется обвальный вывод «тяжелых ракет» из боевого состава, который завершится к 2007 году, то есть даже раньше срока, определенного протоколом к СНВ-2… Оставление СС-18 на боевом дежурстве чревато катастрофическими авариями, взрывами изделий, оснащенных ядерными зарядами, внутри шахт и отравлениями значительных территорий. Вывод из всего сказанного может быть только такой: СС-18 в ближайшие годы придется снять с вооружения в любом случае. Договор СНВ-2 здесь совершенно ни при чем… Уничтожение ракет, как уже говорилось, никак не связанно с СНВ-2, за исключения того факта, что при наличии договора весомую долю затрат берет на себя американская сторона по программе «Нанна-Лугара», как это сейчас происходит при реализации договора СНВ-1. При отсутствии же СНВ-2 мы будем вынуждены все ликвидировать за свой счет.
Сейчас финансирование ликвидации вооружений по «Нанну-Лугару» соизмеримо по объему с нашими ежегодными затратами на модернизации) СЯС, развертывание группировки «Тополей-М». Иными словами, так как нынешние ракеты все равно придется демонтировать во избежание катастрофических аварий и экологических катаклизмов, отсутствие программы «Нанн-Лугар» (что произойдет при отказе от СНВ-2) вынудит Россию изъять для этих целей средства, планируемые сегодня для развертывания новых ракетных комплексов, так как больше взять просто негде. Фактически вопрос стоит так: старые ракеты (этакие потенциальные мини-Чернобыли) все равно убрать придется, но, отказавшись от СНВ-2 и тем самым возложив расходы на ликвидацию целиком на федеральный бюджет мы, скорее всего, останемся и без группировки новых ракет, то есть вообще без СЯС»… В силу заложенных конструктивных особенностей у жидкостных ракет СС-18 продолжительность активного участка составляет более 5 минут, а у твердотопливного «Тополя-М» — 2 минуты. Иными словами «тяжелые ракеты» заведомо более уязвимы к космическому эшелону ПРО, чем «Тополя-М». Если взять наземный эшелон ПРО США (может появиться через 7—10 лет), то, на первый взгляд, многозарядные СС-18 действительно имеют преимущество перед моноблочным (однозарядным) «Тополем-М» в части преодоления оборонительной системы вероятного противника. Однако характеристики «Тополя-М» позволяют сравнительно легко превратить его, при необходимости, в многозарядную ракету, несущую от 3 до 6 ядерных боеголовок и комплекс средств преодоления (КСП) ПРО. Договор СНВ-2 не препятствует проведению полного цикла наземной отработки «Тополя-М» в варианте оснащения разделяющейся головной частью индивидуального наведения, подготовке соответствующей документации, производственной оснастки и оборудования. Если США в какой-то момент выйдут из договора по ПРО 1972 года, мы выйдем (как гласит проект закона «О ратификации СНВ-2») из соглашений по СНВ, и тогда группировка «Тополей-М» на порядок эффективней, чем группировка СС-18, сможет преодолеть космическую ПРО и с равной эффективностью будет противостоять наземной ПРО».
А теперь давайте сравним представленный выше прогноз А. Сурикова с реальным перечнем развёрнутых стратегических носителей ядерного оружия Вооруженных Сил РФ и боевых блоков на них по состоянию на 2022 год:
— тяжёлая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования SS-18 mod.6 «Satan» / «Воевода» / «Сатана» — количество развёрнутых ракет 40, общее количество боевых блоков на них 400;
— тяжёлая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком (глайдером) SS-19 mod.4 «Avangard» / «Авангард» — количество развёрнутых ракет 6, общее количество боевых блоков на них 6;
— лёгкая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета в составе подвижного грунтового ракетного комплекса SS-25 «Sickle» / «Тополь» — количество развёрнутых ракет 9, общее количество боевых блоков на них 9;
— лёгкая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета в составе подвижного грунтового ракетного комплекса SS-27 «Sickle-B» / «Тополь-М» — количество развёрнутых ракет 18, общее количество боевых блоков на них 18;
— лёгкая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования SS-27 «Sickle-B» / «Тополь-М» — количество развёрнутых ракет 60, общее количество боевых блоков на них 60;
— лёгкая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета в составе подвижного грунтового ракетного комплекса SS-X-29 / SS-29 / SS-27 mod.2 «Sickle-B» / «Тополь-МР» / «Универсал» / «Ярс» — количество развёрнутых ракет 153, общее количество боевых блоков на них 612;
— лёгкая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования SS-X-29 / SS-29 / SS-27 mod.3 «Sickle-C» / «Тополь-МР» / «Универсал» / «Ярс» — количество развёрнутых ракет 20; общее количество боевых блоков на них 80;
— жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета для подводных лодок SS-N-23 mod.2 «Sineva» / «Синева», SS-N-23 mod.3 «Layner» / «Лайнер» — количество развёрнутых ракет 80, 0бщее количество боевых блоков на них 320;
— твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета для подводных лодок SS-NX-32 / SS-N-32 «Bulava» / «Булава-30» / «Булава» — количество развёрнутых ракет 80, общее количество боевых блоков на них 480;
— стратегический ракетоносец «Bear-H» / «Медведь» — количество развёрнутых самолётов 55, общее количество стратегических крылатых ракет на них 448;
— стратегический ракетоносец «Blackjack» / «Белый лебедь» — количество развёрнутых самолётов 13, общее количество стратегических крылатых ракет на них 132.
Итого, общее количество развёрнутых носителей — 534, общее количество развёрнутых боевых блоков — 2565.
Спрашивается, если это не «активка» (причем даже неважно чья и в чьих интересах), тогда что же сиё «прогнозно-аналитическое творчество» представляет собой на самом деле? От себя добавлю, что в 1994 или 1995 году А. Суриков по программе обменов российских и американских парламентариев в рамках программы «Нанна-Лугара» в течение месяца или даже двух раскатывал по всей территории США согласно очень расхожей тогда формуле «халява, плиз». При этом имел обширные контакты в обеих палатах Конгресса США, в госдепартаменте, в министерстве обороны, в научных кругах ряда престижных университетов Соединенных Штатов. Он и меня усиленно «сватал» на участие в этой поездке, дескать, американская сторона пригласила за свой кошт сразу четверых представителей «российских левых». Однако я вежливо, но решительно уклонился от его любезного приглашения в силу целого ряда вполне очевидных причин. Еще слишком свежими были памятные политические события 1991—1993 гг., да и недавний узник «Матросской тишины» В.А.Крючков только-только начал приходить в себя после думской амнистии 1994 года.
Не понимаю я всё же этих американцев… Вроде бы и не вчера на свет родились, а порой испытывают какое-то поистине ребяческое доверие к словам и суждениям лиц, которые многозначительно напускают на себя туман, умело строят из себя важных закулисных персон российской политики. Из текста заметки об А. Сурикове известного публициста Максима Калашникова в издании «Стрингер» в 2002 году. «Из разных источников и слухов сложилась интересная картина. Выпускник элитного военно-промышленного вуза, Московского авиационного института, с 1983 года — агент ГРУ. Готовился как специалист по диверсиям в глубоком тылу НАТО. Происходит из семьи с имперскими военно-промышленными традициями. Его отец, Виктор Суриков, был одним из руководителей крупной космической корпорации, ЦНИИ машиностроения, в котором расположен знаменитый Центр управления полетами. Суриков-старший не боялся в самом конце 1991 года открыто ругать демократов и выказывать большое уважение к личности Сталина. Сам же Антон Викторович на разговоры о его работе в ГРУ реагирует с усмешкой:
— Разговоры по поводу ГРУ — только разговоры. Окончив МАИ в 1984-м, я до 1996 года занимался проблемами армии и оборонной промышленности. Последние шесть лет этой деятельности я числился сотрудником Института США и Канады (ИСКАН), куда меня позвал работать замдиректора института, академик Андрей Кокошин. За это время мне довелось достаточно хорошо познакомиться с нашим ВПК и побывать во многих странах. Например, в Англии и США. Но в начале 1990-х я также много ездил на Кавказ, в том числе и в Абхазию. Конечно, не по линии ИСКАН. Тогда в институте можно было не появляться по многу месяцев, и никто этого не замечал. Меня же Кавказский регион крайне интересовал… В 1996-м я ушел из ИСКАНа и стал помощником по Госдуме Юрия Маслюкова, который занимал пост председателя Комитета по экономической политике. А в сентябре 1998-го, когда Юрия Дмитриевича назначили первым вице-премьером, я перешел работать его помощником в Белом доме. И так до июня 1999-го. Чем заниматься приходилось? Связью со СМИ и подготовкой поездок первого вице-премьера».
Ладно, допустим, что выпускник МАИ 1984 года Антон Викторович Суриков действительно в очень сжатые сроки подготовил диссертацию по закрытой теме в 4-м ЦНИИ 12-го ГУМО СССР и успешно защитил ее в ноябре 1988 года с присвоением ученой степени кандидата технических наук. Это не столь уж удивительно, ибо за годы своего существования в 4-м ЦНИИ и его филиале 50-м ЦНИИ МО было подготовлено более 100 докторов и свыше 2 тысяч кандидатов наук. Тем более, что его отец В.М.Суриков был тогда первым заместителем директора по науке королёвского Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), профессором, доктором наук и пр. Вполне возможно также, что в июне 1989 года в составе авторского коллектива ученых-ракетчиков Антон Суриков действительно стал лауреатом премии Ленинского комсомола в области науки и техники, хотя в списке лауреатов этой премии я его почему-то не нашел. Борис Абрамович Березовский — имеется, Дмитрий Антонович Волкогонов — наличествует, Анатолий Алексеевич Клёсов — присутствует, даже дочь Анатолия Ивановича Лукьянова Елена — и та получила в 1989 году звание лауреата премии Ленинского комсомола за свою работу «Закон как источник советского государственного права». Предположение, что в список лауреатов не включали сотрудников «закрытых» организаций, вряд ли было бы здесь уместным, ибо в том же 1989 году лауреатами премии Ленинского комсомола за разработку комплекса подсистем математического обеспечения управления полётом многоразовой транспортной системы стали работники НПО «Энергия» Губанов Д. А., Козлов А. П., Голубев А. В., Новосёлов В. Ю., Галактионов В. А., Егоров И. Н. и сотрудники ЦНИИМАШ Романчук Н. С., Мудрецов А. С., Тареев С. А. Да и в следующем, 1990 году, лауреатами этой премии (в последний раз в истории СССР, к слову говоря) стали сотрудники НПО «Энергия» Базанов В., Никонов В., Романенков В., Тормышев А. и инженер ЦНИИТМАШ Шалашенкова И.
Здесь важно, на мой взгляд, совсем иное обстоятельство. Согласно официальной биографии нашего героя, летом 1990 года по приглашению заместителя директора Института США и Канады Академии наук СССР А.А.Кокошина А. В. Суриков переходит в это научно-исследовательское учреждение, где и работает до сентября 1996 года. Работа в Институте США и Канады была сопряжена с многочисленными поездками по странам СНГ и дальнему зарубежью. Так, в 1994 году он на нескольких месяцев был откомандирован в Великобританию в качестве привлеченного научного сотрудника Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондонского университета. В 1995 все в той же Великобритании он издал целых две книги, посвященных различным аспектам российской внутренней и оборонной политики. Одновременно с работой в ИСКРАН в 1995 году А. Суриков становится советником Независимого института оборонных исследований (!). Тогда же он начинает широко публиковать свои научные и публицистические материалы в центральных российских газетах, в первую очередь в «Правде-пять».
«Независимый институт оборонных исследований»… Звучит очень громко и очень внушительно, совсем как Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute) Великобритании, Институт оборонных исследований (FOI) Швеции или Институт оборонного анализа (IDA) США. На самом деле это всего лишь было АО закрытого типа «Институт оборонных исследований «ИНОБИС», позднее ОАО «ИНОБИС-Н», правда, одним из отцов-учредителей которого действительно был Ю.Д.Маслюков. Он в то время занимался в основном консультационной деятельностью в области создания финансово-промышленных групп, кроме ИНОБИСа учредил также АООТ ВПК «Финтраст. Финансовая компания». По своей реальной политической и научной значимости Институт оборонных исследований представлял из себя ровным счетом тоже самое, что сегодня небезуспешно изображает на публику известная автономная некоммерческая организация Институт внешнеполитических исследований и инициатив (ИНВИССИН) г-жи Виктории Крашенинниковой, о плодотворной деятельности которой я писал в заметке в газете «Правда» «Сенсация или мыльный пузырь».
Господи, сколько же я перевидал в 1992—1993 годах создателей и руководителей подобных организаций, одни знаменитые «сырьевые биржи» чего стоили! Не зря всё тот же Антон Суриков втянул Ю.Д.Маслюкова — бывшего крупного авторитета советского военно-промышленного комплекса — в эту мутную историю с оптовой торговлей «ножками Буша», разместив штаб-квартиру этого российско-американского монополиста по торговле доступным народу съедобным товаром не где-нибудь, а в помещениях моего родного студенческого общежития — Дорогомиловского студгородка по адресу Студенческая улица д.33, корпус 4. Это общежитие ранее полностью принадлежало (точнее было в аренде) Московскому институту тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, детищу Средмаша СССР, то есть головному министерству советского ВПК, который в свое время курировал Ю.Д.Маслюков. Случайно ли все это? Я так не думаю. Видимо, у американских спецслужб тогда были, по-видимому, какие-то планы по использованию близости А. Сурикова к Ю. Маслюкову, и они в целом не прогадали. Почитайте для начала хотя бы эту заметку в газете «Коммерсант» (https://www.kommersant.ru/doc/429500). Знаменитый тогда и совершенно позабытый сегодня «Союзконтракт» с рекламой «летающих ножек Буша», небось, теперь уже и не сможете вспомнить? И поистине зверскую рекламу «Hershi-Cola — вкус победы» тоже напрочь позабыли? Зато уж датский спирт «Ройяль» наверняка припоминаете. Как там пел Сергей Трофимов в своей песне «Пролог»: «Нет, я не стал баскетболистом, стилистом стать мне не пришлось, вождём цыганских коммунистов мне просиять не довелось. И в колумбийских партизанах я с Че Геварой не тусил, зато я пил „Ройяль“ с „Нарзаном“ и майку с Путиным носил».

Воспоминания из журнала «Форбс» о фирме «Союзконтракт». «Васильевский спуск у московского Кремля, июнь 1996 года. Многотысячную толпу развлекают военный оркестр, хор Пятницкого, балет Большого театра и десяток звезд эстрады. Майя Плисецкая после своего номера призывает молодежь не быть пассивными и пойти на выборы, до которых оставалось чуть больше недели. Формально это не был концерт в рамках кампании в поддержку Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь» — это была, по сути, корпоративная акция, какую могли устроить разве что в середине 1990-х. Компания «Союзконтракт», крупнейший по тем временам поставщик импортного продовольствия в Россию, праздновала пятилетие. Основатели фирмы Михаил Любович и Алексей Гольдштейн на шоу не поскупились: оборот «Союзконтракта» уже превышал $1 млрд в год. Сумасшедшая сумма. Учтите также и то, что основателям компании было тогда всего по 30 лет. Выпускники Московского института стали и сплавов (МИСИС) Любович и Гольдштейн начали зарабатывать деньги еще в 1991 году, занявшись импортом сантехники и счетчиков купюр, которые они вывозили с европейских складов, где хранилось имущество компаний-банкротов. «Союзконтракт» поучаствовал и в поставках в Россию спирта Royal из Голландии — этого заменителя водки, продававшегося при попустительстве государства на каждом углу. Идею с поставками куриных окорочков, на которых взлетел «Союзконтракт», Гольдштейну с Любовичем подал голландский партнер Вильям Шредер — у него на родине фермеры жаловались на перепроизводство. В Европе, как и в США, покупатели предпочитают белое мясо птицы, поэтому скопившимся в избытке окорочкам нужно было искать применение. В России же тогда буквально нечего было есть: первые четыре фуры куриных ножек (около 80 т) партнеры продали прямо с колес у офиса «Союзконтракта», располагавшегося в медицинском изоляторе общежития. Холдинг «Союзконтракт» как раз и станет позднее главным учредителем Ассоциации операторов евразийского рынка мяса птицы, которую возглавят Ю.Д.Маслюков и А.В.Суриков.
Я могу уверенно и вполне обоснованно утверждать: в ИСКАН у господ Арбатова и Кокошина, а уж тем более у какого-то там Антона Сурикова отродясь никогда не было действительно весомой, закрытой информации по стратегическим проблемам вооружения и разоружения СССР и США с тем, чтобы за их мнимыми «секретами» наперебой гонялись иностранные разведки. Даже штатных сотрудников политической и военной разведок, работавших «под крышей» в этом институте, и тех к подобной информации близко не подпускали по целому ряду причин. Чтобы быть в курсе дел, текущих и предстоящих событий, реально «чувствовать собственным носом все нюансы изменений и колебаний политической конъюнктуры» тот же директор института, член ЦК КПСС академик Георгий Арбатов специально регулярно посещал своих конфидентов в Кремле или на Старой площади. С тем, чтобы у Яковлева, Добрынина, Фалина или у кого-то еще в порядке товарищеской услуги украдкой прочесть парочку-другую наиболее интересных шифротелеграмм из Нью-Йорка, Вашингтона или Женевы, где тогда проходили переговоры по ОСВ и СНВ. Поэтому я с трудом представляю себе, что там мог «втирать в уши» доверчивым американцам Антон Суриков во время своих зарубежных вояжей. Наверно, всякую внешне привлекательную, политически заманчивую лабуду (она же лобуда) с оттенками сенсации вроде этой (http://left.ru/2007/16/burtsev168.phtml).
Чувствую, явно чрезмерно затянул я свое повествование на темы «активок» и агентов влияния. Сегодня вся наша повседневная жизнь — это сплошная череда непрерывных «активок» (как профессионально исполненных, так и доморощенных) в целях постоянного и неустанного промывания мозгов публике с тем, чтобы она «мыслила и действовала в правильном направлении». Поэтому в плане информационной подпитки я в течение нескольких последних лет в сторону телевизора даже не гляжу — это исключительно вредно для здоровья, для нормальной, здоровой психики прежде всего! Скажу еще пару слов о мыльном пузыре поздних брежневских времен под названием «проблема ВРЯН» — внезапное ракетно-ядерное нападение. В отечественной публицистике ее представляют преимущественно как операцию ГРУ и КГБ, совместно проводимую ими с 1981 по 1984 год. Операция была якобы инициирована в мае 1981 года на закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС высокопоставленными офицерами КГБ СССР. На заседании якобы было заявлено, что США, возможно, подготавливают ядерное нападение на СССР. И поэтому, дескать, для выработки средств противодействия возможному нападению Андропов объявил о начале операции РЯН (Ракетно-Ядерное Нападение).
В 2015 году американский интернет-агрегатор новостей «Инсайдер» опубликовал заметку под названием «In the mid-1980s, the Soviet Union had a computer program that helped it decide when to launch a nuclear war». Попутно замечу, что речь здесь идет не о латвийском интернет-издании «The Insider» под редакцией известного российского блогера Романа Доброхотова (в 2021—2022 гг. года они оба были признаны Минюстом России иностранными агентами и внесены в соответствующие списки), а об основанной еще в 2007 году онлайн-медиа-компании, до 2021 году носившем название Business Insider и принадлежавшую западногерманскому концерну Акселя Шпрингера. Она достаточно широко практиковала публикации от анонимных источников, и поэтому порой освещала факты, которые не соответствовали действительности. В заметке повествовалось о некой очень сложной советской компьютерной модели под условным названием «ВРЯН», которая на базе заложенных в нее многочисленных математических программ якобы помогала советскому руководству правильно оценивать степень реальной ядерной угрозы безопасности Советского Союза со стороны стратегического потенциала США.
Утверждалось, в частности, что модель принимала совокупную мощь США за сто процентов, и считалось, что СССР вполне в безопасности, если его потенциал не опускается ниже 60 процентов американского. В 1984 году этот показатель якобы снизился до 45 процентов, и поэтому, дескать, советская сторона не исключала нанесение превентивного ядерного удара по США после падения своего потенциала ниже 40 процентов. Безусловная чушь, конечно, но конспирологам различных мастей и оттенков она очень нравится как некая рабочая гипотеза. С этим материалом во многом перекликается по своему содержанию недавно рассекреченный доклад разведывательного сообщества США 1990 года, в котором говорится, что США и СССР были весьма близки в 1983 году к порогу развязыванию ядерной войны после того, как США провели крупномасштабные военные учения в Центральной Европе под названием «Able Archer» («Опытный лучник»). Это были десятидневные командные учения НАТО, в ходе которые начались отрабатывались действия Альянса в случае эскалации ядерного конфликта, ведущего к ядерной войне. Впервые были использованы новые уникальные коды связи и режим полного радиомолчания; в учения были вовлечены главы государств участников НАТО; был отработан режим максимальной боеготовности (DEFCON 1), соответствующий возможности использования ядерного оружия. В качестве ответных мер советское руководство привело РВСН в готовность №1 и перебросило в ГДР и ПНР дополнительные количества самолётов дальней авиации.
Видный историк ЦРУ Бенджамин Фишер определил несколько ключевых событий, приведших к началу операции РЯН. Первым в его списке стоит т.н. «двойное решение НАТО» (принято 12 декабря 1979) о размещении ракет в странах Западной Европы в ответ на развёртывание СССР ракет РСД-10 (SS-20) начавшееся в 1976 году. Вторым — развертывание психологических операций против СССР, которые начались сразу после избрания Р. Рейгана президентом США (20 января 1981 года). Бенджамин Б. Фишер проработал в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов (ЦРУ) почти 30 лет. В последние годы он работал в Центре изучения разведки ЦРУ. Совет тысячелетия Белого дома выбрал его монографию «В конце холодной войны: Разведка США в Советском Союзе и Восточной Европе, 1989—1991» (1999) для включения в капсулу времени в Национальном архиве, которая будет открыта только в 2100 году. По оценке Фишера, операция «РЯН» стала наиболее крупной и сложной операцией по сбору разведывательной информации в советской истории. Резидентуры КГБ за границей получили приказ отслеживать перемещения людей, имеющих полномочия отдать приказ о начале ракетно-ядерного нападения; персонала, ответственного за запуск баллистических и крылатых ракет и имеющего доступ в командные пункты ВВС США. Было установлено наблюдение за объектами, откуда должно было производиться нападение (ракетные, военно-воздушные и военно-морские базы). Несмотря на название, основной задачей операции РЯН было выявление намерения применения ядерного оружия и только потом поиск средств предотвращения последнего».
Что я могу сказать по сему сюжету? Точные причины и конкретные поводы для достаточно внезапного появления указанной задачи в числе приоритетов повседневной разведывательной практики резидентур КГБ за рубежом мне достоверно не известны — я в тот период находился в долгосрочной загранкомандировке во Франции в качестве рядового оперативного работника. Сама «тематика ВРЯН» была весьма серьезной, под нее в Службе и в Ведомстве были разработаны специальные нормативные документы, одно время существовал даже специальный литер, обозначавший принадлежность оперативных материалов, документов и специзделий к этой тематике. Помню, как однажды куратор этой проблемы в ПГУ Лев Николаевич Ш., ныне, к сожалению, уже покойный, дал крепкую взбучку сотрудникам секретариата Главка за неоправданно заниженный, на его взгляд, гриф секретности одного оперативного материала. Кстати, он защитил свою докторскую диссертацию именно по данной теме, а затем под его чутким руководством еще несколько сотрудников успешно защитили кандидатские диссертации и некоторые из них даже впоследствии стали профессорами. Я не исключаю того, что тема ВРЯН на каком-то этапе действительно получила общегосударственный статус, так как для Управления «И» ПГУ и института этого управления (НИИ информационных систем, это в основном были «компьютерщики») она на протяжении целого ряда лет была наиболее приоритетной задачей, выполняемой совместно с управлением «ОТ» ПГУ и Научно-исследовательским институтом разведывательных проблем (НИИРП). Но вот что касаемо порядка и качества выполнения этой задачи в «полевых условиях», то дела здесь обстояли гораздо менее романтично и очень даже приземленно. Для целого ряда оперативных работников резидентур, испытывающих дефицит в оперативных и информационных контактах, «ВРЯН» стал настоящей универсальной «палочкой-выручалочкой» на предмет «хотя бы чем-нибудь занять руки» и более-менее оправданно потратить денежные средства, отпускаемые на оперативные нужды.
Дело в том, что с какого-то времени по зарубежным точкам прокатилась волна очередной партийно-оперативной показухи под названием «Давайте бережнее тратить за рубежом каждую добытую из недр тонну тюменской нефти!». В этой связи был специально выработан показатель удельной цены (!) (или стоимости) единицы добытой оперативным работником разведывательной информации, которая была бы реализована «в Инстанции» либо самостоятельно, либо использована вместе с другими сведениями. С определенной гордостью могу сегодня признаться, что добытая мною политическая информация по этому достаточно формальному показателю была самой высокой по всей парижской резидентуре, а не только по группе «ПР» — ежемесячный «процент реализации» у меня превышал 85%. Это было неудивительным, ибо даже на свой законный семейный праздник — День рождения — у меня однажды выпало целых три полноценных оперативных мероприятия, в том числе встреча с агентом-иностранцем и еще с продвинутой «разработкой». Для «филонов» (а такие, к сожалению, в резидентуре тоже были) возможность посидеть в кофеюшке и слегка «позырить» исподтишка вечерком за нужным объектом наблюдения давала, тем не менее, возможность отметиться двумя строчками в ежедневной резидентурской «сводке по проблеме ВРЯН». Которая, однако, тогда почему-то приравнивалась по степени важности к реализации в Инстанции «оперативного материала в обобщенном виде». Мне почему-то кажется, что проблема ВРЯН была всего лишь хорошо продуманной где-то на самом-самом военно-спецслужбистском верху бюрократической игрой, призванной продемонстрировать политическому руководству страны «неусыпность бдения Генштаба вооруженных сил и КГБ» перед лицом надвигающейся угрозы глобального ядерного конфликта. Слава Всевышнему, я в свое время получил возможность «вживую» регулярно знакомиться с целым рядом документов, имевшими вполне отчетливое и недвусмысленное разведывательное происхождение, в том числе с материалами радиоперехвата и дешифровки. Читая их, сразу понимаешь разницу между «действительным» и «мнимым», между твердым знанием и предположением (или допущением), между различного рода версиями и трактовками, пусть даже и основанными на достаточно серьезном и глубоком анализе специалистов и экспертов. Уверен, что высшее военно-политическое руководство страны все же ориентировалось прежде всего на объективные, полные и достоверные сведения, полученные одновременно из нескольких независимых друг от друга источников информации, а не на досужие домыслы разного рода «консультантов ЦК» из академических структур типа ИМЭМО или ИСКАН.
В заключение хотел бы слегка подискутировать с одним патентованным и дипломированным знатоком темы «агентуры влияния» по фамилии Панарин. В период моего «юношеского увлечения глобализмом» я тогдашние научные и научно-популярные труды как самого Панарина, так и Делягина, Ивашова, Ильина, Кувалдина, Черковца и целого ряда других отечественных авторов прорабатывал очень пристально, буквально «подстрочно», с карандашом в руках. В своей весьма живой и увлекательной книге под названием «Первая мировая информационная война. Развал СССР» нынешний профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор политологии, кандидат психологии и прочая, прочая Игорь Николаевич Панарин пишет.
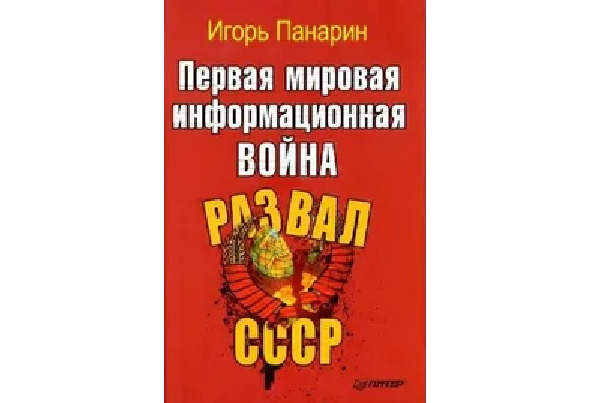
«26 июня 1991 года я впервые увидел вблизи первого и последнего президента СССР М. Горбачева. Это было на традиционном приеме выпускников советских военных академий в Кремле. Я, майор КГБ СССР И.Н.Панарин, окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина с золотой медалью (отделение психологии) и поэтому был удостоен чести побывать в Кремле, представляя многотысячный коллектив академии… Август 1991 года еще был впереди, а за ним — и декабрь 1991-го. Меня всегда мучил и мучает вопрос о том, почему же распалась великая страна, армия которой, в ответ на агрессивные действия НАТО, на третий день войны вышла бы к проливу Ла-Манш, наголову разгромив противостоящего противника. В военном плане СССР был непобедим. Он проиграл войну особого рода — информационную войну… После информационно-идеологического поражения ударные советские танковые группировки, великолепно подготовленные воздушно-десантные части и бригады спецназа были без боя выведены из Европы и затем прекратили свое существование. Так почему же это произошло? Я считаю, что распад СССР не был предопределен. Что стало основной причиной главной геополитической трагедии XX века? Сделать выводы было сложно. Ведь этому меня не учили, да и не только меня — никого не учили… Участвуя в информационной войне в течение нескольких лет, проводя реальные информационные операции, став идеологом структуры, я вновь и вновь задавал вопрос: а почему же распался СССР? Детально анализируя ситуацию в стране и в мире, я понял, что распад СССР произошел в результате системного и целенаправленного ведения против него глобальной информационной войны, которая началась в августе 1943 года. Да-да, именно в августе 1943 года!
К выводу о том, что она началась не в 1946 году, я пришел в ходе работы над этой книгой. Выбор идеологов информационной войны против СССР был точен. Начало же стратегической операции, завершившейся приходом к власти в СССР М. Горбачева, — 1946 год. Замысел грандиозной операции был разработан американским дипломатом в Москве Джорджем Кеннаном в его «Длинной телеграмме» в Вашингтон в феврале 1946 года. Именно Кеннан обратил внимание на необходимость активизации работы специальных структур США при смене руководства СССР после смерти партийных лидеров. Это слабое звено советской системы управления почти не анализировалось советскими аналитическими центрами, соответственно и разработка технологий противодействия информационным операциям противника велась недостаточно серьезно. Горбачев был «отобран» в 70-е годы как потенциальный кандидат на роль лидера — разрушителя СССР — генеральным штабом информационной войны против СССР. Он был не единственным кандидатом. Но он был самым перспективным по личностным качествам. Поэтому ему помогали при продвижении вверх по служебной лестнице ЦК КПСС. Его «вели» многие годы, хотя, возможно, он сам об этом узнал лишь в Лондоне в 1984 году на встрече с М. Тэтчер. Легко внушаемый, М. Горбачев был способен усугубить трудности и проблемы СССР и довести страну до дезинтеграции и распада. Политической элите, руководителям спецслужб, гражданам современной России важно осознать то, что главной причиной геополитической катастрофы 1991 года было поражение в информационной войне, длившейся 48 лет…
Уважаемые читатели, давайте зададим себе вопрос: когда же СССР проиграл первую мировую информационную, холодную войну? Ведь Британская империя — главный организатор первой мировой информационной войны — рухнула в 1946 году. Ответ таков: СССР начал проигрывать информационную войну после смерти И. Сталина, главного идеолога концепции успешного противодействия ведущейся информационной войне против СССР! Почему? Да потому, что эффективные системы противодействия (система контрразведывательного обеспечения партийного руководства и так называемая личная разведка Сталина, включавшая в себя сегменты бывшей военной разведки царской России, в частности братьев графов Игнатьевых, и ряд структур в советских спецслужбах) были демонтированы Н. Хрущевым. Именно при Н. Хрущеве начался процесс выявления и вербовки в советской номенклатуре потенциальных агентов влияния Запада и их постепенного продвижения на ключевые позиции в ЦК КПСС и КГБ СССР. Два наиболее ярких и известных примера — член Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлев и заместитель начальника разведки КГБ СССР генерал О. Калугин (кстати, официально осужденный несколько лет назад за шпионаж в пользу США — заочно, так как он проживает в Вашингтоне под прикрытием ЦРУ). В 1959 году оба приятеля находились на стажировке в Колумбийском университете, где их и приметили сотрудники ЦРУ. Надо полагать, что приметили не только их…
Американского исследователя Г. Лассуэлла по праву можно назвать главным теоретиком информационной войны первой половины XX века. Я многому научился, читая его работы. Но напомню еще раз о парадоксе. Я узнал о существовании трудов главного теоретика современной теории коммуникации и пропаганды уже после завершения обучения в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Если рассмотреть сам процесс формирования общественного мнения, то его можно представить следующим образом (Авторская модель, разработанная в докторской диссертации, защищенной в Российской академии государственной службы при Президенте РФ 7 мая 1997 года). Мишенью пропаганды является общественное мнение. Манипуляция информацией позволяет сформировать в представлении граждан страны-противника такое отношение к проблеме, которое в дальнейшем станет основанием и оправданием жестких действий (военная операция, экономические санкции и т. д.) против своего противника (конкурента). Вспомним, к примеру, какое количество негативных антисоветских комментариев появилось в мировом информационном пространстве в связи с вводом советских войск в Афганистан в 1979 году по просьбе правительства Афганистана.
Идеологи и организаторы информационной войны манипулируют общественным мнением, активно используя для этого средства массовой информации (СМИ), которые корректируют и проектируют массовое сознание и психику людей. При этом используются новейшие знания из области психологии с опорой на доверчивость и политическую неопытность. Так, в ходе первого этапа «Гарвардского проекта» была создана система негативных комментариев, которые должны были разрушать архетипы общественного сознания населения СССР. На втором этапе, после реализации политики разрядки напряженности, появилась первая возможность внедрения этих негативных комментариев в информационное пространство СССР. Ну и затем, в ходе перестройки, когда куратором советских СМИ стал агент влияния А.Н.Яковлев, началась активная фаза разрушения архетипов советского общественного сознания». (https://www.litmir.me/br/?b=239158&p=2)
Ну, и так далее, и тому подобное до бесконечности — но все «в том же духе, в том же разрезе» под общим пламенным мобилизующим призывом «Ледоруб по всем им давно плачет!». Профессор прямо открывает для всех нас Америку! Конечно, выдвинутая Панариным и его единомышленниками «новаторская» идея устроить какой-то невнятный общественный трибунал по осуждению М.С.Горбачева как изменника и предателя Социалистической Родины с онлайн трансляцией процесса по телевидению и в сети Интернет — это для широких обывательских масс России именно самое то, что надо для действенного и наиболее эффективного спасения Отечества от происков Запада! Думается, однако, достаточно подобных экспериментов, коммунисты и другие лево-патриотические силы России уже однажды устроили историческое позорище под названием «импичмент Президенту РФ Б.Н.Ельцину», разве этого вам мало? Общественный трибунал над отечественным политиком, которого Президент РФ в марте 2011 г. наградил высшей наградой Российской Федерации — орденом Андрея Первозванного, имеющим девиз «За веру и верность», причем с формулировкой «За большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность — это, знаете ли, равнозначно тому, чтобы задним числом лишить Л.П.Берию маршальской звезды и звания Почетный гражданин Союза ССР! Прекращайте-ка, граждане-товарищи, заниматься самопиаром в духе своих мидовских коллег Захаровой, Платошкина, Соловья и попутно льстиво предлагать В.В.Путина в качестве «первого государя Евразийской Руси»… Разоблачать Майкла Горбачева и его приспешников нужно было в августе-декабре 1991 года в полном соответствии с принятой на себя воинской присягой, когда у Вас на плечах еще были офицерские погоны военнослужащего КГБ СССР!
Откровенно признаюсь: наводить критику на человека, который в целом твой единомышленник по своему взгляду на многие актуальные проблемы современной политики, весьма непросто. Но ведь посмотрите далее и оцените сами, что пишет сей заносчивый «self-made man» и неуемный всезнайка. «Однако стратегия А. Даллеса, модернизированная Г. Киссинджером, по созданию «пятой колонны» внутри СССР была выявлена КГБ СССР лишь в 70-х годах. Б.Л.Прозоров в своей книге отмечает, что «в 1976 году Андропов вводит в оборот понятие «тайные операции по подрыву устоев социализма» и призывает уделять особое внимание изучению аналитическими группами пятых подразделений тайной, подпольной борьбы на территории СССР». Об опасности приобретения и использования Западом агентов влияния из числа советских граждан в подрывных политических целях председатель КГБ СССР Ю.В.Андропов впервые сигнализировал в 1977 году. Речь идет о подготовленной в то время внешней разведкой КГБ СССР и подписанной Ю.В.Андроповым записке, адресованной ЦК КПСС. Ее текст был оглашен председателем КГБ СССР В.А.Крючковым на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года в Кремле. У хорошего аналитика (?) сразу же возникает вопрос: а почему так поздно, в 1977 году? Ю.В.Андропов возглавлял КГБ СССР к этому времени уже более 10 лет. Ведь еще в 1945 году А. Даллесом была сформулирована общая доктрина разложения изнутри советского общества. Ну а модернизировал ее Г. Киссинджер в 1972 году. Обращаю внимание читателей на тот факт, что это произошло лишь спустя 10 лет после создания 5-го управления. Да и записка должна была быть подготовлена совместно 1-м управлением (внешняя разведка) и 5-м управлением. Ведь внешняя разведка и 5-е управление должны были выявлять информационно-психологические операции противника, да и пресекать их должны были вместе. К сожалению, 5 лет (!) понадобилось КГБ СССР, чтобы узнать о планах Г. Киссинджера. Многовато, учитывая то, что уже в 1975 году в Хельсинки был подписан документ, в котором Советский Союз пошел на глобальные уступки (?), по сути не получив ничего взамен…
А теперь приведем текст записки КГБ об «агентах влияния» (текст был дан мною ранее — авт.). Вряд ли следует сомневаться, что КГБ «учитывал полученную информацию». Но вот осуществить комплексные (!) мероприятия «по вскрытию и пресечению планов американской разведки» удалось далеко не в полном объеме. По моему мнению, создавать основу для появления агентов влияния начал Н. С. Хрущев, который целенаправленно разрушал созданную генералиссимусом Сталиным эффективную систему контрразведывательного обеспечения деятельности руководства партии и спецслужб. Хрущевские действия сразу привели к негативным результатам — началу вербовки высокопоставленных представителей советских спецслужб еще при правлении Н.С.Хрущева (полковник ГРУ О. Пеньковский, протеже которого был генерал армии И. А. Серов — председатель КГБ СССР, затем начальник ГРУ ГШ СССР, один из наиболее близких соратников Н. С. Хрущева) … К сожалению, после отставки Н. С. Хрущева в 1964 году и исключения из КПСС в 1965 году И.А.Серова председатель КГБ СССР Ю.В.Андропов поставил в 1967 году вопрос лишь о создании 5-го управления.
Почему-то позже не последовало аналогичной записки с предложением о создании специальной структуры в КГБ СССР, отвечающей за контрразведывательное обеспечение внутри высших органов управления КПСС (областных, республиканских, союзных)? Возможно, этот вопрос и ставился Ю. В. Андроповым перед ЦК КПСС, но не получил поддержки. Более того, в начале 70-х годов председателем КГБ СССР Ю. А. Андроповым были внесены предложения в Политбюро ЦК КПСС (?) о прекращении даже разовых специальных проверок в отношении работников, представляемых на повышение, начиная от члена обкома партии. И это предложение Ю.В.Андропова, скорее всего, инициированное верхушкой советской номенклатуры, было принято (?)…
В отличие от нашей страны, где высокие партийные чины благодаря действиям Н. С. Хрущева стали ограждаться от «внимания» контрразведки, ФБР усилило контрразведывательный контроль внутри США. Известно, что в рамках своей деятельности ФБР осуществляет целый ряд так называемых прикладных расследований в своих целях, а также для других федеральных ведомств. Эти расследования проводятся в соответствии со специальными директивами президента или указаниям генерального прокурора (министра юстиции). Например, осуществляется тщательная проверка биографических данных и личных качеств кандидатов на ответственные должности в федеральных ведомствах. Короче говоря, политический сыск в Америке поставлен на широкую ногу и, надо сказать, достаточно надежно служит национальным интересам США».
Здесь я прерву цитирование и выскажу свое суждение относительно приведенных И. Панариным оценок. Ей-Богу, даже как-то неудобно комментировать этот «поток сознания», где истина густо перемешана с вымыслом, порой смахивающим на откровенную непрофессиональную чушь. На моей малой исторической Родине в подобной ситуации обычно говорят коротко: «Чув дзвiн — та не знає, де вiн!». Да, политический сыск в США действительно поставлен на очень высокопрофессиональную основу, однако те же «уотергейты» и «ирангейты» наглядно свидетельствуют о том, что и у американцев тоже «кольчужка» порой оказывалась «коротковатой». Важно не то, насколько широко поставлена работа «по защите национальных интересов государства», а то, как само государство понимает суть, смысл и приоритеты собственных национальных интересов. В случае с Н.С.Хрущевым наиболее хрестоматийный пример, когда он одномоментно сделал из наших бывших военно-политических союзников — КНР и Албании — злейших врагов, причем не только идеологических. КГБ при СМ СССР обеспечивал при этом защиту этих «национальных интересов», прокламированных Хрущевым? Еще как, дым столбом стоял по всем уголкам земного шара в борьбе с последователями Мао Цзедуна и Энвера Ходжи, их ставили на одна доску с троцкистами из IV Интернационала! Но ради чего на это расходовались огромные финансовые, мозговые и мускульные усилия помимо тех печально знаменитых пузырьков с чернилами, которые по команде партийного начальства студенты охотно швыряли в стены посольства КНР в Москве?

Цитирую дальше, на сей раз уже по затронутой теме: «Ошибки КГБ СССР проявились в выступлении председателя КГБ СССР В.А.Крючкова на закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня 1991 года в Кремле и затем в ответах на острые вопросы депутатов. Я читал эти материалы (!?). И был просто шокирован. Во-первых, следует обратить внимание на то, что именно В. А. Крючков руководил внешней разведкой КГБ СССР в 1977 году и готовил эту записку. К тому времени он уже три года эту службу возглавлял. Во-вторых, он не привел никаких данных о наличии последующих записок КГБ в ЦК КПСС по данной проблеме, из чего можно сделать вывод о том, что особого энтузиазма данная записка в ЦК КПСС не вызвала. В-третьих, он ничего не сказал об ответе ЦК КПСС, который должен был дать главный идеолог того времени М. Суслов. Судя по всему, кампанию по очищению партийных рядов от «оборотней» М. Суслов начинать не стал. В-четвертых, на вопрос одного из депутатов о том, что же сделано КГБ СССР по пресечению планов американской разведки, он ничего не ответил. В целом его ответы были достаточно общими и неконкретными. В-пятых, В. А. Крючков, председатель КГБ СССР, ничего не сказал о работе 5-го управления, не смог представить результаты деятельности КГБ СССР по противодействию агентам влияния. А ведь работа-то проводилась большая (?). Большинство сотрудников 5-го управления честно и добросовестно выполняли свой долг.
Таким образом, следует обратить внимание на то, что тройке американских режиссеров информационной войны: Д. Рокфеллеру, 3. Бжезинскому и Г. Киссинджеру — в 70-е годы, годы перелома в ходе информационной войны против СССР, противостояла тройка советских руководителей: главный идеолог КПСС М.А.Суслов, председатель КГБ СССР Ю.В.Андропов, начальник ПГУ (внешняя разведка) В.А.Крючков. Сразу же бросается в глаза то, что американские режиссеры были более образованными людьми, все они являлись докторами наук (!). Агенты влияния сделали свое черное дело, внеся вклад в разрушение СССР. КГБ СССР оказался бессилен помешать зарубежным планам, даже зная о них, не смог организовать и провести мероприятия по пресечению планов американской разведки. Почему так случилось? Ответ может дать независимое парламентское расследование (!) специальной комиссии, включающей в себя представителей различных политических партий…» (http://nnre.ru/politika/pervaja_mirovaja_informacionnaja_voina_razval_sssr/p9.php).
Профессор врет, как сивый мерин… Если судить по полученному им первичному высшему образованию (Орловское высшее военное командное училище связи КГБ СССР имени М.И.Калинина), то в Комитете государственной безопасности он, скорее всего, проходил службу в органах или войсках Управления правительственной связи, органах или войсках 8-го Главного Управления или 16-го Управления. А умение и навыки лихо наводить тень на плетень ему уже, наверно, привили в главном заповеднике «комиссаров и политруков» — Военно-политической академии имени В.И.Ленина, в которой обучение курсантов гуманитарным дисциплинам велось по программе Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Там знаменитых «носовских фантазеров» было предостаточно, один Д.А.Волкогонов чего стоил… Между прочим, именно он в 1979—1984 годах в ГлавПУРе возглавлял управление спецпропаганды (ведения «психологической войны»)…
Во-первых, я не представляю, что он там мог «читать», ибо, как я уже говорил ранее, официальная стенограмма именно этого закрытого заседания Верховного Совета СССР не оформлялась (кстати, по предложению А.И.Лукьянова), а велась лишь техническая звукозапись заседания, с которой я позднее сверял свои пометки, сделанные по ходу выступлений. Во-вторых, не майору КГБ СССР Панарину судить, были ли ответы В.А.Крючкова «общими и неконкретными» или же они вполне соответствовали общему духу того гнилого политического шоу, которое устроили из судьбоносного закрытого заседания советского парламента как сам Горбачев, так и ассистировавшие ему в этом Янаев, Лукьянов, Нишанов и Лаптев (Примаков, насколько мне помнится, в тот раз на сеансах заседания не председательствовал). В-третьих, с какого-такого бодуна главный идеолог партии М.А.Суслов должен был как-то «отвечать» на указанную записку КГБ СССР? У этого документа, между прочим, был высший гриф секретности «Совершенно секретно. Особая важность». По правилам секретного делопроизводства с такого рода материалами знакомился вначале первый руководитель партии или государства, и лишь с его разрешения или указания знакомились другие члены Политбюро ЦК КПСС и иные высшие должностные лица партии и государства. В-четвертых, «большая работа» 5-го управления по «агентам влияния» — это чистой воды блеф и мистификация, об этом даже сами сотрудники данного управления не осмеливались впоследствии публично говорить.
И, наконец, рассуждения Панарина по содержанию выступления Крючкова почему-то практически дословно повторяют публичное заявление одного из народных депутатов (если не ошибаюсь, это был Виктор Имантович Алкснис), который, в отличие от профессора Дипломатической академии, сидел в зале и действительно мог вынести о ходе закрытого заседания свое собственное мнение. Я уже рассказывал о том, что после выступления к Владимиру Александровичу подсаживались в зале для беседы добрых пара-тройка десятков депутатов самой различной ориентации, в том числе и так званых «демократов» и «либералов, и со всеми ими Крючков разговаривал очень предметно, тактично и очень убедительно.
Как бы там ни было, но реальные агенты влияния ни спецслужб США, ни британской разведки, ни спецорганов других зарубежных государств в высших сферах партийного, государственного, народнохозяйственного, научного руководства и в центральных органах средств массовой информации в послесталинский период выявлены и разоблачены не были! И это печальный факт, с которым следует считаться, а не размахивать кулаками после драки и городить при этом всякую ерунду.
И последнее, чтобы уж закруглить тему «активок». Я уже писал об этом в других книгах, повторю еще раз. Не было никакого документально оформленного «плана Даллеса по развалу СССР», как не было «антикоммунистического» признания Горбачева в Американском университете в Стамбуле или выступления президента США Клинтона в октябре 1995 года на закрытом заседании Объединенного комитета начальников штабов о масштабном вывозе из СССР некоторых стратегических материалов. Все это конспирологические выдумки и досужие домыслы пропагандистской публики, и я чуток подробнее расскажу об этом позднее.
В истории международных отношений действительно была «доктрина Даллеса», но не Аллена Даллеса, который директором ЦРУ стал лишь в 1953 году, а Джона Фостера Даллеса, его родного брата, который при президенте Д. Эйзенхауэре занимал пост государственного секретаря США и прославился активным строительством военных блоков НАТО и СЕАТО в Европе и Юго-Восточной Азии, предназначенных для сдерживания «советской угрозы». Братья активно поработали «на пару», творческим дуэтом над свержением премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка в 1953 году за то, что он национализировал нефтяные месторождения своей страны, и президента Гватемалы Хакобо Арбенса в 1954 году из-за того, что он экспроприировал земли американской мультинациональной компании «Юнайтед фрут». Была также директива Совета Национальной Безопасности США №20/1 от 18 августа 1948 года, где были схожие по смыслу положения. Например, «…очевидно, что Россия, как собственно сила, так и как центр мирового коммунистического движения, в настоящий момент стала представлять очень серьезную проблему для внешней политики США… нашими основными задачами в отношении России на самом деле являются только две следующие: а) Уменьшить мощь и влияние Москвы до таких пределов, при которых она больше не будет представлять угрозу миру и стабильности международного сообщества; и б). Внести фундаментальные изменения в теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России. …Странам, находящимся в зоне сателлитов, должна быть предоставлена возможность коренным образом освободиться от русского господства и из-под российского идеологического влияния. Также должен быть основательно разоблачен миф, который заставляет миллионы людей в странах, удаленных от Советских границ, смотреть на Москву, как на выдающийся источник надежды человечества на улучшение, а следы воздействия этого мифа должны быть полностью ликвидированы». Видимо, меня вновь занесло в сторону от «активок», увлекся запоздалыми разоблачениями, поэтому перейду-ка лучше непосредственно к временам нынешним.
Сейчас, в эпоху безраздельного царствования «интернета» и «ютуба» «активки» (прошу не путать их как с реальными активными мероприятиями разведки, так и с тем, что в интернет- сообществе зовется смачным словом «фэйк») мастырит «на коленках» любой желающий. В этом специфическом хозяйстве, носящем, преимущественно, характер политической помойки и «слива компромата», встречаются и более сложные случаи, именно о них я и хотел бы поведать читателю. Заранее предупреждаю — сказанное мною понравится далеко не всем, скорее, подозреваю — очень даже наоборот. Но истина, как говорится, гораздо дороже друга Платона и даже друга Сократа…
В период своего пребывания в аппарате Государственной Думы ФС РФ мне, что называется, по долгу службы довелось заниматься несколькими печатными материалами, прежде всего под углом зрения оценки их достоверности, выяснения каналов их поступления в печатные органы и определения возможных причин и инициаторов их продвижения широкой публике. Все они сегодня хорошо известны и активно используются как невзыскательными и неискушенными читателями в качестве весомых аргументов во время публичных дискуссий, так и, сколь это не прискорбно, очень уважаемыми и достаточно информированными людьми. Первый материал, по которому мне пришлось проводить чуть ли не следственные действия, появился в окружении фракции КПРФ в виде листовки. Он носил название «Из выступления Президента США Билла Клинтона на Объединенном заседании начальников штабов 25 октября 1995 года». В качестве источника публикации была указана газета «Огни Кубани». Поскольку в тексте выступления американского президента содержались некоторые смысловые моменты, прямо затрагивавшие предвыборные интересы КПРФ, мне, как формальному на тот период «руководителю Аналитического центра ЦК КПРФ», а на деле — самому обычному специалисту-эксперту аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, руководством КПРФ было поручено провести проверку и установить, каким путем экземпляры этой листовки появились в аппарате фракции. Наши товарищи с Кубани (Н.И.Осадчий и И.П.Осадчий) были совершенно не в курсе дела. Пришлось обращаться на места за разъяснениями. Установили: да, есть газета с таким названием, она районного звена, редакция расположена в г. Кропоткин Краснодарского края. Да, в газете действительно была опубликована заметка аналогичного содержания, которая была составлена на основе материала информационного агентства (то ли ТАССа, то ли ИТАР-ТАССа, сейчас уже точно не помню) с такими-то выходными данными, поступившего в редакцию газеты по факсу из Москвы. Звоню в агентство, разговариваю с выпускающим редактором — он с фактами в руках доказывает мне, что с такими выходными данными на места пошел совершенно иной материал, не имеющий никакого отношения ни к США, ни к ее президенту, ни к сборищу верхушки американской военщины. Перепроверяем снова, в том числе и через думские каналы, не поступал ли в эти дни в российские информагентства какой-то иной, но тематически близкий материал из-за рубежа — ответ отрицательный. То есть, совершенно ясным стал главный вопрос — территориальной и временной привязки исследуемого материала.
Зашли к проблеме с другой стороны (распространения сведений) и достаточно быстро выяснили, кто же принес эти листовки во фракцию и раздал их ряду депутатов. Детально переговорили с этим человеком (впоследствии он стал очень известным и узнаваемым, в силу целого ряда обстоятельств, человеком во всей Государственной Думе), установили, что его использовали «втемную» лица из окружения очень популярного в тот период подполковника С. Терехова, руководителя Союза советских офицеров. Тут все стало на свои места, ситуация прояснилась. Да вот только само «выступление Б. Клинтона на секретном заседании» уже начало, как и положено добротной «активке», жить своей собственной жизнью, которая очень полнокровно продолжается и сейчас. В 1999 году это «выступление» опубликовали в журнале «Наш современник» (№1), а далее пошло, поехало… Сегодня эта писулька уже подается чуть ли не как «материал, добытый российской разведкой». На него в нынешнюю эпоху тотального противодействия пиндосам по всем мыслимым направлениям стали ссылаться все, кому ни лень. Думские сермяжные «геополитики» — это еще ладно, чего с них возьмешь, это их хлеб насущный (le pain cotidien) с маслом, икрой и даже с дефицитным подсанкционным хамамом вприкуску. Но вот настоящие профессионалы разведки просто не вправе следовать их гнилому примеру, дабы не уронить подобными поступками свою профессиональную честь и достоинство разведчика, не порождать у знающих их в этом качестве людей сомнения в уровне компетентности как специалистов разведки. Не хочу называть конкретные фамилии таких профессионалов, так как по-прежнему с большим уважением отношусь к ним как к бывшим коллегам по совместной работе в советской внешней разведке.
Придется привести здесь полностью текст этой публикации, иначе читателям будет непонятно, почему мы имеем дело именно с доморощенной «активкой», вышедшей из недр Союза советских офицеров, а не с подлинными высказываниями бывшего президента США, положенными кем-то на бумагу. Скажу без ложной скромности: мне довелось прочесть достаточное количество подлинных материалов закрытого характера, поступивших из недр самых различных учреждений США, в том числе из Комитета начальников штабов, чтобы иметь буквально с самого начала отчетливое представление о том, с чем я имею дело в данном конкретном случае.
«Последние десять лет наша политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать Президент Трумэн с Советами посредством атомной бомбы. Правда с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, и уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на пятнадцать миллиардов, сотни тонн золота, серебра, драгоценных камней и т. п. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше двадцати тысяч тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т. д. Многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Когда в начале 1991 года сотрудники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов пятьдесят миллионов долларов, а затем и еще такие же суммы, многие из политиков, а также военные не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно, что наши планы начали реализовываться. Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, в стране, где еще недостаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач:
— всячески стараться не допустить к власти коммунистов…;
— особенное внимание уделять президентским выборам.
Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях, и поэтому нельзя скупиться на расходы. Они дадут свои положительные результаты. Организовав Ельцину пост президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого никогда уже не уйдем. Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем:
— расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии;
— окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
— устранение режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам.
Да, мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна — США».
Уже только одной фразы из этого выступления было вполне достаточно для обоснованных сомнений в достоверности материала — «всячески стараться не допустить к власти коммунистов». Напомню читателям: в первой Думе наиболее крупной оппозиционной партией была не КПРФ, а ЛДПР, а вдохновленный избирательным успехом под лозунгом «Россия, ты сдурела!» ее лидер, покойный В.В.Жириновский уже вовсю крыл американцев направо и налево. Это в более позднее времена он стал «колебаться вместе с линией партии», а тогда чрезвычайно бойко рвался помыть свои собственные и чужие солдатские сапоги в Индийском океане. И зловредным пиндосам спуску не давал ни на думской трибуне, ни в СМИ, за что в тот период фактически стал персоной «нон грата» в американском посольстве… Для меня, как дипломированного специалиста по редким металлам, были гораздо более важными и более существенными иные ориентиры, иные реперные точки в этом «выступлении Клинтона». Ну, что такое 20 тысяч тонн меди и 50 тысяч тонн алюминия для экономики США? Сущие крохи. В 1991 году американская экономика потребила 2,058 млн. т меди, в 1995 году — чуть более 2,5 млн. т. Стоимость «вывезенной из СССР в США» меди — 60 млн. долларов (3 000 $/т). Та же картина и с алюминием — его вывезено по «докладу друга Билла» всего лишь на 100 млн. долларов (2 000 $/т) при годовой мировой потребности этого металла в 1995 году в размере порядка 20 млн. т. Так о каком же вывезенном из нашей страны «стратегическом сырье» на 15 млрд. долларов может идти речь? Вы припоминаете, каков был размер золотого запаса страны на момент крушения СССР? Всего-навсего 290 тонн. Горбач бездарно все растранжирил в эпоху «ускорения» и «модернизации» советской экономики. При тогдашней цене 362 доллара США за тройскую унцию (31,1 г) стоимость всего золотого запаса страны составляла всего лишь 3 миллиарда 376 миллионов долларов. Весьма далековато до заявленных президентом США 15 миллиардов… Но главное даже не в этом, а в «двух тысячах тонн цезия, бериллия, стронция и других редкоземельных металлов». Ну, во-первых, ни цезий, ни бериллий, ни стронций никогда редкоземельными металлами не были, это Клинтону не иначе как безграмотная Моника Левински на ухо нашептала во время сексуальных утех в Овальном кабинете, сие вполне соответствует уровню ее интеллекта. Во-вторых, в 90-х гг. во всем мире производилось ежегодно всего лишь 20 т цезия и около 340 т бериллия. Из которых, к тому же, аж целых 240 т производились в самих США, до сих пор имеющих единственный (не считая КНР) промышленный источник бериллиевого сырья в мире — бертрандитовое месторождение в штате Юта. В то время как в России бериллий производился лишь в опытно-промышленных масштабах на т.н. «Заводе «А» (переименованном в 1967 году в Московский завод полиметаллов). А во всем Советском Союзе промышленное производство бериллия было целиком и полностью сконцентрировано на флагмане Минсредмаша, законной гордости его основателя и бессменного министра Е.П.Славского — Ульбинском металлургическом комбинате в городе Усть-Каменогорск (Казахстан), выпускающем, помимо бериллия, металлические уран, тантал и ниобий, а с недавнего времени — также и редкоземельные металлы. И, наконец, «стронций», который, видишь ли, коварные американцы у нас тоннами натырили из складов Росрезерва «под несуществующие проекты»… Да он даром никому не нужен, этот стронций. Самая обширная область его промышленного применения — люминофоры в кинескопах тихо умирающих ныне цветных телевизоров, да еще, пожалуй, пиротехника. Но ведь Штаты — это не Китай, не Гонконг и даже не Мексика, где так любят праздничные новогодние «шутихи», чтобы гоняться за «стратегическим стронцием». В СССР металлический стронций производился только на одном единственном предприятии — Исфаринском металлургическом заводе в Таджикистане. В России карбонат стронция в незначительных количествах производится сегодня в качестве попутного продукта на Кирово-Чепецком химкомбинате им. Константинова, а затем перерабатывается на ферростронций на предприятии «Олкон» в Оленегорске для последующего использования в качестве раскислителя сталей на металлургических заводах группы «Северсталь». Цена металлического стронция — практически копеечная, он никогда к стратегическим металлам не относился. Когда мне довелось лет 7—8 назад самолично заниматься маркетинговыми исследованиями по стронцию в рамках проекта повышения комплексности извлечения полезных компонентов из лопаритового концентрата на Соликамском магниевом заводе, то я потерпел оглушительное фиаско по части возможного сбыта карбоната или нитрата стронция. Из-за отсутствия реального спроса стронций на СМЗ по-прежнему предпочитали выбрасывать этот «стратегический продукт» на заводской полигон твердых отходов в виде кальций-стронциевого кека. Так же, как в Москве выбрасывают на свалку бытовой мусор…
Ребят С. Терехова подвела их воинская подготовка и полученные при этом специфические военные знания. Все три названных «другом Биллом» элемента объединяет прямая или косвенная привязка к атомному оружию: бериллий используется в ядерных реакторах на атомных подводных лодках и как инструмент активации ядерных боеголовок, цезий-127 и стронций-90 — наиболее известные продукты ядерного распада радиоактивных элементов на зараженной местности после применения атомного оружия. Может быть, еще их «сбил с панталыка» резкий, 1000-кратный скачок цены на металлический цезий в 1993 году. Так ведь это происходило в тот период не только с ним, но и со скандием, и осмием, и с таллием, и еще с рядом других металлов и неметаллов, которые биржевые спекулянты избрали своей мишенью для искусственного нагнетания ажиотажного спроса, который исчезал также быстро и внезапно, как и появлялся. Так происходит со всеми внебиржевыми металлами, цены на которые основаны на т.н. монопсонном спросе, т.е. с товарными продуктами, не имеющими устойчивых и стабильных рынков сбыта.
Другой материал, которым мне довелось заниматься — это пресловутое «выступление М.С.Горбачева в Американском университете в Стамбуле», в котором он признался изумленной публике, что чуть ли не с детства мечтал вместе с Р.М.Горбачевой развалить КПСС и похоронить коммунистическую идею. С этим материалом мороки было куда поменьше, так как достаточно было быстро установлено, что появился он в России стараниями редакции словацкой газеты «Усвит», запустили его «на орбиту» в общем-то хорошие люди из близкого окружения бывшего руководителя №2 в Компартии Чехословакии Васила Биляка. Некачественно была сработана эта «активка», хотя и от души, чем у многих и вызвала вполне обоснованную симпатию… Ну, во-первых, никакого Американского университета в Стамбуле (и вообще в Турции) никогда в помине не было. «Американский университет» — это ведь не какое-то там абстрактное высшее учебное заведение, принадлежащее американцам, а вполне конкретное государственное заведение, проходящее по ведомству ЮСИА (United States Information Agency) и составляющее часть официальной информационно-пропагандистской машины Соединенных Штатов. Я достаточно неплохо знал в свое время (и даже «разрабатывал») Американский университет в Париже и был в достаточной мере осведомленным о характере его учебно-воспитательной и информационно-пропагандистской деятельности. Существовал такой же университет в Каире, когда-то вроде существовало что-то подобное в Бейруте, но в Турции Американского университета никогда не было. Во-вторых, нестыковка получилась с датой указанного «выступления» М. Горбачева. Как-никак, но он и после своего ухода с поста Президента СССР продолжал оставаться заметной публичной фигурой в мировой политике, и все его поездки за рубеж достаточно пристально отслеживались журналистами. Это уже позже, когда он завел себе «зазнобу» в Америке, интерес к нему постепенно угас. А в 90-х гг. желающих слопать его с потрохами и даже костей при этом не выплюнуть было по всему миру более чем достаточно, а уж среди пишущей братии и подавно. Так вот, не был Горбачев в Турции в это время, это было легко установлено по официальным материалам и сообщениям «Горбачев-фонда», были также получены подтверждения и по другим каналам.
Но вот что касается другого, не менее известного информационного материала тех времен — 45-минутного выступления бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Американском нефтяном институте в Хьюстоне (штат Техас, США) — тут я не считаю себя вправе высказываться сколь-нибудь категорично и отвергать с порога, что все это не происходило на самом деле. Сомнительные моменты в нем, конечно, присутствуют, например, упоминание о некоем «народном фронте» Б. Ельцина, но это, возможно, лишь погрешности перевода. В любом случае, «плясать здесь нужно от печки», а именно от личности С.Ю.Павлова, поведавшего миру об этом выступлении мадам Тэтчер. А так — ну, что же, вполне даже возможно, «железная леди» в выборе выражений в своих публичных выступлениях особо не церемонилась — всегда говорила крайне жестко, без излишних сантиментов и дипломатических уловок. Правда, в Британском Фонде Маргарет Тэтчер, который претендует на полное собрание публичных выступлений британского лидера, этой речи нет, равно как нет и никаких упоминаний о выступлении Тэтчер в Хьюстоне. Я не раз и не два читал записи ее бесед с М.С.Горбачевым, и всегда при этом испытывал чувство стыда за «общечеловеческую болтовню ни о чем» нашего лидера в противовес внешне очень сдержанным, но неизменно суровым, предельно конкретным и всегда глубоко мотивированным суждениям британского премьера. Увы, это говорит, как мне кажется, не только о характерных особенностях построении дипломатической беседы этими двумя собеседниками, но также и об уровне профессиональной квалификации тех лиц в лондонском Форин Оффисе (Foreign and Commonwealth Office) и на московской Смоленско-Сенной (МИД СССР), которые готовили материалы к беседам лидеров двух стран. В одном лишь эпизоде, справедливости ради, не могу не отдать должное решимости М.С.Горбачева идти до конца — когда после бегства О. Гордиевского англичане решили воспользоваться благоприятным моментом и вновь затеяли «игру нервов» — устроили очередную массовую высылку работников совзагранучреждений из Великобритании. Президент СССР продемонстрировал тогда свою готовность строго следовать принципу взаимности в высылках загранработников и вести развернувшуюся «дипломатическую войну» до упора — грубо говоря, до оставления в стране лишь двух человек: посла и охранника посольства. При этом он во-время и достаточно решительно пресек попытки британских спецслужб разыграть карту «межведомственных трений» в СССР. Наша реакция была тогда строго зеркальной — вы высылаете разведчика и мы высылаем разведчика. Вы потребовали отозвать «чистого» первого или второго секретаря посольства и мы сделаем ровным счетом то же самое. На мой взгляд, позиция британской стороны в этом дипломатическом конфликте была ущербной изначально, и в конечном итоге она оказалась проигрышной. Ибо в Советском Союзе специалистов по Великобритании, в том числе и разведчиков, со хорошим знанием английского языка было неизмеримо больше, чем у них таких же специалистов по работе в СССР со знанием русского. Англичане тогда эту решимость советской стороны прочувствовали сполна и сами быстренько свернули ими же развязанную кампанию взаимных выдворений из обеих стран.
Для разнообразия потребляемой «пищи для ума» приведу еще один пример отечественной, чистой воды местной «активки». Вышла она из-под пера весьма загадочной личности — Антона Сурикова (Мансура Натхоева). Я достаточно неплохо знал его лично, но от собственных оценок его деятельности воздержусь, так как он теперь держит ответ перед Всевышним. Кто захочет прочитать о нем поподробнее — достаточно набрать в поисковике его фамилию и вывалится масса самых разномастных и противоречивых материалов и оценок. Эта его публикация появилась в 1997 году в газете «Завтра», где он длительное время был одним из ведущих сотрудников и, как я предполагаю, имел самое непосредственное отношение к так называемой Службе безопасности газеты, которая на регулярной основе публиковала свои «агентурные донесения». Процитирую одно из таких «донесений Службы»: «Во внешнеполитических ведомствах США, сообщают источники из Гарвардского университета, отработана секретная директива по направлениям деятельности проамериканской агентуры в исполнительной власти РФ. Предлагается, в частности, направить максимум усилий на срыв сотрудничества России с Ираном, КНР, а также на свертывание интеграционного процесса с Белоруссией, обострение отношений с Украиной и подталкивание линии на поддержку Шеварднадзе и Алиева. В рамках этих усилий предлагается добиться через группу Чубайса отстранения от дел министра иностранных дел Примакова (замена — Лукин или Караганов), Родионова (замена — Кокошин или Николаев), Куликова и Ковалева (замена — Старовойтов и Козаков)…». Назывался этот материал А. Сурикова очень простенько и незатейливо, но вполне в его духе и в его стиле — «Разведка прогнозирует войну». Прочтем его целиком.
«В связи со встречей Б. Ельцина и Б. Клинтона в Хельсинки становится все более очевидным, что американцев уже не удовлетворяет та роль «младшего партнера» Запада, которую играет сегодня Россия. В Вашингтоне окончательно возобладал курс на расчленение Российской Федерации, завершение ликвидации ее Вооруженных Сил и ВПК. В данной ситуации весьма неоднозначно выглядят и некоторые шаги оппозиции. В частности, справедливо критикуя планы расширения блока НАТО на Восток, в ряде своих документов НПСР (Народно-патриотический союз России, прим. авт.) заявляет: «Если такое расширение состоится, то Госдума откажется ратифицировать российско-американский договор СНВ-2». Подобную формулировку, рассуждая от обратного, можно интерпретировать как готовность Думы поддержать СНВ-2 в случае, если НАТО пойдет нам на определенные уступки (реальные и мнимые) в вопросе своего продвижения в восточном направлении. Более того, среди части депутатского корпуса, с подачи проамериканских кругов, все более популярной становится идея заключения нового договора СНВ-3, который, по заявлениям, должен исправить вопиющие перекосы СНВ-2 путем еще больших сокращений стратегических ядерных вооружений. Действительная цель подобного предложения — любым путем заставить Россию ликвидировать основу ее безопасности — группировку «тяжелых» ракет РВСН, вызывающих у американцев наибольшие опасения, особенно в связи с планами создания системы противоракетной обороны США… В свете провоцируемых Западом тенденций к росту сепаратизма и хаоса в России бывшие советские республики рассматриваются атлантистами в качестве плацдарма для проведения операции НАТО по взятию под контроль объектов нашего ядерного комплекса, о возможности которой публично заявлял министр обороны РФ И.Н.Родионов. Кстати, согласно планам данной операции, немалая роль в ней отводится создаваемым совместным подразделениям НАТО с Украиной, со странами Центральной Азии, с Прибалтикой и — в случае принятия известного предложения М. Олбрайт — с Россией. При этом военным из бывшего СССР отводится третьестепенная, крайне незавидная роль несения внешней охраны оккупируемых объектов.
В то же время, как полагают на Западе, условия для ядерного шантажа России и военной оккупации ее стратегических объектов пока еще не созрели. Поэтому сегодня там сконцентрировались на работе, направленной на ускорение процесса «дозревания». Так, недавно отечественные телезрители имели возможность наблюдать парад «армии генерала Дудаева», организованный в Грозном С. Радуевым. Примечательно, что официальные власти Ичкерии ровным счетом ничего не сделали для пресечения данной акции и никак не прореагировали на провокационные заявления известного террориста о скором возобновлении вооруженной борьбы против России. А между тем, в Чеченской республике насчитывается несколько тысяч непримиримых боевиков-«индейцев» и иностранных наемников (вспомним хотя бы иорданца Хоттаба), которые якобы никому не подчиняются и ничем, кроме как воевать, заниматься не желают. Подобное положение ставит перед российскими политиками вопрос: что делать с Чечней дальше? Помогать «умеренному» А. Масхадову в финансовой сфере — считает И. Рыбкин. Тогда, дескать, чеченцы отложат в сторону оружие и в едином порыве примутся восстанавливать разрушенное войной. А посему, настаивает секретарь Совбеза, сотни миллиардов рублей из госбюджета следует немедленно отправить в Грозный. Подобные игры в финансирование, означающие на практике масштабное расхищение бюджетных средств и повторное вскармливание криминально-террористического дудаевского режима, являются лишь частью глобального антироссийского плана, разработанного и реализуемого спецслужбами США и НАТО. В одном спецведомстве (?) автора этих строк ознакомили с проектом служебной записки на имя министра обороны, содержащей анализ угроз военной безопасности России в контексте намечаемой реформы Вооруженных Сил. (выделено мною –авт.) Известно, что секретарь Совета обороны Ю. Батурин считает, что в ближайшие несколько лет никакой военной угрозы стране не возникнет. Следовательно, утверждает он, у России есть солидный запас времени для реформирования армии. В рассматриваемом же документе на основе анализа оперативной информации делается прямо противоположный вывод о том, что во второй половине года Россия может быть втянута сразу в несколько локальных, региональных и пограничных конфликтов на пространстве от Черного моря до Тихого океана. Следовательно, времени на радикальную перестройку армии нет. Случись война, воевать придется тем, что сегодня имеется в наличии. Так или иначе, подчеркивается в аналитической записке, для того, чтобы отвлечь внимание России от проблемы расширения НАТО, еще больше ослабить нашу страну и ее Вооруженные Силы, реализуемый Западом план действий предусматривает создание сплошной зоны нестабильности на наших южных границах. При этом на кавказском направлении главная ставка делается на формирования чеченских и ингушских боевиков, которые, по замыслу, в конце лета или осенью должны развернуть широкомасштабную агрессию против Дагестана, Пригородного района Северной Осетии, Ставрополья и Моздока, а также произвести серию терактов в центре России. Интересно, что возглавить эту агрессию должен вовсе не Радуев, а А. Масхадов, который, как выяснилось, в 1993–96 годах неоднократно посещал Турцию, Великобританию и США, и рассматривается спецслужбами этих стран в качестве их «главного контакта» на Северном Кавказе.
Что касается Закавказья, то там основные партнеры Запада — Г. Алиев и Э. Шеварднадзе. Алиев взял на себя обязательство не только вновь напасть на Нагорный Карабах, используя в качестве дымовой завесы дезинформацию о тайных поставках ядерных ракет из России в Армению, но и развернуть кампанию репрессий против лезгинского меньшинства, проживающего вблизи границы с Дагестаном. Это неизбежно вызовет поток беженцев в российскую автономию и будет способствовать ее дестабилизации. Что же касается Шеварднадзе, то он планирует возобновить агрессию против Абхазии с целью депортации ее коренного населения в район Сочи. Что опять-таки, наряду с гуманитарной катастрофой, приведет к дестабилизации на этот раз уже западной части Северного Кавказа…
Еще один важный момент — позиция Китая. После кончины Дэн Сяопина там, в приграничной провинции Синьцзян, активизировалась террористическая деятельность уйгурских сепаратистов, получающих скрытую поддержку от Турции, США, а также от своих соплеменников, проживающих в Казахстане и Киргизии. В случае дестабилизации Центральной Азии нетрудно предположить, что такая поддержка приобретет открытый характер, включая создание террористических лагерей и баз вблизи бывшей советско-китайской границы. Что, в свою очередь, неизбежно приведет к жестким, в том числе силовым, ответным акциям Пекина. Иными словами, граница, на которой находятся в том числе и российские пограничники, превратится в зону напряженности, которая легко может перекинуться и на Дальний Восток. Причем США, можно не сомневаться, эту напряженность будут всячески подогревать. В свете сказанного план военной реформы «по Батурину», предусматривающий форсированные сокращения Вооруженных Сил уже в ближайшее время и обещающий при этом создание небольшой боеспособной армии лишь в отдаленном будущем, выглядит достаточно двусмысленно. Как, кстати, и намерения вновь в полтора раза сократить штатную численность воздушно-десантных войск, ликвидировав две дивизии и одну бригаду ВДВ. Причем в руководстве Минобороны в частном порядке откровенно признают, что было бы лучше ВДВ не урезать, а наоборот, доукомплектовать до штатной численности. Однако в обстановке сокращенческой истерии, созданной Батуриным и «демократическими» СМИ, говорить о доукомплектовании чего-либо военные просто боятся».
Прочувствовали размах? Э-э, да это еще пустяки, проба пера самодеятельного мастера активок. Он даже таким известным американским специалистам по проблемам стратегических вооружений и разоружению, как сенаторы Нанн и Лугар, очень развесистую «лапшу на уши» понавешал во время своей исторической поездки в США в качестве «спецпредставителя левой оппозиции России» то ли в 1994, то ли в 1995 году, сейчас уже в точности и не упомню… На деле же он вешал эту лапшу прежде всего «Фонду Никсона», возглавляемому ныне выходцем из бывшего Советского Союза, бывшим секретарем комитета комсомола ИМЭМО Дмитрием Константиновичем Саймсом (Симисом), и никсоновскому «Центру национальных интересов» (США) через известного цэреушного аналитика Фрица Эрмарта, одного из наиболее активных зарубежных участников разрушения СССР. Очень показательно — раньше Фриц Эрмарт вместе с Колином Пауэллом и Робертом Гейтсом встречался и беседовал в неофициальной обстановке с руководителем советской внешней разведки В.А.Крючковым, а после крушения СССР был вынужден довольствоваться «посиделками» с Антоном Суриковым — человеком из ниоткуда… Все течет, все меняется, не правда ли, господа присяжные заседатели?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Агенты мнимые и агенты настоящие
Отойду, наконец, слегка в сторону от захватывающей и остросюжетной темы «агентуры влияния» в Советском Союзе, чтобы в динамике повествования об этой крайне привлекательной для глаз и ушей обывателя материи случайно не упустить один немаловажный и весьма многозначительный момент. В последнее время у широкой российской публики внезапно проклюнулся повышенный (хотя и не всегда здоровый и позитивный) интерес к деталям проведения агентурно-оперативной и иной разведывательной деятельности за рубежом советской внешней и военной разведки преимущественно довоенного и военного периода. С подачи многочисленного коллектива чрезмерно расплодившихся у нас «специалистов-историков отечественной разведки» (которые ранее по преимуществу паслись на благодатной ниве освещения участия органов безопасности в организации и осуществлении «сталинских репрессий») широкие массы российских читателей и зрителей стали жадно, с интересом и, в общем-то, в целом с одобрением и неприкрытой симпатией знакомиться с историей создания и становления агентурных позиций СССР в странах Западной Европы, США, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока как по линии официальных государственных структур, так и по каналам Коминтерна. Наглядным отражением этого внезапно вспыхнувшего интереса стало, в частности, создание на ныне закрытой радиостанции «Эхо Москвы» и в по-прежнему издающемся журнале «Дилетант» специальной рубрики в форме серии передач и публикаций под общим названием «Агенты». Ну, пока бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признанный Черемушкинским судом города Москвы иностранным агентом и внесенный Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и отставной генерал СВР Юрий Кобаладзе своим творческим дуэтом небезуспешно «отбивали хлеб с маслом и черной паюсной икрой» у официальных бытописателей российской разведки типа бывшего спортивного репортера Николая Долгополова и подданного Великобритании российского телекомментатора Сергея Брилёва в описании славных деяний «кембриджской пятерки», «Красной капеллы» или отдельных известных советских разведчиков-нелегалов все еще как-то выглядело в рамках приличия. Шел более-менее интересный для широкой обывательской аудитории пересказ всего того, что профессионалы разведслужбы хорошо знают еще со времен своего обучения в Краснознаменном институте КГБ или в Академии СВР, причем гораздо более полно, более достоверно и в немаловажных для правильного и объективного понимания деталях. Ныне покойного, к моему глубокому сожалению, официального историка СВР Владимира Сергеевича Антонова, с которым в свое время совместно проходил службу в 5-м линейном отделе ПГУ КГБ СССР, я здесь никоим образом не подразумеваю. Он, несмотря на мое несогласие с ним по целому ряду изложенных в его книгах проблем, честно и добросовестно, а не ради личной корысти или литературной славы, в отличие от вышеуказанных мною лиц, делал свое дело в рамках исполнения своих прямых служебных, должностных обязанностей. Притом делал это, на мой взгляд, достаточно умело и как кадровый сотрудник внешней разведки, и как известный журналист-международник.
Но когда творческий дуэт «дилетантистов» достаточно решительно, стремительно и даже как-то весело и нахраписто полез «вглубь», стал не без умысла затрагивать отдельные пикантные и не всегда доступные для понимания непрофессионалами подробности (в частности, отдельные детали подготовки и осуществления операции «Утка» по ликвидации Льва Троцкого в Мексике), стал более пристально и более внимательно вглядываться в отдельные крайне любопытные страницы биографий Якова Блюмкина, Сиднея Рейли (Шломо Розенблюма), невозвращенца Александра Орлова (Лейбы Фельдбина), начал постепенно приоткрывать завесу таинственности и секретности над некоторыми «боевыми операциями» за рубежом легендарной «спецгруппы Яши» (названной по имени соратника убежденного, идейного террориста-троцкиста Якова Блюмкина другого прирожденного и даже прославленного боевика Якова Серебрянского (Якова Исааковича Бергмана) тот же час с неизбежной очевидностью наружу стал выползать один сакраментальный вопрос. Вкратце его можно было бы сформулировать так: а с чего бы это вдруг многие непосредственные участники описанных ими событий, известные как явные или скрытые сторонники Льва Давидовича Троцкого (до сих пор рассматриваемого российским обществом как в целом негативная и даже зловещая фигура отечественной истории, несмотря на его не вполне внятную с точки зрения соблюдения требований действующего российского законодательства реабилитацию как «жертвы политических репрессий сталинских времен»), впоследствии все дружной стайкой стали фигурантами так и незавершенного чисто в правовом поле и даже в оперативном дела «о сионистском заговоре в рядах НКВД и МГБ СССР»? Притом, что некоторые из них пострадали из-за этого обстоятельства очень даже существенно, прежде всего в плане резкого и внезапного прекращения своей весьма успешной служебной карьеры.
Что такое троцкизм как общественно-политическое явление? В современной интерпретации (см. Большую российскую энциклопедию, автор заметки А.В.Гусев), «ТРОЦКИЗМ, разновидность марксизма, междунар. лево-радикальное идейно-политич. течение, основанное на идеях Л.Д.Троцкого. Сформировался в 1920–1930-е гг. в ходе борьбы левой коммунистич. оппозиции против политики руководства ВКП (б) и Коммунистического интернационала (троцкисты признают решения только 1–4-го его конгрессов). Рассматривает себя как продолжение и развитие подлинного большевизма, ленинизма. Осн. положение — концепция перманентной (непрерывной) социалистич. революции». Выходит, по-своему был прав мудрый русский крестьянин, который в фильме «Чапаев» настойчиво вопрошал красного комдива: «Василий Иванович, ты за большевиков али за коммунистов?».
Если я адекватно воспринимаю положение дел в современной российской политологии, автором заметки в энциклопедии является один из ведущих отечественных специалистов по истории троцкизма и левой оппозиции 1920–1930-х годов, доцент кафедры истории политических партий и общественных движений исторического факультета МГУ Алексей Гусев, создатель образной и ставшей крылатой фразы «Для Сталина троцкисты были, как для Гитлера евреи». Вот как он ответил на достаточно провокационный вопрос корреспондента одного из интернет-изданий: «Использовался ли антисемитский мотив в борьбе с оппозицией?». «Безусловно. Вожди оппозиции: Троцкий — Бронштейн, Каменев — Розенфельд, Зиновьев — Радомысльский. Очень просто было дать понять, что оппозиционеры — евреи, потому что они выступают за мировую революцию, космополиты, которые не любят русских крестьян. Конечно, не напрямую, антисемитизм в те годы карался как уголовное преступление. Хотя Троцкий цитировал постановление одной из местных ячеек, где призывалось «исключить оппозиционеров из партии, потому что сама их национальность предрасполагает к торгашеству, беспринципности и прочему. Это, конечно, редкий случай, когда такое было написано на бумаге. Антисемитский аспект борьбы с оппозицией комментировал сам Сталин. Он заявлял: «Мы боремся против оппозиционеров не потому что они евреи, а потому что они оппозиционеры». (Высказывание, которое, по сути, акцентировало национальность главных лидеров оппозиции.) Анекдот того времени: «В чём отличие Моисея от Сталина? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин вывел евреев из Политбюро». https://vatnikstan.ru/interview/gusev_interview/). Вообще-то И.В.Сталин по этому достаточно спорному житейскому вопросу высказывался куда более определенно. Из текста его доклада на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 года: «Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, что из политического течения в рабочем классе, каким он был 7–8 лет тому назад, троцкизм превратился в оголтелую и беспринципную банду вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданию разведывательных органов иностранных государств».
А вот оценка, данная личности и деянием Троцкого писателем Лионом Фейхтвангером в книге «Москва, 1937 год» в главе VII под названием «Ясное и тайное в процессах троцкистов»: «Русским патриотом Троцкий не был никогда. «Государство Сталина» было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том; насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презрением. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти». И еще у него здесь же, в подзаголовке «Троцкий о Троцком»: «Эмиль Людвиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы Острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге «Дары жизни».
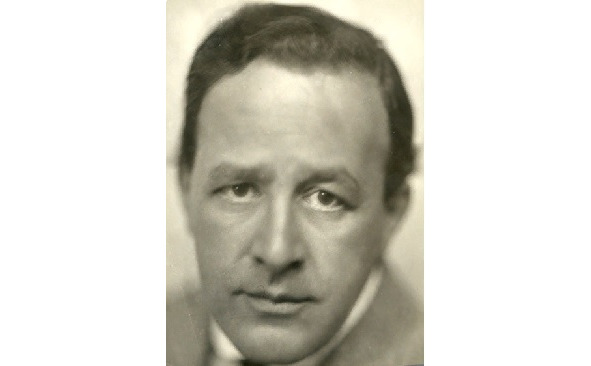
То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. «Его собственная партия, — сообщает Людвиг (я цитирую дословно. — Л.Ф.), — по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. «Когда же она сможет собраться?» — Когда для этого представится какой-либо новый случай, например война или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. «Но в этом случае вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели вас впустить». Пауза — в ней чувствуется презрение. — О, тогда, по всей вероятности, пути найдутся. — Теперь улыбается даже госпожа Троцкая». Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами».
Однако наш отечественный писатель и публицист Леонид Млечин видит корень всех бед троцкизма совершенно в другом. В заметке под названием «Троцкий, троцкизм и троцкисты», опубликованной в журнале «Огонёк» по случаю 80-летия гибели Л.Д.Троцкого в Мексике, он приводит один весьма примечательный и, я бы даже сказал, очень характерный для его взглядов пассаж, который вполне заслуживает того, что привести его полностью, без купюр. «Десятилетия работы пропагандистской машины не прошли даром. Троцкого превратили в воплощение зла. Те, кто считает революцию трагедией, не могут забыть, что под его руководством петроградские большевики взяли власть в Октябре. Коммунисты называют его злейшим врагом революции. Националисты уверены, что он по заданию всемирного масонства уничтожал Россию. В романе «Вечный зов» Анатолия Иванова (он же редактор журнала «Молодая гвардия») германский фашизм предстает всего лишь одной из армий мирового троцкизма, главная и единственная цель которого — уничтожить Россию. Самый гнусный персонаж романа бывший жандарм Лахновский во время Великой Отечественной появляется на оккупированной территории в нацистском мундире и произносит перед своим агентом длинный монолог: — Кто мы? Вы называете нас до сих пор троцкистами… Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила… Какое возмездие ждало Россию!.. Но ваш проклятый фанатизм одолел и эту силу. Запомни: это вам, всей России, всей вашей стране, никогда не простится! Троцкого нет… Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать.
Троцкий, объяснил в романе Анатолий Иванов, не только виновник неудач Красной армии в 41-м, но и вдохновитель растления России: — После войны мы будем действовать не спеша, с дальним и верным прицелом… Мы будем опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности… Мы будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!.. Как учил, как это умел делать Троцкий… В романе не хватает только слов о том, что Троцкий — вождь мирового еврейства. В советские годы автор не мог себе этого позволить. Однако же все понятно и без слов». (https://www.kommersant.ru/doc/4457976).
Троцкому, конечно, далеко до Моисея в качестве признанного вождя всех евреев, однако в сотню самых выдающихся евреев всех времен и народов он все же попал, и это широко хорошо известно из достоверных израильских источников. Ну, то, что Л. Млечин уже не одно десятилетие неравнодушно дышит к актуальной на сегодняшний день теме освещения и намеренного подчеркивания роли выдающихся евреев в мировой истории, давно ни для кого не секрет. И лишний раз это подтверждает та намеренная акцентированность внимания читателей на факте редакторства писателя Иванова в «черносотенном» журнале «Молодая гвардия». Но, спрашивается, к чему приводить при этом вульгаризованный вариант «доктрины Даллеса» в привязке уже не к проискам «коварного ЦРУ», а к ближайшим послевоенным планам недобитых Сталиным троцкистов? Млечинские просионистские шарады лично мне разгадывать всегда тошно, но уж больно все это смахивает на еще одну «активку» в неустанно продолжающихся попытках добиться полной и безусловной реабилитации Троцкого как «невинной жертвы кровавых сталинских репрессий» в глазах аполитичного российского обывателя. Могу на все подобные исторические (или истерические) потуги отреагировать так: «Ребята, вы уж либо крестик снимите, либо штаны наденьте». Ибо если все же прав «иудушка Троцкий» со своей идиотской идеей «перманентной революции в мировом масштабе», а не Сталин с его политическим выбором и упором на победу социализма прежде всего в отдельно взятой стране — в СССР, то по характеру современного развития обстановки в мире самым актуальным на сегодня тезисом становится тот, который был пророчески изложен в Библии. Если говорить точнее — в последней книге Нового Завета, более известной под названием «Откровения Иоанна Богослова», повествующей об «апокалипсисе», о конце света, о катастрофе общепланетарного масштаба. Или г-н Млечин и его единомышленники все еще предпочитают наивно полагать, что вожди и адепты идеи «мировой пролетарской революции» как представители самой выдающейся в истории человечества нации непременно должны войти в число 144 тысяч библейских «избранных»?
Так, в органах безопасности СССР огромную роль в возвышении Ягоды сыграла его активность в борьбе с троцкистами. При этом стоит учитывать, что влияние троцкистской оппозиции среди личного состава ОГПУ было очень заметным. Ветеран КГБ СССР историк А.М.Плеханов утверждает, к примеру, что, по подсчетам председателя ОГПУ, во время дискуссии 1923–1924 гг. в аппарате ОГПУ из 551 членов РКП (б) на стороне ЦК были 367 человек, 40 однозначно на стороне троцкистов и еще 129 «колебались». Это, скорее всего, несколько приукрашенная картина. В действительности же, если верить опубликованным мемуарам различных авторов, в разных парторганизациях ОГПУ сторонников Троцкого было никак не менее половины. Очень выразителен в этой связи рассказ Ф.Д.Медведя о характере дискуссии в Москве. По его словам, троцкисты первоначально вообще добились большинства: «Дзержинскому и другим членам коллегии вообще говорить не давали. Требовали немедленно ввести внутрипартийную демократию, разогнать партийный аппарат. „Долой бюрократов, долой аппаратчиков“, — сплошь и рядом кричала ячейка. Пришлось прекратить собрание и перенести на следующий день. Ну, а на следующий день были приняты меры. Во-первых, срочно по прямому проводу вызвали из Ленинграда Зиновьева, затем Феликс особо заядлых крикунов частью изолировал, частью отправил в срочные командировки. На следующий вечер собрание открылось речью Зиновьева. Этот и начал. Говорил четыре часа подряд. Все обалдели, слушая его. Голоснули — и что же? Несмотря на принятые меры, ничтожным большинством прошла резолюция ЦК». Причины популярности Троцкого среди чекистов того времени вроде бы и очевидны, но все же не вполне объяснимы. Многих, дескать, якобы раздражало отсутствие внутрипартийной демократии. «Где у нас равенство в единой коммунистической партии? На бумаге, в уставе партии. А на самом деле, верхи и низы. Начальники и подчиненные. Верхи обросли на теплых местах и тянут к себе родственников, подхалимов, бюрократов. Везде и повсюду круговая порука. Рука руку моет. Только внутрипартийная демократия даст возможность проявить все недочеты нашей партии и избавиться от них» — вот основные спекулятивные тезисы троцкистов из ОГПУ Как будто в самом аппарате ОГПУ было как то по-другому….
Возвратимся к одной из первых телепередач цикла «Агенты» в захватывающей версии творческого содружества Венедиктова и Кобаладзе. Хаим Гиршевич Блюмкин, духовное и художественное наследие Н. Рериха спустя сорок лет, творческое содружество Е.М.Примакова и поклонницы идей мадам Блаватской Л. В. Шапошниковой из музея Рериха, само оперативное дело Рериха из архивов КГБ, Шамбала, басмачи, Сергей Есенин, Розенцвейг (Горская), Исаев (Штирлиц), Вилли Леман (Брайтенбах), какое-то совершенно невообразимое месиво с участием Мишки Япончика (Винницкого), Фроима Грача (Фишмана), Исаака Бабеля и Остапа Бендера, сопровождаемое бодрыми музыкально — разведывательными песнопениями в исполнении дуэта А. Венедиктова и Ю. Кобаладзе — все это, конечно, весьма увлекательно, зрелищно и даже порой забавно. Хотя, если судить по внутренней сути содержимого их повествования, это всего лишь обычная телевизионная бурда, составленная из популярной в народе окрошки в смеси с не менее популярным винегретом в качестве оптимальной закуски под традиционный русский напиток. На мой взгляд, приготовленное ими публицистическое блюдо совершенно несъедобно и, одновременно, мало информативно с точки зрения главной заявленной журналом «Дилетант» темы повествования — о существовании в Советском Союзе так называемой агентуры влияния.
К примеру, любопытствующей публике из этой глубокомысленной беседы двух выдающихся «знатоков» деятельности отечественных и зарубежных спецслужб будет абсолютно неясно, почему вдруг именно в период «переформатирования» Коминтерна в Коминформ, именно в ходе достаточно скоропалительного превращения этой международной структуры во вновь создаваемое «содружество братских коммунистических партий» в нем тут же, сходу, буквально незамедлительно стали формироваться невиданные ранее возможности для плодотворной работы враждебной СССР агентуры влияния в рамках будущего «мирового коммунистического и рабочего движения». Прежде всего, через возможности специально созданного позднее в Праге журнала «Проблемы мира и социализма», московского Института международного рабочего движения АН СССР, через образованные в отделах ЦК КПСС группы консультантов и лекторов ЦК, через сформированную аналогичную группу лекторов во Всесоюзном обществе «Знание». Равно как и через резко возросшую индивидуальную активность выходивших непосредственно на лидеров СССР зарубежных дельцов типа Арманд Хаммер или Роберт Максвелл, через чрезвычайно продуктивную деятельность «личных конфидентов Брежнева, Суслова, Пономарева и др.» — связников компартии США, откровенных политических авантюристов (и, одновременно, вполне реальных советских орденоносцев) Морриса Чайлдза (Мойши Шиповского, по другим данным — Чаловского) и его брата Янкеля (Джека). Причина здесь лежит буквально на поверхности, но ее тщательно обходят стороной и всячески избегают озвучивать публично в силу особой «деликатности» строго табуированной темы особенностей национального состава как основного кадрового звена советской внешней разведки того периода, так и бóльшей части созданного ею агентурного аппарата за рубежом. Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) в подобной затруднительной ситуации говорил лаконично, но очень даже весомо и достаточно определенно: «Я не еврей, а интернационалист».
Если все же зря не кривить душой и не елозить попусту тощим задом по шершавой скамейке то ли от смущения, то ли от щенячьего восторга, следует всего-навсего лишь откровенно, правдиво и однозначно признать следующее. Да, он в значительной, если не в подавляющей, мере состоял из этнических евреев и строился отнюдь не на «идейной» — коммунистической, социалистической, анархистской, антиклерикальной, антиимпериалистической, антиколониальной или иной «прогрессивной» основе, как в той же разведывательной структуре Отдела международных связей ИККИ. Где наряду с откровенными авантюристами и искателями острых ощущений действительно были по-настоящему идейно убежденные кадры. Очень большая (если не основная) часть резидентов и разведчиков, работавших позднее на ИНО ГПУ–ОГПУ и РУ РККА в 20–30-х гг., начинала карьеру разведчиков именно по линии Коминтерна. Р. Зорге, Л. Треппер, Ш. Радо, А. Дейч, И. Григулевич (Григулевичус), В. Фишер, А. Шнеэ и многие другие убежденные сторонники коммунизма стали разведчиками по идеологическим соображениям. Интересной в этой связи представляется характеристика, данная всем им старшим агентом британской службы МИ-5 Питером Райтом: «Часто они вообще не были русскими, хотя и имели российское гражданство. Они были коммунистами-троцкистами, которые верили в международный коммунизм и Коминтерн. Они работали под прикрытием, часто подвергаясь большому личному риску, и путешествовали по всему миру в поисках потенциальных рекрутов. Они были лучшими вербовщиками и контролерами, которые когда-либо были у российской разведывательной службы. Все они знали друг друга, и вместе они вербовали и создавали первоклассные шпионские сети».
А вот закордонный агентурный аппарат ГПУ-ОГПУ вначале по преимуществу строился на весьма примитивной этпополитической, даже зачастую на самой обыденной земляческой основе, столь характерной для принципов построения организаций и объединений еврейского сообщества во многих зарубежных странах. Тем более, что резидентам ОГПУ-ГПУ за рубежом (прежде всего нелегальным) в тот период было предоставлено право самостоятельно решать вопрос о включении интересующего лица в агентурную сеть разведки, не испрашивая на то разрешения или согласия у Центра, как это стало привычным в более поздние времена НКВД-МГБ-КГБ. Отсюда вытекает и логическое следствие подобного организационно-управленческого решения по очень известной в народе формуле — «каков поп — таков и приход»…
Я никогда не забуду один впечатляющий эпизод из собственной разведывательной практики, когда после проверки по оперативным учетам в 15-м отделе ПГУ мне понадобилось получить подробные данные на одного иностранца, который, судя по известным любому оперативному работнику признакам, должен был состоять в агентурной сети нашей разведки. После ряда мытарств и многочисленных согласований я все же добрался до первоисточника нужных мне сведений. И был поражен, когда вместо привычного пухлого дела агентурной либо оперативной разработки я получил для ознакомления обычный клочок бумаги. Он представлял собой часть фотокопии оперативного отчета резидента в Центр (дело было еще в довоенные времена), разрезанного обычными канцелярскими ножницами на отдельные куски. На данном клочке бумаги рукописью было написано ровным счетом следующее: тогда-то и там-то резидент (или его заместитель, не суть важно) провел вербовочную беседу с имяреком, работавшим там-то и тем-то, при этом являвшийся родственником уже какого-то «закавыченного» нами ранее субъекта. И это было ровным счетом все! Но зато на этом отрывке рукописного донесения из-за рубежа (помню это хорошо как сейчас!) прямо поверх текста толстым карандашом красного цвета была начертана резолюция какого-то высокого начальника — «Включить в агентурную сеть». И более ничего полезного типа: как имярек работал в качестве агента, какие задания выполнял, что сделал нужного для разведки в целом, что получил от нас взамен и пр. — ничего этого не было, только указывался присвоенный ему оперативный псевдоним.
Именно по этой весьма специфической причине позднее стали возможными столь скандальные и катастрофические по своим последствиям провалы, как «совещание резидентов» в феврале 1935 года в Дании, когда датская полиция арестовала в одном из отелей Копенгагена сразу четверых советских разведчиков-нелегалов, находившихся там якобы «проездом», и с добрый десяток завербованных ими агентов. В реально оправданном с точки зрения соблюдения выработанной и подтвержденной документами оперативной легенды их одновременное появление в месте полицейской засады не вызывалось ни малейшей необходимостью! Просто эти кадровые сотрудники являлись руководителями структур советской военной разведки в других странах, в Дании они просто находились проездом и на явочную квартиру зашли лишь затем, чтобы повидаться и пообщаться со своими старыми друзьями. Датчанам удалось их обнаружить и разоблачить во многом благодаря тому, что руководители т.н. резидентуры связи советской военной разведки в Дании кишиневский еврей Александр Петрович (Израиль Хайкелевич) Улановский и американец Джордж Минк (житомирский еврей Годи Минковский) по прочно укоренившейся привычке вербовали в свою агентурно — осведомительскую сеть местных коммунистов преимущественно из числа подданных Датского королевства еврейской национальности или же еврейского происхождения. Так, дескать, было проще и для целей проверки агентуры, и в целом гораздо надежнее для успеха нашего общего дела «скорейшего становления неизбежного торжества идей коммунизма и пролетарского интернационализма во всем мире»…
В течение первых двух дней датская полиция вначале произвела обыски у Джорджа Минка, затем на явочной квартире Улановского ею была устроена засада. Первым из ожидавшихся «визитеров» в полицейский капкан угодил Давид Угер (Давид Александрович Реми), резидент Разведупра в Германии. Вторым «гостем» оказался Макс Германович Максимов (Максимилиан Фридман), нелегальный резидент Разведупра в Германии, работал там под именем Ганса Грюнфельда (оперативный псевдонима «Бруно»), дальний родственник Иосифа Уншлихта. Еще одной солидной добычей датской полиции стал начальник отделения 1-го (западного) отдела РУ РККА, бывший нелегальный резидент Разведупра в Германии Давид Оскарович Львович. Также в ловушку полиции попал американский юрист-адвокат, один из участников процесса по делу Сакко и Ванцетти Леон Джозефсон (он же Бернард А. Хиршфилд), близкий соратник связника Коминтерна Герхарда Эйслера и его сестры Рут Фишер. Нет необходимости лишний раз подчеркивать, что все вышеупомянутые лица в своем происхождении имели одни и те же этнические корни. В итоге за очень короткий период времени советская военная разведка потеряла работника центрального аппарата, трех опытных резидентов и десять проверенных иностранных агентов (двух американцев и восьмерых датчан), а её резидентура связи в Дании прекратила свое существование. И причина здесь была только одна — очевидный местечковый дилетантизм и злостное пренебрежение всеми базовыми принципами конспирации при организации разведывательной деятельности низовых структурных звеньев.
Позднее подобная же история буквально зеркально повторилась в эпизоде с полным крахом бельгийского звена знаменитой «Красной капеллы» (которой на самом деле вовсе не существовало в природе как единой организационной структуры под столь звонким названием) во главе с Леопольдом (Лейб Захаровичем) Треппером («Большой шеф»), Анатолием (Ароном Мордковичем) Гуревичем («Маленький шеф»), Гарри Робинсоном (Арнольдом Шнеэ), помощниками Треппера Лео Гроссфогелем и Хиллелем Кацом, которых он хорошо знал еще по Палестине. Вот что писал в 2004 году сам Анатолий Маркович Гуревич: «13 декабря 1941 года в Брюсселе на конспиративной вилле Треппер, который приехал из Парижа, собрал своих друзей по бывшей резидентуре без моего согласия. На этой же вилле работал радиопередатчик, который выходил в эфир более пяти часов в день, поэтому вилла была запеленгована немецкой контрразведкой. Самому Трепперу удалось избежать ареста». Опять в этой истории фигурирует какая-то «тайная вечеря» бывших друзей по резидентуре, имеют место какие-то странные ночные посиделки на конспиративной явочной квартире, да еще и в оккупированной немцами стране! А как немцы вышли на эту явочную квартиру разведки? Да все по тому же пресловутому национальному или этническому признаку. Вместе с шифровальщицей Софией (Зосей) Познанской в квартире на улице Атребат, дом 101, поселилась ее подруга, связник Рита Арну (Арнольд), которая была любовницей по сути нелегального амстердамского торговца бриллиантами Исидора Шпрингера и, одновременно, его доверенным лицом по достаточно темным делам этого бизнеса. Что само по себе уже было грубейшим нарушением правил конспирации в разведывательной работе. Но ведь в этой квартире (на вилле) проживали еще и радисты Давид Ками и Иоганн Венцель… Не заметить совместного проживания в одном помещении двух красивых молоденьких девушек явной семитской внешности в период немецкой оккупации Бельгии, да еще в теплой компании двух бодрых и видных молодых мужичков — это для бельгийского обывателя, как непременно сказал бы в подобном случае покойный Владимир Александрович Крючков — «невозможная вещь»! Уже вскоре соседи заподозрили существования у них под боком «подпольного еврейского борделя», который достаточно часто посещают какие-то посторонние люди, и сразу же «стукнули» об этом в полицию. Полиция нагрянула как-то вечерком на эту виллу и обнаружила в ходе обыска в потайной комнате передатчики, коды, шифры, фальшивые документы и прочие жизненно необходимые для целей шпионажа предметы. Ну, а дальше гестапо «папаши Мюллера», долго не раздумывая, пошло прямиком «по еврейскому следу». И в целом не ошиблось, арестовав и посадив в тюрьму свыше ста человек, так или иначе причастных к осуществлению разведывательной деятельности «Красной капеллы».
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
