
Бесплатный фрагмент - ТОТ СВЕТ
Или Государства и империи Луны
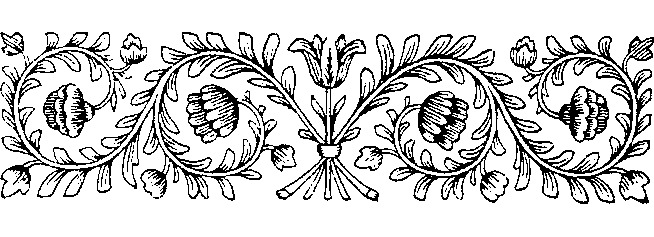
Коротко об авторе
Историк французской литературы Фаге начинает обзор жизни и творчества Сирано де Бержерака следующими словами: «Я переходу теперь к очень странному человеку, в жизни которого не мало загадок, а в произведениях — не мало преднамеренных темных мест».
О Сирано можно утверждать, что он не то чтобы мало известен, но среди французских писателей первой половины ХѴІГ века, он представляется трудно уловимой фигурой. И его облик и его общее значение в эту переходную эпоху, предшествовавшую «классическому» расцвету французской литературы, остаются не вполне выясненными. Даже не во всех курсах и обзорах французской литературы можно найти страницы, посвященные нашему писателю.
Все его сочинения обнимают, вместе взятые, не более трех небольших томов, а между тем как велико их разнообразие! Мы найдем здесь и талантливо написанную комедию, наделавшую при своем появлении скандал, потому что Сирано изобразил в ней в смешном виде своих учителей, не потрудившись даже сколько-нибудь утаить их имена, трагедию, которую считают не ниже произведений знаменитого Корнеля, сатиры и памфлеты на современников, задорные, смелые и остроумные и наконец полу-философские, полупублицистические произведения, изобличающие глубокий и пытливый ум автора; к числу их принадлежит и «Иной свет или комическая история о государствах и империях Луны», перевод которой предлагается в настоящем издании.

До конца своей недолгой писательской деятельности Сирано не мог устояться, не мог избрать себе определенной литературной стези, как это умели делать другие, часто менее даровитые его современники. Он не нашел определенного места и в оценке историков французской литературы. Самое имя его связывается в настоящее время даже у его соотечественников не с литератором-мыслителем XVII века, а чаще всего с образом разгульного гасконца, дуэлиста и бреттера, каким его выставил в конце XIX века французский поэт Эдмон Ростан в названной им по имени героя, блестяще написанной, но поверхностной по содержанию комедии.
Среда, из которой происходил Сирано, и обстоятельства его мятежной и рано оборвавшейся жизни помогут нам уяснить себе важнейшие черты литературного талантливого неудачника.
Савиниан де Сирано родился в 1619 году в Париже. Детство его до 12 лет протекло в «замке», точнее, по-видимому, в небольшом имении или хуторе Мовьер, принадлежавшем его отцу и расположенном близ маленького местечка Шеврез (Chevreuse) в 20—25 километрах к юго-западу от Парижа. Кстати о его фамилии, которая долго давала повод к разным недоразумениям, заставляя даже французов считать его южанином и щедро награждать его теми чертами экспансивности и хвастливости, какие французы склонны присваивать каждому гасконцу. Родовое прозвище семьи было Сирано; Сирано принадлежали к дворянству, по-видимому, довольно старому, но давно и безнадежно обедневшему.
Маленькое поместье Мовьер (Mauvieres), который владел отец нашего писателя, давало ему повод величать свой хутор замком — «Шато», а себя его сеньером и назваться Сирано де Мовьер. Но Мовьер, как это повсюду и часто бывает с сельскими местностями, носил и другое название — Бержерак, полученное от прозвища семьи, вероятно, действительно гасконского происхождения, владевшей этим местом в XVI столетии. Когда Савиниан де Сирано вырос и вступил в жизнь, то, хотя «замок» Мовьер-Бержерак был уже давно продан, он, согласно распространенному в то время обычаю, стремясь повысить свое социальное положение, присоединил к своей фамилии прежнее название не принадлежавшего ему больше поместья и стал называть себя Сирано де Бержерак. Все эти, правда, очень сами по себе мелкие и неважные обстоятельства были выяснены только в наше время. Непосредственным же следствием принятия прозвища «Бержерак» было для Сирано то, что многие, по-видимому, из его современников и во всяком случае люди позднейших поколений стали считать его гасконцем, и в образе гасконца увековечил его в наши дни и Ростан.
На самом деле Сирано был северный француз, по рождению парижанин из захудавшей и мелкой дворянской семьи, потерявшей свою экономическую базу, но сохранявшей кое-какие права и кое-какие претензии и устремления. Франция в то время переживала распад феодального строя; еще в XVI веке дворянство, покидая свои старые гнезда, даже если они не были разоренными, стало тянуться к двору самодержавного короля; двор сделался притягательной точкой для командующего класса и остался ею до самой революции. Однако, чтобы проникнуть ко двору и удержаться там, необходимы были и связи и деньги. Как ни многочислен был круг французского придворного дворянства в XVII и XVIII веках, далеко не все потомки прежних феодалов в него вошли. За пределами этого заколдованного мира чудес, неотразимо манившего к себе едва ли не всех, которые по рождению считали себя принадлежащими к правящему классу, немалое количество дворянских семейств шли иным эволюционным путем: беднея, они понижались в социальном отношении, отставали от своей традиционной среды и составили социальную прослойку между дворянством придворным, имевшим перед собой еще полуторавековую будущность, и городской буржуазией, которая переживала в то время эпоху накопления своих экономических и социальных сил. К этой-то именно прослойке и принадлежал Сирано. Его мать была из буржуазии; отец, мелкий дворянин, постепенно разорялся в течение всей своей жизни. Как дворянин по происхождению, Сирано мог в 1639 году поступить солдатом в королевскую гвардию; но бедность и отсутствие связей заставили его два года спустя оставить военную службу. Крепких связей с буржуазией у него не было вовсе, не было у него, по-видимому, и тяги к ней. Оторванный от какой-либо твердой социальной базы, Сирано не мог или не умел создать ее своей деятельностью и до конца остался ярким представителем той меж-классовой прослойки, в которой он родился. Уже это обстоятельство должно было вызвать в нем склонность к недовольству, к критике существовавших порядков, даже к бунтарству. То, что Сирано был талантлив, предприимчив, стремился к привольной блестящей жизни и, кроме того, получил довольно хорошее по тогдашнему времени образование, должно было неминуемо усилить настроения, заложенные в нём его классовой принадлежностью.
Сирано был вторым сыном своих родителей; по обычаям, господствовавшим во всех дворянских семьях того времени, его ожидало или духовное звание или военная служба. 7-ми лет его отдали учиться грамоте и латыни у местного священника; 12-ти лет его отправили в Париж стипендиатом в Коллеж де Бове — одну из закрытых школ, состоявших под ведением университета. В преподавании здесь царствовали еще чисто средневековые порядки, соединенные с почти монастырским уставом: с утра до вечера службы и молитвы, перемежавшиеся с долбежкой грамматик и текстов, латинских и греческих. Эго была настоящая бурса с грубым обращением и жестокой поркой за малейшие проступки. Покорные н слабые ученики сохли и хирели, здоровые, сильные юноши, а Сирано принадлежал к числу таких, вырастая, сами искали выходов из тяжкой обстановки, убегая из школы, участвуя в кутежах и попойках и наполняя в ночное время криком и весельем улицы «Латинского квартала». Впрочем, Сирано не только занимался проказами; любя чтение и стремясь учиться, он вынес из школы отличное знакомство с античной литературой. Из школы же, с ее монастырскими порядками, вынес он, вероятно, и враждебные отношения к католической церкви, пронизывающие его литературные произведения.
В 1637 году Сирано распростился со школой; он принадлежал к числу людей, которые, жаждут, чтобы двери жизни растворялись перед ними широко. Но разочарование ожидало его на первых шагах. Оторванный все время от семьи, он, видимо, плохо знал ее незавидное материальное положение и был неприятно поражен тем, что, продав свой «шато»в Мовьерс, отец со всей семьей переселился на дальнюю окраину и приютился в скромном наемном помещении.
Все же кое-какие деньги у отца еще были и последний снабдил семнадцатилетнего юношу всём необходимым для первых шагов самостоятельной жизни в Париже и обещал платить ему небольшую сумму денег до тех пор, по крайней мере, пока молодой человек не станет на ноги. Жить с родителями Сирано отказался под предлогом того, что они обитали слишком далеко от центра городской жизни. В нем боролись две склонности — стремление продолжать образование и выйти на литературное поприще при нежелании связывать свою свободу и желание войти в высший придворный свет при полной почти невозможности этого достигнуть, ибо весь круг его знакомства ограничивался его прежними товарищами по школе да кое-какими семьями из буржуазии, к которым он чувствовал полное презрение. Единственным, довольно тусклым окошком в ту светскую жизнь, о которой Сирано так мечтал, был маленький салон баронессы де Невильет, дальней родственницы Сирано, жены капитана королевской армии; здесь Сирано научился кое-чему по части мужских и женских мод, а главное узнал, что будто бы лучшим средством проникнуть в светское общество было прослыть дуэлистом. Он ревностно занялся фехтовальным искусством и позднее достиг известности на этом поприще, но в светские круги все-таки не попал. Жизнь молодого человека протекала главным образом все в том же «латинском квартале», где он провел свои школьные годы, в обществе молодых поэтов и писателей, по большей части столь же мало устроенных в жизни как и он. В первый год его независимого существования его, кажется, чаще всего можно было найти в бесчисленных дешевых тавернах и кабачках, где за стаканом вина, велись бесконечные разговоры о поэзии, о философии и о жизненных удовольствиях. Можно думать, однако, что разговоры эти не были совсем праздными. Именно в таверне, за бутылкой Сирано впервые узнал от своих собратьев литераторов и молодых ученых о Фоме Кампанелле, его жизни, страданиях в тюрьме и его идеях. Что молодые французы именно в это время знали о Кампанелле и интересовались им, это не должно пас удивлять: ведь последние годы своей жизни (1634—1639) знаменитый итальянский философ-утопист провел на покое во Франции, где после тюрем итальянской инквизиции получал пенсию от кардинала римской церкви и всесильного правителя Франции — Ришелье. Идеи Кампанеллы глубоко запали в душу Сирано и несомненно оказали влияние на его философское п политическое мышление, как оно выразилось в его позднейших произведениях.
Тщетность попыток пробиться в высшее столичное общество была первым разочарованием молодого Сирано. Второе пришло со стороны семьи, отношения с которой не были у него ни теплыми, ни оживленными. В один прекрасный день, в 1637 году, отец заявил ему что он прекращает выдачу того небольшого содержания, которое составляло, в сущности говоря, единственный определенный источник существования молодого Сирано. Он сказал ему при этом, что он недоволен его поведением, что материальные обстоятельства не позволяют ему поддерживать сына-тунеядца, который и не помышляет избрать себе определенное поприще деятельности, и что он предпочитает усилить денежную поддержку своему старшему сыну, усердно изучающему богословские науки и готовящемуся к духовному званию. Отметим это последнее обстоятельство: удар был нанесен не только отцом, но косвенно и церковью; деньги, которые Сирано получал, должны были теперь идти брату, которого наш герой считал дураком п ханжой. Отношение Сирано к церкви и ее служителям, определившееся еще на школьной скамье, не могло измениться в положительную сторону. Атмосфера, господствовавшая в семье Сирано, может быть иллюстрирована еще одним эпизодом. Два года спустя младшая и единственная его сестра постриглась 16 лет в монахини.
Приходилось подумать об определенных занятиях. Наука и литература не могли обеспечить начинающего поэта. Что же оставалось молодому дворянину кроме военной службы? Ведь при удаче можно было стать не только героем, не только добиться определенного социального ранга, но и получить доступ в тот круг общества, который все еще не переставал манить Сирано. Поступление в военную службу облегчалось тем, что солдаты были очень нужны; Франция только что приняла активное участие в Тридцатилетней войне и первые военные действия были далеко не удачны. Сирано, как дворянин, имел право поступить в королевскую гвардию; его определение на службу дало, как кажется, впервые повод считать его гасконцем: он был принят в роту, состоявшую из гасконских кадетов, т. е. младших сыновей местных дворян; ее командир, зачисляя Сирано де Бержерака на службу, по-видимому, чистосердечно считал его за земляка, благодаря принятой молодым Сирано второй фамилии.
И военное поприще не принесло больших успехов нашему герою. За два неполных года военной службы он нажил лишь две раны — одну на восточной границе Франции, другую при осаде г. Арраса, входившего в те времена в состав испанских Нидерландов. И военные подвиги, и слава, и блестящая карьера, которая бы открыла для Сирано двери аристократических домов — всё оказалось несбыточными мечтами. Оправившись от второй, очень тяжелой раны в лицо, отчего его огромный нос стал казаться еще длиннее, Сирано двадцати двух лет от роду вышел в отставку. Сбросив военный мундир, он вернулся в свой родной Париж и зажил прежней жизнью литературной богемы, проводя время в тавернах, стараясь поправить свои печальные денежные обстоятельства игрой в ожидании, когда какой-нибудь случай определит его жизненный путь. Продолжая поддерживать некоторые связи с товарищами по полку, приезжавшими отдохнуть в Париж, Сирано более всего вращался в обществе таких же, как и он, полунищих литераторов, сочиняя стихи среди винных паров таверны и выпивая на пари по нескольку стаканов вина при каждой парной рифме. Если он и был широко известен чем-либо, так только своими постоянными ссорами и дуэлями, именно в это время утвердившими за ним славу чуть ли не первого драчуна и бреттера в Париже.
Однако, ни любовь к литературе, ни жажда учиться не оставляли Сирано в этот темный и бурный период его жизни. Именно к этой эпохе относится набросок его комедии «Проученный педант», герой которой Гранже был никто иной, как аббат Гранже, заведывавший той школой, где Сирано провел свое отрочество. Впрочем главное значение первой половины 40-х годов ХVІІ в. в жизни Сирано заключается не в этом. По возвращении в Париж он быстро сдружился с молодым поэтом Шапеллем, который ввел его в ученый кружок, собиравшийся в доме его отца, Здесь Сирано познакомился с знаменитым критиком Аристотелевой философии и поклонником Эпикура — философом Петром Гассенди, взгляды которого, воспринятые Сирано, наложили неизгладимую печать на позднейшие утопические произведения нашего писателя. Знакомство с Гассенди состоялось весною 1641 г., когда Гассенди, переселившись в Париж, принял руководство над учеными занятиями молодого Шапелля и должен был прочесть ему курс лекций по философии в уютной обстановке пригородного имения отца молодого человека. К лекциям, быть может, в видах соревнования, должны были быть допущены и некоторые друзья и товарищи Шапелля. Среди первоначального списка избранных Сирано не было. Он сам явился в загородный дом, где поселился Гассенди, и потрясая шпагой, осыпая упреками своего друга Шапелля за то, что он укрывает от него учителя, и пересыпая сетования остроумными словечками, добился наконец своего: почтенный философ, сначала испугавшийся бурного натиска необузданного поэта, разрешил последнему слушать свой курс. Сирано смирился и стал внимательным и прилежным слушателем Гассенди. Отметим, мимоходом, что товарищем Сирано и Шапелля, среди небольшого кружка молодых людей, допущенных к слушанию приватных лекций Гассенди, был и девятнадцатилетний Жан Покелен, позднее приобревший мировую славу под литературно-артистическим псевдонимом Мольера. В приватном курсе Гассенди, надо думать, чувствовал себя свободно и мог развивать, не стесняясь церковной цензуры, свое учение, систематическое изложение которого — Syntagma philosophicum — было опубликовано только после его смерти. Философия Гассенди привлекала Сирано прежде всего беспощадной критикой Аристотеля. Наш писатель еще в своей школе-бурсе возненавидел философию последнего, по крайней мере в той форме, в какой она преподносилась, пройдя сквозь призму церковно-схоластического средневекового восприятия. Протест против того же умения Сирано усмотрел и у Кампанеллы. Не менее привлекательным для Сирано было и положительное учение Гассенди, излагаемое с необыкновенной ясностью и простотой. Материалистическое и сенсуалистическое учение Эпикура, в ясной и доступной форме передаваемое Гассенди своим ученикам, нашло в Сирано добрую почву. Ненависть Сирано к церкви и к официальной спиритуалистической философии католицизма, усвоенная им на школьной скамье и подогретая в нем ханжеством всей его родни, доставлявшей ему столько досады и неприятностей, заставляла его впитывать материалистические идеи учителя и даже может быть идти далее последнего. Во всяком случае, в своей философской утопии о «Луне», написанной в конце 40-х годов, Сирано выступает как ясно выраженный материалист.
Так окончательно сложилось философское миросозерцание молодого Сирано. Уроки и лекции Гассенди он слушал, когда ему было всего 22—23 года, т. е. в возрасте, когда человек еще только формируется, когда его нравственный облик только складывается. Ноты протеста против официальных кумиров, которые до того Сирано высказывал в своих стихах, в своих письмах, в своей комедии, носили хаотический характер; теперь они подверглись шлифовке и отлились в более стройную схему. Оставалось решить, как воспользуется приобретенным этот литератор-цыган; сумеет ли он стать тем, чем ему предназначено было быть — популяризатором усвоенной им философской системы, сумеет ли он наконец специализоваться и, избрав какой-нибудь единый литературный путь, распространить в более широком круге читателей материалистические основы учения Эпикура, научно модернизованные в доступных лишь для немногих, а частью и неопубликованных ученых трактатах Гассенди.
Прежде чем ответить на этот вопрос, приходится в коротких словах остановиться на одном эпизоде жизни Сирано, легшем тяжелым камнем на все остальное его существование и несомненно, сильно сократившем его дни. Все, что мы знаем о личной жизни нашего писателя, вполне гармонирует с его обликом поэта таверн и бреттёра. Необузданность, легкомыслие и непостоянство — вот свойства, которыми определяется эта жизнь. Неудивительно, что эти свойства привели поэта к катастрофе. В 1645 г. Сирано тяжко заболел недугом, радикально излечивать который медицина научилась только в наше время. Спасительный сальварсан не существовал во времена бедного Сирано. Пролежав несколько месяцев в лечебнице доктора Пигу, Сирано вышел из нее в 1646 г., залечив, насколько в то время было возможно, свою тяжелую болезнь; он вышел из больницы слабый, худой и облысевший; истратив все те немногие деньги, какие у него были, он не был в состоянии даже расплатиться с врачом. Довольно долго он скрывался в своей одинокой и пустой квартире, чуждаясь старых друзей и боясь с ними встретиться. Лишь постепенно сошло в его душу успокоение и он вновь мог приняться думать о жизни. Молодость, здоровье, а с ними и ничем необуздываемая веселость были позади. Жизнь приходилось перестраивать заново и перестройка была не из легких. Последние 9 лет своей жизни Сирано прожил другим человеком. С потерей здоровья исчезли таверны, попойки, дуэли, веселые мысли, веселые песни и стихи, исчезли окончательно и мечтанья о большом свете. Сирано становится домоседом и может быть поэтому в отношении писательской продуктивности годы после болезни стоят неизмеримо выше, чем годы здоровья и веселья. Прежде всего Сирано отделал свою комедию, начатую в начале 40-х годов; затем наступила работа над «Государствами и империями Луны» и выступление Сирано на поприще политической сатиры в качестве автора «Мазаринад», затем работа над трагедией «Смерть Агриппины» и над последним трудом — о путешествии на Солнце, — который автор оставил не оконченным.
Прежде чем охарактеризовать этот наиболее плодотворный период творчества нашего писателя, нам следует остановиться на очень, правда, немногочисленных внешних событиях последних лет его жизни.
В тяжелом положении, в каком он оказался после болезни, Сирано вновь пришлось обратиться за материальной помощью к отцу, но отец, еще более обедневший, был сам на краю могилы. Старшин брат Сирано уже умер к тому времени и писателю пришлось переселиться в дом отца, чтобы обрести самому более или менее спокойный угол и присмотреть, чтобы у немощного старика не расхитили последние крохи. Когда в 1648 г. старый Сирано де Мовьер наконец умер, на долю его сына, после раздела с младшим братом, досталась небольшая сумма в 10.000 франков. Так как писательская деятельность приносила ему столь же мало дохода, как и ранее, то в начале 50-х годов Сирано решился изменить себе и, по довольно распространенному в то время обычаю, найти себе официального покровителя среди богатых и тщеславных аристократов, который бы издавал его труды и поддерживал его материально в обмен на приветственные стихотворения и оды, подносимые писателем в торжественных случаях и по заказу покровителя. Для Сирано это был тяжелый шаг; не раз представлялись ему ранее случаи закабалить себя таким образом, но любовь к свободе, чувство собственного достоинства и чувство протеста, которые глубоко засели в нем издавна, отклоняли его до тех пор от такого шага; нужда и болезнь переломили его гордость. А здоровье все падало; по словам одного из его друзей в 33 года ноги его «тонкие как веретена», плохо повиновались ему, «а волосы на голове были так редки, что их можно было перечесть». Но и покровитель не принес пользы; больной Сирано тяготился своей зависимостью, а покровитель, герцог д’Арпажон, тяготился больным и раздражительным поэтом, слава которого не была по мерке тщеславия надутого мецената. Разлука, может быть, даже со скандалом, была не за горами. Как-то раз Сирано возвращался вечером в дом своего покровителя, где он в то время жил; по дороге он был ушиблен балкой, упавшей со стропил дома, мимо которого он проходил. Поднятый замертво, он был перевезен к друзьям. Как и по какой причине упала на него балка, было ли это случайностью или нет, — осталось не выясненным. Разнесся слух, что это была месть иезуитов за выпады Сирано против церкви, но слух так и остался слухом; проверки его не было. После ушиба Сирано уже не поправился. Он прожил несколько месяцев, слабея с каждым днем; в последние недели он почти все время молчал; молчанием встречал он и уговоры родственников, убеждавших его помириться с церковью. Он умер 23 июля 1655 г. 36 лет от роду.
Последние 9 лет жизни Сирано, годы, когда здоровье постепенно слабело и нашему писателю поневоле пришлось переменить образ жизни, были, как уже сказано, наиболее плодотворными годами его литературной деятельности. До тех пор многое было начато, набросано, но ничего, кроме мелких стихотворений и нескольких писем-памфлетов, не было закончено. Как это ни странно, до 1616 г. Сирано не напечатал ни одной строчки. Теперь, когда остыли страсти, он принялся за работу, все его печатное наследие — результат его трудов в эти годы недугов. В нашу задачу отнюдь не входит анализ всех разнообразных произведении Сирано. Мы остановимся только на тех, которые дают ключ к пониманию общего облика его личности. Мы выше уже упомянули о его комедии, которая была закончена им в 1646—47 гг. Ее представление вызвало скандал, когда увидели, что в герое выведен заведующий коллежа Бовэ. В насмешке над почтенным аббатом видели насмешку над церковью. Репутация Сирано как врага и ненавистника католического духовенства блестяще подтверждалась. Несколько лет спустя, в 1653 г. была представлена трагедия Сирано «Смерть Агриппины», литературные достоинства которой заставляют историков французской литературы сближать ее с произведениями Корнеля. Трагедия была поставлена на средства герцога д’Арпажона. Сирано ждал славы; его враги, зная, что в трагедии есть резкие выходки против церкви и духовенства, ждали представления, чтобы свести счеты с автором. В третьем акте, придравшись к месту, которое никоим образом не имело в виду церковь, но могло быть, при желании, истолковано как прямое на нее нападение, враждебная автору группа подняла свист, представление было прекращено и трагедия снята со сцены. И здесь репутация Сирано сыграла с ним злую шутку.
Однако, главным литературным делом Сирано в эти годы была его работа над философскими утопиями — «Государствами Луны» и «Государствами Солнца». Первая из них была написана между 1647 и 1650 гг., перевод ее предлагается в настоящем издании. Анализ основных философских и политических идей дан в особой вступительной статье В. Ижевского. Здесь я лишь в самых коротких словах коснусь её содержания, чтобы можно было нагляднее сопоставить его с содержанием «Государств Солнца». Автор чудесным образом поднимается на Луну, которая является таким же обитаемым миром, как и Земля. На Луне он прежде всего попадает в тот земной рай, откуда когда-то был изгнан Адам. Здесь он встречает взятых туда живыми Эноха и Илию, и находит древо жизни и древо познания, но за непочтительные речи изгоняется из рая и попадает во власть четвероногих жителей Луны. В их среде он переносит тяжелые испытания, переживает приключения и, наконец, неожиданно и внезапно опускается на землю в Италии. Скитания автора среди жителей Луны под покровительством сверхъестественного существа — «демона Сократа» дают ему повод высказывать свои философско-материалистические взгляды, покоящиеся на учении Гассенди.
«Государства Луны» было готово в 1650 г. По своему обыкновению Сирано читал в рукописи свое произведение друзьям, но среди этого узкого круга читателей «Государства Луны» большого сочувствия не встретили. Это не помешало Сирано приняться за второй утопический трактат о «Государствах Солнца», задуманный по гораздо более обширному плану, чем первый. Над ним он работал до самой смерти и оставил его неоконченным. Здесь повествование также ведется от лица автора. После довольно продолжительного путешествия по различным странам земли, при рассказе о которых нередко встречаются интересные вставки и замечания автобиографического характера, и выпады против народных верований, церкви и суда, птицы несут автора на солнце, на котором, как и на Луне, обитают живые существа. Прежде всего он попадает в царство живых деревьев; затем переносится в царство птиц, это наиболее разработанная и интересная часть трактата. Прием, который он встречает, не ласков; при дворе царя птиц — орла его даже приговаривают к смерти, от которой он однако спасается в третье царство — царство философов, где встречает почитаемого им Кампанеллу. Тут начинается изложение философских мыслей автора, в основе которых, однако, лежит не столько доктрина Гассенди, сколько учение Декарта. На разговорах в царстве философов трактат обрывается.

От своих утопий Сирано ожидал признания и славы еще больше, нежели от своей трагедии. Но и здесь его постигла неудача. Интерес к его трудам обнаружился лишь после появления посмертного издания обоих трактатов в 1657 году.
Нам необходимо остановиться еще на одной последней категории сочинений Сирано — его письмах и памфлетах, по большей части содержащих насмешливые и резкие выходки против современников — политических деятелей, литераторов, даже против таких лиц, с которыми наш автор долго дружил, но которые, став жертвою его злобного остроумия, становились его врагами. Свои письма и памфлеты Сирано писал еще в молодых годах и продолжал писать до самой смерти. Они первоначально циркулировали в рукописях, передаваясь из рук в руки, и только после его смерти были собраны и изданы, потеряв к тому времени соль и остроту современности. Можно сказать с полной достоверностью, что именно эти письма-памфлеты создали Сирано множество скрытых недоброжелателей и открытых врагов, которые, мстя ему, много содействовали его литературным неудачам. Пользуясь его очень часто неосторожными выпадами против традиционных установлений, особенно против церкви и духовенства, они создали ему определенную репутацию подозрительного в опасного человека, встречали его произведения клеветой или замалчивали их.
Среди памфлетов Сирано есть одна особая категория, которая позволяет лучше всего определить его идеологию в последние годы жизни. Это его памфлеты — стихотворные и прозаические, направленные против первого министра и правителя Франции в малолетство короля Людовика ХIV — кардинала Мазарини.
Годы медленного умирания Сирано были эпохой так называемой Фронды. Это не очень кровопролитное и не очень жестокое революционное движение интересно в истории Франции тем, что в нем, правда на короткое время, против централизующей и бюрократической самодержавной монархии, управляемой кардиналом Мазарини, объединились самые различные классы общества: и остатки старой феодальной знати, и хранители старых буржуазных традиций — парламенты, и пролетариат Парижа, и столичная междуклассовая интеллигенция. Одним из орудий борьбы было осмеяние кардинала: на него посыпался град сатир и памфлетов, в которых участвовали парижские литераторы, по большей части происходившие, как и Сирано, из междуклассовых прослоек, одинаково враждебных по существу и дворянству, и буржуазии, и правительственной бюрократии. Среди сочинителей памфлетов против Мазарини — получивших оставшееся за ними в истории имя «Мазаринад» — не последнее место принадлежит Сирано. В 1648 году он выступил с длинной стихотворной Мазаринадой, озаглавленной «Прогоревший государственный министр»; за нею последовали другие: «Бескорыстный газетчик», «Современная сивилла», «Верный советник» и «Ремонстрации трех сословий королеве-регентше», написанные смело, ярко, талантливо. Сатира была тем видом литературных произведений, который был особенно свойственным насмешливому и колкому уму Сирано. В сатире он выступал как боец, видящий в противнике смешные стороны и безжалостно бичующий их. Но он бичует их не в интересах какого-нибудь определенного класса; он старается своим пером просто уничтожить врага, отражая тем самым идеологию отрицания, свойственную междуклассовой интеллигентской прослойке, представителем которой Сирано оставался во всю свою жизнь. В молодые годы он старался пробраться ко двору; это ему не удалось. Позднее он силился сохранить свою независимость; не удалось ему и это. Озлобленный неудачами он давал выход своей желчи, поражая памфлетами врагов, и согласился лишь в силу болезненной беспомощности принять субсидию от аристократа-покровителя. Свои положительные идеалы он излагал в утопиях, писанных в годы недугов и душевных разочарований. И в этих произведениях критика действительности — на первом плане; все остальные его литературные произведения столь же явно изобличают в нем протестующего отрицателя господствующего строя. Если по форме своих утопий Сирано тянет к более ранней эпохе, то по содержанию своих произведении он принадлежит уже ХVІІІ в.; сенсуалист, антирелигиозник, ополчающийся против ходячей морали, в которой он видит лишь орудие властвования командующих классов, он может считаться предшественником или старшим братом французских просветительных писателей, предшественником революции. Свободная критика и независимая мысль начала развиваться во Франции, как впрочем и в других культурных странах Запада, в XVI веке. Она расцвела в XVIII столетии. С конца XVI века она как будто заслоняется католической реакцией с одной стороны, воинствующим кальвинизмом с другой. И все-таки, если всмотреться ближе, тонкая непрерывная цепь связывает Раблэ с Вольтером и Руссо. Одним из звеньев этой цепи был Сирано де Бержерак.
* * *
Нам остается сказать несколько слов о некоторых дополнительных источниках утопии Сирано о «Государствах Луны», о форме, приданной им своему трактату и о последовательных изданиях этого трактата в течении почти трех столетий, протекших с того времени, как автор закончил свой труд. Мы не касаемся здесь основных философских и политических мыслей, изложенных Сирано в своем трактате; вкратце мы отметили их выше, подробный анализ их читатель найдет в статье В. И. Невского. Но учение Гассенди и критика современности не исчерпывают собою того, что можно сказать о содержании и источниках утопии Сирано. Еще в школе, в «Коллеж де Бове», Сирано жадно пожирал античных писателей. Весьма вероятно, что то большое значение, которое он в своих обоих трактатах отводит птицам, восходит к известной комедии Аристофана. Нам хорошо известно с другой стороны, что особой любовью Сирано еще на школьной скамье пользовались сочинения Лукиана, греческого писателя II века до н. э. В одном из его сочинений, «Правдивой истории», говорится о путешествии человека на Луну, и эта идея могла найти себе отражение в творческом замысле нашего писателя.
Сама по себе форма «утопии», какую Сирано придал своим обоим трактатам, не должна нас удивлять. Классическая «Утопия» Томаса Мора и «Государство Солнца» Кампанеллы достаточно хорошо показывают, как охотно пользовались этой формой писатели предшествовавшей Сирано эпохи, особенно когда хотели изложить свои мысли несколько прикровенно. Кроме двух сейчас упомянутых, всемирно известных утопических трактатов, появлялись и многие другие, память о которых хранят теперь только историки книги. Один из подобных трактатов, оказал, однако, непосредственное влияние на нашего автора. Среди лиц, встреченных Сирано на Луне, после того как он изгнан был из рая, упоминается никому не известный среди действительно живших на земле людей, некий испанец Доминго Гонзалес. Это имя является ключом к объяснению некоторых литературных заимствований, сделанных Сирано. В 1638 г. в г. Перте, в Шотландии, было издано сочинение английского епископа Френсиса Годуина, «Человек на Луне или рассказ о путешествии туда, совершенном Доминго Гонзалесом». В сочинении Годуина рассказывается о том, как севильянец Гонзалес, сражавшийся в Нидерландах и благополучно вернувшийся домой, должен был вследствие какого-то поединка бежать в 1596 г. в Индию. Нажив там хорошее состояние, он на обратном пути заболел и был высажен на острове св. Елены. Выздоровев и ведя на острове жизнь Робинзона, Гонзалес занимается дрессировкой диких лебедей. Последние переносят его на остров Тенериф; здесь, спасаясь от туземцев, он при помощи лебедей поднимается на вершину Пико де Тенерифа, откуда те же лебеди уносят его все выше и выше и наконец переносят на Луну. Следует описание лунного мира и похождений Гонзалеса. Населяющие его существа говорят особым языком, в котором слова заменяются музыкальными звуками — точь в точь как это происходит у жителей луны, выводимых Сирано. Смерть лунного жителя есть праздник и для него и для его окружающих: и эту мысль развивает Сирано в своем трактате. Те же лебеди возвращают Гонзалеса на землю, и опускают его в Китае, откуда он на этот раз уже вполне благополучно возвращается в Испанию. Этого именно Гонзалеса Сирано выставляет как одного из людей, встреченных им самим на Луне, и как одного из своих руководителей в мире странных и враждебных существ, которых он там встретил.
Сочинение Годуина имело некоторый успех. Во всяком случае в 1648 году появился французский его перевод, исполненный Жаном Бодуэном, одним из первых членов Французской Академии, незадолго перед тем учрежденной Ришелье. Что Сирано знал сочинение Годуина и воспользовался им для некоторых деталей, это несомненно. Возникает лишь вопрос, читал ли он его в подлиннике или познакомился с ним во французском переводе. Если принять во внимание, что «Государства Луны» были закончены в 1650 году, то ничто не мешает предположить, что он имел полную возможность воспользоваться переводом Бодуэна. Один из новейших биографов Сирано — Лефевр высказывает даже предположение, что первое знакомство с сочинением, носившим заглавие почти тождественное с тем, которое он думал дать своему собственному труду, могло озадачить писателя-неудачника. Но затем он должен был успокоиться: сочинение Годуина не претендовало на ученость и не ставило себе целью проповедовать философские учения; его задачей было скорее пропагандировать среди англичан начинавшую у них развиваться любовь к заморским путешествиям. Сирано имел полное основание думать, что его трактат, полный научной мысли, уничтожит самое воспоминание о почти одноименной книге Годуина. Он взял из нее несколько отдельных черт и успокоился.
Говоря о тех литературных произведениях XVII века, которыми Сирано мог пользоваться, делая из них те или иные заимствования, следует отметить плодовитого автора повестей и романов, старшего современника Сирано — Шарля Сореля. Так из его «Причудливого пастуха» (Berger extravagant) он взял мысль о пользовании носом в качестве солнечных часов, а из длинного романа Сореля — «Франсион» (Francion) он заимствовал мысль об оплате мелких услуг и покупок произнесением стихов, сделав это общепринятым обычаем у обитателей Луны.
Если мы говорим об источниках и заимствованиях в трактате Сирано, то мы делаем это не для того, чтобы сказать, что произведение его не оригинально. Правда, он не дает в нем оригинальных философских построений, довольствуясь в «Государствах Луны» популяризацией идей Гассенди, но ведь в трактате — не одна только философия Гассенди; последняя обрамлена и пронизана сатирическими мыслями Сирано о действительной жизни, критикой современной автору Франции, полна отражениями наболевшей и озлобленной от неудач и болезней души этого писателя без твердой классовой базы. Эти черты делают произведение Сирано глубоко оригинальным; но произведение его сложно, даже несколько запутано; чтобы создать его, он должен был воспользоваться самыми разнообразными источниками, взять многое от более ранних мыслителей и литераторов. Мы видим теперь, на чьих плечах утвердилось и выросло его произведение.
Трактат о «Государствах Луны» был закончен около 1650 г. Однако напечатан он был, как впрочем и все почти произведения Сирано, только после смерти автора, стараниями старого приятеля Сирано — Лебре. О существовании издания 1656 г. можно заключить из привилегии на публикование сочинений Сирано, данной книгопродавцу Серси 20 декабря 1656 г. Об этом издании есть и другие определенные сведения, но не сохранилось ни одного его экземпляра. Издание исчезло бесследно: неудачи преследовали Сирано и после смерти. Для нас фактически самым ранним изданием «Государств Луны» является второе, вышедшее в 1659 году. Оно снабжено довольно нелепым предисловием Лебре, где последний старается защитить своего умершего приятеля от обвинении в антирелигиозности и тем обеспечить «Государствам Луны» мирное печатное существование. Текст трактата напечатан по рукописи, бывшей в руках Лебре; он носит следы многочисленных поправок и переделок, сделанных, вероятнее всего, рукою Лебре, который, таким образом, оказался и редактором сочинения Сирано. Цель редакционных поправок — все та же — по возможности очистить текст от таких мест, которые могли бы очернить «память автора и создать затруднения» издателю. Все последующие издания перепечатывались с издания 1659 г. Всего до конца столетия во Франции вышло 5 или 6 изданий как трактата о луне, так и других сочинений Сирано. С 1699 г. утопические трактаты, а также письма были неоднократно издаваемы в Амстердаме. Наконец, в XIX в. сочинения Сирано были изданы в Париже в 1858 г., под редакцией П. Лакруа; еще одно издание вышло в 1875 г.
Лишь в 1861 г. на аукционной распродаже одного книжного и рукописного собрания, происходившей в Париже,4 была впервые обнаружена рукопись «Государств Луны», поступившая затем в Парижскую национальную библиотеку. В 1908 г. в Мюнхенской королевской (ныне государственной) библиотеке был отыскан второй рукописный экземпляр интересующего нас произведения. Он, как оказалось, попал в Мюнхен в составе библиотечного наследия курфюрстов Пфальцских, которые в XVII в. были в культурном отношении тесно связаны с Францией. Сравнительное изучение обеих рукописей показало, что парижская является по всей вероятности одной из очень ранних копий еще не вполне отделанного труда, а мюнхенская — копией вполне отредактированной, вероятно одной из тех, которые Сирано распространил среди своих друзей после 1650 г. На основании этих двух рукописей, по сравнении их с традиционным текстом, восходящим к изданию 1659 г., редактированному Лебре, немецкий ученый Лео Иордан издал в 1910 г. критически проверенный сводный текст «Государств Луны», положенный в основу предлагаемого русского перевода. Текст другого утопического трактата Сирано «Государства Солнца» известен до сих пор только по первому печатному тексту 1662 г. и его позднейшим перепечаткам.
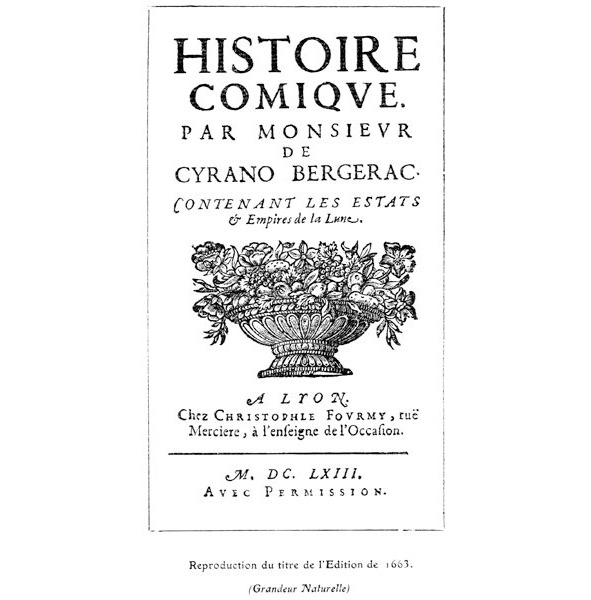
Предисловие Николая Лебре к первому изданию сочинения Сирано де Бержерака
Читатель, предлагаю тебе труд мертвеца, который возложил на меня эту работу; но ты должен знать, что это не обыкновенный мертвец, ибо он не окутан тем печальным саваном, который уносит из могилы тоскующая тень; он не испускает тщетных вздохов, не опрокидывает столов в комнате, не бряцает цепями на чердаке, он не тушит свечи в погребе, никого не бьет, не является в виде кошмара или сердитого монаха, словом не выкидывает ни одной из тех пошлых шуток, которыми, говорят, другие мертвецы пугают глупцов; наоборот, никогда он не был так весел. Подобный образ действий, столь необычайный для мертвеца и столь приятный, обезоружит, думается мне, самого мрачного критика и расположит его в пользу этого труда, ибо было бы сугубой низостью оскорбить тень, исполненную такого доброжелательства и такой заботы о развлечении живых. Но так или не так, будет ли критика к нему благоволить, или будет на него огрызаться, я убежден, что это нисколько его не смутит, тем более что единственное, что он из этого мира унес в иной мир, это веселое расположение духа. Ко всему остальному он совершенно нечувствителен, и какой бы удар ни нанесло ему злословие, он выйдет из этого обеленным.
Я нисколько не хочу (шутки в сторону) навязать кому бы то ни было свое собственное суждение: я слишком хорошо знаю, что чтение приятно только поскольку оно свободно, вот почему я считаю правильным, чтобы каждый судил о том, что читать в зависимости от силы или от слабости собственного ума. Но я прошу великодушные умы настроить себя в его пользу, исходя от той благоприятной для него мысли, что единственной его целью было развлечь читателя. Может быть поэтому он несколько небрежно отнесся к тем или другим местам, но о них не следует строго судить, ибо в таком случае легче будет оправдать ту осторожность, которая иначе показалась бы преувеличенной как с его стороны, так и с мое» и со стороны издателя.
Quid ergo?
Ut scriptor si peccaf, idem librarius usque
Quamvis esi monitus, venia caret.
Признаюсь, однако, что будь у меня время и не предвидь я крайних трудностей, я бы охотно пересмотрел все сочинение и тогда быть может оно показалось бы тебе более законченным; но я опасался внести в него путаницу или испортить его, если бы взялся за изменение принятого автором порядка пли за исполнение некоторых пробелов и если бы примешал к его стилю спой собсгиенный стиль, ибо мой меланхолический нрав не позволяет мне ни подражать его веселости, нп следовать за смелым полетом его фантазии; мое воображение гораздо более холодное и потому бесплодное. Подобная участь постигла почти все труды, изданные после смерти их авторов, и лицам, принявшим на себя труд их опубликовать, приходилось мириться с встречающимися в них пробелами из опасения (если бы они взялись за пополнение их), не согласоваться с мыслью автора. К числу таких трудов принадлежат и сочинения Петрония, однако, не перестаешь любоваться этими прекрасными отрывками, как не перестаешь дивиться остаткам развалин древнего Рима.
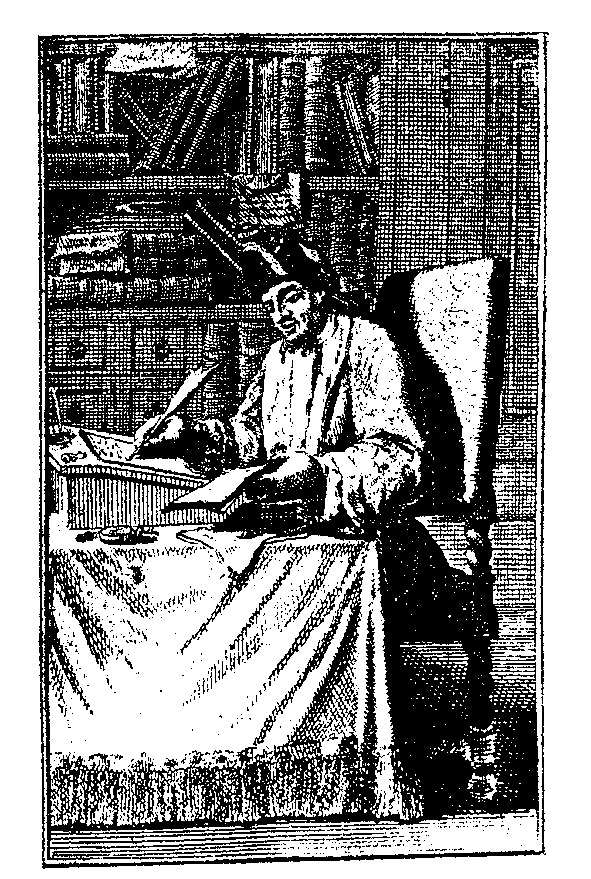
Возможно, однако, что, не принимая во внимание всего этого, критик, всегда верный себе в желании уклониться от упрека, которому мог бы подвергнуться, нападая на умершего, изменит лишь объект своих нападок и сделает меня ответственным за появление этой книги под тем предлогом, что я взял на себя труд ее опубликовать. Но я взываю к мудрецам, они конечно снимут с меня ответственность за деяния другого и не потребуют, чтобы я разъяснял смысл чистейшей игры фантазии моего друга, да и он сам не сумел бы дать им более обстоятельных объяснений, чем те, которые обычно дают романам и повестям.
В его пользу скажу только одно: а именно это фантастическое произведение вовсе не лишено всякого правдоподобия, ибо среди великих людей как древности, так и нашего времени, многие верили, что луна может быть обитаема, другие, что она действительно обитаема, третьи, более сдержанные, что она кажется им таковой. Занимая среднее место между темп и другими, Гераклит, утверждал, что луна это земля, окутанная туманом; Ксенофонт, — что она обитаема, Анаксагор, — что на ней есть горы, долины, леса, реки и моря, а Лукиан, что он видел там людей, с которыми вел беседу и с которыми воевал против жителей солнца, о чем он повествует, однако, с гораздо меньшим правдоподобием и с гораздо меньшим изяществом воображения, чем господин де Бержерак. В этом конечно современники опередили древних, ибо гуси, поднявшие на луну испанца, книга которого появилась несколько лет тому назад, бутылки наполненные росой, улетевшие ракеты и стальная колесница господина де Бержерака, все это измышления гораздо более интересные, чем корабль, на котором поднимался Лукиан. Наконец, среди современников назову отца Мерсенна, великое благочестие которого и глубокая ученость одинаково вызывали восхищение всех тех, кто его знал. Он выразил предположение, не есть ли луна такая же земля как наша, имея в виду при этом моря, которые на ней замечал, и думал, что воды, окружающие нашу землю, могли бы вызвать подобное же предположение со стороны тех, кто был бы удален от земли на шестьдесят земных радиусов, составляющих расстояние земли от луны. Это предположение может сойти даже за утверждение, ибо предположения такого великого человека всегда основаны на серьезных соображениях или, по крайней мере, на таких признаках, которые этому соответствуют. Гильберт еще определённее говорит о том же предмете, ибо он считает, что луна такая же земля как наша, но меньше ее, и пытается это доказать теми отношениями, которые существуют между той и другой. Анри Леруа и Франсуа Патрис держатся такого же мнения и очень пространно объясняют, на каких признаках они его обосновывают, утверждая, что луна и земля взаимно служат друг другу лунами.
Я знаю, что перипатетики придерживались другого мнения и что они всегда утверждали, будто луна не может быть землей, потому что на ней нет животных, что эти последние могли бы появиться на ней только через зарождение или тление, но луна нетленна, ее состояние всегда было неизменно и одинаково устойчиво и на ней не было замечено никаких перемен с начала мира и до настоящего времени. Гевелиус, однако, возражает им, что наша земля хотя и кажется нам тленной, тем не менее существует столько же времени сколько и луна, где также могло произойти тление, никогда нами незамеченное, так как оно могло иметь место в малых размерах и лишь на ее поверхности, как и то, которое происходит на нашей земле, где бы мы точно также не могли его заметить, если бы находились от земли на таком же расстоянии, в каком находимся теперь от луны. Он добавляет еще несколько соображений, которые подтверждает наблюдениями посредством телескопа собственного изобретения (наблюдения эти легки и просты); при помощи этого телескопа он открыл, что на луне части наиболее тусклые и наиболее яркие, как большие, так и малые, в точности соответствуют нашим морям, рекам, озерам, равнинам, горам и лесам. Наконец наш божественный Гассенди, столь мудрый, скромный и учёный во всех этих делах, занимавшийся этим предметом ради развлечения, как думаю и другие, писал в том же смысле как и Гевелиус, но прибавил, что по его мнению на луне есть горы, в четыре раза выше горы Олимпа, принимая ее высоту такой, какой дает ее Анаксагор, т. е. в сорок стадий, что соответствует приблизительно пяти итальянским милям.
Все это, читатель, показывает тебе, что на стороне господина де Бержерака стояло очень много ученых мужей, и как видишь, он тем более достоин похвал, что шуточно трактовал о вымысле, к которому они относились серьезно; действительно он отличался тем, что любил смеяться над всем тем и сомневаться во всём том, что большинство людей утверждает столь же упорно, сколь неосновательно, и я часто слыхивал, как он говорил, что на свете столько же шутов, сколько ему приходилось встречать Сидиасов (имя одного педанта, которого Феофил в своих комических отрывках заставляет драться на кулаках с неким юношей, упорно отстаивая, что odor in porno non erat forma, sed accidens. Господин де Бержерак считал, что именем Сидиаса можно обзывать всякого, кто спорит с таким же упорством о столь же бесполезных вещах.
Воспитание, полученное мною совместно с ним у доброго сельского священника, который держал маленьких пенсионеров, сблизило нас с самой ранней нашей молодости, и я вспоминаю, с какой ненавистью он относился еще с тех самых пор ко всему, что представлялось ему хотя бы тенью Сидиаса. У нашего учителя он находил с Сидиасом сходство, считая его неспособным научить нас чему бы то нп было; он так мало придавал значения его урокам и наказаниям, что отед его, добрый старый дворянин, довольно равнодушный к воспитанию своих детей и слишком доверчиво относившийся к жалобам своего сына, неожиданно взял его оттуда; не наведя никаких справок, будет ли сыну лучше в ином месте, он отправил его в Париж и оставил там без призора до 19-летнего возраста. Отчасти возраст, в котором человеческая природа так легко развращается, отчасти предоставленная ему полная свобода делать что ему вздумается, привели его на опасный путь, на котором, могу сказать, я его остановил; когда я по окончании учения и по требованию отца поступил на службу в гвардию, я настоял на том, чтобы мой друг вместе со мной вступил в роту господина де Карбон-де-Кастель-Жалу.

Дуэли, которые в то время казались единственным и самым быстрым средством приобрести известность, в несколько дней доставили ему такую славу, что гасконцы, которые почти целиком составляли эту роту, смотрели на него как на демона храбрости и насчитывали ему столько поединков, сколько дней прошло со времени его вступления.
Все это, однако, не отвлекало его от занятий, и я видел его однажды в кордегардии работающим над элегией столь же сосредоточенно, как если бы он сидел в своем кабинете, вдали от всякого шума. Некоторое время спустя он отправился на осаду Музона, где мушкетный выстрел пронзил ему грудь насквозь, а при осаде Арраса в 1640 г. он получил удар сабли в горло. Все лишения, которые он вынес во время этих двух осад, болезни, причиненные двумя тяжкими ранами, частые поединки, в которые он вовлекался благодаря репутации храбрости и ловкости, вследствие чего он был сто раз вызван (ибо не имел ни одной дуэли по собственному почину); отсутствие патрона, которому его свободолюбивый дух не позволял ему подчиняться и вследствие этого полная безнадежность когда бы то іш было приобрести почет; наконец его великая любовь к знанию, — все это заставило его окончательно отказаться от военного дела, ибо оно требует человека целиком и делает из него врага словесности столько же, сколько словесность делает человека приверженцем мира. В частности сообщу тебе о некоторых боях, которые не были поединками как, напр., бой, во время которого из ста человек, собравшихся у рва при Нельских воротах, чтобы среди белого дня оскорбить одного из его друзей, двое поплатились смертью, а семеро остальных тяжелыми ранами за злые свои намерения. Это может показаться вымыслом, но это произошло на глазах у многих знатных людей, достаточно громко об этом заявлявших, чтобы не оставалось никаких сомнений; однако, я не хочу на этом больше останавливаться, тем более что я довел свою речь до того времени его жизни, когда он покинул Марса, чтобы отдаться Минерве; я хочу сказать, что он с той поры совершенно отказался от каких бы то ни было должностей и что наука стала единственным его занятием, которому он и предавался до самой своей смерти.
Впрочем, его ненависть ко всякого рода зависимости не ограничивалась ненавистью к подчинению, требуемому вельможами от своих приближенных. Она шла гораздо дальше и распространялась на все то, что казалось ему, угнетало мысль и суждения человека; в своих взглядах он хотел быть столь же свободным, как и в самых незначительных поступках; ему казались смешными люди, которые ссылались на авторитет какой-нибудь цитаты или на Аристотеля 17 или на какого- либо иного автора, подобно ученикам Пифагора,13 которые своим «Учитель сказал» претендовали на то, чтобы разрешать важные вопросы, хотя их доводы могли быть каждый день опровергнуты самыми простыми и несложными опытами. Я не хочу сказать, что бы он не относился со всем должным благоговением к выдающимся философам, древним п современным, но большое разнообразие их учений и странное противоречие их мнений убеждали его в том, что следует быть независимым в суждениях. Nullius addictus jurare in verba Magistri.
Демокрит и Пиррон казались ему после Сократа самыми здравомыслящими философами древности вероятно потому, что первый запрятал истину в такоіі темный угол, где ее невозможно разглядеть, а Пиррон был настолько благороден, что ни один из ученых его века не мог поработать его чувств, и так скромен, что никогда не хотел делать окончательных выводов. Господин де Бержерак говорил по поводу этого, что многие из наших современников представляются ему лишь отголоском других ученых и что большинство людей, почитающихся весьма знающими, были бы сочтены за невежд, если бы до них не было ученых.
Таким образом однажды на мой вопрос, почему он читает сочинения других, он мне отвечал, что делает это для того, чтобы узнать, как другие воруют, и что, если бы ему пришлось судить такого рода преступления, он карал бы за них более строго, чем за грабежи на большой дороге; ибо слава есть нечто гораздо более драгоценное, чем одежда, лошадь или даже золото и тот, кто приобретает ее при помощи книг, составленных из того, что он похитил у другого, — не лучше разбойника, разряженного за счет того, кого он ограбил, и что, наконец, если бы каждый старался сказать только то, что еще не было сказано, библиотеки были бы менее велики и громоздки, но более полезны, и. жизни человека, как она ни коротка, почти хватало бы, чтобы прочитать их и узнать все, что интересно. Между тем, для того, чтобы напасть хотя бы на одну мысль, сколько-нибудь сносную, нужно прочесть сотни тысяч книг, не имеющих никакой цены, или прочитанных бесконечное число раз; таким образом приходится губить время без пользы и удовольствия.
Тем не менее, он никогда целиком не порицал какого-нибудь сочинения, если находил в нем хоть что-нибудь новое, и говорил, что такое приращение блага столь же важно для ученого мира, как открытие новых стран полезно для старых земель. Критики представлялась ему тем более невыносимыми, что их страсть исправлять других он приписывал зависти или досаде, вызванной собственным бессилием или неспособностью к какому бы то ни было делу. Всякое же дело всегда похвально, хотя бы оно и не сопровождалось соответствующими результатами, Он говорил…
Non ego paucis
Offendare maculis quas aul incuria fudil
Aut humana paruur cavil natura.
И действительно, если мы допускаем тени в картине, почему не допустить в книге несколько мест более слабых, чем остальные; по закону контрастов черное служит иногда для того, чтобы оттенить белое.
Тем не менее, так как все чувства его были необычайны, нет ни одного из его сочинений, которое бы не было оригинально.
Его «Агриппина» от начала до конца написана так, как дотоле никогда еще не писали. Выражения самые поэтические, сюжет хорошо выбран, роли прекрасны, чувства — римские по мощи и достойные столь великого имени, интрига изумительна, развязка проста, ясна и правило о 24 часах так тщательно соблюдено, что эта пьеса может считаться образном драматической поэмы.
Но более всего он приводил в восхищение тем, что, когда переходил от серьезного к веселому, ему одинаково удавалось как то, так и другое. Его комедия «Проведенный педант» • — прекрасное и очень убедительное тому доказательство, точно также как и некоторые другие его сочинения, служащие верным доказательством всеобъемлющего его остроумия. Выше всех вещей стоит его «История Искры» и «Республика Солнца» в которой тем же стилем, каким он доказывал, что луна обитаема, он изображал чувства камней, инстинкт растений, разум животных. Я хотел присоединить эту историю к издаваемому труду, но вор, ограбивший его сундук во время его болезни, лишил меня этого удовлетворения, а тебя — высшего удовольствия.
Скажу тебе, наконец, читатель, что к тому же он был так счастливо одарен природой в отношении чувств, что всегда был способен владеть ими в меру своей воли; в виду этого, вино он пил редко, говаривая, что злоупотребление им притупляет разум, что с вином следует обращаться с такой же осторожностью, как и с мышьяком (с которым он его сравнивал); что от этого яда должно опасаться всего, и даже в том случае, если бы он грозил только тем, что в общежитии называется недоразумением, он все-таки остается опасным. Не менее воздержан был он в еде, из которой по мере возможности он изгонял все блюда с пряностями, считая, что самая лучшая пища — это пища самая простая и менее всего смешанная. В подтверждение этого он приводил пример современного человека с его короткой жизнью в противоположность человеку первых веков, который пользовался, по-видимому, долгой жизнью только благодаря простоте, соблюдаемой им в пище.
Quippe aliter tunc orbe novo coeloque recenti
Vivebant homines.
Эти два качества сопровождались у него большим воздержанием по отношению к прекрасному полу и можно сказать, что он никогда не выходил из пределов того уважения, которое мы должны оказывать дамам; он соединял с этим такое отвращение ко всякого рода корысти, что никогда не мог бы даже себе представить, что такое личная собственность, а его имущество в гораздо меньшей степени принадлежало ему, чем тем из его знакомых, которые в нем нуждались. В награду за это небо, которое не терпит неблагодарности, послало ему в жизни таких друзей, которые любили его до самой его смерти, а некоторые и за ее пределами. Я подозреваю, читатель, что ради его славы и ради удовлетворения своего любопытства ты потребуешь, чтобы я записал их имена для потомства. Я тем охотнее уступлю твоему желанию, что не назову тебе ни одного такого, который бы не отличался исключительными достоинствами, так хорошо он умел их выбирать. По многим причинам, а главным образом по порядку времени я начну с господина де Прад, в котором истинное знание сочеталось с широким сердцем и большой добротой; за его замечательную историю Франции его справедливо было бы назвать Корнелием Тацитом французов; он так сумел оценить прекрасные качества господина де Бержерака, что после меня был самым старинным из его друзей и одним из тех, кто доказал ему свою дружбу самым обязательным образом и бесконечное число раз. Знаменитый Кавуа, убитый в бою при Лане, и доблестный Бриссайль, прапорщик жандармов его королевского высочества, были не только справедливыми ценителями его отважных подвигов, но и славными свидетелями и верными участниками некоторых из них. Смею сказать, что как и мой брат, так и господин де Зедде, оба знатоки военной доблести, считали, что по храбрости он не уступает самым отважным; оба они оказывали ему услуги и он в свою очередь помогал им в некоторых случаях, допускавшихся в то время среди людей военного ремесла. Бели их свидетельство может показаться сомнительным, посколько в нем участвует мой брат, я назову еще одного смельчака самого высшего разбора — господина Дюре де Моншенен, который слишком хорошо его знал и слишком ценил, чтобы не подтвердить мои слова. Упомяну еще о господине де Бургонь, квартирмейстере пехотного полка принца де Конти. Он сам присутствовал при том сверхчеловеческом бое, о котором я говорил, и название «бесстрашный», которое он ему с тех пор давал, есть свидетельство, не оставляющее ни тени сомнения для всех знающих господина де Бургонь. Слишком хорошо умел он отличать то, что заслуживает уважения, от того, что его не заслуживает, и ум его был слишком благородный и всеобъемлющий, чтобы он мог ошибиться в подобном деле. Господин де Шавань, готовый всегда с радостным порывом устремиться навстречу тому, кому хотел помочь; славный советник, господин де Лонгевиль-Гонтье, обладающий всеми качествами безупречного человека. Господин де Сен-Жилль, в котором желание услужить всегда сопровождалось действием и который является немаловажным свидетелем его доблести и его ума; господин де Линьер, произведения которого полны вдохновения; господин де Шатофор, память и сужденье которого столь достойны удивления и который так удачно умеет применять свои бесконечные знания; господин де Вильет, обладавший в 23 года такими знаниями, которыми люди гордятся в 50 лет; господин де Ла-Морлиер, нравы которого так чисты, а манера оказывать услуги другим так привлекательна; граф ле Бриенн, ум которого соответствует его высокому происхождению; — все они относились к нему с тем уважением, которое составляет истинную дружбу. Наперерыв одни перед другим они проявляли эту дружбу весьма чувствительным для него образом. Я не буду подробно говорить об аббате де Виллелуэн, этом всеобъемлющем ученом, неутомимо творящим столько прекрасных и полезных вещей, ибо я не имел чести быть с ним знакомым; но я могу подтвердить, что господин де Бержерак его очень ценил и получил от него многие доказательства истинного расположения.
Я должен прибавить, что ради друзей, советовавших ему избрать себе патрона, который поддерживал бы его при дворе и в других местах, он преодолел свою великую любовь к свободе и до того дня, когда ему был нанесен по голове удар, о котором я уже говорил, он состоял при господине герцоге д'Арпажоне и посвятил ему все свои труды; во время своей болезни он однако, жаловался, что тот его покинул; я не берусь и не считаю нужным судить о том, было ли это следствием несчастной судьбы, общей для всех малых сих и зависящей от того, что великие мира помнят об услугах, им оказанных, только в ту минуту, когда их принимают, или же это было тайным замыслом неба, которое, прежде чем взять его из этого мира, хотело показать ему, как мало следует сожалеть о том, что нам здесь кажется прекрасным, но в сущности вовсе не таково.
Я был бы несправедлив по отношению к господину де Рого, если бы не внес его имени в этот славный список,, ибо сей знаменитый математик, производивший столько великолепных физических опытов, любимый за свою доброту и скромность и не менее ценимый за свои знания, столь возвышающие его над толпой, был так расположен к господину де Бержераку и настолько интересовался всем, что его касалось, что он первый открыл истинную причину его болезни и вместе со всеми его друзьями тщательно изыскивал средства его вылечить, но господин де Буаклер, героический в малейших своих поступках, увидел в этом такой хороший случай проявить свое великодушие, что не пожелал упустить его и решил предупредить остальных его друзей. Он действительно предвосхитил их, создав для своего друга самую благоприятную обстановку. Это было тем более важно, что скука, вызванная продолжительным заключением, грозила ему скорой кончиной; печальный предвестник ее уже наступил в виде сильнейшего припадка лихорадки. Но этот несравненный друг пресек болезнь, продержав его у себя в течение четырнадцати меся дев; наряду со славой, заслуженной таким заботливым и прекрасным уходом, он стяжал бы себе еще славу тем, что сохранил бы жизнь своего друга, если бы дни последнего не были сочтены и не были ограничены тридцать пятым годом его жизни. Эту жизнь он и закончил в деревне у своего кузена господина де Бержерак, от которого получил многие доказательства дружбы и ученые разговоры которого на темы по истории прошлых и настоящих времен приходились ему чрезвычайно по вкусу. К нему-то он и велел перенести себя за пять дней до смерти, охваченный тем тревожным желанием переменить место, которое предшествует смерти и у большинста больных является почти верным ее признаком.
Я думаю, что мы лишь в незначительной степени отдадим должную честь памяти господина маршала де Гассиона, если скажем, что он любил людей умных и сердечных и был знатоком как тех, так и других Он пожелал иметь около себя господина де Бержерака на основании того, что ему рассказывали о нем господин де Кавуа и господин де Кюижи. Но, будучи в то время еще поклонником свободы, ибо он только гораздо позднее поступил к господину д’Арпажону, он не мог еще смотреть на такого знатного человека иначе, как. на господина, и предпочел остаться ему неизвестным, нежели приобрести его любовь, но в то же время попасть от него в зависимость. То же пренебрежение к богатству, так мало свойственное людям, привело к тому, что он пренебрегал и многими знакомствами, которые хотела ему доставить достопочтенная мать Маргарита, особенно его почитавшая; он как будто предчувствовал, что то, что составляет счастье в этой жизни, будет ненужно в другой. Это была единственная мысль, занимавшая его под конец его жизни и тем сильней, что ее поддерживала госпожа де Невильет; эта женщина — вся благочестие, вся милосердие и любовь, преданная всей душой богу и ближнему, — была его родственницей со стороны благородной фамилии Беранже. Разврат, в котором подозревают большинство молодых людей, представлялся ему чем-то чудовищным, к я могу подтвердить, что он испытывал к нему то отвращение, которое испытывают все желающие вести христианский образ жизни. Эту великую перемену я предвидел уже за некоторое время до его смерти: как-то раз, когда я укорял его за то, что он так печален в тех самых местах, где мы привыкли вести с ним приятные и веселые беседы, он мне отвечал, что по мере того, как он познает мир, он в нем разочаровывается; что он предвидит близкое наступление конца своей жизни, который в то же время будет и концом его страданий, но что величайшее его горе, это сознание того, как плохо он использовал свою жизнь.
Jam juvenem vides
сказал он мне,
inetet cum serior aetas
Moerentem stultos praeterusse dies.
И действительно, прибавил он, я думаю, что в этих словах Тибулла заключается предсказание обо мне, ибо никто никогда не сожалел так, как я, о стольких прекрасных днях, столь бесплодно проведенных.
Ты должен простить мне это отступление, читатель, я, правда, быть может, слишком распространялся о достоинствах друга, но смерть его должна избавить меня от упрека, которому я бы мог иначе подвергнуться за желание ему льстить. Возвращаясь, однако, назад и продолжая приводить те авторитеты, на которых он основывал свой вымысел, скажу тебе, что демон, которого он с такой пользой заставляет служить себе, не есть неслыханная выдумка, ибо Фалес и Гераклит считали, что мир населен ими. Я уже не говорю о всем том, что было написано о демонах Сократа, Диона и Брута и о многих других. Мысль о множественности миров основана на идее Демокрита, который ее утверждал; точно также можно сказать о бесконечности и о малых телах или атомах, о которых он много раз рассуждал вслед за этим философом, за Эпикуром и за Лукрецием.
Представление о движении, которое он приписывает земле, также несет нечто новое, ибо Пифагор, Филолай и Аристарх утверждали некогда, что она вращается вокруг солнца, которое они помещали в центре мира. Левкипп и многие другие говорили почти то же самое, но Коперник в прошлом веке провозгласил это громче других и изменил систему Птоломея, принятую до того времени всеми астрономами. Большинство из них теперь придерживается системы Коперника, которая проще и удобней, ибо ставит солнце в центр мира, землю между планетами на то место, куда Птоломей помещал солнце, другими словами, он заставляет Меркурия вращаться вокруг солнца, за ним Венеру, потом землю, на краю этого круга он помещает эпицикл, по которому луна вращается вокруг солнца, завершая свой круг в 27 дней помимо того оборота, который вместе с землей она совершает вокруг солнца.
Признаюсь тебе, однако, читатель, что ко всем этим новшествам в астрономической науке я совершенно равнодушен, ибо я не занимаюсь этой наукой, она для меня слишком отвлеченна; уверяю тебя, что все, что мне из нее известно — это несколько терминов, сохранившихся в моей памяти после чтения сочинений об этом предмете. Потому заявляю, что, говоря о Копернике, я совершенно не желаю оскорблять Птоломея. Для меня достаточно того, что
Coeli enarrant gloriam dei.
и что изумительное строение их служит для меня доказательством того, что они сотворены не руками человеческими. Что бы ни говорил Птоломей, они остаются тем же, чем были всегда; что бы ни изменял Коперник, они остаются все на том же месте и с теми же функциями, какие им присудило верховное существо, их сотворившее. Само неизменное, оно одно может изменить всякую вещь.
В начале этой беседы я упомянул о том предмете, который заставил меня ее повести, а впоследствии станет ясно, почему и как я цитировал всех этих ученых. Прошу тебя, читатель, помнить об этом, чтобы оправдать то малое почтение, которое я питаю ко всему, что может смешать истинность моей веры с чужими фантазиями.
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
ТОТ СВЕТ или ГОСУДАРСТВА
И ИМПЕРИИ
луны
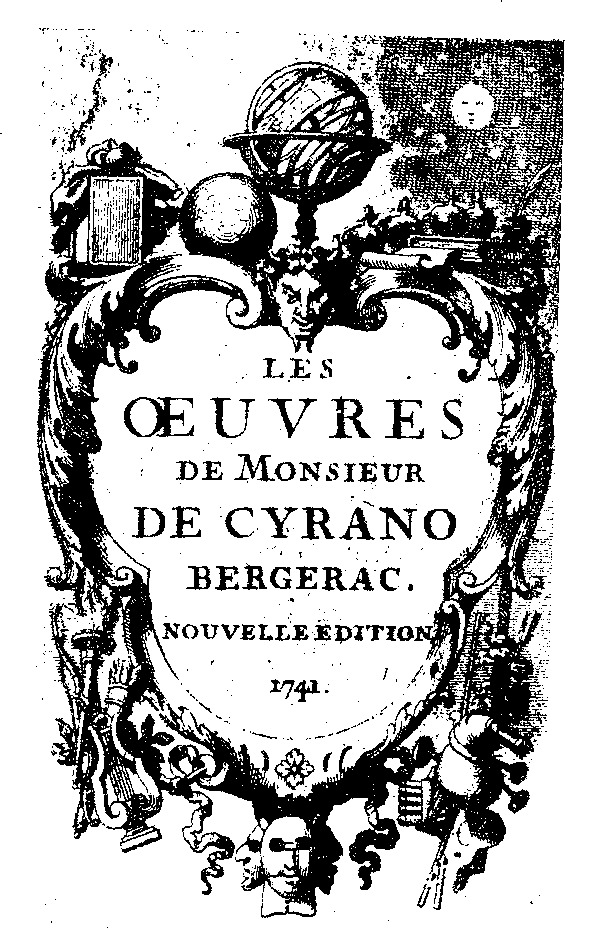

Светила полная луна, небо было ясно и уже пробило девять часов вечера, когда я и четверо моих друзей возвращались из одного дома в окрестностях Парижа. Наше остроумие очевидно отточилось о камни мостовой, ибо в какую сторону оно ни обращалось, всюду оно заострялось, и как далека ни была Луна, она не могла от него спастись.
Наши взоры утопали в великом светиле; один принимал его за небесное слуховое окно, сквозь которое просвечивало сияние блаженных, другой, убежденный в истинности старых басен, воображал, что, быть может. это Вакх там вверху содержит таверну и полную Луну повесил как вывеску; третий утверждал, что это гладильная доска, на которой Диана разглаживает воротнички Аполлона, наконец четвертый, что это, быть может, само Солнце, что оно совлекло с себя одеяние своих лучей и в халате выглядывает сквозь отверстие на то, что творится на свете в его отсутствии.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
