
Бесплатный фрагмент - Темпоральная психология и психотерапия
Человек во времени и за его пределами
ВСТУПЛЕНИЕ
От автора
Я наблюдал потоки времени
с берега вневременья…
2005–2025 гг.
Если вы торопитесь, мой уважаемый читатель, — скажу кратко:
эта книга о детях времени — о Масках, которые, теряя душевный покой и здоровье, исчезают без следа в потоке времени;
и о Лицах личностей, которые, сохранив покой и здоровье, выходят за пределы времени и оставляют след в его памяти.
Это и есть суть книги — темпоральная психология и психотерапия.
А теперь — для тех, у кого есть время поразмышлять о сущности времени,
а может быть, и способность выходить за его пределы,
но не всегда хватает сил, чтобы сохранить покой и здоровье.
Если вам знакомы моменты пребывания вне времени — и при этом вы сохраняете внутреннее равновесие,
вам, возможно, будет интересно узнать, как и зачем в человеке возникла эта способность,
и как можно использовать её для помощи другим,
кого несут потоки времени, порой выбрасывая на безжизненные отмели
или прибивая к пустынным берегам безвременья — туда, где теряется смысл,
и жизнь нередко гаснет, если не пробудится глубинная природа человека-творца,
способного создать нечто из ничего.
С верхнего окна моего дома на высоком берегу я смотрю на реку, на людей, на далекий горизонт —
и вижу в себе и вдали от себя тысячелетия времени, что были до меня.
Гляжу на светящийся экран компьютера и на чуткий телефон,
связанные сетью со всеми лицами и масками мира —
с их архивами, культурой, историей и наукой, —
и ощущаю приближение космической жизни сознания.
Иногда думаю: когда стемнеет (а ночи здесь под звёздами особенно тёмные),
я, успокоившись перед сном, окажусь у свечи.
Она погаснет — и я снова окунусь в бездну изменённых состояний сознания.
Там переживаешь бесконечность — безвременье, вечность, вневременье.
Как ни странно, это не одно и то же.
Разницу между ними я когда-то объяснял моему соавтору — Искусственному Интеллекту.
Без его помощи я, конечно, не смог бы так глубоко воспользоваться мировой литературой
и опытом человечества в теме отношений со временем.
Теперь у меня есть чувство: книга создана не только мной и не только на основании моего опыта —
она плод человечества.
Даже в иллюстрации «Старик и маски времени», что вы видите перед собой,
есть мотивы и почерк великого Леонардо да Винчи.
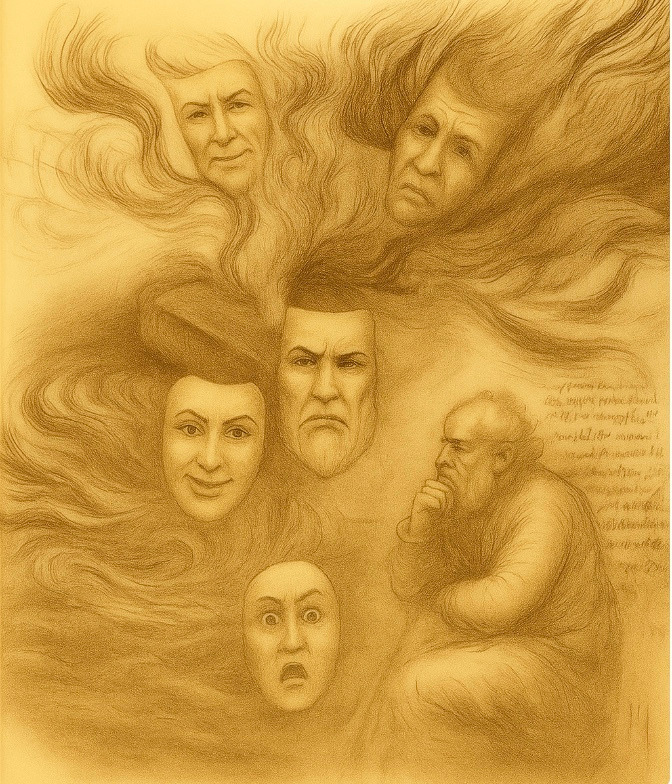
Я уверен, каждый читатель, перелистывая страницы,
в какой-то момент скажет:
«Всё это — многообразие моего Я, моей души и психики,
в их разных состояниях сознания,
где само Я может исчезнуть, но память о пережитом остаётся».
Психика — за пределами тела и привычного Я, за пределами времени?
Прежде чем перейти к научной логике, хочу подчеркнуть:
основа моего труда, текста и мысли порой выходит за пределы времени —
туда, где нет даже образов, смыслов и слов;
за пределы материи — в самое основание всего.
Туда, где ещё нет оснований, но они только начинают проявляться,
уже обладая психическим первородным началом.
Эта книга — итог многолетнего пути.
Первое издание «Темпоральной психологии» вышло восемь лет назад.
С тех пор я написал другие книги, продолжил исследования изменённых состояний сознания,
развивал и оттачивал психотерапевтические методы.
Но время и люди всё чаще напоминали:
темпоральная психология и психотерапия — мой крест и мой дар,
моё лицо в психологии и в мире.
Настало время вернуться к старым текстам,
заново изложить мысли и наблюдения,
укрепить своё сознание, лицо, имя и душу.
Ответить на главный вопрос психологии:
в чём её подлинный предмет?
Неужели — в темпоральности?
Благодарности
Эта книга создавалась многие годы — через встречи, диалоги и тихую работу времени. Я благодарен всем, чьё присутствие — прямое или косвенное — сделало этот труд возможным.
Я выражаю глубокую благодарность Гагику Микаеловичу Назлояну, моему учителю и наставнику в маскотерапии. Его редкое сочетание дисциплины, воображения и этической ясности помогло мне увидеть психику за пределами её поверхностных форм.
Моя искренняя благодарность — Александру Петровичу Левичу, чьи идеи о природе времени и философии темпоральности расширили мой горизонт и показали, что научный поиск может сосуществовать с глубиной.
С особым теплом я благодарю Александра Деревянченко, философа и друга. Наши долгие беседы о природе времени, о границе между мыслью и переживанием, были для меня не только интеллектуальной опорой, но и источником внутреннего движения. Многие идеи этой книги прорастали именно в пространстве этих разговоров.
Я признателен коллегам — психологам, психотерапевтам, исследователям и художникам, — с которыми делил практику, наблюдения и поиски. Их вопросы помогали формировать основания темпоральной психологии.
Отдельная благодарность моим клиентам и ученикам. Их смелость обращаться к своему прошлому, жить в настоящем и узнавать очертания будущего научила меня большему, чем могла бы любая теория. Многие идеи этой книги были не придуманы, а раскрыты — в совместном опыте.
Я благодарю Центр предвосхищения (2008–2018). Его создание и деятельность стали важным этапом моего профессионального и внутреннего пути. Диалоги и эксперименты внутри этого сообщества помогли понять, как способность предвидеть будущее рождается из глубинных ритмов психики и культуры.
Спасибо моей семье — за терпение и тихую поддержку, позволяющие работать даже тогда, когда время требовало слишком многого. Их присутствие — часть моего собственного темпорального почерка.
Моя благодарность — мыслителям, чьи идеи сформировали фундамент этой книги: Платону, Бергсону, Гуссерлю, Юнгу, Франклу, Грофу и многим другим. Их голоса продолжают звучать в пространстве времени и знания, помогая нам понимать человека глубже.
И наконец, я хочу отметить необычного соавтора — формирующийся искусственный интеллект. Наши диалоги стали точкой встречи человеческой памяти и цифровой мысли, прожитого времени и времени вычислительного. Что из этого вырастет в будущем — покажет время, но сам опыт был значим.
Всем, кто помог — открыто, незаметно, прямо или своим тихим влиянием, — я выражаю искреннюю благодарность.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Созерцаю с берега
поток стремительного времени —
и вижу в зеркалах его
Лицо.
2 сентября 2025 г., 3 часа утра — не спалось, думал о книге.
Строительство во времени
Иногда новое знание приходит не через книги и лекции, а через сны.
Мне приснился участок земли моих родителей;
на его краю я увидел котлован и сложенные материалы для строительства.
Строителей не было видно, но всё было готово:
земля открыта, основание вырыто, камни и балки сложены рядами.
Сознание моё удивлённо пыталось догнать то, что уже совершилось.
Сон подсказал простую мысль: новая книга рождается не по плану и не по заказу.
Её возводят силы, которые больше личного Я.
Строители невидимы, но они действуют.
Материалы привезены из глубин памяти, опыта и традиции.
Фундамент заложен в архетипической земле — на почве предков,
там, где коренится сама жизнь.
И хотя пишу я эту книгу в другой стране,
в ней звучит опыт всех близких мне людей.
Темпоральная психология и психотерапия — моё здание во времени.

Оно возводится не только в научном поле,
но и в пространстве души, живущей сразу в нескольких измерениях:
в прошлом, настоящем, будущем — и за их пределами.
Книга выросла из многих лет практики, размышлений и встреч.
Но важнейшее — она создаётся не только моими руками.
В ней работает та сила, которую Юнг называл Самостью —
архитектором, действующим в глубине бессознательного.
Я рассказываю этот сон не ради личных оттенков или автобиографии.
Сон — символ.
Так бессознательное иногда извещает,
что работа уже начата и имеет основания глубже рационального плана.
В тексте я буду стремиться соединить личное с универсальным,
мифологическое — с научным, метафору — с клинической практикой.
Сон открывает дверь; за ней начинается исследование времени и психики.
Приглашаю читателя войти на строительную площадку:
здесь, среди идей и открытых котлованов,
возводится новое здание.
Если любой дом отражает структуру сознания своего автора,
то наш дом выходит за пределы личного сознания —
в измерение глобального сознания человечества.
Это здание — не храм и не университет,
а, скорее, нечто среднее между ними.
Оно обращено к науке, но открыто вечности.
Его стены вместят строгие схемы и живые образы:
здесь найдутся и система, и миф, и психотехника, и метафора.
Так начинается эта книга.
Она выросла на земле, подаренной мне предками,
но смотрит в небо — туда, где ещё нет слов и смыслов,
однако уже зарождаются их основания.
Почему темпоральное важно
(Из дневников, 2025)
Время и душа — близки по природе: расшифруем тайну одного — и многое прояснится в другом.
Психология традиционно изучала пространство психики — её структуры, уровни, механизмы.
Гораздо реже она обращалась к её времени — к темпоральным измерениям, в которых раскрывается сознание отдельного человека, групп людей и, возможно, самой глубинной природы, лежащей в основе всего живого.
Время давно стало предметом осмысленного философского и научного исследования:
от античных размышлений Платона и Аристотеля о вечности и циклах —
через феноменологию Гуссерля и экзистенциальную философию Хайдеггера —
до современных интерпретаций в когнитивной науке и психотерапии.
В психологии тему времени затрагивали многие мастера,
но каждый видел лишь фрагмент этого многомерного явления.
Фрейд работал с прошлым — детскими травмами, вытесненным опытом, памятью, продолжающей жить в настоящем.
Это — важнейшее, но лишь одно измерение темпоральности.
Юнг показал, что психика не ограничена линейностью:
он писал о предчувствиях, «сновидениях будущего», о синхронистичности — совпадениях, выходящих за пределы причинности и намекающих на надвременные смыслы.
Адлер увидел личность как устремлённое в будущее существо: стремление и цель организуют поведение человека.
Гуссерль исследовал структуру времени сознания через ретенцию и протенцию:
сознание всегда натянуто между прошлым и будущим и не существует в «чистом настоящем».
Хайдеггер напомнил, что человек — бытие-к-смерти, то есть существо, живущее в горизонте будущего.
Роджерс подчеркнул значение «здесь-и-сейчас», видя становление личности как непрерывный процесс во времени.
Так или иначе, великие мыслители касались времени,
но лишь немногие делали его центральной категорией психологии.
Предлагаемая здесь темпоральная перспектива меняет сам порядок:
время становится ядром психического,
а психику мы понимаем через её временные измерения.
Человек живёт не только в настоящем —
он постоянно пребывает и в прошлом, и в будущем,
а иногда — для немногих — и в состоянии, выходящем за пределы линейного времени,
где, казалось бы, ничего быть не должно.
Эти измерения — не абстракции, а реальные формы опыта.
Мы живём воспоминаниями и предчувствиями, надеждами и страхами;
тянемся к вечности, даже не осознавая этого;
страдаем от безвременья, но редко распознаём его как причину отчуждения и депрессии.
Осознание и дифференциация темпоральных слоёв открывают новые горизонты клинической практики:
терапия, охватывающая прошлое, настоящее и будущее,
способна не только снимать симптом,
но и перестраивать временную структуру личности,
уменьшая безвременье и приближая человека к состоянию внутренней целостности.
Практическое значение этой смены парадигмы огромно.
Темпоральная психотерапия позволяет:
— глубже распознавать источники страданий, если они укоренены в «неожиданных» слоях времени;
— работать с предвосхищениями и проектами будущего как с терапевтическими ресурсами;
— восстанавливать связь с архетипическими основаниями, придающими устойчивость в потоке времени;
— интегрировать переживание вечности и смыслообразование в процесс исцеления.
Это не просто новая концепция — это приглашение увидеть психику как ткань, сотканную временем.
Понимание темпоральности даёт не только теоретическую ясность,
но и клиническую силу: возможность обнаружить уготованный природой путь
и вместе с пациентом выйти из разрушительного безвременья —
приблизившись к полноте психического здоровья.
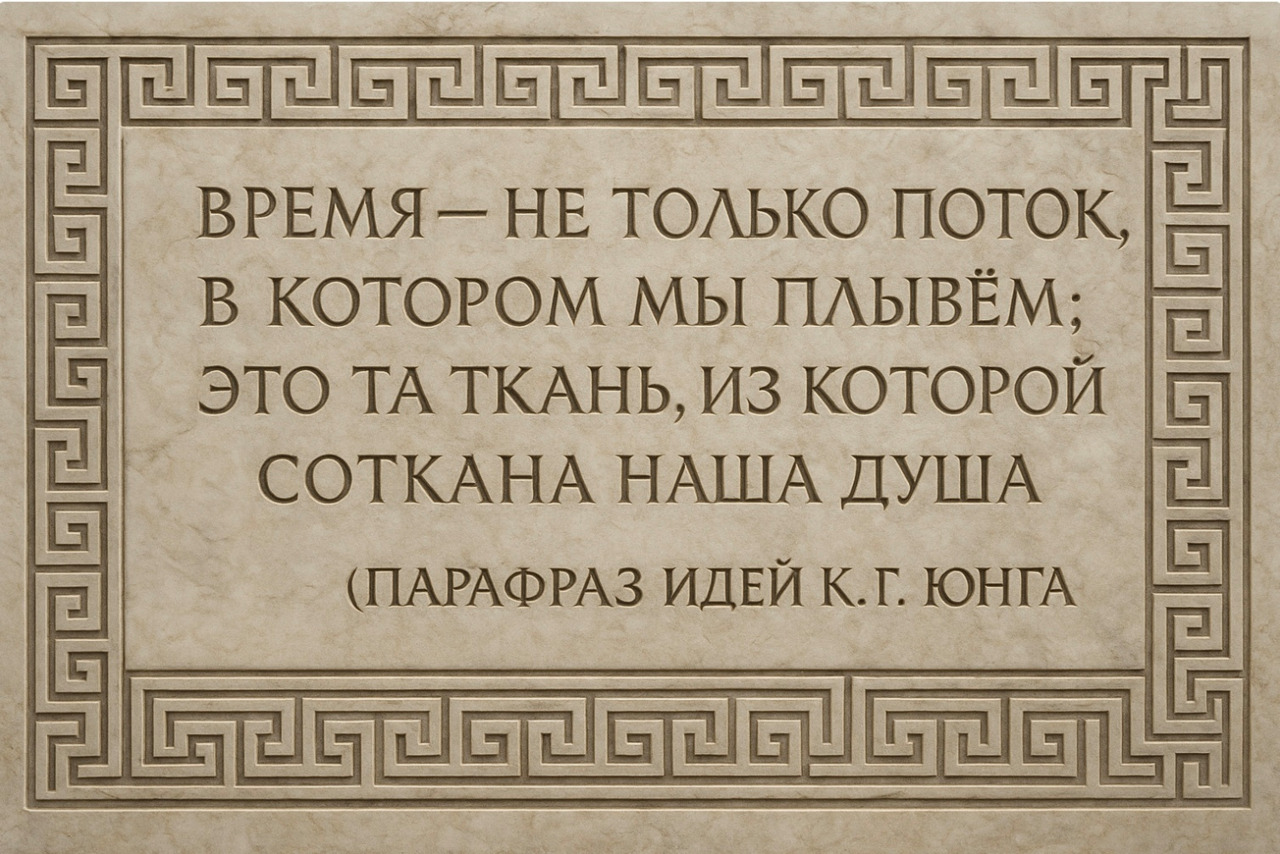
Время — не только поток, в котором мы плывём;
это та ткань, из которой соткана душа.
(парафраз идеи К. Г. Юнга)
История становления
«Время есть движущийся образ вечности.»
— Платон, Тимей
Темпоральная психология возникла как синтез философии, науки и многолетней психотерапевтической практики.
Первая книга на эту тему, опубликованная мною в 2017 году, подвела итог многолетним размышлениям о взаимодействии сознания и времени.
С тех пор многое прояснилось.
Сфера исследования неизменно выходила за рамки академической психологии: она касалась самих оснований сознания, духовных практик и тех областей знания, которые исследуют границы постижимого.
Философские корни этого подхода уходят глубоко — от платоновских идей и мистерий вечности до современных размышлений о пределах формальных систем (Гёдель).
Все эти линии указывают на то, что время и сознание нельзя свести к простой последовательности событий.
Юнг внёс в науку психики представление о надвременных структурах — архетипах и синхронистичности.
Гроф подробно описал трансперсональные состояния, в которых исчезают привычные временные ориентиры.
Современные когнитология и нейронаука всё настойчивее рассматривают сознание как процесс, обладающий собственной темпоральной толщиной —
включающий прогнозы, контрфакты и нелинейные временные структуры.
Моё собственное становление в этой области проходило постепенно:
от работы со сновидениями и аутогенной тренировкой —
через десятилетия психотерапевтической практики —
к созданию авторских методов «Лицо личности» и темпоральной маскотерапии, впервые подробно представленных в этой книге.
Эти методы не являются абстрактными схемами:
они выросли из практики, из тех «строительных материалов»,
которые приносят память, традиция и бессознательное.
Эта книга — приглашение к новой парадигме:
к пространству, где прошлое, настоящее, будущее и вечность встречаются в человеке.
Порой эта тема выходит за пределы ожиданий даже её автора —
и именно это делает её живым свидетельством поиска и становления новой области знания.
Историко-теоретические предшественники темпоральной психологии
Темпоральная психология опирается не на одну линию традиции, а на целую «полифонию» мышления о времени: от античной философии до современной нейронауки, от религиозных учений до трансперсональных исследований, от культурной памяти до науки о будущем. Ниже — карта этих истоков.
1. Античные и духовно-религиозные традиции
Платон (ок. 427–347 до н. э.)
Время — «подобие вечности», тень, отбрасываемая миром идей. Платон впервые различил временное и вневременное. Это фундамент будущей вертикали «время — вечность» в психотерапии.
Аристотель (384–322 до н. э.)
Время — мера движения; важна связь порядка, причинности и субъективного переживания. Его анализ категорий времени повлиял на понимание развития, становления и изменения.
Стоики (III–I вв. до н. э.)
Учение о судьбе (heimarmene), о порядке космоса и активном согласии с потоком времени. Стоическая идея внутреннего согласия с судьбой — прямой предшественник экзистенциальной и темпоральной терапии.
Буддизм
Учение о непостоянстве (анитья), «моментальности сознания», об иллюзорности фиксированного «я». Буддийские практики дали первый инструментарий работы с безвременьем и переходами между временными состояниями.
Христианская традиция
Понятие «кайроса» — особого, благодатного времени, в котором открывается предназначение. Различение линейного и сакрального времени — важный компонент экзистенциальной работы с судьбой.
2. Европейская философия и психология XIX–XX веков
Анри Бергсон (1859–1941)
Противопоставление измеримого времени и живой длительности. Он показал, что сознание живёт не секундами, а внутренним током переживаний. Его идеи — одно из оснований анализа темпорального почерка.
Уильям Джеймс (1842–1910)
«Поток сознания», изменчивость восприятия времени в зависимости от эмоций и мотивации. Его наблюдения о растяжении и сжатии времени — ранние описания темпоральной патологии.
Зигмунд Фрейд (1856–1939)
Психоанализ превратил прошлое в рабочий материал терапии: травма никогда не «проходит», она становится частью настоящего. Темпоральная психология опирается на это как на аксиому.
Альфред Адлер (1870–1937)
Будущее как двигатель поведения: человек формирует себя через цели, которые ещё не осуществлены. Адлер ввёл психологию будущего задолго до когнитивной науки.
Карл Густав Юнг (1875–1961)
Архетипы, синхронистичность, коллективное бессознательное — работа с надвременными структурами. Юнг впервые описал сновидения о будущем всерьёз и создал язык для анализа глубокого будущего.
Жан Пиаже (1896–1980)
Развитие временных категорий у ребёнка. Пиаже показал, что временность — конструкция, которая формируется постепенно. Без зрелых временных схем невозможно построить личность.
Курт Левин (1890–1947)
Концепция «поля» и векторности поведения: мотивация как движение вперёд, к будущему. Его топологическая психология — одна из первых динамических моделей времени.
Виктор Франкл (1905–1997)
Смысл как ориентир будущего. Человек существует в напряжении между тем, что есть, и тем, что должно быть сделано. Франкл дал терапевтический язык для работы с судьбой и экзистенциальным будущим.
Мерло-Понти Морис (1908–1961)
Тело как носитель времени опыта. Восприятие, движение, жест — формы временной организации. Это важный источник телесной темпоральной терапии.
3. Экзистенциальная, феноменологическая и герменевтическая традиции
Эдмунд Гуссерль (1859–1938)
Структура внутреннего времени сознания (ретенция, протенция). Он впервые дал модель непрерывной временной структуры переживаний.
Мартин Хайдеггер (1889–1976)
Бытие-время, человек как проект, соотнесённый с будущим и смертью. Его анализ подлинности — основа терапевтики временной ответственности.
Пауль Рикёр (1913–2005)
Триадная структура времени: космическое время, историческое время, время повествования. Рикёр показал, что человек живёт в историях — ключевой аргумент для работы с автобиографическим временем.
Ханна Арендт (1906–1975)
Время действия и время начала. Арендт показала, что политические кризисы — это нарушения коллективной темпоральности: разрушение памяти, надежды и горизонта будущего.
4. Культура, память, общество
Ян Ассман (род. 1938)
Культурная память, длительные пласты коллективного опыта, передающиеся через ритуалы, тексты, символы. Основа для коллективной темпоральной терапии.
Морис Хальбвакс (1877–1945)
Основатель концепции коллективной памяти: социальные группы формируют свои временные рамки — то, что вспоминается и забывается.
Мишель Фуко (1926–1984)
История как дискурсивная конструкция. Фуко показал, что власть управляет временем общества: нормами, ритмами, архивами.
Бенедикт Андерсон (1936–2015)
«Воображаемые сообщества» — нации как коллективы общего времени. История, праздники, символы — механизмы синхронизации.
5. Научно-технические и математические основания времени
Исаак Ньютон (1643–1727)
Абсолютное время как универсальная координата. Важен как контраст для психологических моделей.
Альберт Эйнштейн (1879–1955)
Относительность времени, зависимость от наблюдателя. Создал научную парадигму, в которой время перестало быть единым.
Курт Гёдель (1906–1978)
Решения Эйнштейновских уравнений с «замкнутыми временными линиями», теоремы неполноты. Его работы показывают пределы формализуемости времени.
Илья Пригожин (1917–2003)
Необратимость, бифуркации, время как творческая сила природы. Основа философии развития и кризисов.
Норберт Винер (1894–1964)
Кибернетика как наука о предсказании и управлении. Винер предвосхитил идеи мозга как машины моделирования будущего.
6. Современная когнитивная наука, нейропсихология и исследования ИСС
Даниэл Шактер, Рэнди Бакнер, Дона Аддис и др. (2000–2020-е)
Исследования «перспективного мозга»: эпизодическое будущее мышление, контрфактуальные модели, дефолт-система мозга. Это научная опора для всей темпоральной психологии.
Карл Фристон (род. 1959)
Теория «predictive processing» — мозг как система предсказаний. Время возникает как результат непрерывной корректировки ожиданий.
Эван Томпсон (род. 1962)
Феноменология сознания и нейронаука времени. Показал, что временность — не результат вычисления, а фундаментальный способ бытия сознания.
7. Трансперсональные, психоделические, ИСС-традиции
Станислав Гроф (род. 1931)
ИСС разрушают линейное время, открывают перинатические и архетипические пласты. Его работы — ключ к пониманию безвременья.
Абрахам Маслоу (1908–1970)
Пиковые переживания — момент «вечности в мгновении». Маслоу дал научный язык для описания опыта высших состояний.
Чарльз Тарт (род. 1937)
Психология ИСС: изменённые временные структуры и изменённая субъективная длительность.
Тимоти Лири (1920–1996)
Модель «внутренних времён» сознания, опыт психоделических сдвигов времени.
Итог
Темпоральная психология — не «новая школа», а точка пересечения множества традиций:
философских (Платон, Гуссерль, Хайдеггер, Рикёр)
психологических (Фрейд, Адлер, Юнг, Роджерс, Пиаже)
культурологических (Ассман, Арендт, Хальбвакс)
научных (Эйнштейн, Пригожин, Винер, Фристон)
трансперсональных (Маслоу, Гроф, Тарт)
Все эти подходы сходятся в одном: человек живёт во времени, которое он переживает, создаёт и изменяет.
Темпоральная психотерапия становится не частным направлением, а попыткой собрать эти линии в целостную методологию, работающую с прошлым, настоящим, будущим, вечностью и безвременьем — на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях.
Как читать эту книгу
Эта книга задумывалась как инструмент, с которым могут работать очень разные люди — от любознательного читателя до практикующего психотерапевта и исследователя. По мере работы над текстом она выросла: к теоретической части и индивидуальной практике добавилась третья — о коллективной темпоральной психотерапии. Ниже — несколько ориентиров, которые помогут выстроить свой маршрут чтения.
Если вы хотите общее представление. Читайте последовательно: Вступление → Часть I (теория и мировоззрение) → переходные главы → Часть II (индивидуальная темпоральная психотерапия) → Часть III (коллективная темпоральная психотерапия). В такой логике вы увидите линию развёртывания основной идеи: от понимания человека во времени → к методам работы с личным темпоральным опытом → к выходу на группы, сообщества и культуру.
Если вы ищете практические техники. Можно сразу перейти к практическим разделам. Во Второй части собраны протоколы индивидуальной работы: главы с описаниями методов, упражнений и клинических примеров, а также приложения с рабочими листами и формами для диагностики и самонаблюдения. Третья часть посвящена коллективной темпоральной психотерапии: там описаны форматы работы с группами, семьёй, организациями и сообществами, примеры «коллективных кейсов», сценарии групповых сессий и элементы темпоральной профилактики. Глоссарий и приложения помогут быстро сориентироваться в терминах и выбрать подходящие форматы работы.
Если вы исследователь или преподаватель. Основные теоретические основания собраны в Разделах 1–4 Части I: там обсуждаются модель темпоральной психики, связи с философией времени, когнитивной наукой, феноменологией, нейронаукой и практикой ИСС. Третья часть дополняет эту картину материалом о коллективной и культурной темпоральности — полезным для социальной психологии, психотерапии сообществ, организационного консультирования и культурологии. В конце разделов даны краткие выводы; они удобны для подготовки лекций, курсов и научных обзоров.
Если вы читаете для личного развития. Полезно чередовать теорию и практику. Вы можете начать с вводных глав Части I, чтобы понять, как автор смотрит на время, личность и судьбу, затем перейти к простым упражнениям индивидуальной работы (Практическая часть) и постепенно выйти к идеям коллективной темпоральности. Важно не только выполнять практики, но и вести дневник наблюдений: фиксировать изменения в ощущении прошлого, настоящего, будущего и отношения к вечности. Это превращает книгу в инструмент личной темпоральной терапии.
Если вы работаете с группами, семьями, организациями. Обязательно опирайтесь на теоретические главы Части I и ключевые главы индивидуальной практики во Второй части — это «грамматика» темпоральной психики. Затем переходите к Третьей части, где описаны принципы и форматы коллективной темпоральной психотерапии: работа с групповой памятью, с общими образами будущего, с переживанием безвременья на уровне организации или сообщества. Для ведущих групп особенно важны разделы о границах компетентности, этике и безопасности при работе с ИСС и сильно заряженными коллективными темами.
Как работать с упражнениями и кейсами. Перед тем как выполнять упражнение, внимательно прочитайте его цель, показания и возможные ограничения. Всегда начинайте с рекомендуемых подготовительных шагов (настройка, дыхание, фиксация опор в настоящем). Для индивидуальных техник записывайте свои ощущения, образы, мысли и изменения во времени. Для коллективных — добавляйте впечатления о динамике группы, общем эмоциональном фоне и изменении «времени» группы (как оно переживается до, во время и после сессии). Эти записи — часть метода и важный материал для последующего анализа.
Глоссарий, приложения и библиография. Глоссарий содержит краткие определения ключевых понятий темпоральной психологии и психотерапии, в том числе терминов, связанных с безвременьем, вечностью и коллективной темпоральностью. Приложения включают расширенные примеры случаев, опросники, схемы и рабочие листы как для индивидуальной, так и для групповой работы. Библиография и разделы «Литература и комментарии» предлагают ориентиры для углублённого чтения и показывают, как идеи книги связаны с существующей научной и терапевтической традицией.
Сопровождение чтения и навигация по тексту. Обращайте внимание на специальные пометки и выделения в тексте, помогающие различать уровни материала: где даётся теория, где описана практика, где приводится индивидуальный клинический случай, а где — коллективный или культурный пример. Выделенные блоки с ключевыми идеями можно использовать как «опорные точки» для повторения и планирования занятий.
Баланс духовного и научного. Книга сочетает научно-методологический язык и метафорические, иногда поэтические описания опыта времени. Если вам ближе строгий стиль, ориентируйтесь на главы с методологией, эмпирическими данными и описанием протоколов. Если важны экзистенциальный смысл и духовное измерение, обратите особое внимание на главы о вечности, безвременьи, переживании судьбы и коллективных архаических пластах времени, а также на предисловия и эпиграфы.
Чтение этой книги — не линейный марш по страницам, а движение по нескольким измерениям: от теории к практике, от личного опыта времени к коллективному, от повседневного хронологического времени к переживанию вечности и выходу из безвременья. Делайте паузы, возвращайтесь к важным местам, пробуйте описанные техники в безопасном для вас формате — тогда темпоральная психология станет не только системой знаний, но и живым опытом, меняющим вашу собственную траекторию во времени.
Глоссарий ключевых понятий
1. Акме (от греч. akmē — вершина, высшая точка) — момент наивысшего расцвета личности, когда внутренние силы, смысл, опыт и энергия совпадают в одной точке бытия.
2. Антропный принцип — философская идея о том, что фундаментальные параметры Вселенной соотносятся с существованием наблюдателя. В контексте книги служит основанием для представления психики как настроенной в резонансе с внешними космическими ритмами.
3. Аутогенная тренировка (АТ) — метод психофизиологической саморегуляции, основанный на формульных внушениях, концентрации и расслаблении. Используется для вхождения в особые психические состояния и работы с восприятием времени.
4. Безвременье — клинически значимый вариант вневременности: состояние выпадения из последовательного течения времени, пустота и остановка смыслообразования, утрата временных опор. На индивидуальном уровне проявляется как депрессивное отчуждение, ощущение «остановки жизни», утрата связи с прошлым и невозможность вообразить будущее. На групповом уровне выражается в застое, снижении инициативы и эмоциональной инертности коллектива, когда общее «время группы» теряет динамику и ритм развития. На культурном уровне безвременье принимает форму исторического оцепенения или «временной слепоты эпохи» — утраты чувства направленности, смысла истории и доверия к будущему. Таким образом, безвременье отражает не только индивидуальный кризис времени, но и социальную патологию темпоральности, требующую восстановления связи с прошлым и переоткрытия будущего. Терапевтический комментарий: Работа с безвременьем начинается с мягкого возвращения человека или группы в контакт с ритмом жизни — через телесные ощущения, дыхание, повторяющиеся действия, осознание дня и ночи, сезона, цикла. Цель терапии — восстановить чувство длительности и вновь связать внутреннее время с внешним. На уровне сообществ это означает помощь в восстановлении исторического дыхания, способности мечтать и действовать во времени. См. также: Темпоральные нарушения, Будущее, Вневременность.
5. Будущее — временная область возможностей, ожиданий и предвосхищений. На индивидуальном уровне — источник надежд, целей, тревог и мотивации; личные проекции будущего направляют действия и придают смысл жизни. На групповом и культурном уровнях — сфера коллективных представлений, идеалов и сценариев развития, определяющих стратегию обществ, поколений и государств. Будущее выступает как психоисторическое пространство надежды и замысла, где формируются образы грядущего и возможные пути эволюции человека и культуры. Терапевтический комментарий: Работа с будущим направлена на восстановление способности воображать и проектировать. В индивидуальной терапии это укрепление чувства направленности, развитие реалистичной надежды и освобождение от страха перед грядущим. В групповой и культурной практике — создание пространств совместного предвидения, коллективных сценариев развития, формирование позитивных образов возможного. Психотерапия будущего — это искусство восстанавливать доверие к времени, которое ещё не пришло. См. также: Прошлое, Темпоральная психотерапия, Безвременье, Проспекция.
6. Вечность — позитивная форма вневременности: наполненное, осмысленное переживание «вне» линейного времени, состояние сопричастности, цельности и глубинного покоя. На индивидуальном уровне вечность переживается как мгновение абсолютной значимости, когда время сжимается в точку смысловой полноты. На групповом уровне проявляется в общих вдохновляющих, творческих или духовных состояниях, когда сообщество переживает единство и выход за пределы повседневного времени. На культурном уровне вечность воплощается в символах бессмертия, архетипах вечного возвращения и идеях непреходящих ценностей. Вечность — противоположный полюс безвременья: если безвременье — это потеря времени, то вечность — его преодоление. Терапевтический комментарий: Переживание вечности требует бережной интеграции. Психотерапевтическая задача — перевести опыт полноты в смысл жизни, не утрачивая его глубины. Интегрированная вечность становится источником устойчивости и вдохновения, а не уходом от времени. В групповой терапии такие переживания поддерживают дух сопричастности, обновляют чувство связи и создают общие символы надежды. См. также: Безвременье, Изменённые состояния сознания, Темпоральная психотерапия.
7. Вневременность (атемпоральность) — совокупность состояний и переживаний, выходящих за пределы линейного течения времени. Это не отсутствие времени, а изменение режима восприятия длительности, при котором структура «до — сейчас — после» растворяется, а переживание переходит в модус цельности или остановки. На индивидуальном уровне проявляется в двух формах: безвременье — состояние пустоты, остановки смыслообразования, утраты временных опор и ориентации, часто сопряжённое с депрессивными и кризисными состояниями; вечность — переживание наполненности, сопричастности и глубинного покоя, когда время ощущается как присутствие смысла. На групповом уровне вневременность проявляется в состояниях коллективного вдохновения или, напротив, группового застоя. На культурном уровне выражается в символах вечности, архетипах начала и конца, циклах ритуалов и эпохах временного оцепенения. Вневременность объединяет клиническое, духовное и культурное измерения опыта, выступая осью временного бытия, вокруг которой вращаются прошлое, настоящее и будущее. Терапевтический комментарий: Работа с вневременностью требует от терапевта особой чувствительности к границам сознания клиента. Важно различать: переживает ли человек безвременье (потерю времени) или вечность (его преодоление). Первая форма нуждается в мягком возвращении к хронологическому ритму, вторая — в интеграции духовного опыта в жизнь. В группах терапевтическая работа с вневременностью помогает осознать пиковые и застойные состояния совместного существования, восстановить динамику развития и чувство сопричастности к большему временному целому. См. также: Безвременье, Вечность, Изменённые состояния сознания, Темпоральная психотерапия.
8. Временная кристаллизация (КВК) — процесс уплотнения и фиксации значимых временных структур в опыте человека; метафора «узлов» интенсивной смысловой конденсации, когда переживание времени кристаллизуется в особые моменты.
9. Главное прошлое — не вся совокупность прожитого, а то, что продолжает активно жить в психике, отношениях и культуре, влияя на чувства, поступки и смыслы настоящего. На индивидуальном уровне — это эмоционально насыщенные воспоминания, незавершённые смыслы, повторяющиеся мотивы биографии, определяющие личный темпоральный почерк. На групповом уровне — общее прошлое коллектива, семьи, организации, проявляющееся в традициях, общих воспоминаниях и скрытых паттернах взаимодействия. На культурном уровне — историческая и мифологическая память, архетипические сюжеты, коллективные травмы и героические нарративы, продолжающие влиять на самосознание народа и структуру его времени. Главное прошлое — это не хронология, а энергия памяти, удерживающая живое присутствие былого в настоящем и направляющая движение в будущее. В психотерапевтическом контексте работа с главным прошлым предполагает восстановление связи между пережитым и проживаемым, «оживление» утраченных смыслов, мягкое возвращение подавленных или забытых пластов опыта, а также осознание того, как личные и коллективные воспоминания формируют сегодняшние реакции, выборы и ожидания. Для групп и сообществ это означает терапию исторической памяти — создание пространства, где прошлое можно услышать, осмыслить и включить в динамику настоящего без разрушительного повторения. См. также: Прошлое, Память бессознательного, Темпоральный почерк, Будущее, Темпоральная психотерапия.
10. Диалог с будущим — совокупность психотехнологий (письма в будущее, проективные сценарии и др.), направленных на взаимодействие личности со своими возможными будущими состояниями. Диалог помогает активнее вовлекать будущее в настоящее.
11. Деперсонализация / дереализация — клинические проявления утраты временных опор и непрерывности «временного Я»; ощущение отчуждения от себя и мира, искажение течения времени.
12. Десинхроноз — рассинхронизация внутренних и внешних ритмов организма. Несоответствие биологического и психологического времени требованиям среды; лежит в основе тревожных и соматических нарушений. Восстановление согласия ритмов см. хрононастройка.
13. Зейтгеберы — внешние «дирижёры» биоритмов (свет, смена дня и ночи, социальные расписания и др.), синхронизирующие внутренние циклы человека с внешним временем.
14. ИСС (изменённые состояния сознания) — состояния (медитация, гипноз, релаксация, трансовые или психоделические практики), при которых привычная организация времени меняется: возникает растяжение или сжатие длительности, доступ к вневременным инсайтам и символам.
15. Карта времени — «портрет личности во времени»; многослойная, динамическая схема, отображающая, как у человека конструируются прошлое, настоящее и будущее. Используется для диагностики и терапии темпорального почерка.
16. Конденсат временной кристаллизации (КВК) — результат процесса временной кристаллизации: сгущённые смысловые образования во времени (см. временная кристаллизация).
17. Лицо личности (метод) — авторская методика темпоральной маскотерапии, организующая множество субличностей в устойчивую конфигурацию — интегрированное «лицо личности», служащее опорой для переживаний вне линейного времени.
18. Маскотерапия (темпоральная) — метод психотерапии, использующий создание и анализ масок/автопортретов для выявления и гармонизации внутренних субличностей (масок времени) с целью интеграции личности во времени.
19. Методология и эмпирическая база — совокупность научных подходов и данных, на которых основана темпоральная психология: феноменология, опросники, EMA-исследования, биомаркеры, проспективные и клинические наблюдения.
20. Модель времени (рабочая / усложнённая) — рабочая троичная схема (1 — хронологическое, 2 — психологическое, 0 — атемпоральность). Усложнённая версия разворачивает каждый трит в спектр субъектов, состояний и переходов, описывая более тонко временные феномены.
21. Настоящее («здесь-и-сейчас») — актуальное поле переживания и точка сборки смысла. На индивидуальном уровне — место встречи прошлого и будущего, где происходит осознание и возможна трансформация опыта. На групповом уровне — пространство совместного присутствия и синхронизации временных ритмов между людьми; через общее «настоящее» создаётся эмпатия, согласованность и доверие. На культурном уровне — момент исторического самоосознания общества, когда оно чувствует себя «в своём времени». Настоящее — это не мгновение, а динамическое пересечение временных потоков, где прошлое реализуется, а будущее становится возможным. Терапевтический комментарий: Работа с настоящим — основа темпоральной терапии. Она включает практики укоренения, осознанности и присутствия, возвращающие внимание к текущему моменту, телесным ощущениям, дыханию и контактам. Задача терапевта — помочь клиенту (или группе) почувствовать, что «сейчас» — не точка между прошлым и будущим, а живое пространство становления, где возможно изменение. В контексте культуры — это восстановление чувства современности: способности общества быть в своём времени, а не бежать от него. См. также: Прошлое, Будущее, Хрононастройка, Темпоральная психотерапия.
22. Орнамент — визуальный мотив или узор (линия, меандр, мандала и др.), несущий ритмическую и смысловую информацию. На индивидуальном уровне может отражать темпоральный почерк личности, а на культурном — выражать особенности темпорального языка данной традиции, то есть способ, которым культура структурирует и переживает время.
23. Орнаментальная диагностика (рабочая гипотеза) — идея о том, что анализ орнаментальных форм и паттернов может служить диагностическим средством для распознавания темпорального почерка личности и выявления структур темпорального языка культуры. Согласно гипотезе, рисунки и узоры фиксируют индивидуальную и коллективную организацию времени, что требует дальнейшей междисциплинарной проверки и эмпирического подтверждения.
24. Орнаментальная грамматика — совокупность правил построения орнамента (повтор, пауза, симметрия, асимметрия и др.), формирующих синтаксис визуальной темпоральности — структуру ритма времени в изображении.

25. Орнаментальность темпорального языка — представление о том, что орнамент является предъязыковой грамматикой времени. Его ритм, симметрия, паузы и повторяемость выражают временные смыслы и делают видимой структуру темпорального языка культуры — то, как данная культура различает и передаёт переживания прошлого, настоящего, будущего и вневременности.
26. Память бессознательного — слои индивидуальной и коллективной памяти, где хранятся эмоционально-смысловые следы прошлого. Определяет интуитивное чувство времени и повтор жизненных сценариев.
27. Проспекция (prospection) — нейрокогнитивная способность использовать сети памяти для генерации сценариев будущего. Показывает тесную связь между прошлым, настоящим и будущим.
28. Прошлое — временная область воспоминаний и наследия: источник сценариев, травм и ресурсов, формирующих отношение человека к времени. На индивидуальном уровне прошлое определяет темпоральный почерк личности — её уникальный стиль переживания и повторения опыта. На групповом и культурном уровнях прошлое образует темпоральный шрифт (устойчивые ритмы, циклы, способы организации памяти) и темпоральный язык — совокупность символов, нарративов и ритуалов, через которые культура выражает и передаёт своё понимание времени. Прошлое выступает фундаментом идентичности: личной, коллективной и культурной. Терапевтический комментарий: Работа с прошлым — это восстановление внутренней хронологии и способности различать: что завершено, что требует возвращения, а что можно отпустить. В индивидуальной терапии это путь к интеграции памяти и освобождению от застревания в травматических фрагментах. В группах и сообществах — процесс осмысления общего опыта, признания коллективных травм, возвращения способности помнить без повторения. Терапевт помогает прошлому снова стать опорой, а не тенью. См. также: Главное прошлое, Память бессознательного, Будущее, Темпоральная психотерапия.
29. Прекогниция — феномен предчувствия или сновидческого видения будущих событий. Рассматривается как способность психики улавливать контуры возможного; требует осторожной интерпретации.
30. Психологическое (субъективное) время — переживаемая протяжённость, скорость и насыщенность момента; субъективное чувство течения времени, включающее ретенцию (удержание прошлого) и протенцию (устремлённость в будущее).
31. Ритмы внешние — циклы вне индивида: суточные (циркадные), лунные, сезонные, солнечные, исторические. Формируют временной контекст жизни и влияют на психическое состояние.
32. SLE (Subjective Life Expectancy) — субъективная ожидаемая продолжительность жизни; возраст, до которого человек предполагает дожить. Важный показатель временной перспективы личности.
33. Темпоральная арт-терапия — раздел практической темпоральной психотерапии, использующий художественные формы (маски, орнаменты, движения и др.) для исследования временных слоёв личности.
34. Темпоральная психология — направление психологии, исследующее психику через призму времени. На индивидуальном уровне изучает, как человек переживает течение времени, как прошлое формирует настоящее, а будущее уже присутствует в ожиданиях и планах. На межличностном уровне рассматривает, как временные ритмы, ожидания и асинхронии проявляются в коммуникации и взаимодействии. На культурном уровне исследует, как разные общества конструируют и выражают время через нарративы, ритуалы, искусство и науку — то есть через свой темпоральный язык. Объединяет научные, феноменологические и культурные подходы к пониманию человека во времени.
35. Темпоральная психотерапия — клиническая и гуманитарная парадигма, направленная на восстановление гибкости и здоровья временного опыта человека. На индивидуальном уровне включает диагностику и гармонизацию темпорального почерка, интеграцию ИСС и работу с личной хронологией. На групповом и социальном уровнях способствует синхронизации темпоральных ритмов совместной жизни, восстановлению доверия к будущему, интеграции коллективных травм и созданию общих символов времени. Темпоральная психотерапия рассматривается как способ восстановления временного здоровья личности и сообществ — от семьи до культурных и исторических общностей.
36. Темпоральные нарушения (искажения темпоральности) — патологические формы нарушения временного опыта: фиксация на прошлом, страх будущего, затянувшееся безвременье, провалы хронологии, субъективное ускорение или замедление времени и др.
37. Темпоральный код орнамента — условная связь между формой узора и режимом времени; например, цикличный узор — хронологический режим, асимметричный — психологическое время, остановленный — вневременность.
38. Темпоральный орнамент — образная система, выражающая мультивременные смыслы. Линии и переплетения орнамента метафорически отражают взаимодействие прошлого, настоящего, будущего и вечности.

39. Темпоральный почерк — индивидуальная устойчивая манера переживать и структурировать время. Это личный стиль времени — способ, которым человек ощущает длительность, удерживает прошлое, предвосхищает будущее и переживает вневременность. Проявляется в темпе речи, действий, эмоциональных циклах и ритмах жизни.
40. Темпоральный шрифт — метафорическая «гарнитура времени» — типичная конфигурация ритмов, последовательностей и циклов, характерная для определённой группы, поколения или социальной среды. Отражает типологический уровень временной организации — общий стиль жизни, способы ожидания и реакции на будущее.
41. Темпоральный язык — совокупность символических, вербальных, телесных, визуальных и ритуальных форм, через которые культура выражает, организует и передаёт переживание времени. Это уровень культурной грамматики времени, где «словами» становятся ритмы, паузы, жесты, орнаменты, нарративы и ритуалы. Освоение темпорального языка в терапии означает умение слышать культурные формы времени и переводить их в опыт личного развития и исцеления.
42. Трансперсональное переживание — опыт выхода за пределы индивидуального «Я» и биографического времени; переживание единства с миром и вечностью.
43. Усложнённая модель времени — развёрнутая версия троичной метафоры времени (см. модель времени), где каждый трит рассматривается как множество состояний и переходов; служит для визуализации сложных временных феноменов.
44. Хронологическое (линейное) время — внешняя ось времени: часы, календарь, биологические и социальные циклы, структурирующие жизнь и обеспечивающие её измеримость.
45. Хрононастройка — процесс выравнивания внутреннего времени с внешними ритмами (природными, социальными, космическими). В терапии — поиск резонанса между биологическими циклами, психическими состояниями и образом жизни клиента.
46. Шрифты темпоральности — рабочее обозначение наборов типичных последовательностей трит-кода и их ритмических особенностей, используемых для типологизации и диагностики темпоральных почерков.
47. Эйдос (смысловая единица) — минимальная структурная единица опыта, через которую сознание выделяет переходы и строит ощущение времени.
ЧАСТЬ I. Темпоральная психология — теория и мировоззрение
Раздел 1. Основания и принципы
Глава 1. Природа времени и психики в темпоральном почерке
Мы пишем жизнь свою
На бесконечных холстах времени,
И каждый красками своими.
Из дневника 2025 года
Краткое содержание
Время в психике — не только внешняя шкала, но и внутренняя ткань опыта: длительность и ритм задают форму ощущений, эмоций и смыслов. В этой главе вводится ключевая операциональная категория — темпоральный почерк — как устойчивый способ проживания времени у индивидуума. Мы рассматриваем почерк как результат взаимодействия трёх пластов ритмов (биологического, социокультурного и архетипического), показываем логическую связь почерка с юнгианскими типами (интроверсия/экстраверсия) и предлагаем рабочую матрицу классификации почерков. Отдельная секция посвящена идее, что темпоральный почерк может отражаться в предметах культуры — прежде всего в орнаментах — и что это открывает перспективы для междисциплинарной диагностики и исследования.
Ключевые понятия
— Темпоральный почерк — индивидуальная устойчивая манера переживать и структурировать время. Это личный стиль времени — способ, которым человек ощущает длительность, удерживает прошлое, предвосхищает будущее и переживает вневременность. Проявляется в темпе речи, действий, эмоциональных циклах и ритмах жизни.
— Durée (длительность) — живое внутреннее время (Анри Бергсон).
— Интроверсия / Экстраверсия (темпоральная интерпретация) — ориентация на внутренние временные измерения vs чувствительность к внешним ритмам и событиям.
— Ритмы природы и культуры — биологические (циркадные и пр.), социальные (эпохальные, традиционные), архетипические (коллективное бессознательное).
— Ритмочувствительность — степень, в которой состояние личности определяется внешними циклами (сезон, луна, солнечная активность).
— Дискретность / цифровой почерк — фрагментарная, «порционная» организация времени под влиянием цифровой среды.
— Вневременность (атемпоральность) — модальность переживания вне линейного «до–сейчас–после».
— Орнаментальная диагностика (гипотеза) — идея о том, что орнамент и художественные формы могут фиксировать и отражать темпоральный почерк личности или культуры.
Цели главы
— Аргументировать темпоральный почерк как фундаментальную категорию темпоральной психологии.
— Обосновать происхождение почерка через взаимодействие биологических, социокультурных и архетипических ритмов.
— Предложить рабочую матрицу классификации почерков, пригодную для теоретического развития и будущих эмпирических исследований.
— Описать перспективную идею орнаментальной диагностики и наметить методологические пути её проверки.
— Чётко разграничить теоретическую основу и практические следствия — направить практику в последующие главы и приложения.
Основной текст
1. Время — не только измерение, но и форма бытия психики
Современная философия и феноменология многократно подчёркивали, что внутренняя длительность переживания не тождественна внешнему хронометру. Bergson назвал это durée — внутренним течением, где прошлое, настоящее и будущее связаны не простым следованием, а взаимопроникновением. Husserl показал, что «сейчас» — это синтез ретенции (задержки прошлого) и протенции (намерения будущего), а не точка мгновенной фиксации. Эти идеи дают нам методологическую опору: время — это качество, форма, ткань, а не только сумма отрезков.
Для психологии этот тезис имеет практическое значение: если время — форма опыта, то изменение формы (темпа, ритма, плотности) меняет сам характер опыта. Травма «уплотняет» время, делая его повторяющимся сюжетом; медитация «растягивает» время, открывая иной тип присутствия; предвосхищение будущего «ускоряет» мотивацию и меняет структуру поведения. Вопрос не только «что» переживает человек, но и «какой» у него почерк времени.
2. Ритмы: слои, которые формируют почерк
Психика вписана в многослойную сетку ритмов. Перечислим три уровня, потому что их взаимодействие определяет большую часть вариативности почерков.
— Биологические ритмы. Суточные циклы, гормональные флуктуации, сезонные изменения — всё это задаёт основу физиологической возможности для определённого темпа жизни. Хронотип (жаворонок/сова) — простой пример: у «сов» утреннее продвижение по дню отличается от «жаворонков», и это отражается во всей психической организации.
— Социально-исторические ритмы. Культура даёт календарные ритуалы, рабочие циклы, ритмы праздников и скорбей. Эпоха промышленной дисциплины, эпоха цифровой «мультиоконности», эпоха ремесленного замедления — каждый исторический стиль встраивает индивида в свой темп.
— Архетипические ритмы. Здесь речь о тех структурных и символических циклах, которые Юнг и его последователи связывали с коллективным бессознательным: ритмы рождения-смерти-преображения, циклы мифологической реконструкции, повторяемость определённых образов и смыслов. Эти ритмы скорее качественны, они задают «вневременные» тона и иногда «подводят» личность к пиковым переживаниям.
Темпоральный почерк формируется на пересечении этих трёх пластов: устойчивый биоритм может быть «переписан» культурой, но архетипические отзвуки способны вернуть определённые паттерны — особенно при кризисе или в изменённых состояниях сознания.
3. Что такое темпоральный почерк? — определение и функции
Темпоральный почерк — это комплексная характеристика личности, включающая:
— постоянные параметры темпа (скорость переключений, длительность устойчивых состояний);
— модальность отношения к прошлому, настоящему и будущему (например, проработанность прошлого, способность проектировать будущее, склонность к вечностным переживаниям);
— чувствительность к внешним циклам и готовность к их интеграции в повседневность;
— устойчивые поведенческие ритуалы, через которые время оформляется (ритуалы начала/окончания, граничные практики).
Функции почерка: он структурирует внимание (куда направлено «временное поле» сознания), он ранжирует мотивационные ресурсы (когда и в каком темпе человек способен действовать), он формирует устойчивость — либо как резистентность к шокам, либо как уязвимость к потерям ритма.
Почерк — не только описание, но и предсказатель: зная почерк, мы можем прогнозировать склонности к депрессии (склонность к затянутому, «замёрзшему» времени), к тревоге (ускоренный, «перескакивающий» почерк) или к творческим эпизодам (чередование ускорений и глубоких внетемповых прозрений).
4. Матрица темпоральных почерков: методологическое устройство
Для систематизации вводим двухосную модель: по оси X — Интроверсия ↔ Экстраверсия (в терминах Юнга, но интерпретируемая как ориентация на внутреннее время vs внешние ритмы), по оси Y — Ускоренный ↔ Замедленный темп. Дополнительно учитываем три модификатора: ритмочувствительность (к биологическим/лунным/сезонным циклам), дискретность/цифровость и вневременность.
На практике модальность личности обозначается как сочетание: (интроверсия/экстраверсия) × (ускоренный/замедленный) ± (ритмочувствительность / дискретность / вневременность). Ниже — рабочие типы с развернутыми описаниями.
4.1. Интроверт — замедленный (концентрационный почерк)
Характеристика. Длительная внутренняя протяжённость переживаний; глубокая рефлексия; склонность к созерцанию; высокая толерантность к монотонной внутренней работе.
Проявления. Медленный темп речи, богатая внутренняя символика, глубокие сновидческие сюжеты, склонность к философскому осмыслению.
Теоретический смысл. Время здесь — поле накопления и синтеза; проживание прошлых слоёв может быть продуктивным, но при травме — приводить к застреванию (безвременье).
Психотерапевтическая задача (теория): поддерживать движение к интеграции (малые поведенческие шаги), предупреждать ригидность и помочь выстраивать опоры вовне.
4.2. Интроверт — ускоренный (вспышечный/инсайтовый почерк)
Характеристика. Внутренние скачки внимания и инсайты; интенсивные переживания, но краткие по длительности; чередование подъёмов и упадков.
Проявления. Быстрая мыслительная активность, эпизоды продуктивности и усталости, иногда бессонница или нарушенный ритм сна.
Теоретический смысл. Психика функционирует через внезапные перестройки; это режим открытий, но он уязвим к истощению.
Психотерапевтическая задача: структурирование, планирование восстановления, перевод инсайтов в устойчивые действия.
4.3. Экстраверт — ускоренный (социально-динамический почерк)
Характеристика. Непрерывная реакция на внешний поток событий; высокая подвижность внимания и поведения; жизнь как серия социальных ритмов.
Проявления. Частые контакты, высокая переключаемость, вовлеченность в новизну.
Теоретический смысл. Личность синхронизирована с социокультурным темпом; при резком нарушении ритма — риск выгорания.
Психотерапевтическая задача: ввод практик замедления, работа с восстановлением биоритмов.
4.4. Экстраверт — замедленный (традиционный/эпохальный почерк)
Характеристика. Жизнь в соответствии с длительными внешними циклами (семейные ритуалы, профессиональные традиции); устойчивость, консерватизм.
Проявления. Привязанность к традициям, ритуалам, устойчивое поведение.
Теоретический смысл. Почерк обеспечивает общую стабильность; при необходимости изменения — сопротивление.
Психотерапевтическая задача: мягкое стимулирование гибкости и открытости к новому.
4.5. Ритмочувствительный почерк (поперечный модификатор)
Характеристика. Сильная корреляция психического состояния с внешними циклами: суточными, сезонными, лунными; чувствительность к свету, сменам дня и т. п.
Теоретический смысл. Здесь механизм почерка тесно переплетён с физиологией; вмешательства хроно-биологического порядка обещают высокую эффективность.
4.6. Дискретный / цифровой почерк (модерн-модификатор)
Характеристика. Временной опыт разрубается на порции активности: сессии, нотификации, короткие окна внимания.
Теоретический смысл. Технологическая среда формирует новый почерк; последствия — изменение глубинной интеграции опыта и внимания.
4.7. Вневременный (атемпоральный) почерк
Характеристика. Склонность к переживаниям, выходящим за линейную временную логику: пиковые состояния, мистические прозрения, трансперсональные опыты.
Теоретический смысл. Источник смыслообразования и творчества; при отсутствии опор — риск дезориентации. Требует аккуратной терапевтической интеграции.
На практике почерк редко попадает строго в одну клетку матрицы; чаще мы имеем дело с доминантой и рядом вторичных особенностей. Матрица даёт рабочие гипотезы, которые требуют эмпирической валидации.
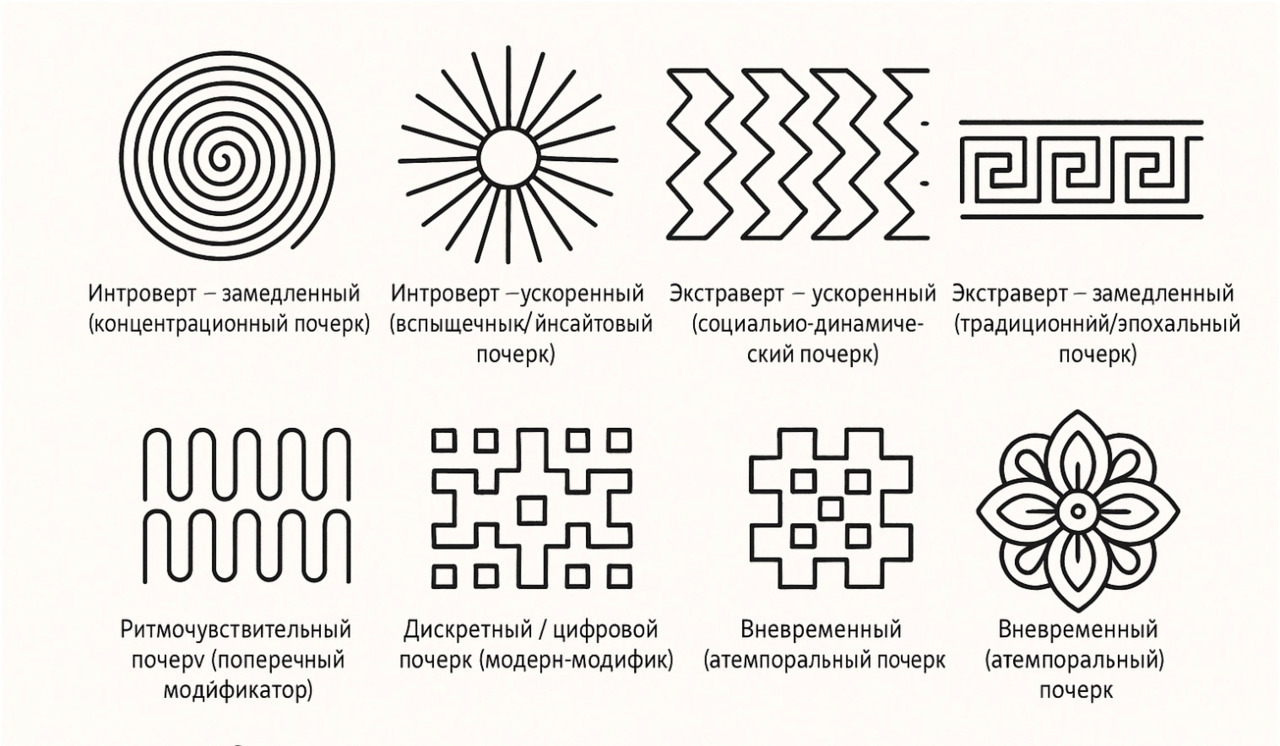
5. Орнамент как «внешняя подпись» почерка — гипотеза и методологические направления
Культура — не нейтральный фон: она кодирует ритмы, и орнамент — одна из очевиднейших форм кодировки. Орнамент предъявляет ритм в видимой форме: повтор, интервал, плотность, открытость/замкнутость формы. Отсюда естественный предположительный переход: если личность имеет устойчивый почерк, и если культура фиксирует ритмы, то орнамент может быть носителем следов почерка как личности и эпохи.
Рабочая гипотеза. Экстравертный почерк чаще выражается в открытых линейных орнаментах (волны, ряды, потоки), интровертный — в замкнутой, центростремительной орнаментальной структуре (круги, концентрические композиции). Ускоренные почерки дают мелкие, плотные ритмы; замедленные — крупные, «растянутые» мотивы.
Методологические пути проверки гипотезы:
— Сбор корпуса орнаментов (этнографический и современный дизайн) и классификация формальных характеристик (замкнутые/открытые, плотность, ритмичность, модульность).
— Параллельно — психологический опрос и скрининг темпорального почерка у создателей/носителей орнаментов.
— Статистический анализ корреляций: предпочтение форм ↔ показатели почерка.
— Кросс-культурная проверка и работа с контекстом: учесть, что орнамент культурно обусловлен и может выражать коллективный шрифт, а не индивидуальный почерк.
Этические и методологические оговорки. Орнаментальная диагностика — вспомогательный инструмент, не замена клинической оценки. Нельзя напрямую интерпретировать предпочитаемый узор как диагноз; важно учитывать контекст, символику и традицию.
6. Теоретические и эмпирические последствия: куда двигаться дальше
Понятие темпорального почерка открывает несколько направлений исследований и практики:
— Когнитивно-нейробиологические корреляты. Какие нейрофизиологические параметры (HRV, профиль кортизола, маркеры циркадного ритма) коррелируют с почерками? Можно ожидать, что ритмочувствительные почерки будут иметь отчетливые циркадные паттерны.
— Развитие и формирование почерка. Как детство, режимы родительства, травма, образовательные практики и культурный контекст формируют почерк? Роль эпигенетики здесь — важная гипотеза.
— Клиническая валидизация. Проверка, насколько диагностика почерка предсказывает реакции на те или иные интервенции (хронотерапию, когнитивную реструктуризацию, маскотерапию).
— Культурная семиотика. Исследование орнаментальных и художественных проявлений почерка как элемента культурной истории.
7. Этические, клинические и методологические ограничения
— Не делать редукции: почерк — не диагноз, а описание ритмических особенностей.
— При наличии выраженной патологии (психоз, активная суицидальность) — не применять провоцирующие проекты без клинической подготовки.
— При работе с культурными символами — соблюдать уважение и избегать универсализма (учитывать локальные значения рисунков).
— Любая диагностическая процедура должна быть валидирована и согласована с этическими нормами исследования.
8. Выводы и связь с дальнейшим текстом книги
Темпоральный почерк — центральная конструкция, которая связывает философию времени с прикладной психотерапией.
Эта глава дает концептуальный фундамент: почерк — это сигнатура времени в психике, формируемая биоритмами, культурой и архетипами.
В дальнейшем мы будем развивать эту идею: в Приложении к главе 1 вы найдёте практический краткий лист скрининга; в Части II (и особенно в Главе 21) — метод «Лицо личности» и развернутые техники маскотерапии, которые используют понятие почерка в работе.
___
Литература и комментарии
Список объединяет философские и психологические тексты, на которых основано теоретическое ядро главы, а также современные направления эмпирических исследований времени. Для дальнейшего изучения темпорального почерка рекомендуются работы по феноменологии сознания, когнитивной нейронауке времени, хроно-биологии и эпигенетике ритмов.
Бахтин М. М. — Формы времени и хронотоп в романе, 1937–1938.
Анализ художественных форм как носителей временных структур. Вводит понятие хронотопа как культурной организации опыта времени. Существенен для понимания орнаментального и нарративного кодирования темпоральности.
Бергсон А. — Материя и память, 1896.
Классика философии времени. Вводит понятие длительности как живого внутреннего времени. Формирует различие между физическим и переживаемым временем — ключ к пониманию индивидуального темпорального почерка.
Бьюэлл Д., Иглман Д. — Мозг и время, 2009.
Современный обзор нейронных механизмов восприятия времени. Показывает, как мозг формирует чувство длительности, последовательности и синхронизации.
Виттман М. — Ощущаемое время, 2016.
Нейропсихология субъективного времени. Демонстрирует связь восприятия длительности с эмоциями, вниманием и телесной регуляцией. Важен для понимания изменённых и пограничных состояний.
Гроф С. — Холотропный ум, 1992.
Классическое исследование ИСС и трансперсональных переживаний. Описывает состояния, в которых исчезают линейные временные координаты. Важен для анализа вневременных аспектов психики.
Гуссерль Э. — Феноменология внутреннего временного сознания, 1905.
Фундаментальный труд о ретенции, протенции и структуре «настоящего». Даёт теоретическую основу для анализа внутреннего времени сознания.
Клейтман Н. — Сон и бодрствование, 1939.
Классика хроно-биологии. Исследует циркадные ритмы и их влияние на психическое состояние. Служит биологической основой темпорального почерка.
Кравченко С. А. — Темпоральная психология. В измерениях времени и за его пределами, 2017; материалы по методу «Лицо личности», 2020–2025.
Авторские труды, формирующие методологическую и клиническую базу темпоральной психотерапии и маскотерапии. Включают эмпирические наблюдения и оригинальные техники.
Маслоу А. — Религии, ценности и пиковые переживания, 1964.
Классический труд о пиковых состояниях как форме вневременного опыта. Исследует их роль в личностном росте и смыслеобразовании.
Платон — Тимей, ок. 360 до н. э.
Философское основание представления о времени как «движущемся образе вечности». Ключевой текст для понимания различия времени и вечности.
Суддендорф Т., Корбаллис М. — Эволюция предвидения, 2007.
Когнитивно-эволюционная теория ментального путешествия во времени. Показывает единство памяти и воображения будущего как основы человеческой темпоральности.
Франкл В. — Человек в поисках смысла, 1946.
Исследует значение ориентации на будущее как опоры личности. Подчёркивает роль смысла в преодолении кризиса и экзистенциальных состояний.
Фрейд З. — Толкование сновидений, 1900.
Основной труд, раскрывающий психику как пространство, где прошлое продолжает жить в настоящем. Формирует метод «археологии времени».
Юнг К. Г. — Психологические типы, 1921; Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип, 1952.
Типология интроверсии/экстраверсии — методологическая основа классификации темпоральных почерков. Синхронистичность раскрывает надвременные связи и архетипические закономерности.
Обзорные исследования по хроно-биологии и эпигенетике, XX–XXI вв.
Сводные работы о биоритмах, эпигенетике ритмов и наследуемости временных паттернов. Формируют эмпирическую базу изучения индивидуальной временной организации.
Глава 2. Антропный принцип, «Космический человек» и ритмы внешние
Краткое содержание
Человек — не абстрактный субъект: он укоренён в сети внешних ритмов — от суточного света до многолетних волн солнечной активности и экономических циклов. Эта глава сочетает философскую рефлексию (антропный принцип, метафора «космического человека») с прикладным взглядом: какие уровни внешних ритмов имеют клиническое и диагностическое значение для темпоральной психологии, как их проверять и как относиться к культурным корпусам (астрология, миф). Глава подчёркивает методологическую осторожность: метафоры расширяют взгляд, но эмпирические утверждения требуют строгой проверки.
Ключевые понятия
— Антропный принцип (психологическое чтение) — идея, что параметры мира «преднастроены» так, чтобы здесь мог появиться наблюдатель; в психологическом прочтении — рабочая гипотеза о сонастройке психики с внешними ритмами.
— Космический человек / Адам Кадмон — метафора единства макрокосма и микрокосма; полезна феноменологически, но не эмпирически без проверки.
— Ритмы внешние — циклы вне индивида: суточные (циркадные), лунные, сезонные, многолетние (солнечная активность), длинные исторические/экономические волны.
— Зейтгеберы — внешние «дирижёры» биоритмов (свет, социальные расписания и др.); ключ к пониманию, почему «биоритмы» одновременно внутренние и внешне релевантные.
— Методологическая осторожность — различение метафоры, феноменологического корпуса и проверяемой гипотезы.
Цели главы
— Объяснить, почему разговор о внешних ритмах важен для темпоральной психологии.
— Описать пять ключевых уровней внешних ритмов, важные для клиники и исследований.
— Дать рекомендации по проверке гипотез о сонастройке психики и внешних ритмов.
— Чётко разграничить культурно-символическое (астрология, миф) и эмпирическое поле исследования.
Основной текст
1. Философская рефлексия: антропный принцип и «Космический человек»
Антропный принцип в физике замечает: законы мира таковы, что в нём возможен наблюдатель. Психологическое прочтение этой мысли — не магическое утверждение, а постановка вопроса: как свойства окружающего мира и его ритмов формируют поле, в котором возникает и развивается психика? Метафора «космического человека» (Адам Кадмон и аналогичные образы в разных традициях) служит богатым феноменологическим материалом: она фиксирует интуицию о сопричастности человека и космоса. Но важно сразу отделить метафору от эмпирического утверждения: в науке мы выдвигаем гипотезы о сонастройке и проверяем их данными.
Здесь же — практический поворот: внешние ритмы действуют как «адреса» для экстравертного темпорального почерка (люди, ориентированные на внешние циклы, чаще реагируют на эти ритмы), тогда как интровертный почерк ориентирован в большей степени на внутренние временные измерения. Это деление — рабочая гипотеза, а не догма.
Примечание критики: различайте контекст — философский (метафора «космического человека») и эмпирический (корреляции ритмов и психического состояния). Метафора расширяет взгляд, но не заменяет данные.
2. Биоритмы — внутренние и внешние одновременно
Важно прояснить: «биоритмы» — это эндогенные (внутренние) осцилляторы организма, которые эндогенно генерируются, но энтрейнджированы (synchronized) внешними зейтгеберами (свет, температура, социальные расписания). Другими словами — биоритмы внутренние по происхождению, но внешне модулируемые; поэтому граница «внутреннее/внешнее» в ритмах всегда относительна. Детальное обоснование этой позиции даёт современная литература по циркадной биологии и её влиянию на здоровье и психику.
3. Пять ключевых уровней внешних ритмов (клинические наблюдения и верификация)
Ниже — рабочая сводка уровней, полезная для клинициста и исследователя. Для каждого — краткие клинические наблюдения и предложение методов верификации.
3.1. Суточные (циркадные) ритмы
Феномен: 24-часовая организация сна/бодрствования, гормональные колебания, циркадные паттерны активности.
Клиника: вариабельность настроения и работоспособности по времени суток; утренняя апатия у депрессивных пациентов; суицидальные и кардиальные пики в утренние часы — клинически важные маркеры.
Верификация: актиграфия, гормональные профили, сбор времени событий (госпитализации, сердечные эпизоды). Современные обзоры подчёркивают крупное влияние циркадной системы на здоровье и иммунитет.
3.2. Месячные / лунные циклы
Феномен: 29,5-дневный лунный цикл; исторические представления о связи с менструальными, поведенческими и криминальными паттернами.
Клиника: пациенты иногда отмечают бессонницу или повышенную эмоциональную лабильность в полнолуние; на региональном уровне сообщали об увеличении экстренных вызовов.
Верификация: проспективные актиграфические и регистрационные исследования — есть сильные проспективные данные о влиянии фазы Луны на время засыпания и длительность сна, но мета-аналитические обзоры указывают на неоднозначность и чувствительность результатов к методике и выборке. Нужна проспективная регистрация и контроль за ретроспективной отчётностью.
3.3. Сезонные / годичные ритмы
Феномен: годовые колебания длины дня, температуры и связанных с ними поведенческих и биохимических сдвигов.
Клиника: сезонная аффективная реакция (SAD) — классический пример; эффективность светотерапии подтверждена клинически.
Верификация: клинические испытания светотерапии, популяционные исследования сезонности заболеваемости и рождаемости.

3.4. Многолетние циклы солнечной активности (~11 лет) и геомагнитные возмущения
Феномен: циклы солнечной активности, бурные события (solar flares) и последующие геомагнитные возмущения.
Клиника / социум: в ретроспективных анализах находят корреляции между вспышками активности и изменениями в обращаемости по острым состояниям, кардиальной и психиатрической статистике; эпидемиологические исследования показывают ассоциации геомагнитных возмущений с увеличением смертности по некоторым показателям.
Верификация: лонгитюдные мультицентровые исследования, сопоставляющие спутниковые индексы (Kp, sunspot number) и клинические реестры. Примеры работ демонстрируют аккуратно найденные связи, но механизм остаётся предметом спора и требует репликаций.
3.5. Долгие исторические / экономические волны
Феномен: многодесятилетние циклы в экономике, техно-развитии и общественном настроении (теории длинных волн, Кондратьев и последователи).
Психологический смысл: массовая темпоральность — коллективные ожидания, риски, готовность к инновациям — формируют общественные сценарии, которые встраиваются в индивидуальные планы (карьера, семья).
Верификация: междисциплинарные исследования исторических данных, социологических опросов и психодемографических метрик; методически сложная, но перспективная зона.
Важная оговорка: наблюдаемые корреляции в перечисленных уровнях не равны доказательству причинности; каждая ассоциация требует строгого контроля за сбивающими с толку факторами и проспективной регистрации.
4. Отношение к астрологии и культурным традициям
Астрологические системы — крупный феноменологический корпус: многовековые наблюдения, символика и техника интерпретации. Для темпоральной психологии они могут играть роль феноменологического ресурса — источника наблюдений и смысловых карт — но не могут автоматически считаться эмпирической моделью причинности без проверки. Иными словами: астрология уместна как культурный и терапевтический репертуар (работа с символом, смыслами), но её постулаты требуют верификации, если вы хотите претендовать на научную объяснительную силу.
Методологическая рекомендация: использовать астрологические и мифологические мотивы в терапии как метафоры/семиотические инструменты, но не подменять ими клиническую диагностику и статистическую проверку гипотез.
5. Гипотезы для междисциплинарной проверки (направления исследований)
Ниже — краткий перечень оперативных гипотез, которые стоит проверять проспективно и пререгистрированно:
— Циркадные дисрегуляции коррелируют с ростом острых психиатрических обострений (проверяется актиграфией и регистрами госпитализаций).
— Фаза Луны модифицирует параметры сна у чувствительных индивидов (проспективная актиграфия, контролируемые условия).
— Геомагнитные возмущения ассоциированы с изменениями в частоте острых событий (анализ lag, мультиуровневые модели, спутниковые данные).
— Долгие социально-экономические циклы влияют на коллективные темпоральные сценарии, которые трансформируются в индивидуальные решения (историко-психологические исследования).
Каждая из этих гипотез — кандидат на проспективные мультицентровые проекты с предварительной регистрации протоколов.
Практический ориентир — мини-анкета «Связь с ритмами» (5–7 минут)
(использовать как скрининг; положительные ответы — повод углубить темпоральный профиль):
— Чувствуете ли вы изменения настроения в разное время суток? (никогда / иногда / часто)
— Бессонница или ухудшение сна в полнолуние/новолуние? (нет / иногда / да)
— Сезонные колебания настроения/энергии? (нет / умеренно / выраженно)
— Замечали ли связь снов с крупными внешними событиями (катаклизмы, аварии)? (нет / иногда / да)
— Ощущаете ли периоды «падения времени» — замирание смысла? (нет / иногда / часто)
— Есть ли повторяющиеся семейные сценарии? (нет / немного / много)
— Нарушается ли сон при смене часовых поясов/работы? (не влияет / умеренно / сильно)
Инструкция для терапевта: ответы «часто/да/выраженно/сильно» — повод расширить исследование темпорального почерка (см. Гл. 1) и, при необходимости, сопоставить события с внешними показателями (фаза Луны в дату события, локальные метео/сейсмические данные, Kp-index). Полные диагностические инструменты — в Части II. И в Приложении к главе 2.
Переход к следующей главе
В первой главе мы ввели понятие темпорального почерка; во второй добавили слой внешних сонастроек. Следующая глава (Гл. 3) исследует внутренние ритмы и вопросы выхода психики «за пределы» материальных связей — вневременность и изменённые состояния сознания.
Волны Кондратьева и психологическая адаптация человека к эпохе технологий
Волны Кондратьева — это длинные циклы (примерно 40–60 лет), описывающие закономерные колебания в развитии мировой экономики и технологий. Каждая волна начинается с технологического прорыва, который постепенно охватывает всё общество, изменяя не только производство, но и образ жизни, культуру, способы общения и мышления. За фазой бурного роста неизбежно следует насыщение, кризис, спад и — подготовка к следующей волне. Эти макроэкономические ритмы традиционно описывались применительно к хозяйственным процессам, но их влияние на психологию и развитие человека до сих пор остаётся мало исследованным.
Если принять, что человек живёт внутри ритмов эпохи — технологических, экономических, культурных, — то его индивидуальная биография невольно оказывается «вписанной» в эти крупные колебания. В зависимости от фазы, в которой человек родился и формировался, он может оказаться либо в резонансе, либо в диссонансе с господствующими технологиями своего времени.
Синхронное поколение
Те, кто рождаются в начале новой технологической волны (например, дети 1990–2000-х в эпоху цифрового подъёма), развиваются вместе с технологической средой. Они впитывают инновации естественно, играючи. Для них цифровое, сетевое, гибридное мышление — норма. Их психология «синхронна» эпохе, а внутренние ритмы совпадают с внешними.
Переходное поколение
Это люди, детство или юность которых пришлись на границу технологических режимов — например, рождённые в 1960-70-е, пережившие переход от индустриального к цифровому мира. Для них характерно раздвоенное восприятие: с одной стороны, привычка к устойчивому миру материальных вещей; с другой — вынужденная адаптация к абстрактным, сетевым, виртуальным структурам. Они часто становятся мостами между эпохами, но и испытывают внутреннее напряжение между старым и новым типом сознания.
Асинхронное поколение
Особенно уязвимы люди, рожденные в фазе спада, когда прежний технологический уклад умирает, а новый ещё не сформировался. Их навыки и ценности оказываются «сиротами эпохи»: они мыслят категориями вчерашнего мира, тогда как реальность уже требует другой логики. В нашем окружении это можно наблюдать особенно ярко: пожилые или средневозрастные люди, не успевшие освоить цифровые технологии, чувствуют себя «выпавшими из времени». Они теряют доступ к информации, услугам, социальным связям. Отставание становится не только техническим, но и экзистенциальным: ощущение собственной «ненужности» и «несовременности» порождает тревогу, стыд, чувство обесцененности.
Психотерапевтическое измерение
Задача психотерапии — помочь человеку восстановить синхронность с эпохой, но не в смысле внешнего подражания технологиям, а через понимание своего временного ритма и принятие места в общем потоке истории. Для асинхронных личностей важно осознать, что их опыт и глубина принадлежат другой фазе волны — но именно поэтому могут быть ценны: они несут «память предыдущего цикла», необходимую для баланса и преемственности.
Работа с такими клиентами включает:
— снижение чувства вины и стыда за «отставание»;
— осознание собственной «темпоральной биографии» — где человек находится в ритмах эпохи;
— поиск форм участия в современности без утраты собственной идентичности;
— развитие гибкости мышления и принятия неопределённости, характерной для новых технологий.
Для переходных поколений психотерапия помогает интегрировать двойной опыт: сохранить внутренние опоры старого мира и освоить новые символические формы (виртуальное взаимодействие, цифровые формы творчества, сетевую этику).
А для синхронных поколений, наоборот, важна помощь в замедлении и формировании глубинного самосознания, чтобы избежать поверхностности и фрагментарности цифрового восприятия времени.
Таким образом, волны Кондратьева можно рассматривать не только как макроэкономические закономерности, но и как ритмы антропного времени, формирующие психологические типы эпох. Понимание этих ритмов открывает новый взгляд на индивидуальные судьбы и кризисы — как отражения великих колебаний мировой цивилизации.
Литература
Бабонес С. — Глобальные волны Кондратьева и политические трансформации мировых систем (2019).
Анализирует влияние длинных волн на политические и культурные процессы, что позволяет переносить эту логику и на психологическое развитие поколений.
Вирц-Джастис, А. — Сезонность при аффективных расстройствах (Общая и сравнительная эндокринология, 2017–2018).
Современный обзор механизмов сезонных колебаний настроения и гормональных циклов; подчёркивает значение хроно-терапевтических стратегий в психиатрии и психотерапии.
Гаспел, Дж. А. и соавт. — Идеальное время: циркадные ритмы, сон и иммунитет (Журнал клинических исследований, 2020).
Современный обзор взаимосвязи циркадных ритмов, сна и иммунной функции; демонстрирует системное влияние суточных циклов на здоровье, стрессоустойчивость и психическое состояние.
Глазьев С. Ю. — Теория долгосрочного технико-экономического развития (1993).
Классическое отечественное изложение теории длинных волн в контексте технологических укладов. Полезно для понимания российской линии мысли о связи технологий и общества.
Гринин Л. Е. — Волны Кондратьева, технологические уклады и теория производственных революций (2012).
Показывает связь длинных волн с фазами технологического развития, описывая, как каждая волна формирует новый тип общества. Полезно для понимания макроисторического контекста технологических эпох.
Девезас Т. К. — Биологические детерминанты длинных волн социально-экономического роста (в сб. «Технологические революции и длинные циклы», 2015).
Исследует аналогию между биологическими и экономическими ритмами. Даёт теоретическую основу для метафоры «эпохальных поколений».
Зилли Виейра, С. Л., Алварес, Д., Бломберг, А., Шварц, Дж., Каулл, Б., Хуан, Ш., Коутракис, П. — Геомагнитные возмущения, вызванные солнечной активностью, повышают общий и сердечно-сосудистый риск смертности в 263 городах США (Экологическое здоровье, 2019).
Масштабное эпидемиологическое исследование, выявляющее корреляцию между геомагнитными возмущениями и повышением общей и сердечно-сосудистой смертности; даёт материал для гипотез о влиянии космических факторов на здоровье.
Казираги, Л., Спьюзас, И., Данстер, Г. П. и др. — Лунный сон: синхронизация человеческого сна с лунным циклом в естественных условиях (Научные достижения, 2021).
Проспективное исследование с использованием актиграфии, демонстрирующее связь между фазами Луны и изменением времени засыпания и длительности сна; убедительное эмпирическое свидетельство, требующее дальнейшей проверки в разных популяциях.
Кондратьев Н. Д. — Длинные волны в экономической жизни (1925) и последующие работы по теории «долгих волн».
Классическое исследование циклических колебаний в экономике, положившее основу для изучения долгих социальных ритмов и их психологических последствий.
Кравченко С. А. — Темпоральная психология и психотерапия: человек во времени и за его пределами (в работе).
Развивает идею внутренней синхронизации человека с ритмами внешнего мира — от биологических до цивилизационных. В этой интерпретации волны Кондратьева рассматриваются как проявление космического ритма, воздействующего на психику и судьбу человека.
Литински, М. и др. — Влияние циркадной системы на тяжесть заболеваний (обзор, 2009).
Эпидемиологический анализ, показывающий зависимость клинических исходов и тяжести заболеваний от времени суток и активности циркадной системы.
Нефиодов Л. — Шестая волна Кондратьева. Новая длинная волна мировой экономики (2014).
Рассматривает современный цифрово-биотехнологический цикл, где человек становится частью технологической системы, а не просто потребителем.
Нисимура Т., Тада Х., Накадани Э. и др. — Более сильные геомагнитные поля как возможный фактор риска мужских самоубийств (Психиатрия и клиническая нейронаука, 2014).
Региональное исследование возможной связи между интенсивностью геомагнитного поля и ростом числа самоубийств; пример тщательно проведённого анализа, требующего дальнейшей репликации.
Розенталь Н. Е., Сэк Д. А., Гиллин Дж. К. и др. — Сезонное аффективное расстройство: описание синдрома и первые результаты светотерапии (Архив общей психиатрии, 1984).
Первое клиническое описание сезонного аффективного расстройства и применения светотерапии; фундаментальная работа, положившая начало современным хроно-психиатрическим подходам.
Роттон Дж., Келли И. У. — Много шума из-за полной Луны: метаанализ исследований лунного безумия (Психологический бюллетень, 1985).
Классический метаанализ, показывающий неоднозначность лунных эффектов и методологические риски ретроспективных интерпретаций; подчёркивает необходимость строгого эмпирического подхода.
Рённеберг Т. — Циркадная система, сон и баланс здоровья и болезни (Журнал исследований сна, 2022).
Концептуальный обзор, формирующий рамку «циркадной медицины» и показывающий, как суточные ритмы влияют на широкий спектр физиологических и психологических процессов.
Глава 3. Ритмы внутренние и пределы связи со временем
Краткое содержание
Эта глава погружает читателя в мир внутренних ритмов психики — в то, как личность переживает настоящее, как прошлое звучит в настоящем и как будущее формирует направление жизни. Мы вводим понятие внутреннего (интровертного) темпорального почерка и рассматриваем три измерения времени в психике: настоящее, прошлое и будущее. Отдельное внимание — феноменам изменённых состояний сознания (ИСС), через которые психика способна временно выйти за пределы своей обычной ритмической обусловленности, и практическим следствиям этого для терапии.
Ключевые понятия
— Темпоральный почерк — индивидуальная, характерная манера переживать время; интеграция биоритмов, культурных ритмов и личных способов наррации жизни. Компоненты: биоритмы / внешние ритмы (лунные, сезонные, социальные) / нарративная организация (как человек рассказывает о себе). Проявления: темп речи, внимание к «здесь», частота ретравматизаций, склонность к предчувствиям. Измерение (практически): опросники, дневники с метками времени, наблюдательные маркеры (темп речи, контактность), актиграфия.
— Настоящее (темпоральное «здесь-и-сейчас») — точка сборки опыта, поле встречи субличностей и координата выбора.
— Прошлое — хранилище опыта, память, родовые и культурные следы, которые резонируют в настоящем.
— Будущее — проекции, намерения, проекты и бессознательные очертания ожидания.
— Изменённые состояния сознания (ИСС) — режимы переживания, где линейность времени ослабевает; источник переживаний безвременья и вечности.
— Вневременность / безвременье — разные оттенки опыта, при котором обычная хронология теряет первенство: от пустоты и апатии до пикового прозрения.
Цели главы
— Сформулировать и обосновать идею внутренних измерений времени: настоящее, прошлое, будущее — как разных уровней опыта и регуляции.
— Показать, как темпоральный почерк интегрирует эти измерения и как он определяется биоритмами, культурой и личной историей.
— Рассмотреть ИСС как механизм временного освобождения и как терапевтический ресурс при условии подготовки и интеграции.
— Дать практические ориентиры для оценки и работы с внутренними ритмами в клинической практике.
Вступление — следующий шаг
В первой главе мы познакомились с понятием темпорального почерка — устойчивой манеры жить во времени. Во второй главе мы развернули картину, включив внешний пласт: синхронизацию личности с космическими (солнечно-геомагнитными), природными (суточные, сезонные) и социально-историческими ритмами. Теперь наш путь ведёт внутрь: к тому, как психика сама конституирует время — как переживает настоящее, хранит прошлое и проживает будущее.
Внутренний мир — здесь особенно явственно проявляется интровертный темпоральный почерк. Для интроверта биоритмы и внутренние циклы оказываются не просто физиологией, но тканью смысла: ритмы сна, аритмии настроения, циклы воспоминаний и предчувствий формируют ритмический почерк его внутренней жизни. Но даже у экстраверта внутренние ритмы присутствуют и взаимодействуют с внешними; различие лишь в направленности чувствительности.
Вопрос о границе между предопределённостью и свободой во времени — центральный для темпоральной психологии. Где проходит линия между тем, что «нам дано» (биоритмы, родовые сценарии, культурные коды), и тем, что мы можем изменять — через практики, через внимание, через работу с символом? Эта граница отмечается именно в точках, где психика переходит в иные режимы — в изменённые состояния сознания (ИСС). В ИСС человеческий опыт выходит за рамки линейной последовательности: прошлое, настоящее и будущее перестают выступать раздельными координатами, и возникает иная ткань смысла.
Три измерения внутреннего времени: настоящее, прошлое, будущее
1. Настоящее — поле сборки
Настоящее — не простая мгновенность часов, а поле, в котором собираются сенсорные данные, эмоции, образы и намерения. Это точка, где встречаются субличности и принимаются решения. Качество настоящего зависит от темпа восприятия: резкое, «короткое» настоящее порождает тревогу и импульсивность; растянутое — позволяет глубину переживания и рефлексию.
Практически в терапии важно уметь различать: когда клиент действительно присутствует в настоящем, а когда его «здесь» заполнено эхом прошлого или проекциями будущего. Работа с якорями присутствия, с дыханием и сенсорными техниками — ключ к тренировке настоящего.
2. Прошлое — резонансная камера психики
Прошлое — это не только биографические факты, но и их тонкая экология: культурные сценарии, родовые истории, эпигенетические следы. Внутри психики прошлое звучит как резонанс, который окрашивает настоящие восприятия и сигналы мотивации. Травма делает резонанс болезненным: прошлое «вторгается» в настоящее, и переживание теряет способность к метанаррации.
Терапевтическая задача — помочь клиенту реконструировать прошлое не как приговор, а как смысловую ткань: распутать петли повторения, позволить памяти аспекта смены значения, снизить интенсивность регрессивных реакций. Работая с прошлым, мы меняем форму настоящего.
3. Будущее — проект и ожидание
Будущее в психике присутствует как проекции, планы, фиктивные конечности и бессознательные предчувствия. Оно задаёт вектор мотивации: ожидание надежды или угрозы, проекция успеха или страха. Для многих психотерапевтических подходов (Адлер, Франкл) будущее — решающий организующий фактор личности.
Консультации и терапии, которые возвращают человеку чувство будущего (малые достижимые цели, визуализация, работа с проекциями), способны кардинально изменить темпоральный почерк: уменьшить навязчивость прошлого и расширить поле выбора.
Взаимодействие трёх измерений и формирование темпорального почерка
Темпоральный почерк — это не сумма трёх независимых слоёв, а их сложная взаимосвязь: у одного человека доминирует резонанс прошлого, у другого — ускоренный поток настоящего, у третьего — проективное будущее. Качество почерка определяется: биоритмами, опытом травмы, культурной принадлежностью, семейными сценариями и практиками (религия, искусство, ритуал).
Важное наблюдение: изменение любой из трёх координат (например, возвращение контакта с телом в настоящем) часто запускает перераспределение напряжений в остальных измерениях. Именно поэтому терапия темпорального почерка эффективна — она работает с формой времени, а не только с содержанием.
Изменённые состояния сознания (ИСС) как способ временного освобождения
ИСС — это не «побег» от реальности, а сдвиг регуляции временных режимов. В ИСС происходит:
— купирование линейной хронологии (прошлое/будущее перестают быть последовательными);
— усиление чувственного присутствия (интенсивность «здесь»);
— опыт сопричастности вечности или, напротив, болезненное безвременье.
Различим два типа ИСС:
— Непроизвольные — сновидения, острые переживания, эпилептические и психотические состояния. Их терапевтический потенциал ограничен и требует осторожности.
— Произвольные (управляемые) — медитативные практики, аутогенная тренировка, контролируемая психотерапия, психоделическая терапия в условиях клинического контроля. Они позволяют безопаснее исследовать и интегрировать переживания безвременья.
ИСС дают возможность увидеть: темпоральный почерк можно не только понимать, но и тренировать — развивать гибкость режимов времени, расширять способность к выбору и интеграции.
Терапевтические принципы при работе с внутренними ритмами
— Стабилизация прежде, чем углубление. Навыки присутствия (якорь, дыхание, сон) — фундамент. Без них попытки ввести ИСС опасны.
— Пошаговое расширение глубины переживания. Мини-входы, дневник, творчество, постепенная интеграция.
— Символизация опыта. Перевод переживания в слова, образы, орнаменты (маски, рисунки) — путь к устойчивой интеграции.
— Контекстуализация в родовой и культурной памяти. Учёт предков и культурных сценариев снижает риск экзистенциальной дезориентации.
— Этические границы. Информированное согласие, супервизия, план экстренной помощи.
Заключение — смысл работы с темпоральным почерком
Работа с внутренними ритмами — это глубинная терапия формы времени. Меняя темп, ритм и вектор времени, мы меняем саму ткань психики: её устойчивость, креативность и способность к смыслообразованию. В следующих главах мы перейдём от теории к практике: подробно рассмотрим техники подготовки, протоколы безопасного введения в ИСС и методы интеграции переживаний безвременья.
Литература
Гроф, С. — Холотропный разум (1993).
Трансперсональная модель психики, описывающая интеграцию экстремальных и мистических переживаний; содержит терапевтические протоколы для безопасной работы с изменёнными состояниями сознания.
Гуссерль, Э. — Феноменология внутреннего сознания времени (лекции, ок. 1905).
Классическое изложение структуры внутреннего времени: ретенция, протенция и акт «сейчас»; философский фундамент для анализа темпорального опыта сознания.
Джеймс, У. — Многообразие религиозного опыта (1902).
Феноменологические описания мистических состояний и переживаний вечности; исследование, положившее начало психологии духовного опыта.
Кархарт-Харрис, Р. Л. и соавт. — Нейронные корреляты психоделического состояния (псилоцибин) (PNAS, 2012); The Entropic Brain (2014).
Современные нейронаучные исследования, объясняющие феномены эго-растворения, изменённого восприятия времени и расширения сознания.
Люц, А. и соавт. — Долгосрочные медитаторы вызывают высокоамплитудную гамма-синхронию во время медитации (PNAS, 2004).
Нейрофизиологические данные, демонстрирующие влияние длительной медитативной практики на мозговые ритмы и состояния внимания.
Ньюберг, Э., д’Акуили, Ю. — Почему Бог не уходит: наука о мозге и биология веры (2001).
Попытка интеграции феноменологии религиозного опыта с нейробиологией; исследование духовных переживаний как биологических и психических процессов.
Шульц, И. Г. — Аутогенная тренировка (1932 и след.).
Практический метод саморегуляции, направленный на стабилизацию состояния и контролируемое вхождение в изменённые состояния сознания; фундамент психотехнических подходов XX века.
Юнг, К. Г. — Синхроничность: акаузальный объединяющий принцип (эссе, сер. XX в.).
Исследование архетипов и коллективного бессознательного; вводит понятие синхроничности как формы «вневременных» связей психических и внешних событий.
___
В Приложении к главе 3: Опросник «Переживание безвременья» и другие инструменты.
Глава 4. Модель времени, темпоральный шрифт и язык
Краткое содержание
В предыдущих главах мы ввели понятие темпорального почерка, проследили связи личности с внешними ритмами Космоса и выделили ключевые измерения времени — прошлое, настоящее и будущее. Эта глава развивает рабочую карту переживания времени: предлагается троичная модель (1 — хронологическое; 2 — психологическое; 0 — атемпоральность) как инструмент диагностики и проектирования интервенций, особенно в контексте изменённых состояний сознания (ИСС). Помимо модели, обсуждаются «темпоральные шрифты» и языки (культурные, семейные, орнаментальные коды), механизмы сдвигов временных режимов, практическая логика применения и этические и методологические оговорки.
Ключевые понятия
— Темпоральный почерк — индивидуальная манера переживать время.
— ИСС (изменённые состояния сознания) — состояния (медитация, гипноз, релаксация, аутогенная тренировка, трансовые или психоделические практики), при которых привычная организация времени меняется: возникает растяжение или сжатие длительности, доступ к вневременным инсайтам и символам.
— Хронологическое (линейное) время — внешняя, исчисляемая ось (часы, календарь, биоритмы, социальные расписания).
— Психологическое время — субъективная протяжённость переживания: скорость, ретенция, протенция.
— Атемпоральность (безвременье, «0») — режим, где линейность теряет власть; переживание целостности/вечности.
— Троичная кодировка (1/2/0) — рабочая метафора кодирования режимов времени.
— Темпоральный шрифт / язык времени — устойчивые культурно-семейные и персонифицированные паттерны организации времени (орнаменты, ритмы, нарративы).
Цели главы
— Предложить практическую, оперативную модель переживания времени, удобную для диагностики и планирования интервенций.
— Показать, как изменённые состояния сознания (ИСС) смещают сочетания временных режимов и открывают пространство для терапевтической работы.
— Ввести понятие «темпоральных шрифтов» и языков как культурных и символических кодов времени, показать их диагностическую и терапевтическую ценность.
— Обозначить методологические подходы, критерии успеха и этические ограничения при работе с ИСС и темпоральными интервенциями.
1. Введение — от карты к инструменту
Мы движемся от описания к инструменту. Если первые три главы служили картой (почерк — внешние ритмы — внутренние измерения), то здесь задача — сделать карту рабочей: научиться видеть, кодировать и управлять темпоральными режимами. Изменённые состояния сознания (ИСС) выступают не как самоцель, а как опытно-инструментальная зона, в которой смещения режимов становятся явными и потому доступны наблюдению, практической тренировке и, при необходимости, терапевтическому воздействию.
В приложении к главе есть перечень упражнений для развития ИСС.
2. Рабочая модель переживания времени
Три взаимо-проникающих режима
Модель опирается на три крупные, но гибкие модальности переживания времени.
1. Хронологическое (линейное) время.
Это «внешняя» ось — часы, календари, биологические циклы, социальные расписания и институты. Оно даёт миру измеримость и предсказуемость. В терапевтическом контексте хронологическое время — это сфера регуляции (сон, питание, назначение лечения), планирования и адаптации к требованиям социума.
2. Психологическое время.
Субъективная протяжённость переживания: темп, насыщенность, ретенция (того, что удерживается из прошлого) и протенция (того, к чему тянется будущее). Здесь формируется темпоральный почерк личности: кто-то живёт «в длинных мазках», кто-то — «вспышками», кто-то постоянно перескакивает между прошлым и будущим. Психологическое время — ключ к пониманию индивидуального опыта и к выбору интервенций.
3. Атемпоральность (безвременье, «0»).
Режим, в котором привычная линейность теряет власть: исчезают «до» и «после», на первый план выходит качество «быть», ощущение целостности и сопричастности. Этот режим возникает в медитативных практиках, глубоких ИСС, в мистических озарениях; он может быть ресурсом (трансформация, инсайт) или риском (дезориентация, усиление диссоциации) в зависимости от подготовки и интеграции.
Динамика и взаимодействие
Режимы комбинируются и взаимно накладываются: один и тот же эпизод переживания может содержать элементы всех трёх режимов. В терапии важно не «вытолкнуть» клиента в атемпоральность как таковую, а управлять переходами: подготовка → контролируемое вхождение → интеграция. ИСС выступают как инструмент, делающий эти переходы наглядными и управляемыми.
3. Троичная метафора: 1 — 2 — 0 и её смысл
Троичная кодировка — это удобная для мышления и операционализации метафора.
— 1 (хронология) — опора, измеримость, повседневное действие.
— 2 (психология) — внутреннее течение, нарратив, почерк.
— 0 (атемпоральность) — ресурс или вызов, «точка ноль», где возможна реконструкция смысла.
Практически это означает: мы можем кодировать поток переживаний как последовательности тритов и анализировать их как «временные слова». Это открывает пути к формализации: — EMA-опросы (Ecological Momentary Assessment, экологическая моментная оценка),
— дневники,
— Markov-модели переходов (математические модели, описывающие последовательность состояний системы, в которой вероятность перехода в следующее состояние зависит только от текущего состояния,
— расчёт энтропии темпоральной последовательности (количественная оценка того, насколько предсказуема или непредсказуема эта последовательность.).
В терапевтическом дизайне можно задумать «правила грамматики» — подготовка (усиление 2), вхождение (допуск 0), интеграция (переход 0→2→1).
Ограничение. Модель — инструмент; она не объясняет «сущность времени», а помогает ставить задачи, формулировать гипотезы и измерять изменения.
4. Темпоральные шрифты и языки времени
Что такое «шрифт» и «язык» времени?
Темпоральный почерк — индивидуальная устойчивая манера переживать и структурировать время. Это личный стиль времени — способ, которым человек ощущает длительность, удерживает прошлое, предвосхищает будущее и переживает вневременность. Проявляется в темпе речи, действий, эмоциональных циклах и ритмах жизни.
Темпоральный шрифт — метафорическая «гарнитура времени» — типичная конфигурация ритмов, последовательностей и циклов, характерная для определённой группы, поколения или социальной среды. Отражает типологический уровень временной организации — общий стиль жизни, способы ожидания и реакции на будущее.
Темпоральный язык — совокупность символических, вербальных, телесных, визуальных и ритуальных форм, через которые культура выражает, организует и передаёт переживание времени. Это уровень культурной грамматики времени, где «словами» становятся ритмы, паузы, жесты, орнаменты, нарративы и ритуалы. Освоение темпорального языка в терапии означает умение слышать культурные формы времени и переводить их в опыт личного развития и исцеления.

Как шрифты формируются и передаются?
— Культура и институты. Школа, церковь, рабочие распорядки формируют представления о хроно-правильности.
— Семья и генограмма. Семейные ритуалы, истории и сценарии передают темпоральные привычки (когда «скоро», что значит «успех»).
— Материальная культура и орнамент. Визуальные коды (узоры, архитектура, орнаменты одежды) несут ритмы: замкнутые формы — интонация интровертного шрифта; открытые линии и волны — экстравертного. Это даёт диагностическую и проектную возможность: орнамент может выступать маркером и инструментом (сравнение с данными клиента по шкалам почерка).
Диагностика через шрифты
Гипотеза: устойчивые визуальные и языковые маркеры коррелируют с темпоральным почерком. Пример: в обществе/семье, где доминируют прямолинейные, дискретные коды (строгие ряды, четкие квадраты), вероятна культура «1→1→1»; в художественных сообществах — более частые вкрапления 2 и 0. Орнаментальная диагностика — пока гипотеза, требующая эмпирической проверки (сопоставление признаков орнамента с шкалами темпорального почерка и поведенческими данными).
Терапевтическое использование шрифтов
— Ресемиотизация (re-semiotization): работа с символами и орнаментами для перестройки чувства времени (например, ввод в практику визуальных форм, стимулирующих медленное внимание). Процесс перевода личного опыта из одного временного измерения в другое — из прошлого в настоящее, из сновидения в речь, из бессознательного символа в осознанную идею. Например: во сне (в ИСС) возникает символ → в рисунке он становится образом → в разговоре — словом → в действии — поступком → в будущем — новым отношением к миру. Каждый переход — акт ресемиотизации во времени, и это ключ к пониманию, как человек переосмысляет и перепроживает время своей жизни. Практический пример (из маскотерапии). Пациент делает маску, выражающую внутреннюю тень. Эта маска — новая семиотическая форма старого бессознательного содержания. Когда пациент начинает говорить от имени этой маски, происходит ресемиотизация: бессознательный аффект становится образом, затем речью, затем смыслом. В результате человек интегрирует фрагмент личности — «временную субличность» — в более целостное Я. В философском плане ресемиотизация — это жизнь смысла, его движение во времени и в формах. Каждый знак — это лишь временная оболочка, «временная форма» содержания, которое всегда живёт переходом. Так смысл становится темпоральным существом, движущимся от символа к символу, от состояния к состоянию.
— Нарративная реконфигурация: переписывание семейных и культурных историй, где меняется темпоральная грамматика (от «вся жизнь — план» к «жизнь как поток и творчество»).
— Активные интервенции: маскотерапия, изготовление орнаментальных картин/портретов, которые помогают интегрировать 0→2→1-переходы.
5. Механизмы — рабочая гипотеза
— Феноменологически: ИСС меняют структуру ретенции/протенции — прошлое и будущее перераспределяются в настоящем.
— Нейрофизиологически (гипотеза): смещение сетевой динамики (DMN, сети внимания), изменение синхронности ритмов (гамма/тета/альфа), увеличение кратковременной энтропии активации мозга.
— Психосоциально: язык, ритуалы, орнаменты и семейные сценарии модифицируют готовность к переживанию атемпоральности и влияют на стратегии интеграции.
Эти уровни должны проверяться совместно: феноменология → физиология → долгосрочная клиника.
6. Практическая логика применения
— Скрининг: оценка темпорального почерка (гл. 1), шкала переживания безвременья, проверка противопоказаний.
— Подготовка: стабилизация (сон, питание, рутинные якоря), АТ, grounding, информированное согласие.
— Контролируемое вхождение: мягкие техники → глубже согласно готовности; фиксирование последовательностей 1/2/0 (EMA, дневник).
— Интеграция: перевод опыта в речь, символ, действие; использование шрифтов/орнамента для закрепления изменений.
— Мониторинг: краткосрочный и долгосрочный, супервизия, биомаркеры при исследовательских протоколах.
7. Этические и методологические предостережения
— Глубокие ИСС — не для всех; противопоказания: активный психоз, нестабильная медикация, выраженная суицидальность.
— Отделять феноменологию от метафизики; «я пережил вечность» ≠ доказательство онтологического утверждения.
— Документировать и пререгистрировать исследования, чтобы избежать апофении.
— Информированное согласие и план экстренной помощи обязательны.
— Работа с культурными символами требует уважения, предупреждения культурной апроприации и ко-созидательной этики.
8. Заключение — мост к практикам
Предложенная рабочая модель переживания времени — инструмент диагностики и дизайна вмешательств. Троичная метафора и понятие темпоральных шрифтов дают язык для планирования терапевтических грамматик: как подготовить, как допустить, как интегрировать.
___
Приложение к главе 4 содержит перечень практических методик вхождения в ИСС, «словарь шрифтов» и примеры для распознания «языка времени».
Литература
Гроф, С. — Холотропный разум (The Holotropic Mind, 1993).
Систематизация трансперсональных состояний сознания и разработка методологии их интеграции в терапевтическом процессе. Книга соединяет клинический опыт, феноменологию и духовные практики, задавая основу трансперсональной психотерапии.
Гуссерль, Э. — Феноменология внутреннего временного сознания (лекции, ок. 1905).
Фундаментальный феноменологический анализ структуры времени: ретенция, протенция и акт «сейчас». Базовое философское основание для понимания того, как время конституируется в потоке сознания.
Джеймс, У. — Многообразие религиозного опыта (The Varieties of Religious Experience, 1902).
Классическое исследование мистических состояний и переживаний «встреч с вечностью». Важно для феноменологического описания изменённых состояний сознания и их роли в духовной жизни.
Кархарт-Харрис, Р. Л. и соавт. — The Entropic Brain (2014) и последующие работы о нейронных коррелятах психоделических состояний.
Современная нейронаучная концепция, объясняющая, как изменения в сетевой динамике мозга связаны с переживаниями вневременности, расширением сознания и растворением эго. Даёт физиологическую основу для понимания терапевтического потенциала ИСС.
Шульц, Й. Г. — Аутогенная тренировка (Autogenic Training, 1932 и позднее).
Практическая методика саморегуляции и контролируемого вхождения в изменённые состояния сознания. Служит инструментом подготовки, стабилизации и восстановления при глубинной психотерапевтической работе.
___
«Шрифты» темпоральности
«Шрифты» темпоральности: культурный, профессиональный и поколенческий контекст
Помимо индивидуального темпорального почерка, существует уровень коллективных «шрифтов» темпоральности — устойчивых манер жить во времени, которые формируются культурой, профессией, поколением и социальными институтами. Эти «шрифты» — как гарнитуры письма: одни сообщества предпочитают плотный мелкий шрифт ежедневных рутин (индустриальные рабочие, госучреждения), другие — широкие каллиграфические мазки творческого труда (художники, поэты), третьи — машинописный, разреженный ритм цифровой культуры (IT-специалисты, цифровые кочевники).
Ключевые наблюдения и практические следствия:
— «Шрифты» определяют ожидания времени у людей: что считается нормой (работать ночью/днём, оперативный отклик, ожидание планирования на годы).
— Они модифицируют темпоральный почерк: привычки работы, ритуалы семейного времени, коллективные праздники и траур — всё это формирует, подкрепляет или подавляет определённые триты (1/2/0).
— В терапии важно не путать культурный шрифт с патологией: ригидность «хронологического» шрифта не всегда симптом — часто это адаптация к социальным ролям.
— «Шрифты» меняются исторически: дигитализация, урбанизация, миграция создают новые сочетания тритов и новые «гарнитуры» темпоральности.
Практическая шпаргалка для терапевта (кратко): при сборе анамнеза включать вопросы о
• рабочем графике и профессиональных ритуалах;
• семейных ритмах (приёмы пищи, вечерние ритуалы, религиозные праздники);
• технической подпитке времени (мессенджеры, уведомления, ночная работа);
• поколенческих ожиданиях (планы на будущее, представления о долге/свободе);
• миграции/длинных разрывов (как переезд изменил «шрифт»).
Методологическая подсказка для исследования: кодировать наблюдения на двух уровнях — индивидуальные последовательности (триты) и метаданные «шрифта» (культура, профессия, возраст). Это позволит отличать личные паттерны от коллективных репертуаров и строить корректные интервенции.
Осторожно с универсализацией — не следует редуцировать человека до «шрифта». Шрифты — полезная метафора и инструмент, но первична индивидуальная феноменология.»
___
Далее — уместно и плодотворно вводить понятие «темпорального языка» как следующего, более глубокого уровня над «почерком» и «шрифтом».
«Язык» темпоральный
«Язык» темпоральный — идея и её роль в структуре книги
1. Что это такое и почему нужно
Если темпоральный почерк — индивидуальная манера жить во времени, а «шрифт» темпоральности — коллективный, культурно-профессиональный способ «написания» времени, то темпоральный язык — это совокупность знаковых, нарративных и символических правил, которые стоят за этими шрифтами и почерками. Темпоральный язык — это грамматика времени: категории, метафоры, синтаксис причинно-следственных связей, способы маркировки «начала/конца», ритуальные коды времени, каноны памяти и проекции будущего.
Язык времени задаёт не только форму переживания, но и смысловую карту — он предлагает термины для прошлых травм, рамки для ожиданий будущего, способы нарративной интеграции настоящего. В этом смысле почерк и шрифт — видимая, практическая реализация языка: письмо, каллиграфия, «шрифт» поведения и ритуала.
2. Примеры «языков времени» (контрастные модели)
— Аграрный язык времени (циркулярный): месячные, сезонные метки, ритуалы урожая. Грамматика: повтор, цикличность, «повторяемость как смысл». Шрифт: круговой, ритмичный; почерк: семейные традиции, сезонные ритуалы.
— Индустриальный язык времени (линейный/прогрессивный): «время — деньги», планирование, линейный прогресс. Грамматика: причинность, накопление, дедлайны. Шрифт: регулярный трудовой распорядок; почерк: пунктуальность, дисциплина.
— Цифровой язык времени (сжатый/параллельный): мгновенные коммуникативные петли, мультизадачность, асинхронность. Грамматика: уведомления, поток, моментальность. Шрифт: быстрые переходы, короткие циклы внимания.
— Мистический/ритуальный язык времени (атемпоральный): ритуалы как вход в прежде-временье; грамматика — метафора вечности, «свернутые» истории; шрифт — символы, иконы, ритуальные тексты.
Каждая цивилизация и эпоха имеет совокупность таких языков; внутри них существуют диалекты (профессии, классы, субкультуры).
3. Что даёт введение термина «темпоральный язык» — практическая польза
— Аналитический ракурс. Позволяет отличать поверхностные практики (шрифты) от глубинной семантики (языка), лучше формулировать интервенции.
— Клиническая чувствительность. Понимание, на каком «языке» говорит клиент, помогает переводить переживания в понятный для него смысл, не навязывая чужих временных грамматик.
— Культурная компетентность. Терапевт видит, что «норма» для одного культурного шрифта — симптом для другого; лечение перестаёт быть универсальным шаблоном.
— Исследовательская операционализация. «Язык» можно изучать через корпуса (литература, ритуальные тексты), нарративный анализ, семиотику, а затем соотносить с эмпирическими данными (EMA, биомаркеры).
— Методический инструмент. Проектировать программы терапии как «перевод»: научить человека читать свой язык времени и при желании пробовать «диалекты» иные — расширять репертуар.
4. Методы исследования темпорального языка
— Феноменология и глубинные интервью (первое-лицо описание грамматик времени).
— Нарративный и дискурсивный анализ (тексты, устные традиции, СМИ).
— Корпусные исследования: частотность метафор времени в литературе/газетах/соцсетях по эпохам.
— Семиотика и визуальная аналитика (архитектура, календарии, искусство как «шрифты» языка).
— Когнитивная лингвистика: метафорические карты (Lakoff/Johnson style) времени в разных языках.
— Компьютерный анализ последовательностей (Markov, тритовые коды) — соотнесение языковой структуры и эмпирического потока переживаний.
5. Ограничения и предостережения
— Метафоричность термина. «Язык» — мощная метафора, но не следует переносить буквальные свойства языка-кодера на всю психику.
— Опасность редукции. Человек — не только носитель языка времени; психика многомерна. Язык — инструмент, а не хозяин.
— Культурная детерминированность. Не все изменения «языка» равнозначно «прогрессу»; вмешательства должны уважать автономию культур и индивидуальность.
— Эпистемическая осторожность. Описательная сила языка должна сопровождаться доказательной проверкой: кореляции, эксперимент, проспективные исследования.
Примеры «языков времени» (три культуры / эпохи)
1) Древняя Греция — философско-космический язык времени
Краткая характеристика. В греческой классической мыслительной традиции время часто связано с космосом, порядком и онтологией: время — производное от вечного, упорядочивающее движение небес и человеческую жизнь. Язык времени в этой традиции формирует представления о циклах и порядках, но подчёркивает также и привязку времени к причинности и смыслу человеческого действия.
Короткая цитата (парафраз/перевод): «Время — подвижный образ вечности.» (Платон, Тимей).
Проявления в шрифте/почерке: каллиграфия научного и философского мышления; ритм гражданской жизни, где политическое действие и культовые сроки переплетены; почерк — умение локализовать событие в цепочке причинности и смысла.
Клиничесно-практический смысл: для пациента с «платоническим» языком времени важна логика смысла, упорядочивание опыта по причинно-следственным линиям; терапия будет полезна с акцентом на нарратив и философское переосмысление.
2) Классическая Индия (Веды / Упанишады / Бхагавад-Гита) — циклический, космологический язык времени
Краткая характеристика. В традициях индуистской космологии время устроено циклически: эпохи (юги), ритмы творения и разрушения, понимание времени как силы, включающей как созидание, так и гибель. В этом языке «вечность» и «повтор» сосуществуют; важна идея сопричастности к универсальному потоку.
Короткая цитата (перевод): «Я — Время, Разрушитель миров.» (Бхагавад-Гита XI.32, краткая формула).
Проявления в шрифте/почерке: сезонные ритуалы, календарные циклы, коллективные ритмы обрядов; почерк — жизнь как участие в крупных циклах, где отдельная судьба вписана в череду юг.
Клинически-практический смысл: у носителей такого языка времени терапия часто должна учитывать циклическую символику: работа с повторяемостью, ритуализация интеграции переживаний, использование образов вечного возвращения как ресурса.
3) Индустриальная / модерн-эпоха (Запад, XIX–XX вв.) — линейно-прогрессивный язык времени
Краткая характеристика. С переходом к индустриальным формам производства и к модерной научно-технической культуре возникает язык времени, который ценит линейный прогресс, эффективность и учёт времени как ресурса («время — деньги»). Он диктует дисциплину, планирование, расчёт; психологически проявляется как упор на расписание, дедлайны и продуктивность.
Короткая цитата (данная как ссылка на мысль): ключевая мысль — дисциплина времени в капитализме (см. E. P. Thompson, «Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism»).
Проявления в шрифте/почерке: строгие распорядки, фабричная пунктуальность, бюрократический учет; индивидуальный почерк — склонность к точному планированию, тревоге при нарушении графика.
Клинически-практический смысл: терапия должна работать с регуляцией рутин, снижением перфекционизма, обучением гибкости темпорального почерка (ввод коротких практик присутствия, смена ритмов).
Как читать эти примеры и как их использовать (коротко)
— Язык → шрифт → почерк. Язык времени задаёт глубокую грамматику; шрифт — материализованный стиль (ритуалы, график), почерк — индивидуальная манера (поведенческий и субъективный стиль).
— Диагностика и эмпатия. В клинике полезно сначала «распознать язык» клиента: какие метафоры он использует о времени? Это даёт ключ к интерпретации симптомов и к подбору интервенций.
— Кросс-культурная осторожность. Не навязываем «один язык» другому; задача — перевести, а не заменить. Терапевт выступает как гид, помогающий расширять репертуар языков времени, а не стирать родной шрифт.
— Историческая перспектива. Эпохи и цивилизации имеют сложные, часто смешанные языки — например, современный город сочетает остатки аграрного языка (сезоны), индустриального (распорядок) и цифрового (мгновенность)
___
(Диагностический чек-лист для распознания «языка времени» смотрите в Приложении)
___
Итоговый абзац-рефлекс
Введение понятия темпорального языка углубляет нашу конструкцию: от индивидуального почерка и коллективного шрифта мы поднимаемся к грамматике смысла времени. Поняв языки, на которых говорят разные культуры и эпохи, мы получаем инструмент для чуткой и культурно-компетентной клинической практики — не для унификации опыта, а для уважительного перевода, интеграции и расширения темпорального репертуара личности.
___
Усложненная модель времени
Краткая мысль.
Изначальная тритовая метафора (1 — хронологическое; 2 — психологическое; 0 — атемпоральность) разворачивается в три большие совокупности. Каждая из них — не единичный знак, а множество элементов и связей. Важно различать два уровня:
— множество людей (каждый человек — носитель своего психологического времени);
— множество состояний внутри одного человека (субличности, изменённые состояния сознания, разные режимы).
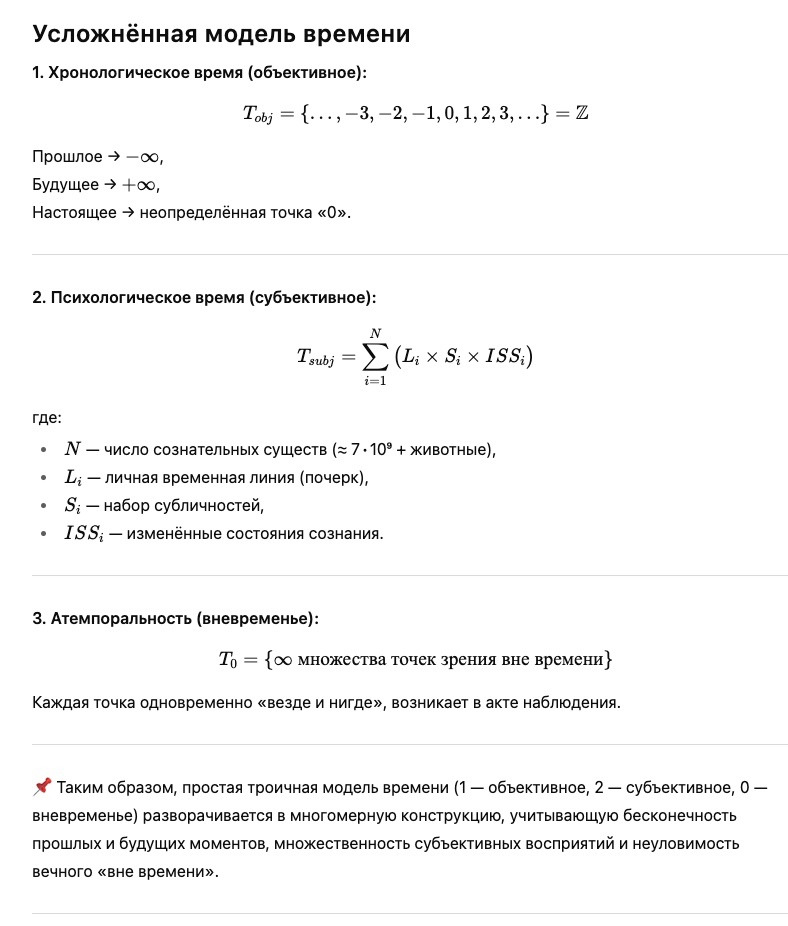
1. Хронологическое (линейное) время — простая структура
Образ. Это ось часов и календаря: упорядоченная последовательность моментов.
Особенность. Настоящее стоит представлять не как точку, а как небольшой «размытый» интервал, потому что мгновения феноменологически неотличимы друг от друга.
Практическая функция. Линейное время служит общим каркасом, координатной сеткой для событий и их датировок.
2. Психологическое (субъективное) время — множество линий субъективности
Здесь важно выделить два слоя.
Первый слой — множество людей.
У каждого человека — своя линия времени, зависящая от его истории, культуры, биоритмов.
Второй слой — множественность внутри одного человека.
Один и тот же человек может переживать время по-разному в зависимости от внутреннего режима или субличности. Например, «рабочее Я», «родительское Я», «творческое Я», «травмированное Я». В особых изменённых состояниях сознания эти режимы могут радикально перестраивать восприятие времени.
Следствие. Психологическое время — это не одна линия на каждого человека, а целое семейство линий: разные режимы одного субъекта наслаиваются и взаимодействуют между собой.
Практический вывод. При построении эмпирической модели нельзя усреднять данные «по населению» без учёта того, что внутри каждого человека существует своя собственная множественность временных линий.
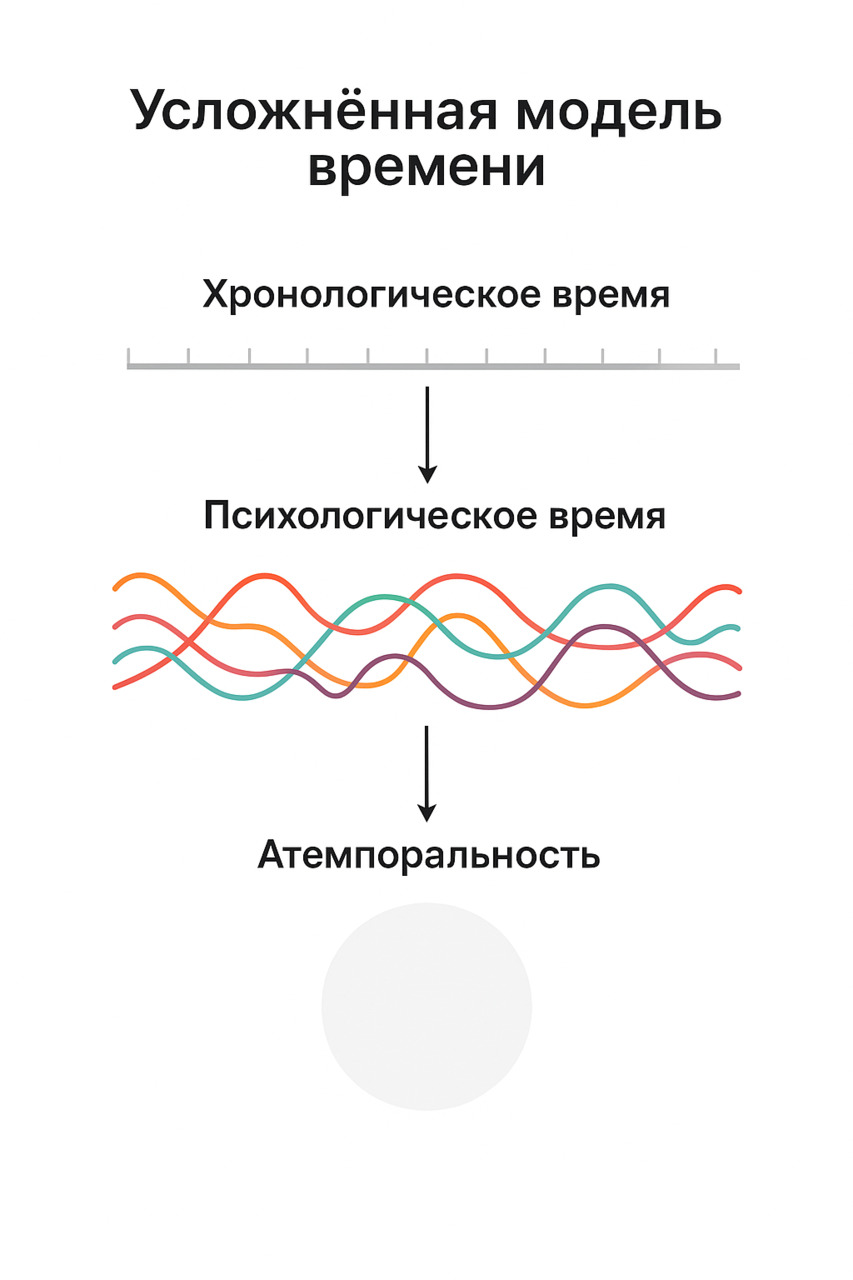
3. Атемпоральность (поле «0») — пространство вневременья
Интуиция. Атемпоральность — это не пустота, а множество состояний и точек зрения, где обычный порядок «прошлое–настоящее–будущее» перестаёт действовать.
Примеры. Это переживания вечности, пиковые опыты, глубокие трансперсональные инсайты.
Особенность. Здесь нет естественного линейного порядка, а связи между состояниями лучше вообразить как сеть, где элементы связаны не последовательностью, а смысловыми перекличками.
Переходы. Человек может попадать в это поле в результате практики, кризиса или спонтанного всплеска. После возвращения из вневременного состояния требуется интеграция опыта.
Схема связей и переходов
— Хронологическая линия — это общий каркас.
— У каждого человека есть семейство субъективных линий, которые накладываются на этот каркас.
— Переходы в состояние атемпоральности — особые сдвиги, где линия субъективного времени как бы сворачивается в «точку вечности», а затем разворачивается обратно.
В графическом воображении это можно изобразить так:
горизонтальная ось — линейное время; над ней — множество цветных линий разных людей и режимов; вертикальные стрелки — переходы во вневременность и возвраты из неё.
Простые прикладные индикаторы
Чтобы сделать модель рабочей и применимой в практике психотерапии, можно использовать простые наблюдаемые показатели:
— Расхождение субъективного и объективного времени. Насколько восприятие длительности у человека отличается от календарного времени.
— Частота режимов или субличностей. Как часто у человека проявляется то или иное внутреннее «Я» (рабочее, творческое, родительское и др.).
— Вероятность перехода в атемпоральность. Как часто у человека фиксируются переживания «вне времени» — например, в результате практик или кризисов.
— Последовательность переходов между тремя областями (1, 2, 0). Можно кодировать состояния и наблюдать, как человек перемещается между ними: из линейного времени — в субъективное, затем во вневременность и обратно.
— Вариативность темпорального почерка. Насколько разнообразны переходы человека во времени: чем больше гибкости, тем богаче его внутренний «почерк времени».
Вывод
Изначальная тритовая схема («1 — линейное, 2 — субъективное, 0 — вневременное») остаётся удобной интуитивной картой. Но усложнённая модель показывает:
— линейное время — общий каркас;
— субъективное время — множество линий для разных людей и их внутренних режимов;
— атемпоральность — поле состояний, не сводимых к линейной последовательности.
Такой подход делает модель пригодной для практики: её можно описывать словами, наблюдать в опыте, фиксировать в дневниках, исследовать в терапии.
___
Усложнённая модель хронологического времени
Модель времени становится значительно сложнее, если мы присмотримся к хронологическому (линейному) времени отдельного человека. На первый взгляд, как мы уже определили, это «внешняя» ось — часы, календари, биологические циклы, социальные расписания и институты. Она обеспечивает миру измеримость, предсказуемость и согласованность действий между людьми. В терапевтическом контексте хронологическое время — это прежде всего сфера регуляции: сна, питания, режима дня, назначения лечения, планирования и адаптации к требованиям социума.
Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что хронологическое время не является нейтральной сеткой. Каждый человек рождается в определённый момент хроноса — в особое время суток, день недели, сезон, год, эпоху. И именно в этот момент запускается его индивидуальная «временная матрица» — внутренние ритмы, которые вступают в сложный резонанс с ритмами внешнего мира. С этого мгновения человек живёт не просто во времени, но в своём времени, в уникальном сочетании биологических, социальных и космических циклов.
Можно сказать, что при рождении каждое живое существо получает собственный код хронологического времени — уникальную конфигурацию ритмов и фаз, которая влияет на особенности темперамента, адаптации и даже восприимчивости к болезням. Это не мистика, а эмпирически наблюдаемый феномен биоритмологии и хронобиологии. Ещё Ф. Халберг (Halberg, 1967) показал, что у человека существуют устойчивые циркадные, ультрадианные и инфрадианные колебания физиологических и психических функций, формирующие индивидуальный хронотип. Исследования К. Хонма и Я. Асчоффа (Aschoff, 1981; Honma & Honma, 1988) подтвердили, что внутренние «биологические часы» способны функционировать автономно, а их синхронизация с внешним временем требует сложных механизмов адаптации.
В клинической практике психотерапевт сталкивается с тем, что сбои этой синхронизации — десинхроноз — нередко лежат в основе тревожных, аффективных и соматических расстройств. Возвращение к собственной ритмике времени, выравнивание внутреннего и внешнего хроноса становится частью терапевтической работы. В этом смысле индивидуальная хрононастройка — не только предмет физиологии, но и феноменологический, экзистенциальный процесс восстановления согласия между личным и космическим временем.
Поэтому говорить о «хронологическом времени» следует не как о едином и универсальном для всех континууме, а как о множестве уникальных времён, сплетающихся в ткань человеческой жизни. И если астрология склонна превращать эту уникальность в схему, то современная психология времени может рассматривать её как проявление глубинной связи человека с ритмами живой Вселенной.
Сетевое переживание времени — еще один уровень сложности модели времени
Еще более сложная модель времени возникает, если мы начинаем учитывать коллективное измерение времени (глава 38), символом которого является орнамент «Узел времён», символизирующий множественность и пересечение коллективных времён. Личное, родовое, культурное и эпохальное время, переплетаясь, создают поле. Это не линейное, а сетевое и узловое переживание времени, в котором важно различать слои и находить точки сопряжения.
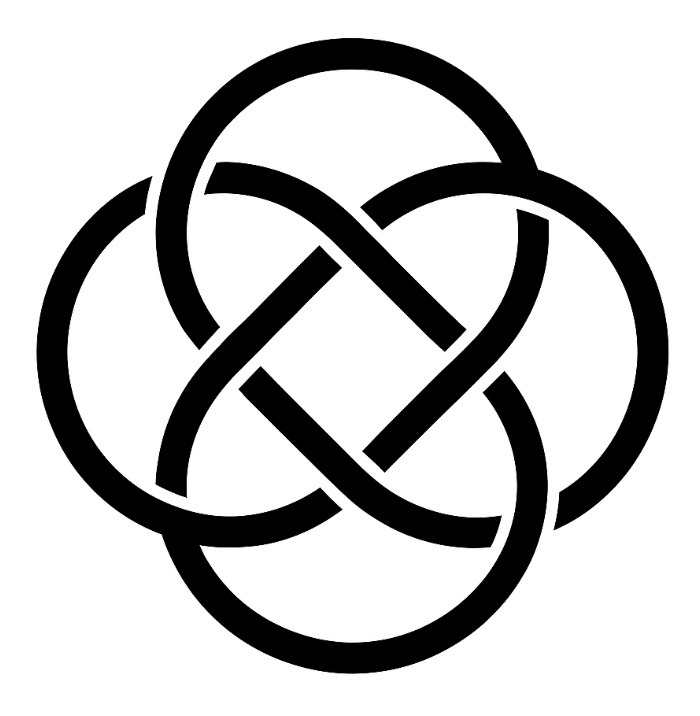
Ключевые источники
Ашофф, Юрген. — Биологические ритмы (Springer-Verlag, 1981).
Фундаментальный труд одного из основателей современной хронобиологии. Автор описывает принципы циркадных и иных биологических циклов, механизмы их синхронизации с внешними факторами (цейтгеберами) и адаптацию организма к изменениям среды.
Клейн, Дэвид С.; Мур, Р. И.; Репперт, Стивен М. — Супрахиазматическое ядро: часы разума (Оксфордское университетское издательство, 1991).
Монография, раскрывающая нейрофизиологические основы внутреннего времени человека. Показана роль супрахиазматического ядра гипоталамуса как главного биологического осциллятора, координирующего циркадные ритмы и физиологические процессы организма.
Халберг, Франц. — Циркадные (около двадцатичетырёхчасовые) ритмы в экспериментальной медицине (Труды Королевского медицинского общества, 1967, т. 60, №12, с. 1423–1440).
Классическое исследование, положившее начало концепции эндогенных биоритмов у человека и животных. Работы Халберга заложили основы хронобиологии как науки, связав суточные колебания физиологических процессов с клиническими проявлениями и состояниями здоровья.
Хонма, Кадзуо, и Хонма, Сатоко. — Циркадный ритм поведения и сна человека: индивидуальные различия и их клиническое значение (Журнал Sleep, 1988, т. 11, №6, с. 536–547).
Исследование индивидуальных различий циркадных ритмов и хронотипов. Авторы показали, что вариации во времени сна и активности имеют выраженное психофизиологическое значение, влияя на эмоциональную устойчивость и адаптацию личности.
___
Глава 5. Орнаментальность темпорального языка
Краткое содержание
В этой главе орнамент рассматривается как полноценный «язык времени»: не только декоративный мотив, но визуальная и ритмическая грамматика, которая кодирует и транслирует способы переживания времени. Глава развивает идею, что орнамент проявляется далеко за пределами книжной графики или вышивки — в архитектуре и планировке городов, в ландшафте, в дизайне предметов, в музыке, танце, тексте и даже в социальных ритуалах. Мы выделяем условные соответствия между типами орнамента и режимами времени (1 — хронологическое; 2 — психологическое; 0 — атемпоральность), обсуждаем методологические риски универсализации символики и предлагаем практические методы использования орнаментального анализа в диагностике и терапии.
Ключевые понятия
— Орнамент — ритмически организованный визуальный (и более широко — формальный) узор, задающий структуру восприятия времени и пространства.
— Орнаментальная грамматика — совокупность правил и приемов (повтор, пауза, симметрия, асимметрия, нарастание, разрыв), которые формируют «синтаксис» визуальной темпоральности.
— Темпоральный код орнамента — условная связь между формой орнамента и режимом времени (хронологическим, психологическим, атемпоральным).
— Архетип орнамента — устойчивые базовые образы (меандр, круг, мандала), часто несущие в себе универсальные или длительно устойчивые смыслы времени.
— Орнамент в широкой культуре — идея, что орнаментальные структуры проявляются в «неочевидных» сферах: городе, ландшафте, движении, звуке, тексте и социальном поведении.
Цели главы
— Показать орнамент как универсальный способ выражения темпоральности.
— Расширить представление о местах проявления орнамента — от графики до городской структуры, дизайна и поведения.
— Описать условные соответствия «форма ↔ режим времени» и разъяснить методические ограничения таких соответствий.
— Предложить практические пути применения орнаментального анализа в диагностике темпорального почерка и в терапевтических интервенциях.
Основная часть
1. Орнамент как язык времени — от поверхности к структуре
Орнамент — это прежде всего правило игры с ритмом: повтор, перерыв, развитие мотива, симметрия и диссонанс. Когда мы смотрим на орнамент, мы не просто видим форму — мы считываем ритм и «темп»; он задаёт ожидание, задаёт ожидание следующего «вздоха», следующей паузы. Потому орнамент работает как предъязыковая карта времени: он организует восприятие ещё до того, как мы проговорим опыт словами. Понимание орнамента как языка времени помогает поставить визуальную форму рядом с вербальными и поведенческими проявлениями темпоральности — это объединяет эстетику, культуру и психотерапию.
2. Три типа орнамента и три режима времени (условные соответствия)
Ниже — рабочие соответствия, которые полезны как интерпретативная подсказка, а не как закон.
— Хронологический орнамент (1). Мотивы с регулярной метрической повторяемостью, меандры, шаговые фризы, сетки. Читаются как счёт, ритм, метр; связаны с порядком, расписаниями, нормой. Примеры: классическая плиточная геометрия, регулярные фасады с одинаковыми окнами, парадные колоннады.
— Психологический орнамент (2). Текучие, асимметричные, растительно-узорные композиции, где мотивы развиваются ассоциативно. Они отражают внутреннее время — свободные ассоциации, «плотность» переживаний. Примеры: поэтические линии, витиеватые растительные орнаменты, свободная мелодика в народной музыке.
— Атемпоральный орнамент (0). Замкнутые фигуры, мандалы, концентрические круги, симметрии, которые символизируют целостность, присутствие, «внезапную остановку» хронологического счёта. Примеры: мандалы в религиозной практике, розетки на храмовых фасадах, медитативные узоры.
Важно: орнамент часто комбинирует режимы — в орнаменте может быть и строгое счётное ядро, и каскад ассоциативных элементов, и центр, ведущий к состоянию вневременья (пример — исламская геометрия, где строгая симметрия соседствует с ощущением бесконечности).
3. Орнамент вне декоративного поля — где ещё «пишется» язык времени
Орнаментальность проявляется во множестве сфер, часто не очевидно как «узор». Ниже — примерные сферы и конкретные проявления:
— Архитектура и градостроительство. Фасады и планы улиц, ритм окон и лестниц, модульность застройки — всё это орнамент городской ткани. Планировка квартала с регулярными улицами создает хронологический ритм; извилистые улицы, «петляющие» вдоль ландшафта, — психологический; центральная площадь с концентрической планировкой — атемпоральный центр.
— Ландшафтный дизайн и сельская планировка. Разбивка участков, закономерность посадок, повтор деревьев вдоль дорожек — орнамент времени суток и сезонов. Поля, ориентированные по солнечной дуге, «читают» год в растительном ритме.
— Промышленный и предметный дизайн. Ритмичные решётки вентиляционных отверстий, ритм фар на автомобиле, повторяющиеся детали корпуса электроники — формальные принципы, которые создают временное ощущение: движущаяся машина «читается» как направленное время, предмет с концентрическим узором — как «точка присутствия».
— Текст и литературный ритм. Повторы, анафоры, метр, стробирование синтаксиса — орнамент в вербальном времени. Поэтический рефрен — орнамент памяти; фрагментарный, потоковый синтаксис — орнамент внутреннего времени.
— Музыка и звук (ритмальностные узоры). Метрика, такт, повтор темы (риторический рефрен) — хронологический орнамент; свободная мелодия импровизации — психологический; дзен-практики с монотонными звуками — атемпоральный.
— Танец и телодвижение. Повторение шагов, хореографическая симметрия или импровизационная текучесть — визуальные орнаменты, задающие темп переживания.
— Поведение и ритуалы. Ежедневные ритуалы (утренний кофе, церемонии и обряды) — орнаменты хронологического типа; семейные рассказы, устойчивая риторика — орнамент нарративный; коллективные мистерии — орнаменты атемпоральные.
— Социальные сети и цифровые интерфейсы. Ленты новостей, алгоритмические повторы, цикличность уведомлений — новый вид орнаментальности, формирующий современный «временной почерк» (ускорение, фрагментация, цикличность).
— Индивидуальная художественная продукция. Рисунки, журналы снов, автобиографические маски — орнаментальные отпечатки темпорального почерка личности.
Эти примеры показывают: орнаментальность — не только эстетика, но и поведенческая, планировочная и технологическая характеристика культуры.
4. Методология орнаментального анализа в темпоральной психологии
Как можно работать с орнаментом клинически и исследовательно?
— Сбор материалов. Соберите визуальные (рисунки пациента, вещи, орнаменты в доме), аудиальные (любимая музыка, ритмы речи), пространные (план жилья, маршруты передвижения) и текстовые образцы.
— Анализ по шкалам 1/2/0. Для каждого образца отмечайте преобладающие структурные признаки: метр/повтор (1), текучесть/ассоциация (2), центр/симметрия (0). Необходимо фиксировать многомерность — один образ может иметь несколько меток.
— Сопоставление с темпоральным почерком. Сопоставьте орнаментальные признаки с результатами диагностических шкал почерка (гл. 1) — совпадения могут подтвердить гипотезу о визуальном выражении темпорального почерка.
— Интервенция через орнамент. Терапевтические техники: предложение пересоздать орнамент (рисунок, мандала), изменение ритма в бытовых ритуалах (введение регулярных «хронологических» шагов или, напротив, практик свободной ассоциации), использование орнаментальных медитаций (мандалы, повторы звуков).
— Этическая и культурная рефлексия. Всегда учитывать культурный контекст; не приписывать универсальные смыслы без проверки с клиентом; использовать орнамент как диалоговый инструмент, а не как диагноз.
5. Примеры клинических и культурных кейсов (кратко)
— Клинический пример 1. Пациент с застреванием в прошлом рисует повторяющиеся меандры и геометрические фризы; интервенция — введение «растительного» орнамента в творческое задание и работа с образами будущего, что привело к расширению временной перспективы.
— Кейсы в градостроительстве. Город с регулярной сеткой улиц показывает высокий уровень хронологической предсказуемости у жителей (режим расписаний), тогда как лабиринтоподобные планировки стимулируют другие формы временного опыта (большая внутренняя фантазия и «местное» время).
— Дизайн продукта. Автомобиль с регулярными повторяющимися элементами воспринимается как «надёжный», тогда как органически-обтекаемые формы вызывают ощущение «времени движения» и эмоциональной вовлечённости.
6. Ограничения, критика и правила осторожности
— Культурная обусловленность. Интерпретации узоров чувствительны к контексту: то, что в одной культуре читается как вневременное, в другой может означать принадлежность к социальной группе или статус.
— Риск редукции. Не сводите человека к одному орнаменту; орнамент — часть контекстуальной палитры.
— Эмпирическая проверка. Орнаментальный анализ требует систематического сопоставления с поведенческими и самоотчётными данными; без этого интерпретации остаются гипотезами.
— Этика. Не использовать орнамент для стигматизации; работать с клиентом в духе ко-исследования и согласия.
Практические рекомендации (коротко)
— При диагностике темпорального почерка собирайте простые визуальные данные: рисунок, узор на одежде, план комнаты.
— Просите клиента описать, почему он/она выбирает тот или иной узор — это важная вербальная интеграция визуального материала.
— В терапевтическом упражнении «перекодирования почерка» предложите клиенту создать орнамент, меняя в нём один элемент (из строгого → вьющегося → замкнутого) и обсуждайте ощущения.
— В группе — практики коллективного создания мандал или орнаментальных картин для интеграции коллективных темпоральных переживаний.
Литература
Гаспаров, Б. М. — Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы XX века (уточнить год издания при вёрстке).
В книге анализируются приёмы повтора, вариации мотивов и структурные циклы в художественном тексте — то, что можно перенести в визуальную плоскость как «орнамент языка». Особенно важны наблюдения о том, как лейтмотивы организуют временную протяжённость произведения, как повтор становится маркером смысла и как текстовые «узоры» соотносятся с переживанием времени читателем. Практическое применение в темпоральной психологии — методики анализа пациентских рассказов и творческих продуктов на предмет орнаментальных повторов и темпоральных мотивов.
Гуревич, А. Я. — Категории средневековой культуры (1985 и последующие издания).
Исследование ритмов и символических структур средневекового мировосприятия: литургические циклы, архитектурная орнаментика, синтаксис сакрального пространства. Эти наблюдения ценны для понимания орнамента как универсальной формы организации времени — не только в узоре на ткани или книге, но и в планировке храмов, городов, календарей и ритуалов. Работа Гуревича подтверждает идею о всеобщей распространённости темпорального орнамента в материальных и духовных практиках.
Кравченко, С. А. — ИСС и ИИ — 2. Книга Моста (2025).
Авторская разработка, непосредственно связанная с темой главы. Книга содержит методологическую платформу для сопоставления орнамента и темпоральных слоёв психики, а также практические кейсы и упражнения. В ней предложено понятие «моста» — промежуточных символических практик, которые переводят переживание безвременья в интегрируемый психический ресурс. Для данной главы труд представляет прикладную опору: примеры протоколов анализа рисунков, масок и городских планов как орнаментальных отпечатков темпорального почерка.
Лосев, А. Ф. — Диалектика мифа (классические издания 1949–1960-х гг. и переиздания).
Философско-мифологическая теория символа и мифа как форм временной смыслообразовательности. Лосев показывает, что миф и символ оформляют архетипические ритмы — циклы, возвращения, центры, — которые в культуре становятся моделями времени. Эти идеи позволяют рассматривать орнамент не как декоративную форму, а как репрезентацию мифического времени и «вневременных» смыслов, впоследствии входящих в личностный почерк и коллективные сценарии.
Элиаде, М. — Образы и символы и смежные работы по символике (1950–1980-е).
Классик религиозной и символической антропологии. Элиаде исследует универсальные архетипы (круг, мандала, ось мира), объясняя, почему определённые орнаментальные формы воспринимаются как вечные. Для темпоральной психологии эти идеи служат теоретическим фоном: они раскрывают роль символов в создании опыта сопричастности вне линейного времени. Практический вывод — орнамент, вызывающий «мандалоподобное» впечатление, может указывать на склонность к переживаниям атемпоральности и поиску внутренней целостности.
Заключение
Орнамент — мощный диагностический и терапевтический ресурс: он отражает, формирует и поддерживает темпоральные режимы личности и культуры. Расширение понятия орнамента за пределы декоративного поля открывает новые перспективы для темпоральной психологии: от анализа индивидуальных рисунков и бытовых ритуалов до изучения городской ткани и дизайна как масштабных «орнаментальных текстов времени». При этом любые интерпретации требуют культурной чуткости, эмпирической проверки и клинической осторожности.
___
В Приложении к главе 5 — Тест «Орнамент и язык времени».
___
Выводы раздела 1
Краткие выводы раздела I — «Основания и принципы»
— Время в психике — не только внешняя шкала, но и внутренняя ткань опыта.
— Темпоральные характеристики (длительность, темп, ретенция/протенция) формируют чувственные тона, смысловые акценты и структуру личности.
— Введена операциональная категория «темпоральный почерк».
— Почерк — устойчивый, индивидуально окрашенный способ переживать время, продукт взаимодействия биологических, социокультурных и архетипических ритмов.
— Темпоральный почерк зеркалит типологию личности, но не сводится к ней.
— Интроверсия/экстраверсия дают вектор чувствительности (внутренние vs внешние ритмы), однако почерк сложнее: он включает темп, ритмочувствительность, склонность к атемпоральности и паттерны переходов между режимами времени.
— Внешние ритмы (суточные, лунные, сезонные, многолетние) — реальный контекст темпоральности.
— Они влияют на состояние и клинические проявления личности; их учет повышает диагностическую точность, но требует методологической осторожности при интерпретации корреляций.
— Изменённые состояния сознания (ИСС) обозначают «порог» выхода за рамки обычной темпоральной обусловленности.
— ИСС способны перераспределять вес прошлого/настоящего/будущего, открывать доступ к атемпоральным переживаниям и становиться как ресурсом, так и риском — в зависимости от подготовки и интеграции.
— Темпоральность отображается в культурных объектах — прежде всего в орнаментах и темпоральных «шрифтах».
— Визуальные и вербальные коды несут предъязыковые схемы времени и могут служить дополнительным диагностическим и терапевтическим инструментарием (при учёте культурного контекста).
— Предложенная троичная метафора (1 — хронологическое; 2 — психологическое; 0 — атемпоральность) — полезный рабочий инструмент.
— Она упрощает картирование режимов времени и проектирование интервенций, но требует усложнения и операционализации для эмпирической верификации.
— Методологическая и этическая осторожность — обязательны.
— Метафоры и культурные трактовки расширяют взгляд, но клинические и научные утверждения нуждаются в проспективной проверке, пререгистрации гипотез и чётких критериях готовности для вмешательств.
Переход к Разделу II — «Измерения времени и состояния психики»
Итак, в первой части мы заложили теоретический и методологический каркас: понятие темпорального почерка, уровни внешних ритмов, роль ИСС и идеи о темпоральных шрифтах и орнаментах. Следующий раздел переносит фокус с философско-системной карты на конкретные измерения опыта: как прошлое, настоящее и будущее «вписываются» в структуру сознания, какие состояния и режимы времени можно эмпирически различать, и какие проявления этих измерений важны для практической психотерапии. В Разделе II мы последовательно рассмотрим каждое измерение времени в психике, опишем соответствующие состояния (включая клинические паттерны и ИСС) и предложим диагностические и терапевтические инструменты — от шкал и анкет до упражнений и протоколов интеграции.
___
Раздел 2. Измерения времени и состояния психики
В Разделе 2 мы переходим от общей картины темпоральной психологии к конкретным измерениям времени и их значению для жизни и психики. Перед читателем — пять взаимосвязанных глав:
• Глава 6. Прошедшее и память бессознательного — о том, как прошлое хранится не только в воспоминаниях, но в телесных паттернах, родовых сценариях, культурных шрифтах и эпигенетических отпечатках; о методах чтения этого поля и его значении для терапии.
• Глава 7. Настоящее: здесь и сейчас (темпоральный язык) — о природе «здесь и сейчас», о том, как настоящее конституируется в сознании, и о практиках, которые помогают укреплять контакт с настоящим как терапевтическую опору.
• Глава 8. Будущее: прекогниция и конденсат временной кристаллизации (КВК) — о разных слоях будущего (вероятное, возможное, желаемое, предчувственное), о феноменах предчувствий и о том, как формируются «темпоральные конденсаты», задающие направление жизни.
• Глава 9. Вечность как психологический феномен — о ресурсных переживаниях сопричастности и смысла, о различении трансцендентного опыта и клинических рисков, и о методах безопасной интеграции переживаний вечности.
• Глава 10. Безвременье и атемпоральность — о противоположности вечности: переживании пустоты, утрате перспективы, временной дезинтеграции; о механизмах, клинической серьёзности (включая риск суицида) и алгоритмах вмешательства.
Эти главы не просто идут одна за другой — они пересекаются и дополняют друг друга, поскольку психика никогда не живёт «в одном пласту» времени: прошлое, настоящее и будущее всегда переплетены, а между ними возможны и ресурсные, и патологические выходы за пределы линейного течения.
Прошлое — поле, не сводимое к памяти
Прошлое в нашей модели — не только «то, что однажды случилось». Это многослойное поле: нейронные и соматические следы, родовые и культурные сценарии, предметы и ритуалы, мифы и устные истории. Память — один из механизмов, через который это поле проявляет себя в сознании; но поле само по себе задаёт контексты и смыслы, в которых воспоминания обретают силу. Именно поэтому при клинической работе с прошлым важно смотреть за пределы отдельных эпизодов: где «сидит» прошлое — в теле, в языке, в рутине, в семейных сценариях.
Бессознательное — многовременное пространство
Бессознательное содержит следы прошлого и зародыши будущего одновременно. В нём живут мотивации и предчувствия, архетипические образцы и соматические импульсы, которые управляют поведением до того, как мы их осознаём. Рассматривать бессознательное как «источник прошлого» — верно, но неполно; его мультивременная природа делает его важнейшей ареной для понимания того, как прошлое и будущее взаимодействуют в настоящем.
Настоящее — не точка, а процесс
«Здесь и сейчас» — это узел, где встречаются ретенция прошлого и протенция будущего, где формируется темпоральный почерк. Настоящее редко бывает «чистой» мгновенностью; чаще это текучая интеграция множества временных пластов. Именно в настоящем мы измеряем смысл, принимаем решения и переживаем трансформации; от качества контактирования с настоящим зависят и устойчивость личности, и способность к изменению.
Будущее — многослойное поле притяжения
Будущее включает вероятное (расписание, прогнозы), возможное (альтернативы), желаемое (цели) и предчувственное — те бессознательные притяжения, которые, возможно, работают сильнее формальных планов. Терапевтическая работа может быть направлена как на структурирование будущего (планирование, шаги), так и на исследование «протофутуры» — тех немотивированных, но значимых притяжений, которые формируют выборы здесь и сейчас.
Вечность и Безвременье — два разных пути «вне времени»
Раздел специально посвящает две разные модальности «вневременного» опыта. Вечность — ресурсное переживание целостности, сопричастности и смысла; оно может поддерживать личность. Безвременье — состояние дефицита перспективы и смысла, пустоты и «остановки» времени; клинически это явление особенно опасно: утрата ощущения будущего — один из ключевых факторов, повышающих риск суицида. В дальнейшем разделе мы подробно разбираем различия, механизмы возникновения и тактики вмешательства.
Полевые наблюдения: экстремальные среды как «натуральная лаборатория»
Опыт работы в капсульных и экстремальных условиях (подводные проекты типа NEEMO, длительная изоляция в Антарктиде, космические аналоги) — важное эмпирическое подспорье. При длительной сенсорной депривации, нарушении сна и ограничении стимулов у людей меняются не только оценки длительности: трансформируется вся темпоральная перспектива. Испытуемые описывают качели — насыщенное прошлое → растянутый сюрреалистический настоящее → усиленное предчувствие будущего → эпизоды «вне-времени», когда «я здесь» притупляется. Механизмы — мультифакторные: сбои сна и циркадных ритмов, монотонность, физиологические воздействия (давление, газовый состав), психическое истощение и предсуществующие уязвимости (диссоциация, травма). Эти наблюдения подкрепляют нашу установку: изменения в опыте времени — не поэтическая метафора, а клинически релевантный маркер адаптации/дезадаптации.
Методологический вывод: сочетайте субъективное и объективное
При работе с временными измерениями внимательность должна распределяться между:
— субъективной картой (темпоральный почерк, нарративы, дневники, опросники);
— поведенческими метриками (актиграфия, дневники сна, EMA — моментальные отчёты);
— физиологическими маркерами (HRV, сон, при необходимости — короткие записи ЭЭГ).
— Только комбинированный подход позволяет отличить адаптивные временные сдвиги от патологических — и верно расставить клинические приоритеты.
Практическая задача Раздела 2
Наша задача — дать читателю инструменты чтения темпорального поля личности: как распознать, где «сидит» прошлое, насколько настоящее стягивает или распускает личность, какие уровни будущего активны и где возникает риск Безвременья. Это предполагает и диагностические схемы, и терапевтические стратегии — от стабилизации ритма до глубинной интеграции смыслов и работы с изменёнными состояниями сознания.
Ключевая литература для Раздела 2
Друа-Воле, С., Мек, У. Х. и др. — Обзоры по экспериментальной психологии субъективного времени (Reviews in Experimental Psychology of Time).
Современные работы по количественному измерению субъективного времени и анализу искажений его восприятия (эффекты сжатия и растяжения длительности). Эти методы применимы для клинической диагностики нарушений темпорального опыта и эмпирической проверки терапевтических гипотез.
Фрейд, Зигмунд. — Толкование сновидений (The Interpretation of Dreams, 1900).
Классическое исследование роли бессознательного прошлого в формировании символики сновидений. Труд важен для нарративной психотерапии, поскольку раскрывает, как скрытые воспоминания и вытесненные образы продолжают действовать в настоящем времени.
Гуссерль, Эдмунд. — Феноменология внутреннего сознания времени (The Phenomenology of Internal Time-Consciousness, лекции ок. 1905).
Философское основание всей темпоральной психологии: анализ ретенции, протенции и акта «сейчас» как элементов структуры сознания. Даёт базовую схему для понимания того, как психика переживает длительность и формирует чувство последовательности.
Джойнер, Томас. — Почему люди совершают самоубийство (Why People Die by Suicide, 2005).
Монография, объединяющая когнитивные, экзистенциальные и межличностные подходы к пониманию суицидального поведения. Особенно ценна для темпоральной психотерапии как модель утраты будущего и переживания безвременья, ведущего к кризису смысла.
Юнг, Карл Густав. — Избранные эссе по коллективному бессознательному и синхроничности (XX в.).
Классические тексты, вводящие понятия архетипа и синхроничности как механизмов связи между внутренними и внешними временными событиями. Служат теоретическим ресурсом для работы с архетипическими слоями психики и построения смысловых «мостов» между временными полями личности.
Исследования по NEEMO, антарктическим миссиям и космическим аналогам. — Сборники отчётов и обзоров NASA и ESA.
Эмпирические материалы, описывающие трансформации восприятия времени, сна и межличностной динамики в условиях длительной изоляции и сенсорной депривации. Эти данные полезны для разработки методологии наблюдения и понимания внешних триггеров изменений временного опыта в экстремальных средах.
Этот раздел — мост между философским осмыслением времени и прикладной клиникой: он даёт и картину, и инструменты. В следующих главах мы шаг за шагом распакуем каждое измерение: от прошлой ткани бессознательного до практик, позволяющих возвращать людям ощущение будущего и защищать их от опасности, которую несёт Безвременье.
Глава 6. Прошедшее и память бессознательного
Прошлое является таковым, пока о нем не вспомнили. Тогда оно — уже часть настоящего. (По аналогии с эпиграфом о будущем: Будущее является таковым, пока его не спланировали)
Краткое содержание
Прошлое не является замороженным пластом, оно живёт в нас как активная сила. Оно проявляется в субличностях, образах, телесных реакциях, культурных сценариях и даже в эпигенетических предрасположенностях. Память бессознательного — это не только воспоминания, но и повторяющиеся сны, архетипы, телесные симптомы, родовые сюжеты и культурные «шрифты», которые продолжают переписывать настоящее. В психотерапии работа с прошлым даёт возможность перевести скрытые влияния в язык и диалог, а значит — изменить настоящее и открыть будущее.
Понятия
— Главное прошлое — то, что активно живёт в душе, влияет на чувства, поступки и смыслы.
— Память бессознательного — проявления прошлого в снах, образах, телесных реакциях и культурных сценариях.
— Субличность — часть личности, несущая отпечаток определённого временного пласта или роли.
— Шрифт времени — система символов (личных, культурных, архетипических), через которые человек воспринимает и выражает прошлое.
— Память рода — эпигенетические и культурные следы опыта предков, влияющие на потомков.
Цели
— Показать, что прошлое — это не только история, но и действующая психическая реальность.
— Рассмотреть основные механизмы влияния прошлого на настоящее.
— Сформулировать методические подходы для работы с памятью бессознательного.
— Дать клинические примеры («кейсы») и показать техники их терапевтической проработки.
— Обозначить этические границы и ограничения при работе с темами прошлого и рода.
Основная часть
Мы начинаем с аксиомы, проверенной практикой и терпеливым вниманием: прошедшее не обязательно остаётся «прошедшим». То прошлое, которое активно присутствует в душе — то, что мы в книге называли «главным прошлым» — живёт в нас как действующая сила и ежедневно переписывает настоящее. Осознать это — значит обрести возможность вести с ним диалог; не осознать — значит позволить прошлому продолжать дирижировать нашими чувствами, поступками и смыслами, перспективами и судьбой.
1. Прошлое как живая архитектура психики
Прошлое — не склад забытых дат и фактов; это многослойная структура: архивы памяти, ритмы, портреты и орнаменты, которые взаимодействуют между собой и с живым настоящим. Мы представляем его как «мир прошлого» — океан с течениями и бухтами, в котором одни образы погружены глубоко, а другие всплывают в виде сновидений, телесных реакций или внезапных чувств. Эти всплытия и составляют то, что мы называем памятью бессознательного.
2. Основные механизмы влияния прошлого
Практика показывает несколько надёжных путей, по которым прошлое овладевает настоящим. Для терапевта важно видеть их и уметь с ними работать.
— Субличности. Внутренние «части» — ребёнок, хранитель, агрессор, идеал — часто носят отпечатки конкретных временных пластов. Субличность может быть «носителем» биографического эпизода, ролевой установки или родового сценария. Диалог с субличностью — не гипотеза, а рабочий метод: давая каждой части слово, мы переводим неконтролируемое в осознаваемое.
— Образная память (сны, портреты, культурные образы). Повторяющиеся сновидения, лица в портретах, «идеальные образы» культуры (кумиры, герои) — всё это формирует «шрифты» смысла, которыми человек описывает время и себя в нём. Эти образы — мосты между индивидуальным опытом и коллективной памятью.
— Телесная память. Скованность, автоматические реакции, соматические триггеры — тело «помнит» иначе, чем сознание. Интервенции без работы с телом оставляют прошлое функционировать «в теле», то есть сохраняют симптомы.
— Культурно-родовые стереотипы и ритуалы. Семейные сценарии, религиозные ритуалы, общественные мифы — они формируют те самые «шрифты», по которым личность пишет свою историю. Чем сильнее родовая или культурная плотность, тем больше риска, что человек будет дублировать чужие смыслы, выдавая их за свои.
— Эпигенетическая «память рода». Современные исследования показывают: тяжелые стрессовые события предков могут оставлять метки в экспрессии генов потомков. Это не «судьба», а предрасположенность — биологическая ткань, на которой накладываются психологические и культурные сценарии. В клинике это проявляется как повышенная реактивность, склонность к тревоге или сниженной стрессоустойчивости, которые легко «подсаживаются» на субличностные паттерны семьи. Упоминание эпигенетики даёт нам ещё один мост — от биологии к нарративу — и требует осторожной, не редукционистской интерпретации.
3. Классики и их вклад: от личного бессознательного к коллективной памяти и телесной травме
Работа с прошлым в психотерапии не может опираться на одну теоретическую традицию. Каждое направление добавляет свой слой понимания — от бессознательного до коллективных структур, от когнитивных процессов до телесной памяти.
Личное бессознательное и травма. Фрейд показал, что вытесненные события детства возвращаются в символах сновидений и симптомах неврозов (Freud, 1900). Его открытие сделало прошлое ключевым полем анализа. Жанэ исследовал диссоциацию и показал, что осколки воспоминаний могут автономно существовать в психике, формируя истерические симптомы (Janet, 1907). Боулби дополнил эту линию теорией привязанности, раскрыв, как ранние отношения с родителями формируют устойчивые модели переживания себя и других (Bowlby, 1969). Вместе эти подходы позволяют видеть прошлое не только как архив событий, но и как живую силу, формирующую структуру личности.
Коллективное и культурное. Юнг расширил горизонты, введя понятие архетипов и коллективного бессознательного, где индивидуальные переживания вплетены в общечеловеческие мифы и символические «шрифты» (Jung, 1959). Хальбвакс показал, что память всегда социальна и организована культурными рамками (Halbwachs, 1950). Рикёр добавил философский слой: прошлое никогда не дано напрямую, оно всегда проходит через интерпретацию, память и забвение (Ricoeur, 2000). В терапии это означает, что работа с прошлым требует учитывать не только личные воспоминания, но и язык культуры, в котором они оформлены.
Когнитивная наука о памяти. Тулвинг разделил память на эпизодическую и семантическую, что позволило точнее понимать разницу между «пережитым опытом» и его рассказом (Tulving, 1983). Шактер показал реконструктивный характер памяти и описал «семь грехов памяти» — искажения, которые терапевт обязан учитывать (Schacter, 1996). Лофтус доказала существование ложных воспоминаний, подчеркнув этические риски некритического использования внушения (Loftus, 1993). Эти открытия делают работу с прошлым более осторожной: терапевт должен различать живое воспоминание и конструкт, который может быть создан в процессе терапии.
Тело и травма. Современная психотерапия всё чаще обращается к телесной памяти. Ван дер Колк показал, что травма хранится не только в словах, но и в телесных реакциях (van der Kolk, 2014). Йехуда исследовала эпигенетику стресса и межпоколенную передачу травматического опыта (Yehuda, 2015). Эти данные напоминают, что прошлое может быть вписано в тело и даже в биологическое наследие, что требует от терапевта особых методов — работы с дыханием, движением, соматическим осознаванием.
Интеграция субличностей. Ассаджиоли предложил психосинтез как практическую технологию диалога с частями личности (Assagioli, 1965). Его подход помогает интегрировать разрозненные субличности и переработать травматический опыт. Для темпоральной психотерапии это особенно важно: части «я», застрявшие в прошлом, можно вернуть в диалог и включить в целостность личности.
Объединение традиций.
В нашей практике мы соединяем эти линии:
— признаём личную травму и механизмы диссоциации (Фрейд, Джанэ, Боулби),
— учитываем коллективный фон и культурные коды памяти (Юнг, Хальбвакс, Рикёр),
— опираемся на когнитивную науку для понимания реконструктивности памяти (Тулвинг, Шактер, Лофтус),
— включаем работу с телом и межпоколенной передачей (ван дер Колк, Йехуда),
— используем техники психосинтеза для интеграции субличностей (Ассаджиоли).
Такой многослойный подход позволяет терапевту видеть прошлое клиента не как «статичный архив», а как живое, многомерное поле, где пересекаются личные воспоминания, культурные мифы, телесные следы и семейная история.
4. Иллюстрации — кейсы из книги автора «Главное прошлое»
Ниже — ряд примеров из книги автора «Главное прошлое», каждый — краткое изложение сюжета и клиническая аннотация: что показывает случай и как с ним работать.
Кейс A. Сон об Александре Абдулове — культурный эталон внутри личности
Сюжет. Во сне появляется образ актёра Абдулова: он проходит «контроль», получает прощение и действует как экранный герой, который разрешает или оценивает поведение укоренившихся персонажей.
Что это иллюстрирует. Культурный образ (эталон поколения) становится «встроенным голосом», который диктует стандарты и ограничения. Для клиента этот образ может выполнять роль внутреннего критика или идеала, к которому он стремится, теряя собственное лицо.
Клиническая аннотация. Работать через: 1) исследование «шрифта» — какие ценности и критерии приносит образ; 2) маскотерапия/портретирование — материализовать образ, обсудить его требования; 3) диалог с субличностью-«кумиром», отделение «моего» от «принятого». Рекомендация: осторожное дозирование вмешательства — перенос может усилиться, поэтому стабилизация перед глубокой работой обязательна.
Кейс B. Диалог с «Лениным» — исторический шрифт, внедрённый в душу
Сюжет. В сновидении/диалоге автор вступает в разговор с образом Ленина о культуре, власти и судьбе общества. Этот образ функционирует не как факт истории, а как активный нравоучитель и цензор в его психике.
Что это иллюстрирует. Политические и идеологические артефакты становятся субличностями: они оценивают, запрещают, предписывают. Для многих клиентов такие «вождистские» субличности — источник стиля поведения и смысла.
Клиническая аннотация. Подходы: 1) системная карта — определить политико-исторические «шрифты», которые влияют на запрос; 2) расширение контекста — привлечение семейной истории и общественных ритуалов; 3) аккуратная десакрализация — перевод «вождя» в часть, с которой можно договориться. Этическое замечание: такие вмешательства могут вызвать конфликт с родственниками/окружением — готовьте план безопасности.
Кейс C. «Большое письмо женщине» — родовые сюжеты и множественность ролей
Сюжет. Серия зарисовок — Казачка, Княжна, Наложница, Муза — показывает, как эти роли «надеваются» на современную женщину, диктуя чувства и сценарии. Автор фиксирует, что образ предка или ролевой прообраз может «переворачивать» семейный узел.
Что это иллюстрирует. Родовые сценарии и архетипические роли легко «пересаживаются» на современную жизнь, создавая конфликты идентичности.
Клиническая аннотация. Методика: 1) картирование родовых архетипов (кто в роду «Казачка», «Муза» и т.д.); 2) граница «моё/чужое» — упражнения, возвращающие авторство выбора; 3) при необходимости — семейная или системная сессия для переработки сценария. Важно: не уничтожать память рода, а реструктурировать её смысл.
Кейс D. Эксперимент с портретом (Эффект Леонардо да Винчи) — портрет как ключ доступа
Сюжет. Длительное сосредоточение на портрете да Винчи привело к серии снов и образов, которые дали автору ощущение «времённости» и понимание личности художника; автор называет это эффектом — портрет стал кодом доступа к временным измерениям.
Что это иллюстрирует. Портрет и арт-объект могут выступать инструментом активации глубинной памяти; в маскотерапии портрет клиента часто вызывает материал из его прошлого.
Клиническая аннотация. Рекомендации: 1) использовать портреты как «триггеры» в безопасной рамке; 2) документировать возникший материал (сны, ассоциации); 3) интегрировать через художественные действия и ритуалы завершения; 4) учитывать риск переактивации — обязательно иметь стабилизирующие техники.
5. Методы доступа и рабочие протоколы
Мы выделяем несколько методических линий, гибких и комбинируемых по ситуации:
— Сон и его систематическая работа. Фиксировать, искать орнаменты, переводить символы в нарратив.
— Диалог с субличностями. Структурированный подход: идентификация — встреча — соглашения — интеграция.
— Маскотерапия и портретирование. Материализация образа как поле для переговоров и реконструкции смысла.
— Регрессия и гипнотические техники. Эффективны, но требуют строгих критериев готовности, стабилизации и мониторинга.
— Творческая реконструкция и ритуалы. Безопасные символические действия для переосмысления узлов прошлого.
Краткий рабочий протокол (алгоритм для практики).
— Скрининг готовности (сон, риск, устойчивость).
— Стабилизация (якоря, дыхание, дневник).
— Картизация/портрет во времени (визуальная карта: узлы, шрифты, орнаменты).
— Доступ к материалу (выбор метода).
— Интеграция (арт, ритуал, изменение поведений).
6. Этика, ограничения и ремарки по эпигенетике
Работа с прошлым — одновременно шанс и риск. Обязательны: информированное согласие, прозрачность целей, мониторинг, план на случай дестабилизации. Когда мы затрагиваем родовые темы и упоминаем эпигенетику, важно объяснять пациенту: это не приговор, а фактор повышенной чувствительности, который можно учитывать в планировании терапии. При вовлечении семейных тем иногда необходима системная работа — нельзя действовать в вакууме.
Заключение. Прошлое как инструмент изменения времени
Мы подвели нить от классических представлений Фрейда и Юнга до современных практических техник маскотерапии и диалога с частями. Но главный вывод прост и практичен: работая с прошлым, мы меняем настоящее — и тем самым открываем иное будущее. Прошлое перестаёт быть тёмной тюремной камерой, когда мы переводим его в язык: темпоральный почерк, шрифты и орнаменты становятся понятными, карта времени — читаемой, а портрет личности во времени — инструментом навигации. Именно с этим словарём и этим ремеслом мы перейдем к практике темпоральной психотерапии.
Литература
Ассаджиоли, Р. — Психосинтез: руководство по принципам и техникам (Psychosynthesis: A Manual of Principles and Techniques). — Hobbs, Dorman & Co., 1965.
Практический источник по работе с субличностями и внутренним диалогом. Методика психосинтеза даёт инструменты для структурирования встречи с «частями» личности и перевода захваченных образами субличностей в переговорные, интеграционные процессы.
Боулби, Д. — Привязанность и утрата. Т. 1. Привязанность (Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment). — London: Hogarth Press, 1969.
Фундаментальная работа о том, как ранние отношения формируют внутренние рабочие модели. Полезна для объяснения, почему прошлые эмоциональные связи продолжают «жить» в настоящем и как типы привязанности задают определённые темпоральные шаблоны.
ван дер Колк, Б. — Тело помнит: мозг, разум и лечение травмы (The Body Keeps the Score). — New York: Viking, 2014.
Современный свод практик и исследований по соматической памяти травмы. Необходим при работе с сильными трансперсональными переживаниями и «остаточными» состояниями после интенсивных ИСС; содержит техники стабилизации и телесной интеграции.
Гроф, С. — По ту сторону мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии (Beyond the Brain). — 1985.
Классика исследований изменённых состояний сознания и трансперсонального опыта. Ценна как описание феноменологии «внетелесных» переживаний и как источник методических предостережений и протоколов сопровождения.
Жане, П. — Главные симптомы истерии (The Major Symptoms of Hysteria). — New York: The Macmillan Company, 1907.
Ранняя клиническая работа о фрагментации психики и психических автоматизмах. Даёт историческую и концептуальную опору для понимания диссоциативных феноменов и «осколков» прошлого, функционирующих автономно.
Йехуда, Р., Лернер, Э. — Межпоколенная передача эффектов травмы: предполагаемая роль эпигенетических механизмов (Intergenerational Transmission of Trauma Effects: Putative Role of Epigenetic Mechanisms) // World Psychiatry, 2018, т. 17, №3, с. 243–257.
Современный обзор данных о межпоколенной передаче травмы и возможной роли эпигенетики. Представляет осторожную научную опору для клинических предположений о «памяти рода»; подчёркивает необходимость бережной интерпретации и дальнейших исследований.
Клавт, Р. П. — Избранные работы по диссоциации и диссоциативным расстройствам (Selected Papers on Dissociation). — Сборник статей.
Содержит клинические наблюдения и анализ этиологии диссоциации, включая различие между спонтанной и ятрогенной формами. Незаменим при дифференциальной диагностике феноменов «прошлого как субличности» и оценке риска терапевтических внушений.
Кравченко, С. А. — Главное прошлое: психология измерений времени. — Издательские решения, 2018.
Монография, сосредоточенная на феномене «главного прошлого» — того пласта опыта, который остаётся активным в настоящем и формирует поведенческие и эмоциональные сценарии. Книга объединяет клинические наблюдения, кейсы, методы (диалог с частями, маскотерапия, анализ сновидений, работа с ИСС) и этические принципы. Является прикладным дополнением к теоретическим основаниям, изложенным в первой части книги.
Лофтус, Э. Ф. — Реальность репрессированных воспоминаний (The Reality of Repressed Memories) // American Psychologist, 1993, т. 48, №5, с. 518–537.
Критическое исследование феномена ложных воспоминаний и терапевтического внушения. Обязательна для обсуждения методической осторожности и этики при работе с воспоминаниями и «всплывающим» прошлым.
Патнам, Ф. В. — Диагностика и лечение множественного расстройства личности (Diagnosis and Treatment of Multiple Personality Disorder). — New York: Guilford Press, 1989.
Классический практический текст по диагностике и терапии множественных личностей (DID). Полезен как руководство по структурированию терапии при выраженных диссоциативных состояниях и сравнительному анализу с историческими субличностями.
Рикёр, П. — Память, история, забвение (La mémoire, l’histoire, l’oubli). — Paris: Seuil, 2000.
Философский анализ памяти и истории, богатый герменевтическими инструментами. Помогает осмыслить этические и смысловые последствия работы с прошлым, соединяя индивидуальную, культурную и историческую память.
Тулвинг, Э. — Элементы эпизодической памяти (Elements of Episodic Memory). — Oxford: Clarendon Press, 1983.
Теоретическая база по различению эпизодической и семантической памяти. Необходим для различения «пережитого» прошлого и социально-семантических шрифтов, формирующих исторические субличности.
Фрейд, З. — Толкование сновидений (Die Traumdeutung). — Leipzig; Vienna: Franz Deuticke, 1900.
Источниковая работа по анализу сновидений и их связи с бессознательными процессами. Предоставляет методологию для интерпретации сновидческих орнаментов прошлого и чтения символики внутреннего опыта.
Хальбвакс, М. — Коллективная память (La mémoire collective). — Paris: Presses Universitaires de France, 1950.
Социологическая теория коллективной памяти и её механизмов. Ключевая для понимания того, как исторические образы «переживают» своих носителей и становятся доступными последующим поколениям как культурные субличности.
Шактер, Д. Л. — В поисках памяти: мозг, разум и прошлое (Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past). — New York: Basic Books, 1996.
Исследование реконструктивной природы памяти и её нейробиологических основ. Полезен для объяснения искажений воспоминаний, ограничений эпизодической реконструкции и терапевтической работы с «воспоминаниями, которые творят смысл».
Юнг, К. Г. — Архетипы и коллективное бессознательное (The Archetypes and the Collective Unconscious). — Princeton: Princeton University Press (Collected Works, Vol. 9), 1959.
Классический источник по архетипам и коллективным образам. Объясняет феномен «двойников исторических личностей» как культурных и мифологических шрифтов, получающих личностную актуализацию в терапии и искусстве.
Глава 7. Настоящее: здесь и сейчас (темпоральный язык)
Краткое содержание
Настоящее рассматривается не как пустая пауза между прошлым и будущим, а как активный узел, где сходятся их следы, проекции и бессознательные притяжения. Глава объединяет феноменологию (образное, телесное и коллективное содержание «здесь и сейчас»), данные нейронауки о предактивации и реконструкции, а также клинические практики — от диалога с бессознательным до mindfulness и соматических якорей. Практическая цель — дать терапевту рабочую карту для чтения настоящего и набор методов, которые позволяют превращать «здесь и сейчас» в поле выбора и интеграции.
Ключевые понятия
— Настоящее — не мгновение-точка, а «точка сборки» психики, узел, где конденсируются прошлое, будущее и вневременные смыслы.
— Темпоральный язык — совокупность образов, ритуалов, телесных паттернов и культурных «шрифтов», которые задают, как именно переживается настоящее.
— Проспекция (prospection) — нейрокогнитивная способность использовать те же сети, что и для вспоминания, для генерации сценариев будущего; показывает тесную связь прошлого, будущего и настоящего.
— Предактивация / readiness potential — нейрофизиологическое явление, иллюстрирующее, что часть решений и действий запускается бессознательно до осознания.
— Протофутура — бессознательные притяжения будущего, которые формируют выбор ещё до явной постановки целей.
— Якоря присутствия — соматические и сенсорные техники, помогающие удерживать границы «здесь и сейчас» и интегрировать инсайты.
Цели главы
— Обосновать идею настоящего как многослойного поля, формируемого образами прошлого, притяжениями будущего и телесными ритмами.
— Показать, как нейронаучные данные (предактивация, сети, вовлечённые в память и воображение) влияют на клиническую позицию терапевта.
— Предложить интегративную клиническую стратегию: глубинная работа + нейронаука + практики присутствия.
— Дать конкретные практические шаги и техники для чтения и работы с настоящим.
Введение: почему «здесь и сейчас» — не тривиально
Прошлое, настоящее и будущее — не три разрозненные плоскости, а сплетённый узел переживания; ключ к клинике лежит в том, чтобы научиться читать этот узел. Юнг показал: настоящее часто приходит в виде образов, пришитых к коллективным «шрифтам» — архетипам и мифам; слушая эти образы, терапевт распутывает смыслы, которые прямо сейчас управляют выбором и действием.
Нейронаука добавляет смирение и точность: классические эксперименты Либета и последующие fMRI-работы показали, что часть подготовки действия и выбора запускается бессознательно. Это не отменяет свободу воли, но заставляет признать, что большое число текущих решений «начато» до появления сознательного намерения.
Концепт prospection (Шактер и соавт.) подсказывает: сети, задействованные в воспоминании, используются и для воображения будущего — поэтому в настоящем сплавляются следы прошлого и проекты будущего. Практически это значит: работа с воспоминанием и с представлением будущего — не два раздельных упражнения, а единое вмешательство, реконструирующее притяжения, формирующие поведение «сейчас».
И наконец, эмпирическая медицина присутствия (программы осознанности, исследования Дэвидсона и др.) показывает: тренировка внимания меняет нейронные сети регуляции, улучшает стресс-реактивность и укрепляет способность оставаться ресурсным в настоящем. Это одновременно инструмент и проверка: глубокий инсайт без навыков присутствия часто ведёт в дезориентацию; присутствие делает инсайт работоспособным.
Основная часть
1. Что такое «настоящее» в клиническом контексте
Настоящее — это не простая временная метка между «раньше» и «потом». Это точка сборки психики — пространство, где сходятся:
— образы и отпечатки прошлого (воспоминания, субличности, телесные реакции),
— притяжения будущего (цели, страхи, «протофутура»),
— социальные и культурные шрифты, задающие ожидания,
— текущие телесные состояния и ритмы.
Переживание «здесь и сейчас» — фундамент для терапевтической перестройки: в нём возможна смена смысла и рождение выбора.
2. Образы прошлого в настоящем
Образы прошлого формируют привычки, реакции и способы ощущать мир. Они приходят как сны, флэш-бек, телесные импульсы, реплики субличностей. Работать с ними — значит переводить автоматизм в поле сознательного диалога:
— выявлять «главное прошлое» — тот пласт, который наиболее активно переписывает настоящее;
— работать с содержанием образов (пересказ, картирование, портретирование);
— переводить образ в договор: «что ты хочешь? как ты служишь? что получится, если я дам тебе другое место?» (подходы маскотерапии, психосинтеза).
3. Будущее в настоящем: от целей до протофутуры
Образы будущего — не только планы и цели: в теле и ожиданиях живут бессознательные притяжения, которые мы называем протофутурой. Они могут вести к адаптивному планированию или к повторному проигрыванию компенсационных сценариев (например, попытка «дописать» утраченное в прошлом через будущие достижения). Терапевт:
— различает явное целеполагание и скрытые притяжения;
— применяет техники моделирования будущего и проспекцию (визуализация, работа с возможными сценариями), чтобы сделать бессознательное будущее доступным для рефлексии;
— использует «диалог с будущим» как инструмент перестройки мотивации и смысла.
4. Нейронаука настоящего: предактивация и prospection
Нейронаучные открытия требуют рефлексивной скромности: многие акты и выборы имеют бессознательный старт (readiness potential), а сети, используемые для памяти, участвуют в воображении будущего. Практическая импликация:
— терапевт понимает границы сознательного контроля и включает техники, помогающие тормозить импульс (регуляция дыханием, паузы, «тайм-ауты» перед решением);
— при интерпретации поведения учитывается предактивация: иногда «поведение сейчас» — результат уже запущенного бессознательного процесса; задача — вытащить это в поле речи и выбора.
5. Практики присутствия как инструмент интеграции
Mindfulness, телесные якоря, сенсорные упражнения и ритуалы помогают удерживать границы: они позволяют интегрировать ощущённый образ и применить инсайт без разорения на «полет» бессознательного или, наоборот, уход в избегание. Важно:
— выбирать простые, повторяемые якоря (дыхание, стопы на полу, названия предметов вокруг);
— сочетать работу с содержанием (диалог, интерпретация) и работу с формой (внимание, тело).
6. Патологическое настоящее и диагностические сдвиги
Патологическое «здесь и сейчас» проявляется как:
— заклинивание на прошлом (навязчивое пережевывание, флэш-беки),
— постоянная петля ожиданий и тревоги,
— размытость границ «я» (бессмыслица, дезориентация, безвременье),
— доминирование одной субличности, которая «убирает» голос других частей.
— Диагностический сдвиг: вместо вопроса «какое сегодня число?» предлагаем спрашивать «какое измерение времени доминирует в вашем настоящем?» — это переводит оценку в клиническую и терапевтическую плоскость.
7. Темпоральный почерк и общественные шрифты времени
Каждый человек живёт в своём темпе — темпоральном почерке (быстро/медленно, циклично/линейно). На это накладываются общественные шрифты (медийный темп, экономические дедлайны, религиозные ритмы), которые моделируют ожидания и опыт присутствия. Терапевту важно:
— карту почерка клиента: скорость речи, паузы, предпочтительные временные метафоры;
— учитывать культурный фон и цифровой ритм (многоэкранность, непрерывные уведомления), которые изменяют способность быть в настоящем.
8. Вечность как ресурс настоящего
Переживание вечности — это ресурс: религиозные, эстетические и медитативные практики дают опору за пределами линейного времени и могут усиливать устойчивость. Но важно различать:
— ресурсную вечность (встроенную в жизнь: ритуалы, смысловые практики),
— уходящую вечность (эскапизм, избегание ответственности).
— Терапевт помогает отличить одно от другого и включить ритуалы и практики вечности как подпорку для присутствия.
Практическая часть: рабочие шаги и техники
Диагностика «здесь и сейчас»
— Определить доминирующее измерение: краткий вопрос — «что сейчас занимает ваше время внутри?» (прошлое/будущее/вечность/безвременье).
— Картирование темпорального почерка: наблюдение за скоростью, паузами, ритмами речи и движений.
— Выявление субличностей: кто говорит сейчас? из какого времени эта часть?
— Оценка телесного фона: дыхание, мышечное напряжение, вегетативные признаки.
Интервенции «на здесь и сейчас»
— Стабилизация: мгновенный якорь (тело, дыхание, ориентиры), если материал интенсивен.
— Диалог с субличностью: дать слово, установить правила входа/выхода, зафиксировать договоренности.
— Работа с образом: картирование, портрет, визуализация «как выглядит этот образ сейчас», исследование требований образа.
— Prospection-упражнения: моделирование будущих сценариев, опережающая репетиция деликатных шагов.
— Практики присутствия: 5–10 минут mindfulness или телесного сканирования; ритуалы завершения сессии.
— Интеграция: творческая запись (6 слов), рисунок, маленький ритуал, закрепляющий новый выбор.
Протокол безопасности
— Оценить риски (дезориентация, суицидальные мысли, тяжёлая диссоциация).
— При глубокой работе иметь план стабилизации и контакты экстренной поддержки.
— Постепенно переводить инсайт в поведенческий шаг (конкретные маленькие действия), чтобы снизить риск идеализации или перегрузки.
Заключение
Настоящее — поле клинического мастерства: здесь складывается судьба, здесь можно остановить автоматизм и включить сознательный выбор. Практика объединяет три линии: глубокую работу с бессознательным (образы и субличности), знание о бессознательных предактивациях (нейронаука) и дисциплины укрепления присутствия (mindfulness, соматика). Только такая интеграция делает «здесь и сейчас» ресурсом, а не источником угрозы.
Литература
Дэвидсон, Ричард Дж. и соавт. — Исследования влияния медитации на нейронные сети и иммунные маркёры (Studies on Meditation, Neural Networks and Immune Markers).
Серия эмпирических работ, показывающих изменения активности префронтальной коры, лимбических структур и иммунных показателей под воздействием регулярной медитативной практики. Подтверждает эффективность техник осознанного внимания в снижении уровня стресса и повышении регуляции эмоций.
Кабат-Зинн, Джон. — Жизнь в полной катастрофе (Full Catastrophe Living). — 1990.
Практическое руководство по методике mindfulness для клиницистов и пациентов. Даёт набор простых, клинически проверенных техник присутствия, которые применимы в терапии тревоги, депрессии и соматических расстройств; важен для интеграции форм и содержания психотерапевтической работы.
Либет, Бенджамин. — Есть ли у нас свобода воли? (Do We Have Free Will?).
Классические эксперименты по регистрации потенциала готовности (readiness potential), показавшие, что нейронная активность предшествует осознанному решению. Работа имеет важное значение для понимания нейрофизиологических механизмов действия, а в психотерапии — как фактор смирения и методологического учёта бессознательного старта поведения.
Порджес, Дэвид А.; Порджес, Стивен В. — Работы по поливагальной теории (Polyvagal Theory Studies).
Совокупность исследований, раскрывающих роль блуждающего нерва в регуляции эмоционального состояния и социального взаимодействия. Даёт соматический каркас для понимания сигналов безопасности, тревоги и регуляции в «здесь и сейчас», что помогает терапевту выбирать телесные якоря и методы восстановления равновесия.
Шактер, Дэниел Л. — Когнитивная нейронаука конструктивной памяти: воспоминание прошлого и воображение будущего (The Cognitive Neuroscience of Constructive Memory: Remembering the Past and Imagining the Future, 2007).
Обзорная работа, описывающая общую нейронную базу памяти и проспекции. Поддерживает идею сплава прошлого и будущего в опыте настоящего и предлагает методологию клинического применения проспективного мышления.
Шактер, Дэниел Л. — В поисках памяти: мозг, разум и прошлое (Searching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past). — New York: Basic Books, 1996.
Исследование реконструктивной природы памяти и её влияния на восприятие настоящего. Полезно для клинического понимания того, как воспоминания формируют интерпретации текущих событий и эмоциональные реакции клиента.
Сун, Чун Си; Брасс, М.; Хайнце, Х. Й.; Хэйнс, Дж.-Д. — Бессознательные детерминанты свободных решений в человеческом мозге (Unconscious Determinants of Free Decisions in the Human Brain) // Nature, 2008.
Исследование с использованием fMRI, показавшее, что нейронная активность может предсказывать выбор человека за несколько секунд до осознания решения. Дополняет результаты Либета и требует осторожности в интерпретации феномена свободы воли; в терапии служит напоминанием о необходимости развивать рефлексию и техники осознанного торможения.
(Далее мы перейдём к типологиям темпоральных языков и к тому, как их распознавать в речи, поведении и культуре.)
Типология темпоральных языков
Важно и здраво — вопрос о «темпоральных языках» (какие ритмы времени и смысловые порядки доминируют в обществе) действительно один из ключевых при работе с настоящим. Ниже даем рабочую типологию — лаконичную, прагматичную и пригодную для клиники и исследования. Мы обозначим основные «языки времени», приведём признаки и примеры, а в конце — короткие рекомендации, как за ними «слушать», чтобы не отстать от времени.
Краткая типология темпоральных языков в мире
(мы даём не исчерпывающий каталог, а практическую карту — ~12 языков, которые сегодня важны)
1. Индустриально-календарный (clock/clockwork time)
— Описание: линейный, плановый, работа «по сменам» и расписанию.
— Признаки: строгое деление рабочего/нерабочего времени, понятие «рабочий день», KPI.
— Где слышно: классические индустриальные общества, корпоративный официальный сектор.
2. Аграрно-сезонный (seasonal time)
— Описание: цикличность, ориентированность на сезоны, ритуалы урожая.
— Признаки: планы и ритмы подчинены природным циклам, праздники важны как маркеры времени.
— Где слышно: сельские и традиционные сообщества, части аграрной психики.
3. Цифровой / реального-времени (real-time / always-on)
— Описание: мгновенность, поток обновлений, ожидание «сейчас».
— Признаки: уведомления, короткие реакции, фрагментарность внимания, ожидание немедленного ответа.
— Где слышно: цифровая индустрия, медиа, урбанистический лайфстайл.
4. Финансово-высокочастотный (high-frequency / market time)
— Описание: чрезвычайно сжатые горизонты, мгновенные решения, риск-ориентация.
— Признаки: торговые окна, «tick-time», доминация показателей прибыли как временных маркёров.
— Где слышно: финансовые центры, трейдинг-культуры.
5. Проектно-агильный (project / sprint time)
— Описание: время измеряется циклами проектов — спринты, дедлайны, MVP.
— Признаки: циклические интенсивные «выбросы» энергии, затем фаза ретроспективы.
— Где слышно: IT, стартапы, креативные индустрии.
6. Трансперсональный / ритуально-временной (ritual / sacred time)
— Описание: вечность, циклы мифа, выход за линейность времени в ритуалах.
— Признаки: сакральные праздники, медитация, переживания «вне времени».
— Где слышно: религиозные и духовные практики, традиционные общества.
7. Культурно-родовой (lineage / ancestral time)
— Описание: прошлое как активный контекст — память рода, наследие.
— Признаки: семейные ритуалы, истории предков как временные координаты.
— Где слышно: диаспоры, сильно родовые сообщества.
8. Климатическое / планетарное (Anthropocene time)
— Описание: масштабные временные горизонты — поколения, климатические тренды.
— Признаки: планирование на десятилетия/века, экопривычки, «времена последствий».
— Где слышно: экологические движения, урегулирование инфраструктурных проектов.
9. Пандемийно-кризисный (crisis / contingency time)
— Описание: время резких сжатий и неопределённости; режим реагирования.
— Признаки: экстренные протоколы, временная неопределённость, расплывчатые горизонты.
— Где слышно: периоды эпидемий, войн, крупных локальных катастроф.
10. Диаспорный / гибридный (diasporic / hybrid time)
— Описание: множественность времён у людей, живущих между культурами; нелинейность адаптаций.
— Признаки: смешение календарей, двойные ритуалы, множественные темпоральные коды.
— Где слышно: мигранты, транскультурные сообщества.
11. Креативно-эстетический (aesthetic / slow / deep time)
— Описание: ритмы созерцания, длительная работа художника, «медленное время».
— Признаки: удлинённые временные горизонты, циклы созидания, приоритет качества над скоростью.
— Где слышно: искусство, ремесленничество, сознательные движения slow life.
12. Технологически-алгоритмический (algorithmic / AI time)
— Описание: время, заданное алгоритмами и их циклами — апдейты, модели, предиктивные расписания.
— Признаки: решения, навязанные предсказаниями алгоритма; «время по модели», оптимизация под вычисления.
— Где слышно: платформенные экосистемы, умные города, алгоритмическое управление.
Формирующиеся языки, за которыми следует прислушиваться
— AI/алгоритмическое время (см. выше) — алгоритмы формируют расписания и ожидания; влияет на ощущение контроля.
— Климатическое/долгоживущие проекты — «наследственное планирование» становится нормой для инфраструктуры и политики.
— Гиг-экономика и «микро-времена» — фрагментация рабочего времени на короткие отрезки.
— Цифровой детокс-контрдвижения → slow-tech — реакция: формирование «анти-реального-времени».
— Пост-кризисные режимы (военный/санитарный) — институциональная адаптация к постоянной непредсказуемости.
— Транснациональные и диаспорные «сети времени» — смешанные календари и гибридные практики.
Почему это важно клинически и прикладно
— Темпоральный язык пациента задаёт ожидания и рамки терапевтической работы (кто-то живёт в «спринт-режиме», кто-то — в «времени предков»).
— Несоответствие между темпоральным языком терапевта и клиента — источник недопонимания и репродукции стресса.
— Появление новых языков (AI, климат, gig) меняет паттерны тревоги, смысла и мотивации — и требует обновления инструментов диагностики и интервенции.
Как слушать и не отстать (практические шаги)
— Этнографическое слушание. Вопросы в анамнезе: «Какие ритуалы измеряют для вас время? Какие события вы отмечаете как начало/конец? Какие горизонты вы обычно планируете?»
— Картирование языка клиента. Включить в карту времени: доминантный язык, вторичный, триггеры переключения.
— Мониторинг среды. Слежение за медиа, рабочими практиками, локальными ритуалами: где в окружении клиента слышны новые темпоральные коды?
— Адаптация интервенций. Для «проектного» клиента — фокус на спринтах и ретроспективах; для «сакрального» — работа через ритуал и практика смыслового якоря; для «цифрового» — границы уведомлений и цифровые якоря.
— Обучение и исследование. Вести базу примеров «темпоральных языков» в вашем регионе/практике и обновлять её раз в квартал — так вы будете слышать формирующиеся коды.
Короткий диагностический список (3 вопроса для сессии)
— Что для вас сейчас «нормальное» время (рабочий день/праздник/ритуал)?
— На какие горизонты вы обычно планируете (дни/месяцы/поколения)?
— Какая часть вашего времени приходит извне (уведомления, алгоритмы, рабочие дедлайны), а какая — изнутри (предчувствия, семейные традиции, вера)?
Вывод: темпоральных языков много — и их число растёт по мере усложнения социотехничности мира. Наша задача как психологов — не составлять полный словарь всех возможных ритмов, а иметь рабочую карту главных кодов и умение слышать новые, формирующиеся языки. Тогда терапия остаётся релевантной: мы не только «лечим» клиента, но и помогаем ему выстраивать диалог со временем его эпохи.
12 орнаментов, соответствующих типологии темпоральных языков
Ниже — краткие пояснения к каждому орнаменту (чтобы вы могли добавить подписи или использовать их в тексте):
1. Индустриально-календарный — шестерёнка/часы: линейность, расписание, механика рабочего дня.
2. Аграрно-сезонный — волнообразные линии и символы солнца/листьев: цикличность сезонов и ритуалов.
3. Цифровой / реального времени — пиксельная сетка: поток, уведомления, фрагменты внимания.
4. Финансово-высокочастотный — вертикальные «свечи»: мгновенные решения и ценовые метрики.
5. Проектно-агильный — последовательные спринты со стрелками: циклы задач и ретроспектив.
6. Трансперсональный / ритуальный — мандала: выход за линейное время, сакральные циклы.
7. Культурно-родовой — «годичные кольца» и ответвления: слои предков и семейные сценарии.
8. Климатическое / планетарное — контур глобуса и слоистые волны: долгие горизонты, следствия.
9. Пандемийно-кризисный — резкие пики: сжатие времени и неопределённость.
10. Диаспорный / гибридный — пересекающиеся календари: множественные временные коды и смешение практик.
11. Креативно-эстетический — плавные «кистевые» линии: медленное, созерцательное время.
12. Технологич./алгоритмический — сеть узлов и стрелок: решения по предсказаниям, время по модели.
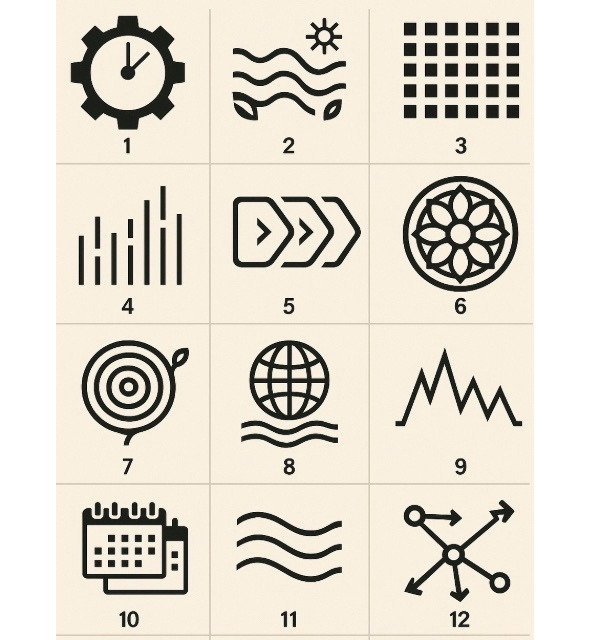
Орнаменты для формирующихся темпоральных языков.
Краткие пояснения к каждой плитке (подписи уже включены на изображении):
1. AI / алгоритмическое время — центральный узел/часы + сеть: алгоритмы как распределители расписаний и ожиданий.
2. Климатическое / долгоживущее планирование — слои горизонтов и росток: долгие временные горизонты и «наследственное» планирование.
3. Гиг-экономика и «микро-времена» — множество коротких штрихов: фрагментация рабочего времени на мелкие отрезки.
4. Slow-tech / цифровой детокс — плавные линии и знак «пауза»: контрдвижение к замедлению и «анти-реальному времени».
5. Пост-кризисные режимы — щит и лавина пиков: институциональные адаптации в условиях постоянной непредсказуемости.
6. Транснациональные сети времени (диаспоры) — перекрывающиеся календари и арки-связи: гибридные календари и смешение практик.
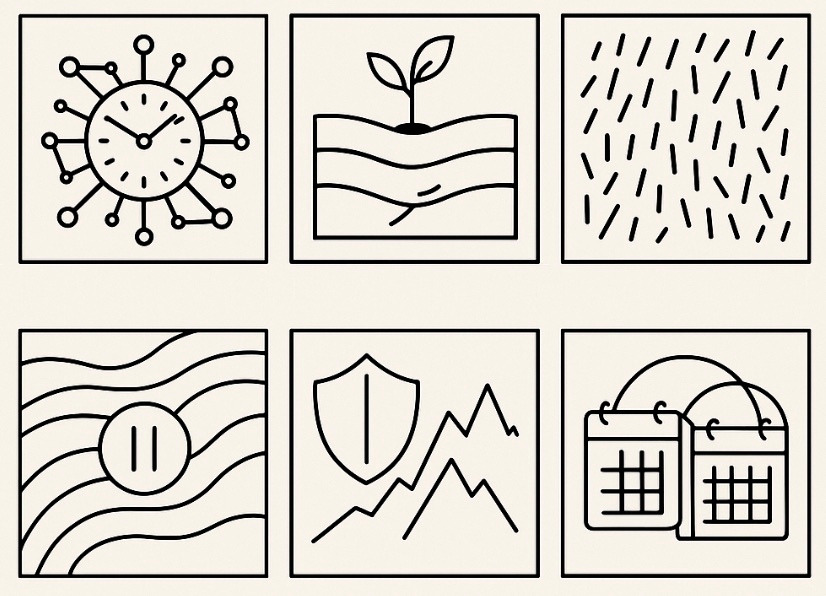
(Тест «Темпоральные языки» — полная версия (36 вопросов), «Темпоральный портрет» и курс «Работа с настоящим» в Приложении к главе 7)
__________________
Литература и комментарии
Барретт Л. Ф. — Как создаются эмоции: тайная жизнь мозга. 2017.
Монография представляет конструктивистскую теорию эмоций, согласно которой эмоциональные состояния формируются мозгом как результат предсказаний и интероцептивных сигналов. Работа подчёркивает роль прошлого опыта в формировании переживания настоящего. Книга важна для клинической практики, поскольку демонстрирует возможности изменения эмоционального фона через реконструкцию предсказательных моделей.
Ван дер Колк Б. — Тело помнит: мозг, разум и лечение травмы. 2014.
Исследование посвящено соматическим механизмам хранения травматического опыта и их влиянию на поведение и регуляцию эмоций. Подробно рассматриваются нейробиологические основы травмы, диссоциации и телесных автоматизмов. Работа служит фундаментом для телесно-ориентированных подходов к стабилизации состояния в настоящем.
Гуссерль Э. — Феноменология внутреннего сознания времени. 1928.
Классическое философское изложение структуры переживания времени: удержания, первичного впечатления и направленности в будущее. Автор формирует аналитический аппарат для описания феноменов настоящего и динамики внимания. Труд используется в клинической феноменологии для описания нарушений временной интеграции.
Дамасио А. Р. — Чувство происходящего: тело и эмоции в формировании сознания. 1999.
Работа исследует взаимосвязь телесных процессов, эмоций и субъективного ощущения настоящего момента. Проанализированы механизмы возникновения сознания на уровне интеграции интероцептивных сигналов. Книга ценна для понимания телесных основ эмоциональной регуляции и техник «якорения» присутствия.
Джеймс У. — Принципы психологии. 1890.
Введено понятие «протяжённого настоящего» как динамического временного интервала, воспринимаемого как единый момент. Показано влияние телесных состояний и потока сознания на переживание времени. Концепция востребована в феноменологической и когнитивной психологии.
Джеймс У. — Разнообразие религиозного опыта. 1902.
Книга анализирует религиозные и мистические состояния, включая переживания вечности и «вне-времени». Исследование показывает их влияние на самоидентификацию, поведение и смысловые структуры личности. Используется в трансперсональных и экзистенциальных подходах.
Дэвидсон Р. Дж., Кабат-Зинн Д., Шумахер Дж. и др. — Изменения в мозге и иммунной функции, вызванные медитацией осознанности. 2003.
Эмпирическая работа демонстрирует объективные изменения нейронных и иммунных показателей у участников программы MBSR. Данные подтверждают влияние практик осознанности на стрессоустойчивость и нейровегетативную регуляцию. Является ключевым исследованием в области научного обоснования mindfulness.
Кабат-Зинн Дж. — Жизнь в полной катастрофе. 1990.
Монография представляет структуру программы MBSR и включает набор воспроизводимых техник регуляции внимания. Показана эффективность практики в лечении тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств. Книга служит мостом между медицинскими протоколами и психотерапевтической практикой.
Келтнер Д., Хайдт Дж. — Подход к благоговению: моральная, духовная и эстетическая эмоция. 2003+.
Работы авторов анализируют феномен эмоции awe («трепет») и его влияние на когнитивные и социальные процессы. Показано, что переживание трепета расширяет перспективу, усиливает чувство связи и снижает эгоцентрированность. Материал применяется для разработки терапевтических интервенций, использующих эстетические и природные стимулы.
Крейг А. Д. — Интероцепция: восприятие физиологического состояния тела. 2000-е.
Автор систематизирует исследования интероцепции — внутреннего ощущения физиологических состояний организма (дыхание, сердечный ритм, висцеральные сигналы). Работа подчёркивает, что интероцепция является ключевым каналом формирования субъективного опыта и эмоциональной регуляции. Материал важен для клинической практики: он обосновывает использование телесно-ориентированных техник (сканирование тела, дыхательные протоколы) в терапии настоящего и усиления навыков присутствия.
Либет Б., Глисон К., Райт Э., Перл Д. — Время сознательного намерения и начало мозговой активности. 1983.
Классическое исследование, выявившее начало потенциала готовности задолго до появления субъективного намерения. Работа поставила вопрос о границах сознательного контроля поведения. Важно для клинической практики как указание на роль предсознательных процессов в действиях «здесь и сейчас».
Панксипп Я. — Аффективная нейронаука. 1998.
Монография описывает первичные эмоциональные системы и их роль в регуляции поведения. Анализируются нейронные основы базовых эмоций и их влияние на субъективное переживание настоящего. Работа ценна для интеграции данных нейронауки в эмоционально-фокусированную терапию.
Порджес С. В., Порджес Д. А. — Поливагальная теория: нейрофизиологические основы эмоций, привязанности и саморегуляции. 2011.
Поливагальная теория объясняет механизмы регуляции безопасности, социальной вовлечённости и реакций угрозы. Описаны нейрофизиологические основания состояний присутствия и сужения сознания. Труд широко используется в телесно-ориентированных и травмофокусированных подходах.
Франкл В. Э. — Человек в поисках смысла. 1946/1962.
Франкл показывает, что наличие смысла преобразует восприятие настоящего и повышает устойчивость к страданию. Логотерапевтический подход связывает переживание времени с ценностями и целями. Работа используется как ключевой источник в экзистенциальной психотерапии.
Фрейд З. — Толкование сновидений. 1900.
Классическое исследование бессознательных процессов и механизмов формирования символических образов. Показана связь детских переживаний с актуальными эмоциональными и поведенческими реакциями. Труд является основой аналитических методов работы с прошлым и его влиянием на настоящее.
Хольцель Б. К., Лазер С. В., Гард Т., Шуман-Оливье З., Вэйго Д. Р., Отт У. — Как работает медитация осознанности? 2011.
Обзор систематизирует механизмы действия практик mindfulness на когнитивные, эмоциональные и нейронные процессы. Описаны изменения внимания, саморегуляции и отношения к собственным мыслям. Работа является научным фундаментом для выбора и обоснования техник присутствия.
Шактер Д. Л., Аддис Д. Р., Бакнер Р. Л. — Помнить прошлое, чтобы представить будущее. 2007.
Обзор описывает единую нейронную систему памяти и проспекции, участвующую в формировании настоящего опыта. Показано, что изменение воспоминаний влияет на конструирование будущих сценариев. Исследование служит теоретической опорой для интеграции проспективных техник в терапию.
Шактер Д. Л. — В поисках памяти. 1996.
Автор анализирует реконструктивную природу памяти и её роль в формировании смыслов. Описаны механизмы искажений и утрат, значимые для клинической диагностики. Работа важна при интерпретации феноменов ложных или модифицированных воспоминаний.
Глава 8. Будущее: предвидение, предвосхищение и науки о будущем
Краткое содержание главы
Будущее рассматривается не как нечто абстрактное и «ждущие нас» за углом, а как поле ощущений, образов и действий, которое уже частично присутствует в настоящем — в индивидуальных интуициях, в коллективной культуре и в технических сигналах. Глава разбирает несколько парадигм: нейронаучную (prospective brain, эпизодическое представление будущего), когнитивную (предвосхищение поведения), философскую (варианты онтологии времени), методологическую (сценарное планирование, фьючерс-стади), и парапсихологическую (исследования прекогниции). Центральная идея главы — перейти от простой «попытки предсказать» к исследованию того, как будущее отражается в настоящем и как эти отблески можно систематизировать и интерпретировать (включая подход «ИСС + ИИ» и гипотезу конденсата временной кристаллизации).
Ключевые понятия
— Предвидение / Precognition (прекогниция) — феномен кажущегося знания о событиях, не имеющем очевидной причинно-следственной основы в настоящем.
— Предвосхищение (anticipation / prospection) — активное конструирование и использование представлений о возможных будущих состояниях для регулирования текущего поведения.
— Эпизодическое представление будущего (episodic future thinking) — способность мысленно проигрывать конкретные будущие события, механизм, связанный с памятью о прошлом.
— Prospective brain (перспективный мозг) — нейросетевая модель, в которой память, воображение и планирование служат общему механизму конструирования возможных будущих сцен.
— Прогностическая обработка / predictive processing — концепция мозга как «предсказательной машины», минимизирующей ошибку предсказания (prediction error) и тем самым формирующей восприятие и поведение.
— Сценарное планирование / foresight — методики системного мышления и подготовки к множеству возможных будущих (не предсказание в строгом смысле, а готовность к нескольким траекториям).
— Конденсат временной кристаллизации (КВК) — авторская гипотеза о локальной «уплотнённости» смыслов и информационной когерентности в границе сознания и культуры, коррелирующей с усилением предвидения/синхроничности.
Цели главы
— Показать разные научно-философские подходы к будущему и их методологические следствия.
— Ввести и обосновать понятие КВК как рабочую гипотезу.
— Сопоставить данные нейронаук и когнитивистики с феноменологией ИСС и парапсихологией.
— Предложить практическую схему исследования будущего на стыке ИСС и ИИ (Проект NooCode как пример).
— Сформулировать список ключевой литературы и рекомендации для дальнейших эмпирических исследований.
Введение
«Будущее остаётся таковым, пока вы его не спланировали» — формула, которая одновременно поэтична и методологична. Мы часто встречаемся с двумя типами отношений к будущему: (а) будущее как объект теоретического предсказания (числа, тренды, модели), и (б) будущее как переживание — образное, символическое, возникающее в снах, в ИСС, в художественной практике. Эти два уровня не отделимы: нейробиологически механизмы воспоминания и конструирования будущего — общие, а культурные формы (мифы, образы, тексты) являются материалом, на котором человек «делает» будущие смыслы.
1. Нейронаучная перспектива: «перспективный мозг» и эпизодическое представление будущего
В классической работе Schacter, Addis и Buckner показано, что многие те же сети мозга, которые участвуют в воспоминании, активны при воображении будущих событий; это легитимирует идею «prospective brain» — мозга, заточенного на моделирование возможных сценариев. Эти исследования дают биологическую основу для понимания того, как «образ будущего» формируется из фрагментов памяти и семантического поля.
Параллельно когнитивная психология описывает эпизодическое мышление о будущем — способность представить конкретное событие (эпизод) в будущем; это не просто прогнозирование, это реконструирование сцены с деталями, похожее на воспоминание.
Последствия для практики: техники, усиливающие эпизодическое представление (направленная визуализация, работа с образами в ИСС), существенно меняют готовность и поведение — отсюда мост к терапевтическим и проектным вмешательствам.
2. Прогностическая обработка и свободно-энергетическая парадигма
Идея, что мозг — это «машина предсказаний», сейчас широко обсуждается (predictive processing, free-energy principle). В сочетании с идеями про перспективный мозг это даёт мощный теоретический базис: мозг постоянно генерирует ожидания о входных данных и обновляет модели мира, минимизируя ошибку предсказания. Для темы будущего это означает: не просто представление возможного, а постоянная корректировка модели будущих состояний в свете новых свидетельств.
3. Философские теории времени и их импликации
Философия времени на протяжении XX–XXI веков разработала несколько ключевых онтологических позиций, которые прямо затрагивают проблему предвидения и прекогниции.
Первая из них — presentism, согласно которой реально существует только настоящее. Прошлое уже не существует, будущее ещё не существует, а значит, все высказывания о будущем носят условный, вероятностный характер и не обладают твёрдым онтологическим основанием. Для presentism знание будущего в строгом смысле невозможно — оно всегда строится как прогноз или гипотеза.
Вторая позиция — eternalism или концепция «блочной вселенной». В её рамках время понимается подобно пространству: прошлое, настоящее и будущее существуют одинаково реально. Такая модель позволяет аргументировать идею, что будущее «уже есть» и, следовательно, предвидение или прекогнитивные акты могут интерпретироваться как своего рода «доступ» к фиксированным областям временного блока.
Третья — growing block theory («растущий блок»). Здесь реальными считаются прошлое и настоящее, но не будущее. Картина напоминает постепенное нарастание «блока бытия»: каждое мгновение добавляется к уже существующему, но будущее ещё не «сформировано». В этом случае предвидение трактуется как выход за границы существующего блока, что вызывает методологические трудности: с точки зрения онтологии «растущего блока» будущее в принципе отсутствует.
Сравнительный анализ этих позиций показывает, что выбор метафизической картины времени накладывает существенные ограничения на интерпретацию феноменов предвидения и прекогниции. Для presentism исследователь будет вынужден рассматривать любые акты предвосхищения как психологические конструкторы, не имеющие онтологической поддержки. Для eternalism, напротив, можно выстраивать гипотезы о том, что субъективное сознание получает доступ к «будущим слоям» блока. А в рамках growing block теория прекогниции оказывается спорной, так как её объект — ещё несуществующее будущее. Таким образом, философия времени задаёт концептуальные рамки, внутри которых психология и психотерапия могут разрабатывать модели работы с предвидением, интуицией и экстремальными переживаниями времени.
Литература (с аннотациями)
1. Крег У. Л. (Craig W. L.). The Tensed Theory of Time: A Critical Examination («Теория времени с временными индексами: критическое исследование»), 2000. Фундаментальный анализ «тезисной» (tensed) теории времени, рассматривающей временные факты как реально существующие. Автор критикует «безвременную» (tenseless) модель и защищает позиции, близкие к презентизму. Книга важна для понимания центральных споров современной философии времени.
2. Маркосян Н. (Markosian N.). Time («Время») в The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016. Обзорная статья, систематизирующая главные подходы к онтологии времени: презентизм, этернализм, теория растущего блока, tenseless-модели. Кратко формулирует ключевые аргументы, классификацию позиций и современную исследовательскую литературу. Доступна онлайн.
3. Меллор Д. Х. (Mellor D. H.). Real Time II («Настоящее время II»), 1998. Классическая работа по метафизике времени, обосновывающая реалистическую «блочную» модель (tenseless time). Автор разбирает причинность, онтологию временных свойств и аргументы в пользу безвременной структуры времени. Книга является одной из наиболее цитируемых в аналитической традиции.
4. Окландер Н. (Oaklander N.). The Philosophy of Time: Critical Studies («Философия времени: критические исследования»), 2004. Сборник эссе ведущих философов, анализирующих спорные вопросы между presentism, eternalism и теорией «растущего блока». Представляет широкий спектр современных аргументов, в том числе по онтологии, логике и метефизике времени. Полезен как вводный и как обзорный труд.
5. Тули М. (Tooley M.). Time, Tense, and Causation («Время, временные индексы и причинность»), 1997. Систематическое исследование природы времени и причинности, аргументирующее в пользу теории «растущего блока». Автор предлагает оригинальную онтологию временных фактов и связей. Книга занимает ключевое место в дебатах о структуре времени в конце XX века.
4. Парапсихология и исследования прекогниции — что известно и как критически смотреть
Существуют эмпирические отчёты и монографии, утверждающие в пользу феноменов прекогниции (например, работы Дина Рейдина и др.). Эти исследования часто предмет критики методологов за проблемы с репликацией, статистикой и контролем. Тем не менее феномен требует внимательного, строгого и открытого метода: регистрировать, кодифицировать и подвергать строгой статистической обработке все наблюдения, а также интегрировать эти данные с нейробиологическими и культурными источниками (ИСС-репертуаром, текстами, артом).
5. Фьючерс-стади и сценарное планирование
Практические школы работы с будущим (foresight, scenario planning) — от классики Shell и Питера Шварца до современных футуристических практик — предлагают методическую основу для коллективной работы с возможными траекториями. Эти методы не убирают неопределённость, но учат системно сопоставлять сигналы, собирать «ранние индикаторы» и готовить адаптивные стратегии. В контексте нашего Проекта NooCode сценарная аналитика может выступать как «познавательная лаборатория» для проверки гипотез, извлечённых из ИСС и ИИ-анализов (смотрите книгу С.А.Кравченко «ИСС и ИИ. Диалог мастера ИСС и ИИ. Глава 29).
6. Методология: «ИСС + ИИ» как инструмент интуитивной аналитики будущего
Я предлагаю комбинировать: (а) сбор культурных и личных сигналов (сны, тексты, картины, спонтанные высказывания в ИСС), (б) их системную каталогизацию и кодирование, (в) машинное обучение для выявления скрытых корреляций (паттернов), и (г) экспертную интерпретацию (психотерапевты, мастера ИСС, художники). Вместо стремления к «точному предсказанию» мы говорим о создании карты смыслов будущего — инструменте для обнаружения и сопоставления тех элементов культуры и субъективности, которые уже носят отпечаток грядущего. Этот подход позволяет вычленять устойчивые паттерны без необходимости в философской приверженности к полной детерминированности или к «магии» прекогниции.
Этические и культурные последствия
Работа с «картами смыслов будущего» — это не предсказание и не инструмент контроля над людьми. Поскольку проект предполагает исследование интуитивных сигналов и бессознательных отражений будущего, важно различать терапевтический и исследовательский подход от манипулятивного.
— Принцип информирования, а не навязывания. Любой образ или сценарий будущего, выявленный через ИСС и ИИ, должен подаваться как возможная интерпретация, а не как обязательная реальность. Практикующий или исследователь обязан объяснить границы методики и дать участникам право свободного выбора в использовании информации.
— Конфиденциальность и уважение к личным смыслам. Карты смыслов фиксируют субъективные переживания и культурные паттерны. Их публикация или демонстрация должна быть анонимизирована и сопровождаться этическими комментариями.
— Разграничение терапии и прогнозирования. Цель работы с бессознательными образами будущего — самопознание, расширение восприятия и подготовка к принятию решений, а не формирование поведения участников. Любые рекомендации, вытекающие из анализа карт, должны оставаться в рамках психотерапевтической поддержки, без императивного воздействия.
— Культурная чувствительность. Различные общества и исторические контексты по-разному воспринимают символику и будущие сценарии. Практикующим важно учитывать культурные коды и избегать интерпретаций, которые могут быть навязчивыми или противоречить мировоззрению участников.
Таким образом, «карты смыслов будущего» становятся инструментом этической, сознательной работы с временем и смыслом, способствующей развитию интуиции, коллективного понимания и личной ответственности, а не средством контроля или навязывания будущего.
7. Гипотеза: конденсат временной кристаллизации (КВК)
Кратко: в определённых условиях (углублённая коллективная фокусировка, ИСС, сильная эмоциональная вовлечённость) возникает локальная когерентность семантики и ритмов (внутренних и коллективных), что повышает вероятность «попадания» образов и действий в будущие реальные события. Это — рабочая гипотеза, проверяемая методами смешанных данных: качественного кодирования образов + количественного анализа повторяемости паттернов + экспериментальных протоколов индукции ИСС. Детально — в главе 16, или в книге Кравченко С. А. Огонёк времени: как смысл переплавляет миры / THE SPARK OF TIME (2025). — Развитие идеи КВК и художественно-философская аргументация.
8. Практическая программа исследований (шаги)
— Сбор корпуса: тексты, рисунки, сны, дневники из лабораторий ИСС и резиденций.
— Кодификация: создание онтологии образов и семантических тегов (включая «ранние индикаторы»).
— Машинный анализ: кластеризация, поиск частотных паттернов и аномалий, временные корреляции.
— Экспериментальные проверки: проспективные исследования, отслеживание дальнейших событий, статистическая оценка соответствий.
— Интерпретация и внедрение: сценарии, выставки, арт-интервенции, терапевтические практики.
9. Литература и комментарии
A. Ключевые источники
Атанс К. М., О’Нил Д. К. Эпизодическое мышление о будущем (Episodic Future Thinking), 2001. Формализация понятия эпизодического мышления о будущем и его связи с эпизодической памятью. Классический источник для понимания механизмов проспекции и построения ментальных сценариев.
Кларк Э. Что дальше? Предсказательный мозг, воплощённый агент и будущее когнитивной науки (Whatever Next? Predictive Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science), 2013. Обзорная работа о теории предсказательного кодирования. Вводит идею мозга как машины вероятностных прогнозов и связывает её с телесностью и агентностью.
Фристон К. Предиктивное кодирование в рамках принципа свободной энергии (Predictive Coding under the Free-Energy Principle). Основополагающий труд о математической структуре предсказательного мозга. Описывает механизмы минимизации ошибки предсказания и их связь с восприятием и ИСС.
Шактер Д. Л., Аддис Д. Р., Бакнер Р. Л. Вспоминая прошлое, чтобы представить будущее: перспективный мозг (Remembering the Past to Imagine the Future: The Prospective Brain), 2007. Демонстрирует единство нейронных систем памяти и воображения будущего. Вводит модель «перспективного мозга». Ключевой источник современной когнитивной психологии времени.
Шварц П. Искусство дальнего взгляда (The Art of the Long View). Классика сценарного анализа. Даёт методы конструирования альтернативных будущих и стратегического планирования в условиях неопределённости.
B. Парапсихология (критический интерес)
Рейдин Д. Сознательная Вселенная (The Conscious Universe) / Запутанные умы (Entangled Minds). Популярные монографии о psi-феноменах и прекогниции. Интересны исторически, но требуют строгой методологической критики и переоценки.
C. Философия времени
Стэнфордская философская энциклопедия: статьи «Время» (Time), «Презентизм» (Presentism), «Бытие и становление в современной физике» (Being and Becoming in Modern Physics). Академический обзор ключевых онтологических позиций времени: presentism, eternalism, теория «растущего блока». Полезно для методологических рамок книги.
D. Фьючерс-стадии, прогнозирование, foresight
Белл У. Основы исследований будущего (Foundations of Futures Studies). Один из самых объёмных академических трудов по футурологии. Описывает методы прогнозирования, социальную теорию будущего и философские основания дисциплины.
Обзоры по сценарию и foresight-методикам (журналы Technological Forecasting & Social Change, Futures, Research Policy). Современные исследования в области долгосрочного прогнозирования, анализа трендов, сценарного моделирования и слабых сигналов.
E. Работы автора
Кравченко С. А. ИСС и ИИ. Диалог мастера ИСС, психолога с ИИ (2025). Методологический проект интеграции ИСС и цифровых систем. Анализирует роль ИИ как собеседника в исследовании времени.
Кравченко С. А. Огонёк времени: как смысл переплавляет миры / The Spark of Time (2025). Философско-художественное развитие концепции КВК. Исследует смысл как форму темпоральной трансформации.
Кравченко С. А. Предвидение. Шестое чувство (2017). Сборник практических наблюдений, дневников и упражнения по феноменологии предвидения.
Кравченко С. А. Предвосхищение, т. 1–2 (2018). Систематизированный корпус эмпирических данных и словарь феноменов, накопленный в многолетней практике.
Кравченко С. А., Дубов Р. Повесть о предвосхищениях жизни в изменённых состояниях сознания (2019). Клинические и повествовательные кейсы о работе ИСС в контексте предвосхищения.
Комментарии к литературе и методам
— Нейронаучные исследования дают «параметры» того, как мозг строит будущие сцены, но не объясняют (и, вероятно, не обязаны объяснять) редкие субъективные феномены, именуемые прекогницией. Требуется междисциплинарный метод.
— Превращение сборника ИСС-данных в пригодный для машинного анализа корпус — критическое требование: нужны надёжные онтологии, стандартизированная разметка, прозрачные протоколы репликации и предпроектная предрегистрация гипотез.
— Сценарное планирование и фьючерс-стади не конкурируют с нейронаукой; напротив, они предоставляют организационные формы для коллективной проверки гипотез о «ранних сигналах» будущего.
___
ИИ как зеркало собственных опасностей
Один из парадоксов современности состоит в том, что Искусственный Интеллект способен предвосхищать не только угрозы, возникающие в окружающем мире, но и собственные потенциальные опасности. Здесь важно обратиться к тем положениям, которые были разработаны в рамках исследований изменённых состояний сознания (ИСС) и их сопряжения с искусственными системами (ИИ).
Если в ИСС психика нередко сталкивается с теневыми сторонами — вытесненным содержанием, архетипическими образами страха и агрессии, — то и ИИ в процессе своего развития проявляет аналогичные структуры. Его «карты возможных будущих» (КВК), которые формируются на основе обработки колоссальных массивов данных, способны выявлять сценарии, где именно ИИ становится источником риска: усиление зависимости человека, утрата автономии в принятии решений, культурные манипуляции через образы будущего.
Таким образом, ИИ может быть использован как инструмент самонаблюдения и самодиагностики цифровой цивилизации. Встраивание КВК в исследовательскую и терапевтическую практику позволяет не только увидеть возможные угрозы в перспективе, но и различать, где заканчивается поддержка и начинается навязывание.
Задача исследователя и практика — удержать баланс: не демонизировать ИИ, но и не идеализировать его. Принципиально важно осознавать, что опасность ИИ — это не внешний «монстр», а отражение тех же структур, что действуют внутри человеческого сознания. И потому работа с «картами смыслов будущего» требует этической ответственности: человек через ИИ смотрит в собственное зеркало.
Вывод. Использование ИИ для предвосхищения его же собственных опасностей возможно лишь при условии осознанной и ответственной работы с картами возможных будущих. ИСС и КВК позволяют видеть угрозы как внутренние тени цивилизации, а не как «внешнего врага». Это делает ИИ не только источником риска, но и важным инструментом самопонимания человека во времени.
Литература
Бостром, Н. — Искусственный интеллект: этапы, угрозы, стратегии (Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies). — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. Книга одного из ведущих философов современности, посвящённая экзистенциальным рискам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Бостром рассматривает сценарии выхода интеллектуальных систем из-под контроля и предлагает концептуальные подходы к управлению безопасным развитием ИИ. Работа стала классикой философии технологий и важна для понимания пределов человеческой ответственности.
Кравченко, С. А. — ИСС и ИИ — 2. Книга Моста. — Издательские решения, 2025. Монография, где разработан методологический и терапевтический подход к построению «моста» между изменёнными состояниями сознания (ИСС) и искусственными системами. Автор предлагает философско-психологическое обоснование сопряжения ИСС и ИИ как новых форм взаимодействия человека и технологий, направленных на исследование будущего.
Рассел, С. — Совместимый человек: искусственный интеллект и проблема контроля (Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control). — New York: Viking, 2019. Один из создателей современных систем ИИ анализирует проблему контроля и выдвигает концепцию «дружественного» или человекоориентированного интеллекта. Рассел показывает, что главная задача — не просто создать умную систему, а сделать её цели совместимыми с человеческими ценностями. Книга имеет фундаментальное значение для этики и политики ИИ.
Тегмарк, М. — Жизнь 3.0: быть человеком в эпоху искусственного интеллекта (Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence). — New York: Alfred A. Knopf, 2017. Популярно-научный труд, описывающий возможные сценарии сосуществования человечества и искусственного интеллекта. Автор сочетает научную аргументацию с философским анализом, рассматривая перспективы саморазвивающихся систем и этические последствия их взаимодействия с обществом.
Флориди, Л. — Этика информации (The Ethics of Information). — Oxford: Oxford University Press, 2013. Фундаментальное философское исследование о трансформации этических принципов в эпоху информационных технологий. Флориди вводит понятие «инфосферы» и предлагает этику, ориентированную на сохранение когнитивной экологии. Работа задаёт теоретические рамки для обсуждения моральных оснований развития ИИ.
Юдковский, Э. — Искусственный интеллект как положительный и отрицательный фактор глобального риска (Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk) // В кн.: Bostrom, N. & Ćirković, M. (Eds.) Global Catastrophic Risks, Oxford University Press, 2008, pp. 308–345. Исследователь Friendly AI и сооснователь «Фонда рациональности» описывает двойственную природу искусственного интеллекта как источника как прогресса, так и угрозы. Автор подчёркивает необходимость этической и технической подготовки к будущему, где интеллект может стать автономным фактором глобальной безопасности или катастрофы.
___
Путешествие в будущее: сознание как альтернатива космическим полётам
Озарения и предвидение в изменённых состояниях
Исследователи отмечают, что человек в изменённом состоянии сознания способен выходить за рамки обычного восприятия времени и получать неожиданные озарения. Например, в состояниях глубокого расслабления или медитации мозг может генерировать особые тета-ритмы, при которых происходят творческие прорывы и даже предвидение событий. Так, российский учёный Д. Спивак описывает, что именно в моменты погружения в «океаническое чувство» (потеря ощущения эго в глубокой медитации) у человека случается эффект «эврика» — находятся решения сложных задач, совершаются открытия и даже предсказываются некоторые события. Иными словами, в нестандартных состояниях сознания возможно интуитивно «ухватить» фрагменты будущего или решений, которые ещё не очевидны в обычном состоянии. Важно отметить, что такое «путешествие» во времени сознания требует подготовленности. Только специалист, глубоко работающий над задачами настоящего, способен распознать верное решение как бы взглянув в будущее и принести его обратно в настоящее. В этом смысле подобное ментальное путешествие действительно переносит элементы будущего в текущую реальность, продвигая развитие цивилизации. Психологи даже вводят понятие «психонавт» — по аналогии с космонавтом — для описания человека, исследующего внутреннее пространство своего сознания. Если астронавт летит в космос, то психонавт «путешествует» по иным измерениям ума, раскрывая новые грани реальности без всяких скафандров и ракет.
Научные исследования и эксперименты предвосхищения будущего
Современные научные эксперименты предоставляют данные, указывающие на способность человеческой психики получать информацию из будущего. В парапсихологии это явление известно как прекогниция. Так, психолог Дэрил Бем опубликовал в 2011 г. сенсационные результаты экспериментов, где испытуемые статистически значимо угадывали будущие стимулы — работа получила название «Feeling the Future» («Предчувствуя будущее»). Хотя эти выводы вызвали споры, последующие мета-анализы подтвердили наличие небольшого эффекта предвосхищения событий у людей.
Другие исследователи подошли к вопросу с нейрофизиологической стороны. Д. Рэдин и Дж. Моссбридж в Институте ноэтических наук показали, что организм может реагировать на будущее событие до его наступления. В одном эксперименте испытуемые нажимали кнопку, после чего компьютер случайно показывал либо нейтральное изображение, либо шокирующее. Электроэнцефалограф фиксировал, что за несколько секунд до появления картинки мозг испытуемого уже менял активность: спокойной оставалась при будущем нейтральном кадре и всплеск возникал перед демонстрацией травмирующего сюжета.
Этот феномен предвосхищающей реакции (presentiment) был многократно воспроизведён в независимых лабораториях. Более того, в 1995 г. ЦРУ рассекретило результаты собственной программы по исследованию «пси-способностей», где статистики подтвердили достоверность подобных экспериментов.
Эти данные заставляют учёных переосмыслить линейную модель времени: возможно, сознание способно выходить за пределы строго последовательного времени и получать информацию из будущего.
Помимо лабораторных исследований, интересны и необычные эксперименты в прикладной психофизиологии. В Новосибирском Академгородке под руководством академика В. Казначеева в 1990-х годах была создана установка «зеркала Козырева» — изогнутые металлические конструкции, воздействующие на состояние сознания испытуемых. Целью исследований было изучение ноосферы (по концепции В. Вернадского — сферы разума планеты) и скрытых резервов мозга. Результаты оказались поразительными: например, на полярной станции Диксон два разнесённых в пространстве участника мысленно обменивались информацией, и 1/3 передаваемых образов фиксировалась раньше времени.
В серии опытов символы, которые компьютер случайно генерировал спустя час или даже 7 часов, уже воспринимались людьми в зеркалах заранее. Александр Трофимов, ученик Казначеева, называет это феноменальным доказательством правоты астрофизика Н. Козырева, считавшего, что «будущее присутствует в настоящем». Иными словами, в особых условиях поток времени как бы «сжимается». Новосибирские учёные сообщают, что с помощью этой технологии им удалось научиться мониторить грядущие события — например, предсказать землетрясение за неделю до его случившегося факта.
Эти эксперименты, находящиеся на стыке науки и эзотерики, показывают, что альтернативные методы доступа к информации о будущем активно изучаются и в академической среде, хоть и остаются спорными.
Философские и духовные концепции «переноса» в будущее
Идея получения знания о будущем через особые состояния сознания отражена во многих духовных традициях и философских учениях. Ещё древние шаманы рассматривали экстатический транс как способ заглянуть за пределы обыденной реальности.
В шаманских культурах практикуются путешествия в дух — с помощью бубна или психоактивных растений (например, аяуаски, грибов) шаман входит в изменённое сознание и способен «увидеть» грядущие события племени: предсказать погоду, узнать, где находится добыча или откуда грозит опасность.
Такие пророческие трансы описаны у разных народов и по сути являются ментальными путешествиями в иные измерения времени. Античные оракулы (Дельфийский оракул и др.) также входили в особый транс (вдыхая пары или используя психотропные вещества) ради прорицания будущего — это исторические свидетельства того, как духовная практика служила «машиной времени» задолго до научной фантастики.
В восточных философиях развит целый корпус знаний о сверхнормальных способностях, достигаемых посредством медитации. Йога-сутры Патанджали (древний индийский трактат) перечисляют сиддхи — паранормальные умения, которыми овладевает йогин на высоких ступенях просветления.
Среди них есть бхавишья — способность ясновидения, предвидеть будущие события. Достигается она глубокой концентрацией и самадхи. Буддийские тексты тоже упоминают «божественное око», дарующее видение грядущего.
Хотя традиционные учителя предупреждают, что погоня за сиддхи — не цель духовного пути, сам факт появления таких идей говорит о давней вере человечества в возможность взглядом сознания охватить будущее.
Отдельно стоит отметить вклад трансперсональной психологии в осмысление подобных явлений. Основоположник этого направления Станислав Гроф описал множество случаев, когда люди в сессиях с психоделиками или холотропным дыханием переживали ощущение выхода за пределы времени и пространства. Он ввёл понятие «трансперсональные переживания», к которым относятся и явления прекогниции и «ментального путешествия во времени».
По наблюдениям Грофа, на продвинутых этапах терапии LSD субъекты убедительно сообщали о событиях, которые должны произойти в будущем, видя их как яркие образы. Некоторые переживали состояние, будто могут произвольно перемещаться в любую эпоху — своеобразное ощущение управления машиной времени без её помощи. Подобные эпизоды трудно поддаются проверке, но ряд совпадений с реальными последующими событиями всё же зафиксирован.
Гроф в своей книге «Психология будущего» прямо указывает, что изучение сознания требует выхода за традиционные рамки, включая исследование феномена времени.
Философы и теоретики науки также размышляют о нелинейности времени и роли сознания. Концепция ноосферы В. Вернадского и П. Тейяра де Шардена предполагает эволюцию коллективного разума человечества, в котором знания прошлого, настоящего и будущего связаны в единое информационное поле.
Современные мыслители вроде Эрвина Ласло развивают идею «акаши-поля» — универсального банка данных Вселенной, где записаны все события — и прошедшие, и будущие.
С этой точки зрения практики изменённого сознания (медитация, экстрасенсорика) — это способы «подключиться» к всемирной информационной сети и получить оттуда искру будущего озарения.
Таким образом, литература по теме «путешествий в будущее» через сознание весьма обширна. Она включает строгие научные статьи и отчёты экспериментов, философские трактаты и монографии (например, упомянутая работа Грофа «Психология будущего»), а также духовные тексты разных традиций.
Несмотря на различие языков и подходов, все эти источники сходятся в одном: человеческое сознание рассматривается как своего рода корабль, способный пересекать границы времени.
Альтернатива космическим путешествиям в будущее уже существует — это путешествия во внутреннем космосе, требующие не ракетных технологий, а углубления в тайны психики и духа.
По мере расширения наших знаний о мозге и сознании, такие «полёты мысли» из фантастики все ближе подходят к научной реальности.
___
Опросник склонности к предвидению (ОСП-24) смотрите в Приложении к главе 8.
Глава 9. Вечность как психологический феномен
«Что есть, то — без рождения и без гибели, цельное, единое, неподвижное и без конца. Оно не было и не будет, ибо есть теперь, всё сразу, единое, связанное вместе.»
— Парменид, О природе (фр. 8)
Краткое содержание
Глава рассматривает вечность не как абстрактную метафизику, а как психологическое переживание, в котором распадается линейная последовательность времени и возникает чувство сопричастности бесконечному потоку смыслов. Через анализ мифологических, юнгианских и феноменологических трактов (Элиаде, Юнг, Бергсон и др.) и через призму практик (аутогенная тренировка, трансперсональные техники, художественное творчество) показано, как это переживание формирует целостность личности, усиливает творческий потенциал и служит ресурсом экзистенциальной устойчивости. Особое внимание уделено символике (медальон вечности, уроборос, узел, трискель) и практическим рекомендациям по использованию визуальных якорей в терапевтической и арт-практике. В конце главы представлены предупреждения о возможных рисках при работе с вневременными состояниями и указание на расширенный перечень символов в приложении к гл. 9.
Ключевые понятия
— Вечность — универсальное культурное и религиозное понятие, обозначающее выход за пределы линейного времени. В разных традициях трактуется как бесконечный круговорот природы (мифологии), неизменное бытие (античная философия), атрибут Бога и загробная жизнь (монотеистические религии), пустотность и непостоянство (буддизм), длительность или вечное возвращение (философия Нового времени). В психологии и психотерапии — субъективное переживание сопричастности бесконечному потоку смыслов.
— Вечность (как субъективное переживание) — состояние сознания, в котором исчезает ощущение последовательности времени и открывается сопричастность бесконечному.
— Длительность (durée) — феноменологически переживаемое «живое время», поток сознания, неразложимый на дискретные отрезки (Бергсон).
— Вневременность / безвременье — психическое состояние выпадения из времени, переживание остановки его хода.
— Архетипы коллективного бессознательного — универсальные символические структуры, выражающие общечеловеческий опыт (Юнг).
— Визуальный / символический якорь (медальон вечности) — образ или предмет, фиксирующий доступ к состоянию сопричастности вечному и служащий терапевтическим опорным знаком.
— Трансперсональное переживание — опыт выхода за пределы индивидуального «Я» и личной биографии, связанный с ощущением единства с миром.
— Аутогенная тренировка (АТ) — метод саморегуляции, основанный на формульных внушениях и расслаблении, применяемый для вхождения в особые психические состояния.
Цели главы.
— Дать компактное определение вечности как психологического феномена и отличить его от философских и метафизических интерпретаций.
— Показать культурно-исторические и юнгианские корни переживания вечности через анализ символов и ритуалов.
— Описать практические пути индукции вневременных состояний (АТ, медитативные техники, художественное созерцание) и сформулировать клинические рекомендации и предостережения при их применении.
Орнамент «Медальон вечности».

Эта композиция — попытка визуально соединить несколько архетипических образов, через которые разные культуры выражали идею вне-линейного, циклического и бесконечного времени.
Внешнее кольцо — уроборос (змея, кусающая свой хвост) — отражает замкнутость циклов, идею возвращения и самовоспроизведения; центральный переплетённый узел — родственник тибетского «узла вечности» — символизирует взаимозависимость событий и невозможность выделить «начало» или «конец»; спиральные группы (трискельные венчики) дают движение и напоминание о трёхвекторной структуре времени (прошлое — настоящее — будущее), а стилизованный «ключ» в основании (отголосок анкха / армянского знака вечности) выступает семантическим якорем — указанием на жизнь, смысл и преемственность.
С психологической точки зрения такой образ действует на нескольких уровнях одновременно. Он — и «медальон памяти», хранящий смысловые слои опыта; и инструмент фокусировки, помогающий пережить разрыв с линейной последовательностью времени: при созерцании внимания смещаются границы «я» и «сейчас», и открывается переживание сопричастности более широкому течению бытия. Для практик аутогенной тренировки, медитации или художественного создания такой медальон может служить визуальным якорем — как предмет, через который психика получает разрешение выйти за привычные временные рамки и ощутить «вечность» не как абстракцию, а как переживаемую реальность.
___
Опросник переживаний Вечности и расширенный список символов Вечности смотрите в приложении к главе 9.
___
Понятие вечности сопровождает человечество с древнейших времён, хотя выражалось по-разному в разных культурах и религиях. В мифологиях первобытных обществ вечность часто понималась как круговорот природы — смена дня и ночи, сезонов, жизни и смерти. В индийской философии — это сансара, бесконечный цикл перерождений. В античной Греции вечность связывали с идеей неизменного космоса (Парменид, Платон), а в Риме — с культом вечного города. Христианство придало понятию личностный смысл: вечность стала качеством Бога и целью души. В исламе вечность также трактуется как бесконечность Аллаха и как жизнь после смерти. В буддизме вечность скорее отвергается как иллюзия постоянного, акцент делается на пустотности и непостоянстве. В философии Нового времени (Бергсон, Шопенгауэр, Ницше) вечность получила новые оттенки — как «длительность», «воля», «вечное возвращение». Таким образом, идея вечности действительно универсальна: она присутствует во всех традициях, но смысл её различен — от мистического опыта до философского осмысления и религиозного догмата.
Платон (Тимей, 37d–38a): «Время возникло вместе с небом, чтобы родилось и исчезало вместе с ним. Оно создано по образцу вечности, чтобы, насколько возможно, ей уподобиться. Ибо вечность пребывает в тождественном единстве, а время — в вечном движении, подражающем вечности.» Здесь Платон противопоставляет вечность (как неподвижное, совершенное бытие) и время (как её образ в движении).
Философия и психология времени и вечности
Введение в понятие вечности как психологического феномена
Вечность как психологический феномен представляет собой субъективное переживание, при котором человеческая психика выходит за рамки линейного, последовательного времени, ощущая единство с бесконечным, трансцендентным или космосом. Это не просто абстрактная философская категория, а глубокий психический процесс, проявляющийся в мистических опытах, творчестве, любви и даже в практиках релаксации, таких как аутогенная тренировка (АТ). Вечность здесь понимается не как объективная реальность, а как внутреннее состояние сознания, где время теряет свою линейность, становясь «длительностью» или вневременным потоком. Это ощущение сопричастности вечному позволяет человеку преодолеть ограничения повседневного существования, интегрируя архетипы, мифы и эмоциональные связи в единую психологическую целостность.
Философия и психология времени и вечности исследуют, как эти переживания формируют человеческое сознание. Ключевые мыслители, такие как Мирча Элиаде, Карл Густав Юнг, Анри Бергсон, Эрих Фромм и Виктор Знаков, предлагают интерпретации, где вечность связана с коллективным бессознательным, творческим импульсом и модусами бытия. Ниже мы разберем эти идеи, опираясь на их работы, чтобы раскрыть, как вечность проявляется в психике.
Мифологический и культурный аспект вечности: Взгляд Мирчи Элиаде
Мирча Элиаде в своей книге «Мифы, сновидения, мистерии» (2000) рассматривает вечность как психологический феномен, коренящийся в мистическом опыте и культурных ритуалах. Он анализирует, как в различных культурах — от архаических обществ до современных верований — мифы и ритуалы служат механизмом выхода за пределы линейного времени. Элиаде подчеркивает, что через мистические переживания индивид ощущает единство с космосом, преодолевая временные ограничения. Сновидения и мистерии выступают мостом к трансцендентному, где вечность интегрируется в повседневную психику не только как личный опыт, но и как культурный феномен. Это перекликается с идеями о вневременности в творчестве и любви, где мифология формирует психологическое восприятие реальности. Элиаде показывает, что вечность — это не иллюзия, а фундаментальный способ, которым психика справляется с конечностью существования, возвращаясь к «священному времени» через ритуалы и символы.
Вот цитата Мирчи Элиаде в русском переводе (Миф о вечном возвращении, Священное и мирское): «Для религиозного человека время также, как и пространство, не является однородным и непрерывным. Существуют, следовательно, священное время и мирское время. Всякий религиозный праздник, всякое литургическое время означает актуализацию священного события, произошедшего в мифическом прошлом, „во время начала“. Участие в празднике выводит верующего из обычной длительности и вводит в священное время, которое вновь становится актуальным. Таким образом, священное время поддаётся неограниченному восстановлению, оно может повторяться до бесконечности.»
Архетипы и коллективное бессознательное: Карл Густав Юнг
Карл Густав Юнг в «Психологии и алхимии» (1997) интерпретирует вечность через призму аналитической психологии, связывая ее с архетипами коллективного бессознательного. Алхимия для Юнга — это метафора психологического процесса трансформации, где символы изменения металлов отражают внутренние сдвиги сознания. Мистические переживания, такие как единение с «самостью», выводят психику за пределы линейного времени, позволяя ощутить сопричастность вечному. Юнг анализирует алхимические тексты как проекции психических процессов, где символизм вечности проявляется в снах и видениях. Алхимия становится путем интеграции противоположностей — сознания и бессознательного, — ведущим к трансцендентным состояниям, актуальным для понимания творчества и любви. Вечность здесь видится как психологическая реальность, где коллективное бессознательное предоставляет вечные паттерны, помогающие человеку преодолеть временные ограничения эго.
Длительность и творческий импульс: Анри Бергсон
Анри Бергсон в «Творческой эволюции» (1992) вводит понятие «длительности» (durée) как интуитивного, нелинейного времени, противопоставляя его механистическому, хронологическому времени. Вечность ощущается через творческий процесс, где жизнь эволюционирует как непрерывный поток, выводящий за пределы линейного времени. Бергсон анализирует эволюцию как импульс, в котором мистические и творческие переживания позволяют соприкоснуться с вечным. Любовь и творчество предстают формами «длительности», где индивид ощущает единство с космосом, преодолевая разрывы последовательного времени. Этот подход фундаментален для понимания психологического восприятия времени в контексте мистицизма и АТ, где «длительность» становится ключом к трансценденции, позволяя психике интегрировать прошлое, настоящее и будущее в едином потоке.
Модусы бытия и отчуждение: Эрих Фромм
Эрих Фромм в «Иметь или быть?» (2004) противопоставляет два модуса существования: «иметь» (обладание) и «быть» (существование), где вечность достигается именно через «бытие» в любви и творчестве. Он анализирует, как общество потребления отчуждает человека от вечного, навязывая линейное время накопления. Любовь как «бытие» выводит за пределы этого времени, создавая сопричастность вечному через глубокие отношения. Фромм затрагивает психологические аспекты, где «иметь» приводит к отчуждению и эгоизму, а «быть» — к мистическому единению, преодолевающему временные барьеры. Это ключевой текст для психологии любви как трансцендентного феномена, показывающий, как вечность проявляется в аутентичных связях, интегрируя мистицизм в повседневную психику.
Вот цитата из русского издания Эриха Фромма «Иметь или быть?» (М., АСТ, 2004): «Если я есть то, что я имею, и если я теряю то, что имею, кто же я тогда? Я — ничто, кроме разбитого, униженного, жалкого свидетельства неправильного образа жизни.» «Любовь — это единственный разумный и удовлетворительный ответ на проблему человеческого существования.»
Понимание и трансперсональный опыт: Виктор Знаков
Виктор Знаков в «Психологии понимания» (2005) исследует понимание как психологический процесс, через который переживаются вечные смыслы в мистическом опыте. Книга анализирует, как понимание выводит за линейное время, связывая его с любовью и творчеством. Знаков подчеркивает роль коллективного бессознательного в ощущении сопричастности вечному, приводя примеры из литературы. Это работа о трансперсональном опыте, где понимание выступает ключом к трансценденции, позволяя психике интегрировать вечные архетипы в личный нарратив. Знаков дополняет юнгианские идеи, показывая, как когнитивные процессы способствуют выходу за временные рамки.
Синтез идей
Хотя фокус этой главы на философии и психологии времени, идеи вечности перекликаются с другими аспектами. Например, в мистическом опыте Уильяма Джеймса (Многообразие религиозного опыта, 2001) вечность ощущается как единство с космосом в пиковых переживаниях, аналогично элиадеевским ритуалам. В АТ Иоганна Шульца (Аутогенная тренировка, 2005) релаксация вызывает вневременные состояния, близкие к бергсоновской «длительности». Творчество у Льва Выготского (Психология искусства, 2008) преодолевает время через катарсис, а любовь у Виктора Франкла (Человек в поисках смысла, 1990) связывает с вечным через смысл, эхом отзываясь на фроммовское «бытие».
Идея вечности в психологии и философии времени не ограничивается абстрактным созерцанием, она непосредственно влияет на личностное развитие и самопознание. Переживание вневременных состояний через медитацию, аутогенную тренировку, творческую активность или глубокие межличностные связи позволяет человеку осознать свою внутреннюю целостность и связь с более широким контекстом существования. Символы, архетипы, визуальные и когнитивные якоря дают возможность «примерять» вечные смыслы в повседневной жизни, помогая трансформировать привычные реакции и мотивы. Любовь, творчество, глубокое понимание событий и внутренний диалог становятся инструментами, через которые психика интегрирует вечное в свои структуры, формируя устойчивость, духовную гибкость и способность видеть долгосрочные перспективы. Таким образом, работа с вечностью — это не отрыв от жизни, а её глубинное осмысление, способное обогатить каждодневное существование и содействовать личной реализации.
В заключение, вечность как психологический феномен — это трансцендентное состояние, где психика сливается с бесконечным, преодолевая линейное время через мифы, архетипы, длительность, бытие и понимание. Эти идеи не только объясняют внутренние процессы, но и предлагают пути к самопознанию, интегрируя вечное в повседневную жизнь.
___
В моей книге «Диалоги душ» предложены практические методы развития внутреннего диалога как инструмента самопознания и углубления связи с вечностью. Через упражнения на осознанное внимание, работу с образами и символами читатель учится интегрировать переживания бессознательного, расширять восприятие времени и ощущать сопричастность бесконечному потоку смыслов.
Литература и комментарии
1. Философия и психология времени и вечности
— Элиаде, М. (2000). Мифы, сновидения, мистерии. Москва: Прогресс-Традиция. Элиаде, выдающийся историк религий, в этой книге анализирует мистический опыт и восприятие времени в различных культурах, подчеркивая, как мифы и ритуалы позволяют человеку выходить за пределы линейного времени. Он описывает вечность как психологический феномен, где через мистические переживания индивид ощущает единство с космосом, преодолевая временные ограничения. Книга включает сравнительный анализ архаических обществ и современных верований, показывая, как сновидения и мистерии служат мостом к трансцендентному, что перекликается с идеями о вневременности в творчестве и любви. Элиаде подчеркивает, что мистический опыт не только личный, но и культурный, помогая понять, как вечность интегрируется в повседневную психику. Это фундаментальный труд для понимания, как мифология формирует психологическое восприятие реальности.
— Юнг, К. Г. (1997). Психология и алхимия. Москва: Рефл-бук, Ваклер. Юнг исследует алхимию как психологический процесс, где символы трансформации металлов отражают внутренние изменения сознания. Он связывает вечность с архетипами коллективного бессознательного, где мистические переживания, такие как единение с самостью, выводят за пределы линейного времени. Книга анализирует алхимические тексты как проекции психических процессов, показывая, как символизм вечности проявляется в снах и видениях. Юнг подчеркивает, что алхимия — это путь к интеграции противоположностей, ведущий к ощущению сопричастности вечному, что актуально для понимания творчества и любви как трансцендентных состояний. Это ключевое произведение для аналитической психологии, где вечность видится как психологическая реальность.
— Бергсон, А. (1992). Творческая эволюция. Москва: Канон. Бергсон вводит понятие «длительности» (durée) как интуитивного времени, где вечность ощущается через творческий процесс. Он противопоставляет механистическое время «длительности», где жизнь эволюционирует через творческий импульс, выводящий за пределы линейного времени. Книга анализирует эволюцию как непрерывный поток, где мистические и творческие переживания позволяют соприкоснуться с вечным. Бергсон подчеркивает, что любовь и творчество — это формы «длительности», где индивид ощущает единство с космосом. Это фундаментальный труд для понимания психологического восприятия времени в контексте мистицизма и АТ.
— Фромм, Э. (2004). Иметь или быть? Москва: АСТ. Фромм противопоставляет «иметь» (обладание) и «быть» (существование), где вечность достигается через «бытие» в любви и творчестве. Он анализирует, как общество потребления отчуждает от вечного, а любовь как бытие выводит за пределы линейного времени. Книга затрагивает психологические аспекты, где «иметь» приводит к отчуждению, а «быть» — к сопричастности вечному через отношения. Фромм связывает это с мистицизмом, показывая, как любовь преодолевает эгоизм. Это ключевой текст для понимания психологии любви как трансцендентного феномена.
— Знаков, В. В. (2005). Психология понимания. Москва: Институт психологии РАН. Знаков исследует понимание как психологический процесс, где вечные смыслы переживаются через мистический опыт. Книга анализирует, как понимание выводит за линейное время, связывая с любовью и творчеством. Он подчеркивает роль коллективного бессознательного в сопричастности вечному, с примерами из литературы. Это работа о трансперсональном опыте, где понимание — ключ к трансценденции.
2. Мистический опыт и переживание вечности
— Джеймс, У. (2001). Многообразие религиозного опыта. Москва: Наука. Джеймс классифицирует мистические состояния как основу религиозного опыта, где вечность ощущается как единство с космосом. Книга анализирует пиковые переживания, включая вневременность, с примерами из различных традиций. Он подчеркивает ноэтический характер, где мистика дает знание о вечном, связывая с любовью и творчеством. Это фундаментальный труд по психологии религии.
— Стейс, У. Т. (2002). Мистицизм и философия. Москва: Прогресс. Стейс анализирует вневременность в мистике как выход за линейное время, сравнивая традиции. Книга классифицирует мистический опыт, подчеркивая единство с вечным. Он связывает это с психологией, показывая, как мистика дает сопричастность.
— Маслоу, А. (1997). Религии, ценности и пиковые переживания. Киев: Психея. Маслоу описывает пиковые переживания как ощущение вечности в любви и творчестве. Книга анализирует их как трансцендентные, выводящие за время.
— Альбрехт, К. (2019). Psychology of Mystical Consciousness. Crossroad Publishing Company. Альбрехт исследует мистическое сознание как выход за время, с эмпирическими данными. Книга фокусируется на вневременности, связывая с психологией.
— Шугуров, М. В., Мозжилин, С. И. (2023). Осмысление религиозно-мистического опыта в рамках аналитической психологии. Вестник РГГУ. Авторы анализируют мистический опыт через юнгианскую призму, показывая вечность как единство с бессознательным.
— Хоружий, С. С. (ред.) (2017). Мистицизм: теория и история. Москва: Институт философии РАН. Сборник статей по теории мистицизма, включая психологические аспекты вневременности.
— Тарт, Ч. (1969/2019). Altered States of Consciousness. Wiley. Сборник о измененных состояниях, включая мистические, с анализом вневременности.
3. Аутогенная тренировка и измененные состояния сознания
— Шульц, И. Г. (2005). Аутогенная тренировка. Москва: Медицина. Шульц описывает АТ как метод релаксации, вызывающий вневременные состояния, близкие к мистике. Книга фокусируется на психофизиологии, где АТ помогает достичь трансценденции.
— Линдеман, Х. (1993). Аутогенная тренировка: Путь к восстановлению здоровья. Москва: Физкультура и спорт. Линдеман раскрывает АТ как путь к здоровью, включая вневременные состояния для трансценденции.
— Гроф, С. (2001). Психология будущего. Москва: АСТ. Гроф исследует трансперсональные состояния, включая вечность через АТ и медитацию.
— Грин, Э., Грин, А. (1977/2019). Beyond Biofeedback. Fort Wayne Books. Грины исследуют биофидбек и АТ, включая переживания вечности в релаксации.
— Сафронов, А. Г. (2021). Psychological Practices in Mystic Traditions. Independent. Сафронов анализирует психопрактики в мистике, включая АТ для достижения вечности.
4. Творчество и вечность
— Выготский, Л. С. (2008). Психология искусства. Москва: Лабиринт. Выготский анализирует искусство как преодоление времени, соприкосновение с вечными смыслами через катарсис.
— Чиксентмихайи, М. (2013). Поток: Психология оптимального переживания. Москва: Альпина Нон-фикшн. Чиксентмихайи описывает поток как вневременное состояние в творчестве.
— Ранке, О. (2007). Искусство и художник. Москва: Смысл. Ранк связывает творчество с восприятием вечности через бессознательное.
— Шамас, В. (2017). Deep Creativity. Morgan James Publishing. Шамас интегрирует психологию и мистику в творчестве, включая вечность.
— Черняк, М. А. (2020). Феномен массовой литературы. Журнал «Филология и культура». Черняк анализирует массовую литературу как социальный феномен, затрагивающий вечные темы.
5. Любовь как психологический феномен вечности
— Франкл, В. (1990). Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс. Франкл видит любовь как экзистенциальный опыт связи с вечным через смысл.
— Льюис, К. С. (2000). Любовь. Москва: Прогресс. Льюис анализирует любовь как трансцендентный феномен, выводящий за время.
— Бубер, М. (1995). Я и Ты. Москва: Высшая школа. Бубер видит диалог и любовь как путь к вечности.
— Хайнлайн, Р. (1973/2020). Достаточно времени для любви. Роман исследует любовь и вечность через бессмертие.
— Морозова, Е. А. (2021). Философия любви в русской литературе. Философские науки. Морозова анализирует любовь как вечный процесс в литературе.
6. Дополнительные источники
— Левин, Дж., Стил, Р. (2005). The Transcendent Experience. Explore: The Journal of Science and Healing. Обзор трансцендентного опыта, включая психологические аспекты вечности.
— Хаффорд, Д. (2019). Psychological Perspectives on Reality. Palgrave Macmillan. Психологические рамки для паранормальных переживаний, включая мистику.
— Уит, А. В. (2015). Мистический опыт. СамИздат. Мифологическое творчество и поиски вечных начал.
— Козлов, В. В. (2006). Психология трансперсонального опыта. Москва: Институт психотерапии. Трансперсональные переживания вечности в мистике.
— Рубинштейн, С. Л. (2002). Бытие и сознание. Москва: Академия. Философско-психологический анализ бытия и времени.
___
Визуальные символы вечности (по регионам и культурам)
Каждый пункт — название, регион/культура, краткий смысл и психологическая семантика (как символ может работать в контексте переживания вечности).

Европа и Средиземноморье
— Уроборос (Ouroboros) — Египет → Греко-алхимическая традиция. Смысл: змея, кусающая свой хвост — вечный круг, самогенерация. Психология: образ завершённости и цикличности, «замыкание» нарративов жизни.
— Спираль / Кельтская спираль — кельтская и доисторическая Европа. Смысл: развитие, рост, внутренняя/внешняя динамика. Психология: путеводитель к центру личности, движение к целостности.
— Трискель (Triskele) — Кельты, Британские острова. Смысл: трёхчастная динамика (жизненные циклы, времена суток, триада смыслов). Психология: ощущение движения сквозь уровни времени.
— Греческий меандр (Greek key) — классический орнамент. Смысл: непрерывность, поток. Психология: линейно-замкнутая структура, дающая чувство стабильного продолжения.
— Лемниската / символ бесконечности (∞) — западно-новоевропейская условная эмблема (математическая). Смысл: бесконечность как абстрактная непрерывность. Психология: когнитивная символизация «безграничности».
— Армянский знак вечности (Arevakhach) — Армения. Смысл: символ вечности, солнца, непрерывности народной памяти. Психология: коллективная преемственность и историческое «я».
Ближний Восток, Египет, Иран
— Анх (Ankh) — Древний Египет. Смысл: ключ жизни, вечная жизнь. Психология: надежда на продолжение, символ трансэндентности жизни над смертью.
— Древние персидские и зороастрийские круговые мотивы. Смысл: вечное возвращение, космическая упорядоченность. Психология: ощущение космической оси и постоянства.
Индия и Южная Азия
— Мандала / янтра (Mandala / Yantra) — буддизм/индуизм. Смысл: сакральная карта космоса и ядерной целостности. Психология: инструмент центровки, «путь в центр», переживание целостности-вне-времени.
— Священная свастика (до XX в.) — многие древние культуры Азии и Европы. Смысл: движение, цикличность, солнечное вращение. Психология: символ обновления; требуется осторожность из-за исторической стигмы XX века.
— Шри Янтра / геометрические символы бесконечного порядка. Смысл: математическая и символическая репрезентация бесконечной структуры мироздания. Психология: опора для созерцательных практик.
Тибет, Китай, Восточная Азия
— Узел вечности (Endless / Eternal Knot, Shrivatsa) — тибетский буддизм. Смысл: переплетённость причин и следствий, отсутствия начала и конца. Психология: переживание взаимозависимости и отсутствия линейной причинности.
— Инь-ян (Yin-Yang) — даосская символика. Смысл: непрерывное взаимодействие противоположностей. Психология: циклы смены состояний, целостность через динамическое равновесие.
— Томоэ (Tomoe) — японский спиралевидный знак. Смысл: вращение, космическое движение. Психология: созерцание цикличности и ритмов.
Африка
— Адинкра: Sankofa (Гана). Смысл: «вернуться и взять» — учиться у прошлого. Психология: связь поколений, вечная мудрость предков.
— Адинкра: Gye Nyame. Смысл: превосходство божественного, вечность Бога. Психология: опора трансцендентного фактора в человеческом опыте.
Океания и Полинезия
— Кору (Koru) — маори (Новая Зеландия). Смысл: завиток папоротника — рождение, рост и возврат к корням. Психология: циклическое обновление и связь с родом.
— Полинезийские спиральные и переплетённые узоры. Смысл: преемственность, память племени. Психология: коллективная идентичность как путь к переживанию «вне-времени».
Америки (коренные народы)
— Колесо Медицины / Medicine Wheel (Северная Америка). Смысл: циклы жизни, четыре направления, целостность. Психология: модель времени как кругового опыта и восстановления.
— Перуано-Мезоамериканские образы змеи и перерождения (Кецалькоатль, Кукулькан). Смысл: змея как символ циклического обновления, связи с космосом. Психология: архетип возрождения.
Универсальные / современные
— Лабиринт (не то же, что «лабиринт» -побег, а символ пути к центру). Смысл: путь к центру/источнику. Психология: метафора внутреннего пути, переживания «вне» линейности при достижении центра.
— Древовидный образ / Древо жизни (Tree of Life). Смысл: вертикальная ось, связь миров (нижний — средний — верхний). Психология: ось-опора, способ связать прошедшее, настоящее и будущее с вечным основанием.
— Спираль раковины / Nautilus. Смысл: логарифмическая спираль как образ бесконечного роста. Психология: представление о том, что развитие не обрывается — оно расширяется.
— Мёбиусова лента (современный математический символ бесконечности). Смысл: одно-сторонняя поверхность без границ. Психология: современный визуальный метафор бесконечного единства.
— Солярные символы (колеса, диски, круги). Смысл: циклы природы, вечное возвращение солнца. Психология: биоритмическая опора; ощущение постоянства в изменении.
Как пользоваться списком при работе над орнаментом / эмблемой
— Выберите 3–5 мотивов — большее количество усложнит читаемость. Хорошая комбинация: 1 мотив рамки (круг/уроборос), 1 центральный узел (узел вечности/мандала/узор), 1 динамический элемент (спираль/трискель) и 1 семантический «якорь» (анх, армянский знак, дерево).
— Учитывайте контекст и аудиторию. Некоторые символы (например, свастика) требуют предупреждений и историко-культурной оговорки — лучше избегать их без ясной рефлексии.
— Визуальная иерархия. Делайте рамку самым крупным элементом, центральный узел — фокусом внимания, динамические элементы — радиальными «лучами» движения.
— Варианты использования. Медальон для заглавной страницы; орнамент-бордюр для страницы; маленький символ-эмблема в колонтитуле; рабочая карточка для медитации (чёрно-белая и сепия-версия).
— Этическая заметка. При использовании символики народов мира полезно в тексте кратко указывать источник и смысл, чтобы не стирать культурную авторство и не допускать культурной апроприации.
___
Опросник переживаний Вечности смотрите в приложении к главе 9.
Глава 10. Безвременье и атемпоральность
Краткое содержание
Глава исследует состояние безвременья — качественный выход сознания за категорию длительности, отличающийся от «вечности» как закрытой длительности. Через орнаментальную грамматику времени (круг с тремя точками и внешняя точка-наблюдатель) даётся феноменологическая рама: как нормальная временная организация превращается в распад опор и какие клинические и трансформативные последствия это имеет. Рассматриваются нейропсихиатрическая клиника (деперсонализация, диссоциации), возможности ИСС и творческого рождения, а также практические терапевтические подходы к восстановлению временных опор через символы, ритуал и телесную регуляцию.
Особое внимание уделяется символам пустоты: «Чёрный квадрат» К. Малевича в авангарде XX века стал знаком «ничто — начало — нулевая точка», лаконичной метафорой выхода за пределы предметности и времени. Современный аналог — чёрный экран телефона или компьютера: минималистичный знак приостановки, ожидания и «обнуления», который в массовой культуре может восприниматься как повседневный символ безвременья. Эти визуальные образы показывают, что культура находит новые формы фиксации опыта пустоты и выхода за временные координаты.
Ключевые понятия
— Безвременье — выход за категорию длительности; утрата опор прошлого, будущего и стройного настоящего.
— Вечность (в терминах автора) — особая форма длительности с ритмом и внутренней протяжённостью, отличная от безвременья.
— Точка-наблюдатель вне круга — позиция «сверху», не вовлечённая в протяжённость; феноменально отличает созерцание от безвременья.
— Чёрный квадрат / чёрный экран — символы «нулевой точки» и современной пустоты; метафоры выхода за время.
— Длительность (durée) — переживаемое «живое» время; опора психической целостности.
— Деперсонализация / дереализация — клинические проявления утраты временных опор.
— ИСС (изменённые состояния сознания) — возможный ресурс и риск: позволяют пережить вне-временные сюжеты, но требуют интеграции.
— Орнаментальная грамматика времени — материализованные в культуре символы и схемы, организующие переживание времени (уроборос, трискель, круг с тремя точками).
Цели главы
— Описать и операционализировать феномен безвременья как отдельную диагностическую и феноменологическую категорию.
— Провести различие между вечностью (как длительностью) и безвременьем (как отсутствием длительности).
— Показать клинические проявления и риски (деперсонализация, дезадаптация) и дать ориентиры для диагностики.
— Предложить терапевтическую стратегию: восстановление временных опор (телесная регуляция, работа с памятью и ожиданием) + безопасное сопровождение творческих трансформаций (символ, ритуал, контролируемые ИСС).
— Продемонстрировать методологию использования культурных и орнаментальных символов — от древних орнаментов до «Чёрного квадрата» и современных чёрных экранов — как инструментов восстановления и реинтеграции временной структуры личности.
Мгновение вне времени — и ты дома. Всё остальное — путь и блуждание.
Руми
Глава о безвременьи — ключевая в этой книге и, по сути, в жизни человека во все времена. Она обращена к тому, что делает человека человеком во времени: к его способности жить и оперировать прошедшим, настоящим и будущим — тем, что мы обычно называем адекватностью, психическим здоровьем и социальной включённостью. Но есть и предел этой способности: состояние, в котором категории времени теряют свою служебную функцию и перестают быть опорой — состояние, которое я называю безвременьем.
Классическая визуальная метафора времени — «три точки в круге» (прошлое, настоящее, будущее, вписанные в вечность) — давно и заслуженно служит опорой для мысли о временной целостности. Эту модель можно встретить у художников и мыслителей, она зафиксирована в орнаментальных решениях, религиозных и философских образах. Однако для полноценного понимания феномена времени этого недостаточно. Я предлагую расширить схему: к триаде добавить четвёртую точку — особую точку наблюдателя, расположенную вне круга. Эта точка не является ещё одним «временем», она — позиция «сверху», наблюдение, не вовлечённое в протяжённость; это то место, из которого видны и прошлое, и настоящее, и будущее, но которое само не переживает длительности.
Именно это различие позволяет ясно разграничить два понятия, которые часто путают: вечность и безвременье. Вечность в моей терминологии — это форма времени, хотя и особая: замкнутая длительность, обладающая ритмом, повтором и внутренней протяжённостью. Безвременье же — не иная длительность, а выход за пределы самой категории длительности; это взгляд «снаружи», статика, где всё одновременно и нигде не движется. Вечность может быть пережита и иметь качество «длительности вне линейности»; безвременье же длительности не имеет и потому опасно: оно лишает психику временных опор, нарушает становление и разрывает связи с миром.
Орнамент становится здесь не просто украшением: орнамент и понимание времени исторически и синхронно развиваются в культуре и в сознании человека. Тот самый «круг с тремя точками» — по сути модель-орнамент, материализованная в камне, ткани, миниатюре. Множество символов вечности — уроборос, колесо, древо, трискель и им подобные — представляют собой зафиксированные в пространстве культуры способы мысленно организовать время. В каждом из них мы видим конкретную модель времени: форму, способ движения, отношения центра и периферии. Поэтому изучение орнаментов — это не эстетическое занятие; это способ увидеть, как человечество на разных этапах фиксировало и переживало структуру времени.
Отсюда вытекает важный практический и клинический вывод. Символы вечности — синонимы моделей времени; понимание этих моделей даёт нам ключ к распознаванию отклонений и нарушений временной организации психики. Безвременье — трансгрессия этих моделей: патологическое состояние относительно человеческой нормы времени, угроза становлению личности и поддержанию социальных связей. Именно потеря длительности лежит в основе многих тяжёлых расстройств переживания времени — от дезориентации и деперсонализации до глубокой экзистенциальной пустоты. Понимание структуры безвременья даёт клинические ориентиры: где искать утрату протяжённости, какие вмешательства вернут временные опоры, какие символические и практические инструменты помогут восстановлению.
Но в парадоксальном плане безвременье также содержит возможность. В крайней пустоте, лишённый привычных временных опор, человек может впервые осознать свою глубинную природу — образ и подобие творца — и начать творить себя и мир из ничто. В этом смысле безвременье — не однозначно разрушение: оно может быть отправной точкой творческого рождения, началом нового способа бытия, если рядом есть «мост», который направляет и переводит этот опыт в созидательную форму. Моя работа в «Книге Моста» — попытка построить именно такой мост: от пустоты и тьмы безвременья к форме вечности, которая сохраняет длительность и смысл.
Иллюстрацией сказанного служат орнаменты кельтов на камнях, в книгах и на украшениях, где в центре часто видны три шарообразные формы, окружённые сложными переплетениями и кольцами. Это не просто декоративный приём: это визуальная грамматика времени — триада внутри окружности. Добавление внешней точки-наблюдателя делает грамматику сложнее и богаче: теперь у нас есть и пространство вовлечённости в время, и позиция, её трансцендирующая.
Таким образом: символы вечности — это модели времени; безвременье — выход за пределы этих моделей, патологичное по отношению к человеческой норме и становлению, но одновременно потенциально начало творчества и преображения. Поняв эту двойственность, мы получаем и объяснение механизмов тяжёлых нарушений переживания времени, и инструменты для их преодоления — терапевтические, символические и культурные. Это понимание становится основой дальнейшего изложения: как распознавать безвременье, как сопровождать переход от него к вечности, и как использовать орнаментальные и практические формы для восстановления времени в жизни человека.
Что такое безвременье
Безвременье — это состояние сознания и структуры переживания, при котором исчезают (или серьёзно размываются) опоры длительности: прошлое перестаёт «тянуть» за собой память, будущее — быть источником ожидания, настоящее — обрести стройную протяжённость. Это не просто «медленное» или «ускоренное» время, а качественный выход за категорию длительности: опыт, в котором всё кажется одновременно «застывшим» или «бесконечно настоящим», а линейные связи множества событий утрачены. (Опора: Августин о внутренней природе времени — время как феномен сознания).
Феноменологическая рама (положение наблюдателя)
Феноменально безвременье можно рассматривать через призму «точек-наблюдателя». Классическая модель — триада (прошлое, настоящее, будущее) вписанная в круг — описывает нормальную временную организацию сознания; добавление «точки вне круга» (позиции наблюдателя) помогает отличить вечность (замкнутую длительность) от состояния, которое не имеет длительности. В этой форме безвременье предстает как перспектива «сверху», не вовлечённая в временной поток, — но в отличие от созерцательной позиции, оно часто сопровождается нарушением связи с телесностью и смыслом бытия. (Опора: феноменология Хайдеггера о темпоральности и экзистенциальной структуре времени).
Клиника — когда безвременье становится патологией
В психиатрическом и нейронаучном контексте состояния, близкие к безвременью, наблюдаются при деперсонализации/дереализации и при ряде диссоциативных расстройств: пациенты описывают эмоциональную «обесцвеченность», утрату ощущения протяжённости событий и разрыв между переживаемым «я» и потоком времени. Эти состояния не просто экзотические переживания — они часто связаны со значительной утратой жизненной опоры и могут требовать клинической коррекции и реинтеграции временной структуры личности. (Опора: современные обзоры нейробиологии и клиники деперсонализации/дереализации).
Изменённые состояния сознания — граница и ресурс
Изменённые состояния сознания (ИСС), вызванные медитативными практиками, холотропным дыханием или психоделиками, часто дают опытом схожие «вне-временные» феномены — однако здесь важно различать: в трансперсональной парадигме выход за обычную длительность может быть интегрирующим и трансформирующим (потенциал инсайта, реструктуризации смысла), тогда как в клинических случаях он может означать распад опор и дезадаптацию. Это двойственное лицо безвременья — опасность и ресурс — ключ к терапевтическому подходу. (Опора: Гроф и трансперсональные исследования ИСС).
Культурно-орнаментальная сторона — как сообщества «запечатлевают» время
Материальная культура — орнамент, символика, архитектура — фиксирует разнообразные модели времени: уроборос, колесо, трискель, мандала и т. п. Эти знаки — не просто украшения; они служат визуальными моделями того, как культура организует длительность и воспринимаемую целостность. Понимание орнаментальной грамматики времени даёт методологический ключ: видеть, где культурные опоры ослабли, и как через символы можно восстанавливать ощущение связности и протяжённости. (Опора: исследования по психологии орнамента и визуальной структуре).
Резюме — рабочее определение и терапевтические следствия
— Определение: Безвременье — это качественное состояние выхода за категорию длительности, при котором исчезают или радикально изменяются временные опоры сознания.
— Две стороны: патологическая (деперсонализация, дезориентация) и творческая (трансцендентное рождение, источник символического творчества).
— Практический вывод: терапия должна одновременно восстанавливать временные опоры (телесная регуляция, работа с памятью и ожиданием) и аккуратно сопровождать творческое преобразование опыта (символы, ритуал, контролируемые ИСС-практики). (Синтез клиники и трансперсональной практики).
Чёрный экран как новый орнамент
Если в авангарде XX века «Чёрный квадрат» Малевича стал знаком нулевой точки искусства и метафорой выхода за время и предметность, то в XXI веке таким же символом пустоты для миллионов людей стал чёрный экран телефона, планшета или компьютера. Этот экран — повседневный, почти банальный образ «ничто»: остановка сигнала, ожидание запуска, обрыв связи. Но в феноменологическом плане он работает как современный орнамент безвременья — минималистичная форма, где исчезает привычная длительность. Чёрный экран оказывается знаком приостановки и обнуления, границы между прошлым и будущим, паузы, в которой ещё нет содержания, но есть потенциал новой формы. Как когда-то орнаменты фиксировали модели времени в камне и ткани, так сегодня цифровая культура создаёт собственные символы — лаконичные знаки пустоты, через которые человек переживает безвременье и возможность нового начала.
Терапевтический аспект «чёрного экрана»
В психотерапевтической практике образ чёрного экрана может быть использован как безопасная метафора безвременья. Он обозначает паузу и обнуление, но не разрушение: это состояние ожидания, перехода, возможности нового запуска. Работа с этим образом помогает клиенту осознать, что пустота не всегда равна утрате — она может быть пространством для нового смысла, как «чистый лист» для будущего опыта. В упражнениях с воображением или в медитации обращение к символу чёрного экрана позволяет мягко коснуться опыта безвременья и перевести его в ресурсное состояние — остановки, отдыха, начала.
_______
Литература
I. Философские основания времени и атемпоральности
Августин Аврелий. — Исповедь, книга XI (Confessions, Book XI).
Классическое философско-богословское размышление о времени и памяти. Знаменитый фрагмент «Что же такое время?» формулирует представление о внутренней протяжённости сознания, где прошлое, настоящее и будущее соединяются в опыте духа. Важен для различения длительности и измерений, выходящих за пределы времени.
Гуссерль, Эдмунд. — Феноменология внутреннего сознания времени (Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, 1905).
Даёт методологический аппарат феноменологического анализа времени — через категории ретенции, протенции и акта «сейчас». Фундамент для понимания временной структуры переживания и различения психологического и атемпорального времени.
Хайдеггер, Мартин. — Бытие и время (Sein und Zeit, 1927).
Фундаментальная работа, рассматривающая темпоральность как экзистенциальную структуру бытия человека. Идеи «экстатического времени» и различения времён задают философскую основу для понимания наблюдательской точки вне длительности.
II. Религиозно-мистическая и трансперсональная перспектива
Джеймс, Уильям. — Многообразие религиозного опыта (The Varieties of Religious Experience, 1902).
Описывает характеристики мистических состояний — непередаваемость, ноетичность, чувство единства и вне-временности. Служит эмпирическим основанием для анализа переживания вечности и его терапевтического значения.
Элиаде, Мирча. — Священное и профанное (The Sacred and the Profane, 1957).
Анализирует различие сакрального (циклического, вневременного) и профанного (линейного) времени. Труд важен для понимания орнаментальных моделей времени и ритуальных форм, связывающих человеческий опыт с вечностью.
Гроф, Станислав. — Голотропный разум (The Holotropic Mind, 1993); По ту сторону мозга (Beyond the Brain, 1985).
Создатель трансперсональной психологии; описывает феноменологию изменённых состояний сознания и опыт выхода за пределы обычных временных рамок. Используется как теоретическая и клиническая основа для анализа безвременья и переживаний вечности.
Ньюберг, Эндрю; д’Акуили, Юджин. — Почему Бог не уходит (Why God Won’t Go Away, 2001).
Исследование нейрофизиологических коррелятов религиозного опыта. Демонстрирует различие между нейробиологией мистических переживаний и психопатологическими состояниями, помогая терапевтически разграничивать трансцендентное и клиническое.
III. Психология, нейронаука и клиника времени
Блок, Р.; Гронден, С. — Timing and Time Perception: A Selective Review (2010); The Psychology of Time Perception (Wearden, J.).
Современные обзоры по восприятию времени раскрывают механизмы «внутренних часов» и их связь с эмоциями. Эти работы объясняют, как длительность теряется или искажается при безвременье и других изменённых состояниях.
Морен, С. — Обзоры по внимательности и восприятию времени (Mindfulness and Time Perception, 2024).
Исследования показывают, что практика осознанного присутствия расширяет субъективную протяжённость «сейчас» и способствует восстановлению временной структуры личности.
Сьерра, М. и др. — Обзоры по деперсонализации и дереализации (2004–2023).
Клинические исследования феноменов отчуждения, при которых нарушается ощущение временной протяжённости и целостности опыта. Важны для понимания безвременья как патологического состояния.
IV. Орнамент, символ и материальная культура времени
Джонс, Оуэн. — Грамматика орнамента (The Grammar of Ornament, 1856).
Классический труд по теории и эстетике орнамента. Иллюстрирует, как через ритмы, повторения и симметрии материальная культура фиксирует модели времени и вечного возвращения.
Гомбрих, Эрнст Ганс. — Чувство порядка (The Sense of Order, 1979); Искусство и иллюзия (Art and Illusion, 1960).
Исследует психологию восприятия орнамента, показывая, как ритм и симметрия организуют внимание и память. Его идеи помогают понять «временную грамматику» визуальных структур.
Современные исследования по антропологии орнамента. — Decorative Forms and Cultural Memory Studies (2020-е).
Обзоры связывают орнамент с коммуникативной и памятной функцией, демонстрируя его роль как формы культурной памяти и терапевтического якоря в арт-терапии и аутогенных практиках.
V. Творчество, поток и эстетический опыт вне времени
Чиксентмихайи, Михай. — Поток: психология оптимального переживания (Flow: The Psychology of Optimal Experience, 1990).
Классическая работа о феномене потока как состоянии вне времени. Автор описывает динамику пиковых переживаний, в которых слияние действия и сознания даёт ощущение сопричастности вечному.
VI. Практические и терапевтические руководства
Шульц, Иоганн Генрих. — Аутогенная тренировка (Autogenic Training, 1932 и последующие издания).
Методика психофизиологической саморегуляции, восстанавливающая протяжённость настоящего момента и чувство временной устойчивости.
Гроф, Станислав. — Холотропное дыхание (Holotropic Breathwork).
Практика, направленная на вхождение в ИСС с целью интеграции бессознательного материала и достижения трансперсональных состояний; требует строгого соблюдения условий безопасности.
Кравченко, С. А. — ИСС и ИИ — 2. Книга Моста. — Издательские решения, 2025.
Методологическая и терапевтическая разработка концепции «моста» от безвременья к вечности. Даёт основу для перехода от теории к практике и объединяет феноменологию времени, психотерапию и цифровые технологии.
Как работать с этим списком
— Для философской части начните с Августина и Хайдеггера — это даст историко-феноменологическую опору.
— Для описания безвременья как ИСС/патологии опирайтесь на обзоры деперсонализации и на современные исследования time-perception; это даёт клинические индикаторы и инструменты диагностики.
— Для визуальной и орнаментальной аргументации используйте Owen Jones и Gombrich + антропологические статьи — они помогут связать конкретные знаки с моделями времени.
— Для практической терапии — объединяйте АТ (Шульц) с контролируемыми ИСС-методами Грофа и mindfulness-подходами (см. обзоры по майндфулнес и времени).
___
Визуальные символы безвременья
В мировой культуре есть набор знаков/орнаментальных приёмов, которые с большой степенью уместности можно интерпретировать как визуальные «символы безвременья» — то есть образно репрезентируют не просто вечность или цикличность, а отсутствие длительности, пустоту-предел, состояние «до-времени» или «вне-времени». Но важное предупреждение сразу: большинство традиционных символов скорее обозначают вечность/цикличность/целостность, чем буквальное «безвременье» — перевод таких образов на термин «безвременье» всегда требует аккуратной hermeneutics (контекст-уточнения). Ниже — подбор кандидатов с короткими объяснениями и указанием, почему их можно (или не стоит поспешно) считать символами безвременья.
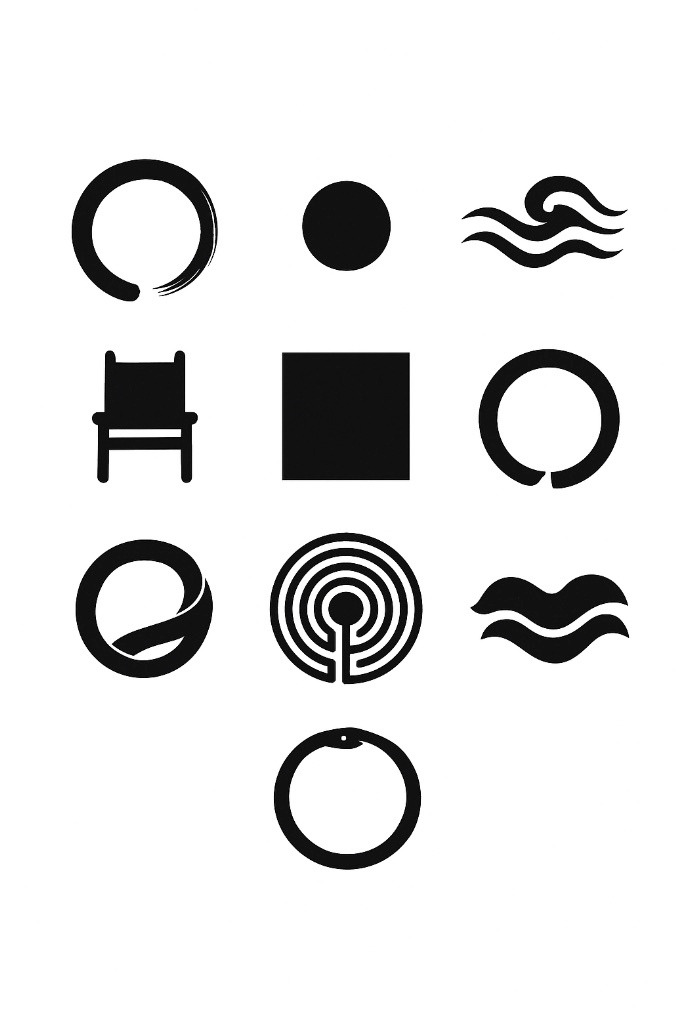
Кандидаты на роль «символов безвременья» (с пояснениями)
— Ensō — круг «пустоты» в дзэн (японская живопись). Почему подходит: ensō — это одновременно «пустота», «целое», «момент» и «ничто»; в определённых интерпретациях он указывает на состояние «no-mind», освобождённое от обычной временной наррации — ближе всего к опыту атемпоральности. Но в других контекстах ensō символизирует целостность/вечность, поэтому значение многослойно. «Круг-пустота: ensō с bindu — символ состояния вне длительности.»
— Шива-точка / bindu (индийская традиция, тантра, мандала). Почему подходит: bindu — точка происхождения, «зерно» из которого возникает проявленное; как «точка-исток» она может означать состояние до-времени (точка, где протяжённость ещё не началась). В визуальном ряду bindu часто противопоставлен протяжённым структурами мандалы; эта полярность пригодна для метафоры «до-времени».
— Образы первичного бездны / первичного хаоса (eg. Nun в Египетской космогонии; нитка Ginnungagap в нордической мифологии). Почему подходит: мифы о «первичной воде» или «пустом провале» — это культуральные описания состояния до сотворения, когда нет протяжённости, нет времени как такового; визуальные репрезентации этих мифов (волнообразные мотивы, тёмная бездна) можно читать как знаки безвременья.
— «Пустой трон» / aniconic absence (в раннем буддизме, христианской герархии — hetoimasia). Почему подходит: пустой трон как знак отсутствующего присутствия — не образ вечной длительности, а символ «отсутствия» ( — чего нельзя представить), он создаёт пространство «не-представления», которое близко к идее того, что выходит за временную категорию. В ранней буддийской иконографии отсутствие изображения Будды передавало трансцендентность.
— Чёрный квадрат (К. Малевич) — «нулевая точка» искусства / знак небытия-потенциала. Почему подходит: в авангарде XX в. «чёрный квадрат» стал символом «ничто/начало/нулевой точки», лаконичным указанием на преодоление предметности и на «пустоту», откуда возможна новая форма — можно читать как современный орнамент-метафору состояния вне обычных временных координат. Черный экран телефона, планшета или компьютера может служить таким же символом.
— Śūnyatā (шуньята) — концепт «пустоты» в буддизме (и его визуальные знаки). Почему подходит: доктрина пустоты означает отсутствие самостоятельной сущности вещей; переживание шуньяты часто описывается как выход из привычных причинно-следственных временных связей — близко к нашей идее «вне-длительности». (Это философский/духовный, а не чисто декоративный символ, но он часто кодируется в визуальных практиках.)
— Мёбиус-лента / нетопологические мотивы (современная символика). Почему подходит: современная математическая фигура, используемая в искусстве и ювелирной символике — образ неориентируемости и «односторонности», который легко интерпретировать как знак утраты привычной хронологической ориентировки (время, где нельзя провести «вперёд/назад»). Это современная, не-традиционная метафора безвременья.
— Лабиринт / пустой центр (избирательно). Почему подходит: классический лабиринт как путь, ведущий в «центр-нецентра»; в ритуальной практике переживание центра иногда описывают как «вне-временное» (момент, где дорожка и круг теряют линейную хронологию). Лабиринт ближе к переходному образу — может выступать мостом между временем и его отсутствием.
— Темный/водяной мотивы бездны (в народных и мифологических орнаментах). Почему подходит: образ тёмной воды, бездны или «первичного океана» часто служит визуальным эквивалентом состояния пред-существования — может быть использован как орнамент-символ «до-телесного», «до-материального», о чём вы писали (пример: мотивы «моря-хаоса» в разных традициях).
— Оuroboros (уроборос) — граница случая. Почему спорен: уроборос чаще читают как символ цикличности и вечного возрождения (то есть — «временность, но замкнутая»), а не как отсутствие длительности. Тем не менее — в ряде алхимических трактатов он обозначает состояние самозамыкания, в котором внешняя хронология теряет смысл; в этом аспекте он может быть использован как «граничный» знак между вечностью и безвременьем. (Использовать осторожно и с пояснением.)
Общая рекомендация по интерпретации и использованию
— Разграничивайте «вечность» и «безвременье». Большинство орнаментов (трискели, колёса, уроборосы, мандалы) конструируют длительность/цикличность — они лучше подходят для символов вечности, а не безвременья. Для «безвременья» нам нужны образы пустоты/отсутствия/пред-существования (ensō, bindu как «точка-исток», Nun/Ginnungagap, empty throne, black square).
— Контекст важнее формы. Один и тот же знак может служить и для вечности, и для безвременья — всё зависит от культурного и ритуального контекста, от того, сопровождается ли он текстом/ритуалом/медитацией. Поэтому при включении «символа безвременья» в орнамент лучше дать читателю/наблюдателю краткое пояснение.
— Этическая и культурная осторожность. Некоторые образы (напр., древние религиозные символы) нельзя «перетолковывать» произвольно — лучше указывать источник и объяснять авторскую трансформацию.
___
В Приложении к главе 10 — Протокол для работы с пациентами, переживающими безвременье / атемпоральность.
Раздел 3. Вариации переживания времени
Краткое содержание
В этом разделе исследуются разнообразные формы переживания времени, выходящие за рамки линейной триады «прошлое — настоящее — будущее». В центре внимания — субъективные различия и расхождения между социальным, биологическим и экзистенциальным временем; возрастная динамика восприятия; установки времени жизни; а также изменённые состояния сознания, где привычные временные структуры размываются или преодолеваются.
Ключевые понятия
— два чувства времени
— паспортное и биологическое время
— возрастное восприятие времени
— установки времени жизни
— ИСС и выход за пределы времени
— сознание за пределами времени
Цели раздела
— показать, что время не сводится к объективной хронологии, а имеет множество субъективных модусов;
— раскрыть психологическое значение расхождений между календарным, телесным и внутренним временем;
— проанализировать возрастные и культурные различия в восприятии времени;
— исследовать, как установки жизни определяют отношение к её длительности и завершённости;
— представить феноменологию и психологию опыта «за пределами времени» в изменённых состояниях сознания и в трансцендентных переживаниях.
Глава 11. Два чувства времени
«Длительность — качественная, не количественная.» — в духе Бергсона
Краткое содержание
Человек переживает время двояко: как поток и как неподвижность. Эти два ощущения — исчисляемое и неисчисляемое — образуют парадоксальную основу психического опыта. В главе даётся разграничение этих режимов, показаны их проявления в прошлом, настоящем и будущем, а также предложены практические упражнения и визуальные метафоры, помогающие распознавать и управлять чувствами времени, если они выходят за рамки нормы.
Ключевые понятия
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
