
Бесплатный фрагмент - Танцующее окошко
Сказочные истории, рассказы, стихи
Моим детям,
самым, главным моим учителям,
за то, что они были со мной все эти годы, с любовью и нежностью
Сказка, у которой нет конца
Ефиму,
с которым мы всё-таки встретились
Жила-была каша.
Не ананасы-в-шампанском, не бульон-с-профитролями, короче говоря, простая каша. В меру сладкая, в меру горячая, не подгоревшая, без комков. И всё-таки ей чего-то не хватало.
Прилетали синицы и щеглы, прибегали белки и бобры. Все пробовали кашу, все хвалили. А потом уходили и больше не возвращались.

— В чём дело? — беспокоилась каша. — Чего во мне не хватает?
Но никто не мог дать ей ответ.
— Может, сахару добавить? — размышляла каша. — Нет, слишком приторно будет, вообще никто в рот не возьмет!
— Может, соли? Но ведь так и пересолить недолго! — сокрушалась она.
Изо всех сил крепилась наша каша, стараясь не расплакаться, чтоб этой самой соли не добавить.
— Так ведь можно из мягкой и нежной превратиться в крутую и рассыпчатую! — горевала она.
И вдруг её осенило:
— Маслица! Маслица мне не хватает!
И вот, пригласив в свою компанию масло (которое, между прочим, тоже томилось в одиночестве, не зная, куда себя девать, и чуть было не стало топлёным маслом!), наша каша, наконец, успокоилась, приободрилась, похорошела.
И ждёт, опять ждёт.
Что придут, и попробуют, и останутся.
Новосибирск, 1998 г.
Сказка о кактусе
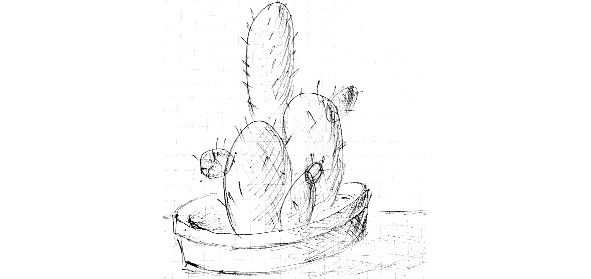
В. В. Калинину, моему попутчику
Все цветы в этом доме были обычными комнатными цветами. И только этот был какой-то странный: ни стебелька тебе, ни листиков. Кактус, одним словом.
— Милые вы мои! — каждое утро хозяйка хлопотала около цветов, поливала их, рыхлила землю, обирала пожелтевшие листья.
— Ах, они чудесны! — восклицали гости, любуясь цветами.
Кактусом никто не любовался. Его редко поливали. Впрочем, он и не нуждался в поливе, как эти неженки-цветы!
Он гордо топорщил свои иголки: только тронь! Но душа… Душа у него была совсем не колючая!
— Ах, если бы кто-нибудь захотел поговорить со мной! Ведь я столько знаю! Я так долго живу на свете!
Но легкомысленным цветам было не до него. Они шушукались, хихикали и поддразнивали друг друга. У них всего и забот-то было, что красоваться друг перед другом да хвастаться очередным бутончиком.
Кактус был одинок на большом, уставленном горшками подоконнике. «Одиночество в толпе», — горестно думал он. По ночам кактусу не спалось — старческая бессонница, знаете ли. Он сочинял стихи и мечтал.
Мечтал о том, что кто-нибудь услышит их и скажет:
— Ну и ну! Да ведь у этого кактуса — душа фиалки!
Новосибирск, 2000 г.
Сказка о скамеечке
1.
В этой квартире было много стульев. Здесь жил композитор, к которому часто приходили его ученики и поклонники. Они подолгу сидели, пили чай, слушали очередное музыкальное творение композитора и искренне восторгались. Стулья считали себя причастными к славе хозяина, мнили себя большими персонами и поэтому горделиво изгибали спинки и ни на кого из мебели внимания не обращали.
Важнее их был разве что круглый вращающийся табурет, который стоял около фортепиано. Он был немногословен, погружён в свои мысли и не говорил, а изъяснялся.
— Мы с хозяином музыку пишем, — изредка произносил он.
Стулья почтительно замолкали, признавая его превосходство, ожидая, что он еще что-нибудь скажет, но табурет снова погружался в свои мысли, возможно сочинял новую сонату.
Кто знает, может быть, именно он вдохновлял композитора, ведь недаром, потирая длинные нервные пальцы, тот обязательно должен был крутануть табурет туда-сюда, прежде чем открыть крышку инструмента.
Это стало ритуалом с незапамятных времен, и в такие минуты все в доме ходили на цыпочках и говорили шёпотом.
2.
А в прихожей стояла низенькая трёхногая скамеечка. Никто уже и не помнил, когда она появилась здесь. Давным-давно, когда композитор был ещё маленьким мальчиком и учился завязывать шнурки на ботинках, скамеечка поддерживала его. А теперь детей в квартире нет, и только экономка иногда ставит на скамеечку свою тяжёлую хозяйственную сумку. А та скрипит тихонько, покачиваясь на своих трёх ножках.
Порой, когда в прихожую распахивались большие стеклянные двери гостиной, скамеечка могла любоваться шикарными стульями, но не осмеливалась заговорить с ними. Всё равно они бы ей не ответили, ведь они были почти что кресла!
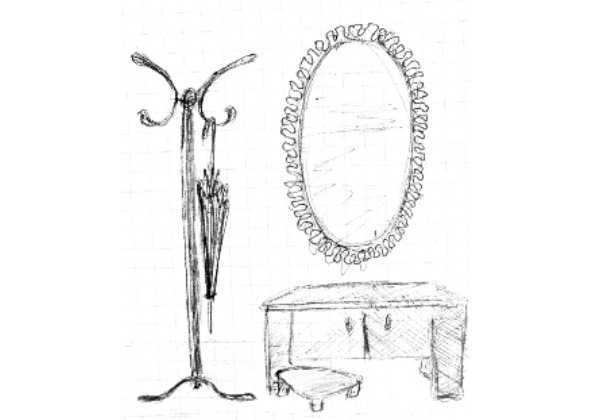
Стул, который стоял в гостиной около двери, был не таким высокомерным: на нём спала хозяйская кошка, точила о его ножки свои когти, и поэтому вид у стула был довольно потрёпанный. Возможно поэтому, он иногда снисходил до беседы со скамеечкой. По-настоящему это нельзя было назвать беседой, ведь говорил один стул, а скамеечка только слушала и скромно молчала.
— Я ведь раньше у окна стоял, а теперь меня к двери передвинули! Так недолго и на свалке оказаться или — страшно подумать! — в камине! — жаловался он.
И скамеечка искренне сочувствовала ему. Видя это, стул даже как-то снисходительно заметил:
— Вот если бы у тебя была четвёртая ножка, называлась бы ты банкеткой и тебе, пожалуй, нашлось бы место в гостиной. Для кошки… — в сторону добавил он.
«Четвёртая ножка!» От такой головокружительной перспективы у скамеечки захватило дух. Но как? Как отрастить эту самую ножку?! Оставалось только мечтать.
Иногда по ночам в своих снах она становилась банкеткой с красной плюшевой обивкой и изогнутыми, как у стульев, ножками. Но наступало утро. Скамеечка по-прежнему была трёхногой и стояла в прихожей.
3.
Экономка шла открывать входную дверь и в очередной раз споткнулась о маленькую неприметную скамеечку, которая при её появлении всегда старалась съежиться и забиться под вешалку, но часто не успевала.
— Боже, когда же, наконец, выбросят эту рухлядь?!
— Мы с ней ровесники-и-и-и, дорогая Марьвасильна-а-а-а! Тогда и меня — в ого-о-о-нь, на пла-а-а-ху! — пропел хозяин, выходя в прихожую навстречу своему гостю, художнику. Композитор слегка побаивался своей экономки, которая прежде была ему няня и имела собственное мнение о его таланте.
— Кто путается под ногами? Надеюсь, это не в мой адрес? — пошутил вошедший художник.
— Да вот, — няня-экономка указала на предмет разговора, — давно прошу что-нибудь покрепче купить вместо этого старья! А эту и выбросить не жалко!
— Так отдайте её мне! Она такая маленькая, удобная — мне на пленэре рисовать, как раз то, что нужно!
— Эх, забирай, пожалуй! — хозяин махнул рукой. — Все лучше, чем на свалку её.
И он покосился в сторону кухни, куда удалилась строгая няня-экономка.
Скамеечка не знала, что такое «пленэр», но от этого слова веяло какой-то тайной и волшебством. Всё время, пока гость пил чай, слушал новые музыкальные произведения своего друга, рассказывал ему последние новости богемной жизни и приглашал на свою выставку, скамеечка томилась в тёмной прихожей, прислушивалась к голосам за стеклянной дверью и боялась, что её оставят тут, забудут или передумают отдавать.
4.
Но вот скамеечка уже в руках художника, он оглядывает её со всех сторон, радостно восклицает: «О, и ножки складываются!»
Вот за ними захлопнулась дверь. Дверь в прошлое.
Вот они уже на улице.
Уличный шум и солнечный свет сначала оглушили и ослепили скамеечку, ведь она всю жизнь провела в полутёмной прихожей. Художник отказался от предложенного ему пакета и нёс скамеечку в руке, приноравливался к её форме и весу.
Постепенно скамеечка успокаивалась. Легонько покачиваясь в руке нового хозяина, она осмелилась оглядеться по сторонам. Ей начинала нравиться эта новая жизнь. А что-то ещё более радостное и чудесное ожидало её впереди в волшебном слове «пленэр».
Пройдя по шумной улице, художник свернул в какой-то переулок, а потом на бульвар. Здесь уже были слышны другие звуки — чириканье птиц и весенняя капель. Лёгкий тёплый ветер качнул верхушки деревьев, затем, спустившись пониже, пробежался по кустам, мимоходом взъерошил волосы художнику и погладил легонько маленькую скамеечку в его руке.
И в этот момент ей вдруг показалось, что всё это уже было когда-то в её жизни: и ветер, и капель, и птицы. В какой-то другой её жизни. Когда она… когда она была… деревом!
Она была ДЕРЕВОМ!
Новосибирск, 2003 г.
Сказка о пелёнке
Привстав на цыпочки, молодая женщина развешивает бельё на верёвках, натянутых во дворе. Она прихватывает прищепками скатерти и простыни и беззлобно шепчет: «Ну, ты, баловник, не мешай!» Это адресовано ветру.
Весёлый ветер треплет мокрое белье, надувает пододеяльники и наволочки. Это у них игра такая. Рубашка, висящая на верёвке вниз воротником, взмахивает рукавами, как будто дирижируя невидимыми руками.
Маленькая белая пелёнка с нетерпением ожидает этого счастливого момента — оказаться рядом с остальным бельём на верёвке.
Как она боялась, когда это случилось впервые, смешно вспомнить! Сначала бельё положили в стиральную машину, и та стала крутить его, вертеть туда и сюда, то заливать водой, то сливать воду. От жары и давки некуда было деться, приходилось терпеть и ждать. Всем было нелегко, но тяжелее всего было рубашке, которая очень волновалась, что пуговки оторвутся.
Когда закончилось последнее полоскание и машина приступила к отжиму, опытная наволочка шепнула негромко: «Держись, не бойся, осталось недолго!»

Ничего подобного, самое страшное началось для пелёнки во дворе! Ветер болтал и крутил её на верёвке, тянул вверх, и она ужасно боялась, что прищепки не удержат её. Но прищепки держали надёжно, они знали свою работу. И маленькая белая пелёнка постепенно пришла в себя и даже стала получать удовольствие от ощущения свободы и лёгкости.
И она действительно становилась всё легче и легче по мере высыхания и, наконец, ощутила такой восторг, что запела тихонько, а потом все громче и громче. Но песенку эту могли слышать только наволочки и простынки, людскому уху разговор вещей не слышен.
Других песен, кроме колыбельных, наша пелёнка не знала и поэтому пела то, что ей больше всего нравилось:
«Спят большие птицы средь лиан,
Спят моржи в домах из синих льдин,
Солнце спать ушло за океан,
Только ты не спишь, не спишь один.
Ночь бросает звезды на пески,
Поднятые сохнут якоря,
Спи, пока не гаснут маяки,
Спи, и пусть не дрогнет тишина…»*
А дальше — про паруса и острова, про волны и дельфинов…
Прекратили перешёптываться носовые платки, проснулся задремавший было большой пододеяльник. Пододеяльник-малыш, убаюканный знакомой песенкой, наоборот, уснул…
Памперсы сегодня вытесняют пелёнки и подгузники, и всё реже можно увидеть белые маленькие прямоугольники ткани на балконных и дворовых верёвках. Но было жаркое лето, и, к счастью для нашей пелёнки, её уже второй раз за неделю доставали из шкафчика: молодая женщина не хотела, чтоб её маленький сынок парился в памперсах. Наконец-то, сегодня она снова почувствует эту свободу, эту лёгкость и воздушность!
Но не успела пелёнка оказаться на верёвке, как ветер стих. Повисли лениво мокрые вещи, поникли, скучая в однообразном строю. Петь пелёнке не хотелось, лёгкости не было, тянуло ко сну.
Ни дуновения, ни единого движения в июльском зное. В небе ни облачка, солнце раскалённым шаром висит над городом. Спать, как хочется спать…
Что может присниться маленькой белой пелёнке? Пустышки и бутылочки, погремушки и детский плач?
Нашей пелёнке приснился ветер. Не маленький, слабый ветерок, а настоящий большой ветер. Он гнал серые тучи по небу, и бельё на веревке то вздувалось, то опадало под его порывами. Тучи неслись куда-то, и пелёнка подумала о них: «Счастливые, они свободны! Я тоже хочу быть свободной. Я хочу быть…»
Она проснулась оттого, что её резко сдёрнули с верёвки, сухую и нагретую солнцем, сложили и положили в шкаф. И потянулось время в темноте, тишине и сонливом покое. Всякий раз, когда дверца шкафа открывалась, пелёнка с надеждой ждала, что возьмут её. Скорее туда, на воздух!
Ещё дважды довелось маленькой белой пелёнке сушиться во дворе, прежде чем наступил этот знаменательный день, перевернувший её жизнь. Однажды её взяли на пляж.
Малыш сидел в надувном бассейне, а на две палочки и ветку кустика была наброшена пелёнка, как навес от солнца. Внезапный порыв ветра пересчитал страницы книги у женщины, перевернул лёгкий игрушечный парусник в бассейне у малыша и сдул пелёнку с куста. Она не была привязана ни к кусту, ни к палочкам, и ветер легко поднял её и понёс. Упасть бы пелёнке недалеко, но что-то продолжало поддерживать её в воздухе: то ли поток горячего воздуха от нагретого солнцем песка, то ли её собственное желание…
Несколько метров она пронеслась над берегом, успела ощутить лёгкость и невесомость, на мгновение испугалась высоты и… Следующий порыв ветра швырнул её в воду рядом с берегом, откуда пелёнка была благополучно извлечена и развешена для просушки.
Неизвестно, чем бы кончилась её жизнь (малыш бы вырос или сама пелёнка порвалась от частых стирок), но этот её кратковременный полет имел неожиданные последствия.
— Пап, а почему пелёнка полетела? — спросил детский голосок где-то рядом.
— Ну, понимаешь… — и последовали какие-то мудрёные слова о парусности, о площади поверхности, давлении, сопротивлении, скорости, подъемной силе.
— Ладно, пап, я всё понял!
И мальчуган побежал смотреть на краба, только что вытащенного из воды.
А его отец, который, видимо, привык к такому финалу всех научных разговоров с сыном, замолчал и что-то стал чертить на песке. Увлечённый своими чертежами, он даже не заметил, как семья с малышом стала собираться, как расплакался малыш, не желая расставаться с бассейном, и успокоить его смогла только бутылочка с кашей.
Когда мужчина поднял голову, семьи с маленьким ребенком уже не было. Только на кустике осталась висеть забытая детская пелёнка. Он оглянулся в поисках малыша и его родителей, но их нигде не было видно. Пеленка успела высохнуть и светлым пятном выделялась на тёмной зелени куста.
Мужчина подошел к кусту, взял в руки белый мягкий прямоугольник, повертел его в руках.
— Пап, что ты делаешь?
Сын уже вдоволь налюбовался крабом и вернулся к отцу.
— Лёшка, давай сделаем воздушного змея. Или парусник. Хочешь?
— Ладно, пап. Только очень есть хочется, пойдем домой!
— Верно, дома и инструменты есть, и реечки, пойдём.
Они ушли и унесли с собой маленькую белую пелёнку…
…Очень скоро ей предстояло стать парусом моей первой самодельной яхты, и я надеюсь, что о такой судьбе она втайне мечтала!
Новосибирск,2005 г. — Ялта, 2006 г.
Сказка о цветочном короле
Каким ветром занесло семя подсолнуха на эту лесную полянку, не знал никто. Может, мышь-полёвка уронила или птица какая-нибудь… Простые полевые цветочки только удивлённо качали головками, глядя на высокий, стройный стебель диковинного цветка, возвышавшегося среди них. Сам же он рано начал осознавать свою особенность и очень гордился этим.
Не знаем, все ли подсолнухи обладают ораторским даром и философским складом ума, но этот, возможно оттого, что вырос не в толпе себе подобных на чьем-нибудь огороде, определённо имел дар красноречия. Поскольку его никто не перебивал и не вступал с ним в спор, самомнение нашего подсолнуха росло вместе с ним. Поглядывая свысока на цветочную мелочь, росшую в изобилии вокруг, он с каждым днём становился всё более горделивым и надменным. Сначала подсолнух разговаривал мысленно сам с собой, не желая вступать в разговор с «этими лютиками», как он окрестил цветочный народец. Но мысли не давали ему спать, и очень хотелось хоть с кем-нибудь ими поделиться.
— Эй, вы, там, внизу! — неожиданно раздался голос подсолнуха, и все цветы дружно повернули свои головки в его сторону.
— Вы знаете, кто я? — продолжал подсолнух.
Цветочки промолчали. То ли из-за робости, то ли действительно не знали, как называется цветок, который вырос среди них.
Не дождавшись ответа, подсолнух высокомерно, с расстановкой произнес:
— Я — Солнце-на-Земле, да будет вам известно. Посмотрите на то солнце, которое в небе. Да, оно светит и греет, но каждый вечер оно исчезает за тем лесом. А как часто тучи его закрывают! И вообще, вы заметили, что оно движется по небу вслед за мной: куда я повернусь — туда и оно?
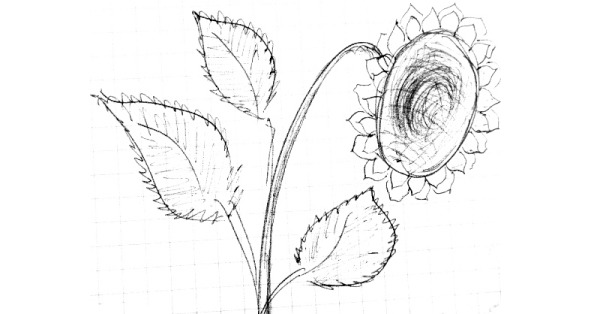
Цветочки, поражённые тем, что «Жёлтый Великан», как они называли между собой подсолнух, заговорил с ними, дружно закивали головками. Получив это молчаливое одобрение, подсолнух продолжал:
— Вы, мелкие, что вы знаете о жизни! Мне с высоты видна вся наша поляна от края до края. Солнце специально поднимается каждое утро за рекой, чтоб принести мне в дар свой свет и тепло. Это я указываю ему его путь!
Подсолнух разглагольствовал непрерывно, а назавтра всё повторилось сначала. О себе он мог говорить бесконечно.
— Я — король, а вы — мои подданные, — заявлял он цветам.
Так продолжалось довольно долго, до конца лета. Приближался сентябрь. Голова подсолнуха стала тяжёлой от созревших семян, но он держал её высоко и гордо, как золотую корону.
— Смотри, подсолнух!
Вихрастый, загорелый мальчишка бежал вслед за приятелем, катившим на велосипеде. Тот притормозил и, оставив велосипед на тропинке, вслед за своим другом подошёл к гигантскому цветку.
— Огромный какой! А семечек-то сколько!
И недолго думая, они стали рвать и крутить эту царственную венценосную голову!
— Не смейте!!! — закричал подсолнух. — Не сме…!!!
И остался стоять на поляне одинокий стебель с поникшими листьями.
— Всегда найдется кто-то сильнее тебя, — прошептала маленькая гусеница, притаившаяся под листом подсолнуха, — жил бы себе тихо, как все, не высовывался бы… Выскочка!
Что было дальше, мы не знаем. Скорее всего, семечки подсолнуха поджарили да пощёлкали приятели-мальчишки, но может быть, его оставили на семена и посеяли следующей весной…
А на поляне подсолнух ещё долго вспоминали. Цветы шептались между собой: «Король сложил голову. Ах, если бы не он, нам бы всем несдобровать!»
Старый репейник-многолетник, многое повидавший на своем веку, долго-долго думал и потом тихо произнёс, но слова эти вмиг разнеслись по поляне:
— Из земли пришли мы и в землю вернёмся. А Солнце, посмотрите, оно по-прежнему на небе.
И цветочки дружно закивали головками.
Ялта, 2007 г.
Сказка старого парка
В старом парке хозяйничает осень. В этом году она как никогда солнечная и сухая. Поредевшая листва пропускает косые лучи предзакатного солнца, они нежно золотят верхушки деревьев.
Пусто в старом парке. Одинокая пожилая пара неспешно прогуливается по аллеям да художник пишет этюд, торопится ухватить ускользающую красоту парка при заходящем солнце.
Не слышно детских голосов: школьники с утра сидят за партами, после обеда делают уроки, а мамы с колясками приходят сюда только утром. Осенние каникулы кончились, темнеет рано.
Художник что-то тихонько насвистывает, а потом неожиданно для самого себя нараспев декламирует:
— Осень, рыжая плутовка, к нам подкралась незаметно
И, мазнув хвостом по листьям, всё раскрасила кругом…
Рука его, в которой зажата кисть, наконец сделала тот самый долгожданный мазок. Художник успел поймать и запечатлеть на холсте этот прощальный отсвет, после которого опускаются сумерки.
Вечереет. Окружающее начинает постепенно терять краски, гаснуть вместе с уходящим днём, расплываются очертания, всё становится серым и бесформенным. Скрипнула, открылась и захлопнулась дверь в небольшом домике с вывеской «Администрация парка», повернулся ключ в замке. Неспешные шаги направились было в сторону ворот, но потом свернули на аллею и тот, кто был директором этого парка, быстро зашагал в сторону освещённой площадки.
Вот она, детская площадка: качели-лодочки и цепные карусели, песочница и горка для малышей. Директор прошёл мимо них, не задерживаясь, и остановился около старой карусели с лошадками. Карусель эта, наверное, ровесница парку. Деревянные лошадки каждый год подкрашиваются, но всё равно время берёт своё. Сегодня директору сообщили, что его просьба удовлетворена и вместо старой детской площадки будет оборудован городок аттракционов. Стало быть — прощайте, лошадки, прощайте!

«А ведь на них ещё папа катался…» — подумалось вдруг директору, и он оглянулся, как будто кто-то мог услышать его мысли. Отец рассказывал, что любил садиться вот на эту, серую в яблоках. Даже специально стоял и ждал, когда она освободится, и имя ей придумал — «Резвая», как у лошадки в бабушкиной деревне… И бабушки давно нет, и деревни тоже. Осталось только название микрорайона — Плетнёво, строительство которого и поглотило деревеньку.
Неожиданно для самого себя директор протянул руку и погладил лошадку по гриве и спине. В прохладном вечернем воздухе деревянная поверхность показалась тёплой, живой. Почему-то вдруг стало грустно, как будто расставание предстоит со старым другом. Захотелось что-то изменить, исправить. Но что можно тут придумать? Не домой же забирать эту деревянную лошадь!
Директор присел на низкую скамейку и в задумчивости похлопал по карману куртки в поисках сигарет, забыв, что курить бросил вот уже как две недели. Но в боковом кармане отыскался мобильный телефон, и через некоторое время судьба лошадки была решена.
Уходя, директор оглянулся. В дрожащем свете раскачивающегося от ветра фонаря ему показалось, что лошадка благодарно наклонила головку и тряхнула гривой.
Если у вас есть маленький ребёнок, который очень не любит стричься, приходите в детскую парикмахерскую, что на центральной площади нашего города. И вы увидите, как обрадуется ваш малыш, если его посадят не в кресло, а на деревянную лошадку, почти как настоящую!
Серую, в яблоках…
Ялта, 2013 г.
Сказка о старом трамвае
В память о моей маме,
Новиковой Нине Александровне, вагоновожатой ОТТУ
Старый трамвай №914 катил по рельсам, весело постукивая колёсами и дребезжа оконными стёклами. Никто из пассажиров не догадывался, что все эти звуки — звон, скрежет, стук, звяканье — были его песенкой: так-так-так, тук-тук-тук, дзынь! Это был очень жизнерадостный трамвай, он почти не ломался, редко выходил из строя и уже много-много лет колесил по городу, то на одном маршруте, то на другом. Все работники службы подвижного состава и ремонтная бригада любили этот трамвай за его покладистый, некапризный нрав, за готовность выйти на линию в любую погоду и безотказно подменить неисправного товарища.
Старый трамвай очень хорошо знал все трамвайные маршруты города и готовился к повороту или остановке за несколько секунд до того, как водитель (вагоновожатый, или ватман по-старому) начинал тормозить, он сам сбрасывал скорость! Эту странность трамвая замечали все, кто работал на нём, но никому не рассказывали об этом, опасаясь, что их поднимут на смех. Это случилось после одного происшествия, когда молодой водитель задремал и проехал на красный свет, не затормозив перед светофором. В тот раз обошлось, но с тех пор трамвай стал сам внимательно следить за движением на улице и действиями своего водителя. Он не знал, что происходит с людьми во время аварии, но иногда видел искорёженных собратьев, и чувство самосохранения подсказывало ему, что это как-то связано со скоростью, светофорами и тормозом.
