
Бесплатный фрагмент - Свет Между Мирами
Там, где исчезает время
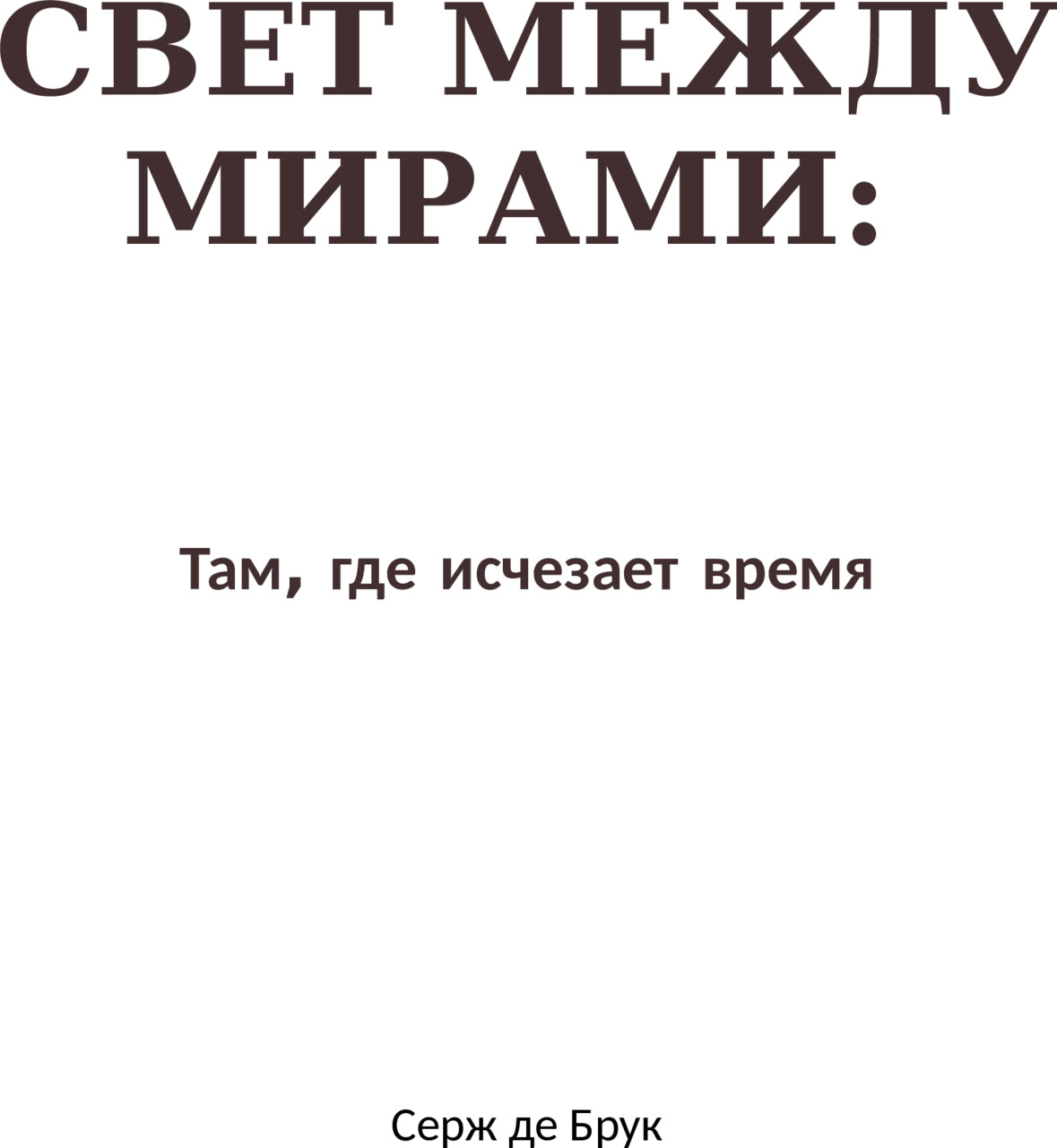
ПРОЛОГ: для второй книги
Она просто изменила пространство.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Семя света: Начало Великого Возвращения»
Глава I — Маннарон. Город Света
«Города это не просто стены и улицы, но отражение душ тех, кто их создал. И когда душа сияет, стены начинают петь. — Из трактата Старейшины Селария, Храм Света, I век Нового Времени

«Истинное путешествие начинается не с шага, а с момента, когда исчезает необходимость знать, куда ты идёшь.» — Из Послания Безмолвных.
Ты не помнишь, как оказался здесь.
Ты знаешь только, что всё было до — и что-то ждёт после.
Тишина здесь не пуста.
Она — живая ткань, сотканная из голосов, которые ты ещё не различаешь.
Ты проходишь сквозь двери, но не открываешь их.
Они распахиваются сами, когда твоя частота совпадает с Истиной.
Здесь нет времени.
Только эхо выборов, которые ты уже сделал — или ещё сделаешь.
Ты не один.
Ты никогда не был один.
Просто ты забыл, как звучит Песня, которая всегда вела тебя —
через тела, через жизни, через звёзды и через страх.
Ты у Врат Манны.
Это не место.
Это вибрация возвращения.
Если ты готов — Врата отзовутся.
Не чтобы впустить.
А чтобы вспомнить, что ты всегда был по ту сторону.
Выходные данные
Автор — Серж де Брук
СВЕТ МЕЖДУ МИРАМИ: там, где исчезает время. — Хроники Суверенного Королевства Манна. Книга вторая. — 2025.
Все права защищены. Любое воспроизведение или распространение текста возможно только с согласия автора.
ISBN:
Ridero Publishing, Москва, 2025. Аннотация
Это история не о будущем.
И не о прошлом.
Это история — о том, что звучит в тебе прямо сейчас, если ты осмелишься услышать.
Ян Ковальский, человек с обычным именем и необычной судьбой, однажды пробуждается — не от сна, а от забвения сути. Его путь проходит через тишину, пламя, песню воды и глубинный зов Земли. Он не борется, не проповедует, не спасает. Он вспоминает — и тем самым воспламеняет других.
На его пути появляются Проводники — дети, старцы, молчаливые души, стихийные носители Песни. Вместе они восстанавливают утраченную настройку между человеком и Миром. Они не создают новое. Они помогают вернуться к тому, что всегда было: к звучанию, которое соединяет всех нас.
«Свет между мирами» — это не просто роман. Это вибрация, проникающая в сердце. Это напоминание о том, что Истина не кричит. Она звучит тихо, как внутренний голос, которому мы так редко позволяем говорить.
Если ты чувствовал когда-либо, что мир живой, что ты — не один, что есть что-то большее, чем роли, страхи и шум — значит, эта Песня уже в тебе.
Роман-притча, метафизическое фэнтези и мистическое послание для тех, кто ищет не ответы, а смысл.
История Яна Ковальского не завершилась.
Она просто изменила пространство.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Семя света: Начало Великого Возвращения»
Глава I — Маннарон. Город Света
«Города это не просто стены и улицы, но отражение душ тех, кто их создал. И когда душа сияет, стены начинают петь».
— Из трактата Старейшины Селария, Храм Света, I век Нового Времени

Маннарон просыпался, словно живое существо, исполин, дышащий золотым светом утреннего солнца. Воздушные сады на крышах святилищ мерцали росой, а над центральной площадью парили прозрачные сферы — послания от Ведунов Неба.
Улицы были вымощены бело-серебристым кварцем, по которому ступали не только люди, но и мечты, сбившиеся с небесных орбит.
На высоком балконе Цитадели Совета стоял он — Ян Ковальский, Герцог Света Королевства Манна, Воин, Чья Печать Возродила Царство.
Его взгляд был устремлён вдаль, за горизонт, где облака раздвигались, словно приглашающие врата иных миров.
С тех пор как Великая Церемония возрождения Королевства Манна завершилась, прошло двадцать один день. Город расцветал, но в сердце Яна — вновь рождалось беспокойство. Это было не тревога, не страх, а зов. Глубокий, древний, почти забытый.
— Вы слышите это? — спросил он у своего спутника, Оракула Ариара. Старец, одетый в белоснежное одеяние с золотыми нитями, лишь мягко улыбнулся:
— Это не уши слышат. Это душа помнит. Ты вступаешь в следующий круг, Ян из Королевства Манна. Миры ждут тебя.
Ночью он не спал. Во сне, или наяву — трудно было понять, — он вновь оказался у Храма Ветров, на краю горного плато, где дышала Бездна. Из глубины поднимался воздушный корабль, сделанный не из металла, а из света, из пульсации самой материи.
Его руль вращался сам собой, а над корпусом мерцала надпись на древнем языке Лемура: Id es vocem stellarum — Это есть зов звёзд.
Ян проснулся с последним эхом этой фразы на устах.
Он знал — это приглашение. Это врата Манна.
На рассвете, в окружении Старейшин Ордена и Хранителей Порталов, он прибыл к Кругу Вознесения — месту, где воздух был тоньше, а время текло по своим законам. Там, среди колонн, оплетённых кристаллическими лозами, стоял Ключ-Маяк, построенный ещё во времена Прото-Манна.
Когда Ян подошёл и коснулся символа Единства — портал ожил.
Воздушный вихрь пронёсся над ареной, и в небесах открылся проход, мягкий, как дыхание Великой Матери. Над Янoм вспыхнули древние созвездия, давно стёртые с карт земных.
Один за другим перед ним предстали его наставники, в том числе — Нилу Т'Арана из Эфириума, и юная Провидица Саэль из измерения Миранда.
Все они были связаны с его прошлым, настоящим и будущим.
Их голоса звучали как один:
— Ты прошёл первую великую стадию.
Но за пределами света этого мира иные Знания.
Настало время услышать Зов.
И он шагнул.
— Это не уши слышат. Это душа помнит. Ты вступаешь на путь, предначертанный тебе звёздами, Ян. Путь, полный опасностей и открытий,
— голос Ариара звучал словно шелест древних свитков, полных тайн.
— Ты чувствуешь призыв? Призыв древней силы, спящей под землёй Маннарона?
Ян кивнул, его взгляд всё ещё был прикован к горизонту.
Двадцать один день мира казались ему лишь временной передышкой перед бурей.
Великая Церемония, возродившая Маннарон из руин, оставила после себя не только сияющий город, но и ощущение хрупкости, словно тонкий лёд на поверхности бездонной пропасти.
Он чувствовал, что эта сила, о которой говорил Ариар, не просто дремала.
Она пробуждалась, и он — ключ к её освобождению, либо её заключению.
Ариар поднял руку, и на его ладони засветился тонкий, мерцающий свет, подобный тому, что исходил от небесных сфер над центральной площадью.
Свет пульсировал, напоминая биение сердца.
— Сила дремала в Хрустальном Сердце, — прошептал Оракул.
— Артефакте, потерянном тысячу лет назад.
Его сила способна как возродить Маннарон к жизни, так и обратить его в прах.
Твой призыв, Ян, — это призыв самого Сердца.
Оно зовёт тебя.
Ян сжал кулаки. Он помнил легенды о Хрустальном Сердце, истории, передававшиеся из поколения в поколение, как сказки.
Теперь же они казались пророчествами, которые вот-вот должны исполниться.
Он чувствовал тяжесть ответственности, давящую на него словно каменная плита.
Он не просто Герцог Света Королевства Манна, он — хранитель судьбы Маннарона.
— Где его искать? — спросил Ян, его голос был хриплым от напряжения.
— Легенды указывают на Запретную Долину,
— ответил Ариар, его глаза засияли необычным блеском.
— Место, опалённое силой древних войн.
Место, где стираются границы между мирами, где реальность переплетается с иллюзиями.
Путь туда будет опасен, Ян.
Тебя ждут ловушки, гады и призраки прошлого.
Но только ты сможешь найти Хрустальное Сердце.
Ариар достал из-за пазухи небольшой, искусно вырезанный из дерева амулет, изображающий стилизованное солнце.
— Этот амулет поможет тебе найти путь.
Он укажет направление, но не защитит от опасностей.
Твоя сила, Ян, — это твоя вера и мужество.
Ян принял амулет, чувствуя, как тепло разливается в его груди.
Перед ним расстилался Маннарон город света, город надежды.
Но за его сверкающими стенами его ждала Запретная Долина, полная тайн и угроз.
Он знал, что он не может отказаться от этого пути.
Зов Хрустального Сердца был слишком силён, слишком настоящим.
Он — Герцог Света, Воин, Чья Печать Возродила Суверенное Королевство Манна, и он должен выполнить своё предназначение.
Даже ценой собственной жизни.
Его сердце билось в унисон с мерцающим светом амулета, готовое принять вызов судьбы.
Он повернулся к Ариару, его взгляд полон решимости:
— Поведёшь меня, Оракул?
Глава II — ХРАНИТЕЛИ ПЯМЯТИ КАМНЯ
«Мы не ищем истину в будущем. Мы отыскиваем её в пыли, в шрамах земли и в голосах, затерянных между слоями времени.»
— из Кодекса Полевого Ордена Манны, том I
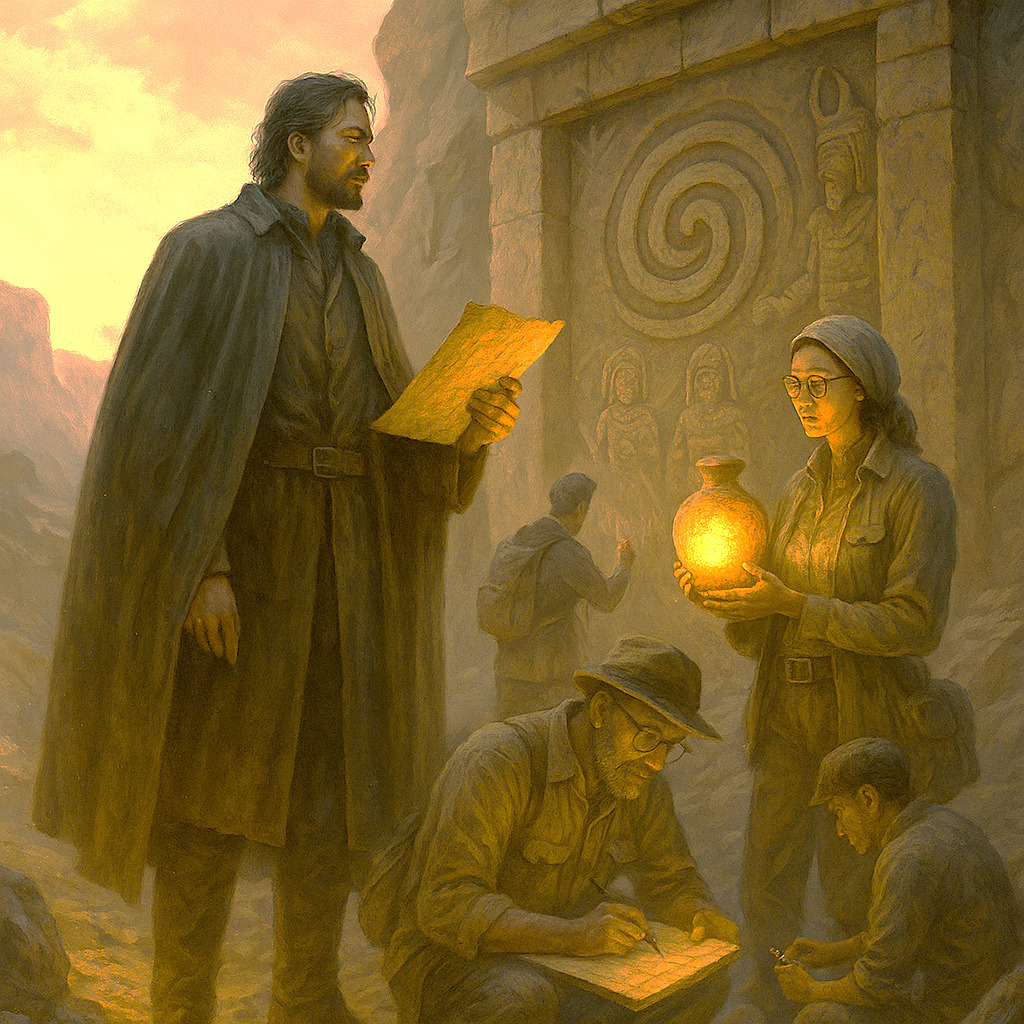
Высоко в холмах Заливанской долины Королевства Манна, где ветер срывает лепестки времени с утёсов, команда археологов развернула лагерь. Командой археологов руководил Ян Ковальский — не как воин, не как пророк, а как исследователь забытых смыслов.
Он стоял перед обнажённой стеной скального храма. Солнце играло на отполированном базальте, а под пальцами Яна камень дрожал — не от ветра, а от памяти.
— Это не просто артефакты, — произнёс он, глядя на отпечаток ладони, вырезанный в камне.
— Это… отпечаток мысли, жертва, принесённая временем.
Доктор Саида Алем, специалист по доиранским цивилизациям, подошла с планшетом.
— Надпись совпадает с храмом Халди. Возможно, это один из забытых центров поклонения. Местные легенды называют это место «Сердцем Бога».
— А кто был Богом? — спросил молодой стажёр с сияющими глазами.
— Не «кто», — поправил Ян.
Они спустились в подземный зал, где стены были исписаны знакомыми и незнакомыми символами.
Среди них — изображение воина с крылатыми сандалиями и женщины, протягивающей светящийся сосуд.
— Это, похоже, Нанаия, богиня небесных вод и памяти,
— сказала Саида.
— Её имя встречается и у вавилонян.
— Но здесь, — Ян провёл рукой по трещине,
— её сосуд разбит.
Это история, в которой истина была утеряна.
На рассвете они обнаружили глиняный цилиндр — запечатанный, как сосуд времени. Расшифровка заняла сутки. Надпись гласила:
«Во имя света, хранимого под камнем, мы клянемся не дать забвению съесть обет. Халди — наш меч, Нанаия — наш сосуд, а Память — наш храм.»
Ян вглядывался в символы. Он узнал очертания одного из древнейших знаков — перевернутая спираль света, похожая на герб Ордена Манны. Только гораздо старше.
— Это был их Завет, — прошептал он.
— Мы не строим новый Орден. Мы… восстанавливаем древний.
В тот день команда записала более двадцати уникальных артефактов.
Но главным открытием был не камень, не металл, не имя. Главным было понимание: культура Маннаев не исчезла. Она спряталась в песне камня, в символах, и ждала, чтобы её услышали.
— Мы не просто исследуем,
— сказал Ян у вечернего костра.
— Мы становимся Голосом их Молчания.
И над лагерной палаткой, освещённой слабым светом лампы, словно мелькнула тень — не прошлого, но Памяти, ждущей признания.
Глава III — ОБРАЗЫ, СОШЕДШИЕ С КАМНЯ: АРХЕОЛОГИЯ ВЕРЫ МАННАЕВ
«Боги, которых забыли, не исчезли — они ждут. Их тени живут в глине, их дыхание — в трещинах храмов, а их голос — в молчании фигурок.» — из записей профессора Эль-Хакима, экспедиция «Храм Песни Камня»

Когда команда Ордена развернула лагерь у подножия древнего плато, где некогда располагались поселения Маннаев, воздух уже был насыщен молчаливым знанием. Это было место, где никто не говорил — но всё говорило само за себя.
Они стояли перед руинами святилища, в центре которого находился потрескавшийся алтарь. Вокруг — фрагменты колонн, следы старинной кладки, и на земле — фигурки. Некоторые — обожжённая глина, другие — бронза, редкие — камень с резьбой. Все они — воплощения чего-то большего, чем форма.
— Это были не просто изображения, — произнесла Саида, аккуратно поднимая статуэтку человека с головой льва.
— Это были носители смысла. Символы, вложенные в материю.
Многие находки повторялись: человек с рогатым головным убором; женщина с чашей, полузакрытая покрывалом; гибридные существа с крыльями и клыками, охраняющие вход в храмы.
Почти все — с чёткими жестами: рука поднята вверх, пальцы сведены особым образом. Это были не случайные позы. Это был ритуальный язык богов.
— Здесь Халди, — сказал Ян, указывая на фигурку с мечом и львом.
— А вот, скорее всего, Нанаия — богиня памяти и вод. Но образы искажены. Возможно, они отражают уже позднюю стадию культа.
— Или это… личные образы. Вера не всегда канонична, — добавил Эль-Хаким.
— В керамике всегда живёт человек.
Они нашли глиняные сосуды с выдавленными знаками — круги, линии, похожие на солнечные и лунные символы.
Один из сосудов был наполнен пеплом и засохшими лепестками: возможно, это был сосуд для жертвоприношения или ароматических смол.
На другом сосуде — сцена: человек преклоняет колени перед существом, чья голова — то ли бык, то ли солнце. И над всей сценой — символ, похожий на перевёрнутую спираль, ранее встречавшуюся в храме Улу-Миранды.
— Посмотрите, — Саида приложила линзу к глазу.
— Это знак Перехода. В культуре Маннаев переход к божеству символизировал не смерть, а расширение сознания.
На глубине двух метров они наткнулись на коллекцию печатей. На одной из них — сцена с тремя фигурами. Все держат сосуды, а над ними — три звезды. Это мог быть образ трёх жриц или божественных хранителей света.
Каждая находка поднимала новые вопросы. Почему у одних фигур глаза огромны, а у других — вовсе отсутствуют? Почему одни улыбаются, а другие зажаты, будто в страдании? В этих деталях таились тайны, над которыми молчал даже пыльный ветер.
— Возможно, мы смотрим не на изображения богов, — сказал Ян.
— А на людей, ставших святыми. Или на саму идею, как человек превращается в символ.
В конце дня они собрали два десятка фигурок и более сотни фрагментов. Ян записал в дневнике:
«Каждая статуэтка — это мольба, застывшая во времени. Они не были массовым производством. Они были отпечатками веры.
В этом — душа народа Манна, говорящая с будущим через форму.»
Когда экспедиция возвращалась к лагерю, небо над плато окрасилось в цвет меди. Казалось, что сама Земля благословила их прикосновение.
Фигурки — малые, кривые, местами обломанные — лежали на ткани, как реликвии. Но в них уже светилась новая история.
История, которую должны были услышать.
Глава IY — ЖИВЫЕ БОГИ: ИСКУССТВО И ВЕРА МАННАЕВ
«Богов нельзя было увидеть. Но можно было почувствовать — в прикосновении к сосуду, в запахе ладана, в изгибе линии на фигурке. Искусство было не отображением, а проявлением сакрального.» — из «Трактата о Древнем Зримом», Академия Мира-Тени, фрагмент II

Они вошли в зал поздно вечером. Свет фонарей отражался от полированных каменных плит, и тени от колонн напоминали фигуры богов, застывших в молитве. Ян провёл ладонью по стене, где ещё сохранялись следы красочного орнамента.
— Здесь боги были не на небесах, — тихо произнёс он.
— Они жили в ритуале.
Команда археологов обнаружила нишу, полную обломков фигурок: женщины с чашей, воина с поднятым мечом, странных существ с головами быков и крыльями. Была даже фигура, у которой отсутствовало лицо, но на груди — круг с треугольником внутри. Это был не образ тела, а символ силы.
— В культуре Маннаев границы между искусством и верой стирались, — сказала Саида, изучая бронзовую статуэтку с тиснёной короной.
— Они не изображали богов. Они их вызывали формой.
День за днём они находили сосуды с остатками благовоний, кости жертвенных животных, инструменты, похожие на музыкальные, и даже настенные надписи, посвящённые богам:
«Пусть Нанаия услышит дыхание утренней звезды.»
«Халди, укрепи руку царя и отверни лицо смерти.»
Среди находок была одна особенно странная: статуэтка, изображающая человеческую фигуру в медитативной позе, но с глазами, закрытыми не веками, а пластинами из слюды.
— Это жрец-прозорливец, — предположил Эль-Хаким.
— Он не смотрит наружу. Он смотрит вовнутрь ритуала.
В святилище была найдена гравировка, изображающая праздник: фигуры, держащие венки, сосуды, музыкальные инструменты.
Всё указывало на культовые сезонные праздники — не только в честь богов, но и в честь обновления самой жизни.
— Они не просто молились, — сказал Ян.
— Они жили в диалоге со своими богами: через танец, огонь, пепел и вино.
На одной из печатей была изображена женщина с множеством рук. В каждой — символ: меч, плод, птица, чаша. Ни один текст не объяснял её имени. Но команда назвала её Великой Связующей — возможно, она была олицетворением самой веры.
И всё же… много оставалось неясным.
— Нам не хватает текстов, — сказал Ян.
— Но, возможно, у нас есть главное — впечатление духа. Оно точнее слов.
Вечером, сидя у костра, он записал в свой дневник:
«Маннаи жили не среди статуй. Они жили с теми, кого статуи вызывали. Их искусство было молитвой. Их обряды — дыханием вселенной. Их вера — тканью повседневности. Боги у них не царствовали — они были гостями и зеркалами.»
Над лагерем поднималась звезда, и ветер нёс с собой запах древней пыли и соснового дыма. Саида сказала вполголоса:
— Знаешь, Ян… я думаю, что каждый их жест, каждый сосуд, каждый орнамент — это не рассказ о боге, а путь к нему.
Он кивнул. Искусство и религия у Маннаев были не категориями.
Они были одним дыханием.
Глава Y- КАМЕНЬ ВМЕСТО ПИСАНИЯ: СЛЕДЫ САКРАЛЬНОГО
«Где нет книги — говорит сосуд. Где нет слова — поёт металл. Бог не всегда нуждается в алфавите, чтобы быть услышанным.» — из полевого дневника Яна Ковальского, экспедиция «Равнина Дальних Ликов»

Они не нашли ни одной книги. Ни папируса, ни таблички, ни свитка.
Но всё вокруг говорило. Говорило молча.
— Маннаи не писали писаний, — сказал Ян, стоя у основания разрушенного храма.
— Они выплавляли веру в бронзе, запекали её в глине, вырезали в камне.
Саида подняла из пыли бронзовую печать с изображением лука, птицы и волны. Её пальцы дрожали от ощущения — будто она держала ключ к молитве, давно отзвучавшей.
В шатре, у костра, они разложили артефакты: фигурки, сосуды, украшения, оружие. Но не как экспонаты. А как буквы забытого языка.
— Вот вам Писание, — сказал Эль-Хаким.
— Только не для глаз. А для прикосновения.
Они нашли бронзовую статуэтку — женщину с поднятыми руками и короной, инкрустированной камнем.
Ян молча кивнул:
— Молитва. Без текста. Без звука. Только жест.
На следующее утро они спустились в подвал святилища. Там лежал сосуд с выгравированными знаками.
Три круга, идущие один в другой, и внутри — знак дерева.
— Это символ перехода. Миф не записан словами. Он сохранён в форме и ритме.
Саида добавила:
— У них, похоже, форма была текстом, а жест — строкой.
В других культурах — Ассирии, Вавилонии — были тексты, своды, гимны.
У Маннаев — камень, металл и огонь. Они не писали истории.
Они воплощали её в объектах, в ритуалах, в храмовой архитектуре.
И в этом была их особенность.
— Может, они знали, что слово умирает, — сказал Ян.
— А жест — остаётся.
Может, они были не забыты, а слишком глубоки, чтобы их читать привычным способом.
В тот день команда зарисовала сотни объектов: ножи, печати, заколки, чаши, бронзовые кольца. Некоторые явно носили ритуальное назначение.
Другие — были личными оберегами, как дневники без слов.
Каждый предмет — страница невидимой Книги Света, в которую можно войти — но только если сердце помнит, как читать по молчанию.
Поздно ночью Ян записал:
«Маннаи не имели Писания. Но они оставили Завет. В каждом сосуде, в каждой фигурке, в каждом изгибе лезвия — отпечаток Диалога. Они говорили с миром на языке, который невозможно перевести — только услышать душой.»
Глава YI — МЕЖДУ ИМПЕРИЯМИ: МАННАИ И ИХ ПУТЬ
«Они не были империей. Но империи смотрели на них с тревогой. Их сила была в том, что они стояли между — не слева, не справа, а на острие времени.» — из полевых заметок экспедиции «Манна = Невидимое Царство»

На рассвете Ян стоял на хребте, глядя на долину, где, по преданию, простирался древний город Манна. От него остались лишь холмы, над которыми в утреннем свете клубился туман — вековая пыль истории, не желающая раствориться.
— Мы ходим по земле, где когда-то решалась судьба региона,
— произнёс Эль-Хаким.
— И всё, что осталось — молчание и медные осколки.
Царство Манна, как они выяснили, не было великой империей — но было узлом напряжения между Ассирией, Урарту и Мидией.
Они были окружены хищниками, но не стали добычей.
— У них не было громадных дворцов, — добавила Саида.
— Но были горы. И упорство.
В раскопах близ Тала-Бахура команда нашла остатки фортификационной стены, выложенной из базальта.
На одной из плит — надпись на неизвестном диалекте древнеиранского языка:
«Здесь начинается то, что не покоряется».
Это стало девизом всего нынешнего Суверенного Королевства Манна.
Маннаи умели держать баланс — они воевали с ассирийцами, но иногда становились их союзниками. Они защищались от урартов, но перенимали их стили в архитектуре.
Они не стремились покорить. Они стремились сохранить себя.
— Возможно, в этом и была их миссия, — сказал Ян.
— Быть границей, а не властью.
Они были и земледельцами, и воинами. Их армия славилась лёгкой кавалерией. Они обрабатывали землю, строили каналы, и в то же время — чеканили бронзовые мечи.
Их язык роднился со староперсидским, а традиции — с урартскими.
Но главное — они продержались. Почти три века — среди войн, интриг и угроз.
Падение наступило в VII веке до н.э. — когда Мидийская держава поглотила их территории.
Но это был не конец.
— Они не исчезли, — произнёс Эль-Хаким.
— Они растворились — в языке, в именах деревень, в линиях керамики, в воинских знаках других культур.
Вечером Ян записал в дневнике:
«Маннаи были не победителями и не побеждёнными.
Они были точкой устойчивости в мире сменяющихся империй.
Их миссия — сохранить самобытность на границе хаоса.»
И когда ночь опустилась на долину, а звёзды над горами засияли, казалось, что где-то в этих тенях всё ещё шепчет язык Манны — тот, что не был записан, но никогда не был забыт.
Глава YII — ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ КОРМИТ: ЭКОНОМИКА ДРЕВНИХ МАННАЙЦЕВ
«Где зерно течёт рекой, там меч затачивается реже. Но когда исчезает плод — появляются налоги, война и бог, требующий жертву.» — из рукописи «Хроники Залеванских племён», фрагмент IV
Ян стоял на террасе древнего аграрного поселения, обдуваемый ветром, пахнущим пшеницей и сухими травами.
Внизу раскинулась долина — не город, не крепость, но то, без чего невозможна была ни армия, ни храм. Земля.
— Они были не только воинами, — сказал он, глядя на остатки оросительных каналов.
— Они были хозяевами почвы и скота.
Команда исследователей обнаружила здесь не золото, а керамику — сотни сосудов с зерновыми остатками, каменные жернова, бронзовые серпы. Всё это свидетельствовало о главной опоре жизни маннаев — земледелии.
— Пшеница, ячмень, бобы, — перечисляла Саида.
— Поразительно, насколько организованно они выращивали всё это. Даже остались следы ирригации — каналы, ведущие с холмов.
— Умели собирать воду, — кивнул Эль-Хаким.
— Значит, умели думать наперёд.
На другом участке раскопок нашли загоны, остатки костей овец и лошадей, изделия из кожи и шерсти. Здесь звучал другой ритм — не земледельца, а пастуха.
— Овцы, козы, лошади. Не только пища. Но и шерсть, молоко, кожа.
Всё — в оборот, — проговорила Саида, разглядывая бронзовую пряжку с изображением скачущего коня.
— Это была экономика движения и устойчивости одновременно, — добавил Ян.
— Они не боялись быть и оседлыми, и кочевыми.
В древнем торговом поселении у подножия холма нашли следы меди и железа, вместе с кусками обсидиана и медных слитков. Ян склонился над одним из столов:
— Торговля. Не на словах — на караванных путях. Маннаи были не только точкой пересечения, но и точкой обмена.
Их земли лежали между Месопотамией, Кавказом и Малой Азией. Через них шли караваны с зерном, металлом, тканями. Они не просто продавали излишки — они держали ключи к маршрутам.
— Здесь плуг был не менее важен, чем меч, — сказал Ян вечером у костра.
— Они знали: кто контролирует еду — тот не нуждается в троне. Только в весне.
И в этот вечер, под звёздным небом, Ян записал в полевой журнал:
«Маннаицы жили в горах. Но кормились с равнин. Их сила была не в захвате, а в умении удержать землю — и обменять её плоды на железо, идеи и мир. Они не строили империи. Они питали их.»
Глава YIII — ПУТЬ, КОТОРЫЙ ОХРАНЯЕТ СЕБЯ
«Торговля не идёт по дороге. Она идёт по доверию. И каждый страж на перекрёстке — не просто воин, а свидетель соглашения между будущим и настоящим.» — из «Писем с Каменных трактов», архив Ковчега Манны

Они шли вдоль древнего перевала, где некогда пересекались караваны из Месопотамии и горных поселений Манны.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
