
Бесплатный фрагмент - Стрешнево и Стрешневы. Хрестоматия исторических материалов
ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
В процессе изучения темы усадьбы Покровское-Стрешнево помимо основного текста возникла необходимость пополнить работу значительным количеством непосредственных первоисточников, чтобы тем самым показать восприятие усадьбы и её владельцев, так сказать, из первых рук. В значительной степени они захватывают XIX и первую половину XX веков. Представленные материалы весьма разнообразны в жанровом отношении.
Обширный раздел Приложений открывается «Литературной историей» усадьбы. Здесь и исследования митрополита Леонида о роде Стрешневых, и переписка Ф.И.Глебова со своим сватом — историком и публицистом М.М.Щербатовым (их дети стали супругами), и мемуарные очерки (воспоминания Натальи Петровны Глебовой-Стрешневой, в замужестве Бреверн, о своей грозной «бабеньке» Елизавете Петровне Стрешневой; известный мемуар начальника московской полиции предреволюционного времени, знаменитого сыщика А. Ф. Кошко «Розовый бриллиант»; выдержки из книги «Моя жизнь» супруги Л.Н.Толстого Софьи Андреевны, родившейся и прожившей счастливые детские годы на одной из дач, стоявших в усадебном парке, фрагменты переписки супругов и дневника Л.Н.Толстого с упоминаниями Покровского); тут же две эпитафии, связанные с именами владельцев усадьбы: элегия поэта начала XIX века Захара Буринского, посвященная памяти героя войн с Наполеоном Петра Федоровича Глебова-Стрешнева, сына уже упоминавшейся нами хозяйки имения того времени Елизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой и текст слова, произнесенного над гробом уже самой Елизаветы Петровны протоиереем Иоанном Русиновым; и литературные работы последней владелицы усадьбы — Евгении Фёдоровны Шаховской-Глебовой-Стрешневой (учитывая их редкость, мы, помимо известных больше по упоминаниям мемуаров о прабабке — Елизавете Петровне Глебовой-Стрешневой — чтобы показать специфику исторических и исследовательских взглядов княгини, дали и несколько её исторических очерков, не связанных с усадьбой Покровское-Стрешнево). Мы также включили в начальную часть приложений рассказ В. Авсеенко «Генеральша», посвященный Елизавете Петровне Глебовой-Стрешневой и основывающийся на мемуарах Н.П.Глебовой-Стрешневой.
Второй раздел Приложений составили краеведческие очерки об усадьбе, почерпнутые из путеводителей первых десятилетий ХХ века и представляющие усадьбу в разные эпохи ее истории — начиная с самых первых годов столетия, когда она была ещё владением княгини Шаховской, затем в качестве музея, и, наконец, когда она в 1930-е годы стала уже закрытым санаторием (временно’й отрезок замыкается вполне логичным 1941-м годом). Полностью представлены три самых значительных очерка об усадьбе, фактически представляющих собой путеводители по помещениям музея: работы А.Н.Греча и К.В.Сивкова, а также недавно извлеченный из фондов Государственного Исторического музея текст, принадлежащий И.В.Евдокимову. Кроме того, даны три книжные статьи об усадьбе середины 1980-х годов, вероятно, первые после полувекового молчания.
Значительная часть материалов перепечатывается впервые за многие десятилетия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ
1.Из книги: АРХИМАНДРИТ ЛЕОНИД. ЛУКЬЯН СТЕПАНОВИЧ СТРЕШНЕВ: Старинное историческое предание. ИССЛЕДОВАНИЕ О РОДЕ СТРЕШНЕВЫХ. НЕСКОЛЬКО РАССКАЗОВ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ: Из записной книжки XVIII столетия. М., 1872
ЛУКЬЯН СТЕПАНОВИЧ СТРЕШНЕВ. Старинное историческое предание. 1)
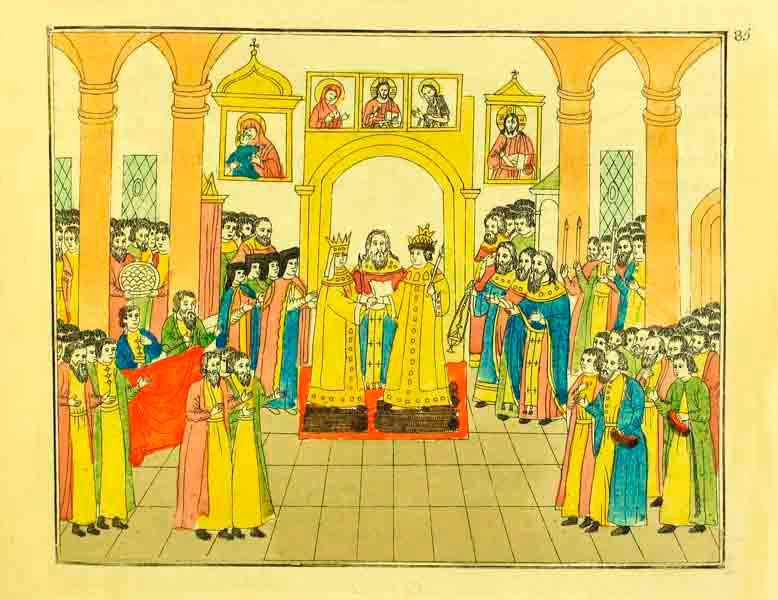
Лучшие сочинения чужестранных писателей большею частию наполнены похвалою великим людям Греции и Рима, которых они представляют с изумлением в пример потомству. Но с какой особенною радостию, токмо истинному сыну отечества известною, должен Русский воздать хвалу великим людям свое земли? Сколько их было у нас, сколько еще их есть и ныне? Бытописания наши и настоящие громкие дела наших витязей служат тому доказательством. Развернем свиток достопамятных событий, в России случившихся. И мы в нем найдем своих Епаминондов, своих Сципионов, Цинциннатов. Знаменитое доблестию и мужеством Русское Дворянство, сколь много имело в сословии своем мужей славы, начиная от простого воина до полководца, от домостроителя до судьи! В довод сего приведу я не вымышленное, но точное сказание о Лукьяне Стрешневе, которого смиренномудрие достойно похвалы, и который показал примером своим, что Русский дворянин, столь же велик и в скудной доле, как и на высокой степени; что он, хотя бы соделался самым первым Боярином, и тогда не постыдился бы своей благородной бедности.
Восстановитель России, Царь Михаил Федорович, оплакав потерю своей супруги, Царицы Марии Владимировны, из рода князей Долгоруких, обязан был вступить во второй брак. Общее благо и со оным всегда согласное желание мудрой матери его, Марфы Ивановны, того требовали. И так, по обычаю тех времен призваны были ко двору, к матери Царя, шестьдесят девиц из первостатейных Княжеских и Боярских родов. Быв щедро пожалованы богатыми Царскими дарами, они остановились на несколько дней в покоях у матери Государя, и каждая девица имела при себе подругу для собеседования.
По тогдашнему обряду Царь, вместе с родительницею своею в назначенный час пошел в покои знатных девиц избрать себе невесту, но ни которая из них не тронула его сердца. Потом, также вместе с родительницею своею, пошел он видеть собеседниц их. Одна из них поражает красотою своею очи Царские. Прелестные черты ея, коим кротость, с неким унынием соединенная, придавала волшебную силу, была явным изображением сущей добродетели, а самая цветущая юность оживляла ее стройный стан и величавую осанку. Словом красавица была совершенный Ангел. При первом на нее взгляде Государь остановился, посмотрел на нее пристально и в задумчивости вышел из покоя. Он не скрыл своего чувствования от Царицы, матери своей. В то же время приказано быо узнать о роде и племени прекрасной девицы. Немедленно доносят государю и государыне, родительнице его, что девица сия, по имени Евдокия, дочь бедного Можайского Дворянина, Лукьяна Степановича Стрешнева; что она осиротела еще в пеленках, лишившись матери вскоре по рождении своем; что отец ее, отправляясь на службу ратную в смутные времена, отдал ее на воспитание дальней своей родственнице, знатной Боярыне, с дочерью которого она и приехала ко Двору. При сем объяснении упомянуто было также и о том, что Евдокия Лукьяновна Стрешнева живет под игом жестокого своенравия гордых своих родственников; что она всем от них обижена и редкий день проходит, чтобы она не обливалась слезами; но что она скромная и добродетельная девица; что никто не токмо не слышал от нее жалоб, даже недовольного взгляда от нее не видал.
Таковое о девице Стрешневой известие проникло болезненным состраданием сердце Царево, уже любовию объятое. Невольный вздох вырвался из груди Государевой, и он сам того не приметил, как произнес: «Несчастная! … Но ты должна быть счастливою».

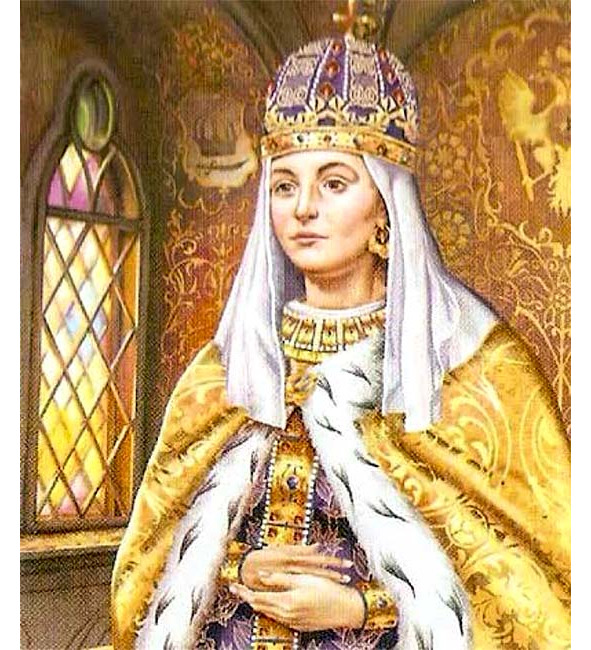
Матерь Царя была недовольна сим выбором, и с некоторым негодованием, сказала сыну своему: «Государь! Таковым избранием ты оскорбляешь Бояр и Князей, знаменитых своими и предков своих заслугами; дочери их, ежели тебе и не по нраву, то, по крайней мере, не менее Стрешневой добродетельны… А Стрешнев кто?.. Человек неизвестный!».
— Он Дворянин. Сего довольно, — ответил Михаил. — Одна только бедность отделяет его от Боярства. Скудную долю его я дополню щедростию.
— Из ничтожества ты возведешь на высокий степень… — отвечала мать Государя. — Так… Но, не знав об его качествах, не слыхав ни от кого, какова его душа… Послушай меня, любезный сын мой, рассуди о твоем намерении!
— Не смею прекословить тебе, государыня, — сказал сын матери: — приказывай, что угодно! Я все исполню по воле твоей. Наименуй мне невесту — с покорностию приму ее себе в супруги от руки твоей.
Потом, с некоторым смущением, запинаясь и робко продолжал:
— Но отваживаюсь произнесть перед тобой, государыня, одно, одно только слово о несчастной!… Она в сиротстве, без покрова, угнетена своими родственниками и, может быть, погибнет в бедствии… И мы стобою, наша родительница, также были!.. Горька была нам участь наша. И мы также, как она теперь, жили в сиротстве — без отца: он страдал в плену; без покрова: на нас устремлены были мечи наших гонителей. А кто учился терпению напастей в училище злополучия, тот, конечно, останется навсегда благотворителем ближнего… Кто страдал, тот умеет сострадать и готов на всякую помощь. Мы спасены чудесным промыслом Всевышнего. Может быть, сам Вседержитель положил в сердце моем ее спасение… В ней, может быть, посылает Он благодетельницу народу моему… Может быть на участь мою с нею есть воля Создателя нашего… (в глазах Царя показались слезы). Несчастная привлекла к себе все мысли и завладела моим покоем… Все уверяют меня, что она должна быть добродетельна.
Пораженная покорностью и чувствованием Царя, сына своего, Марфа Ивановна не могла удержаться от слез: она прижала его к нежной материнской груди своей и, поцеловав, отвечала ему:
— Сердце Царево в руце Божией. Отныне девица Евдокия тебе невеста, а мне дочь: да будет над тобою и над нею Божие и мое благословение!
На другой же день по утру Евдокия Лукьяновна Стрешнева объявлена была всенародно невестою Царя Михайла Федоровича. Бессмертный муж, Патриарх Филарет, благословил Царя на обручение с избранною его, и несметное многолюдство, теснившееся толпами на Красной площади, воскликнуло: «Многая лета Отцу Государю и с невестою его!».
Но каким несказанным удивлением поражена была девица Стрешнева! Она заснула вчера бедною, несчастною, столь несчастною, что и луч надежды к какой-либо отраде не озарял души ее, а сегодня пробуждается Царскою невестою. Ей приносят цветные одежды, ей служат с благоговением, ее величают Царевною, ее просят в покои Царские, собственно для нее уготовленные. Долго она не верила тому, что слышит. Наконец встает с беспокойного одра своего; чувства ее все в волнении; едва могла дрожащими ногами приблизиться к образу Богоматери, который всегда при себе имела. Пред ним упала она на землю, произнеся слова сии: «Царица Небесная! Ты призрела на смирение рабы своея!». Рыдание пресекло голос ее. В то самое время пришла к ней Государыня, матерь Царя и, быв тронута ее умилением, подняла ее, заключила в свои объятия, называла ее своею дочерью, и всемерно старалась успокоить душу ее, встревоженную различными чувствами.
Раздался благовест к молебствию об избранной невесте по всему пространству столицы. Евдокия, облеченная в богатые одежды, препровождена была в великолепный Царский чертог, где ожидали ее все Бояре и Вельможи, для принесения ей поздравления. Дочери Князей и Бояр, приехавшие ко Двору в одно время с нею, тут же находились. Когда подступили они к целованию руки ее, то она, не давая руки своей, с приветствием поцеловала каждую девицу; но последняя из них объята была трепетом: бледное лицо и потупленные глаза представляли в ней преступницу, раскаянием и страхом терзаемую; на всяком шагу она препиналась и вдруг, зарыдав, поверглась к ногам Евдокии: «Государыня! — воскликнула она отчаянным голосом, — прости меня! Я виновата перед тобою. Не припомни лихости моей!». Кто же та была виновная, лежавшая у ног Евдокии? — Гордая, злонравная и жестокая родственница ее, которая вчера еще с презорством на нее взирала и не удостаивала ее посадить вместе с собою. Добродетельная Евдокия спешит поднять ее, обнимает ее и говорит ей своим нежным голосом: «Прости и меня, естьли я чем-то тебе досадила, а тебя Бог простит! Я помню твою хлеб и соль; я возросла у твоих родителей в доме». Потом, одарив ее, отпускает от себя милостиво.
Поступок сей, изображающий великодушие и милосердие Царской невесты, удивил весь двор, принес радость Царице Марфе Ивановне, и усугубил любовь венценосного жениха.
После торжественного обручения, совершенного великим Патриярхом Филаретом, отправлены были чиновники от Царя к Лукьяну Степановичу Стрешневу, в Можайский уезд, с богатыми дарами, с Царскими для него повозками, и с извещательною грамотою, что, по благости Божией, Царь Государь избрал себе в супруги Евдокию Лукьяновну Стрешневу.

Чиновники, достигнув тех мест, где жил Стрешнев, осведомляются, где дом его; им показывают хижину, соломой покрытую. Они приходят к воротам. Слуга, вязавший борону, спрашивает: «Кого им надобно?». Лукьяна Степановича Стрешнева, отвечают послы. «Его нет дома, возразил слуга: он в поле на работе» — «Проводи нас к нему, сказали чиновники» — «Подождите немного, отвечал слуга: только что довяжу борону; без нее нельзя мне барину показаться». Слуга весьма скоро окончил свое дело, и поехал с бороною в поле к господину; за сим-то провожатым шли Царские Послы. Они приходят к ниве, которую пахал старец почтенного вида, в кафтане домашнего сурового холста. Слуга сказал им, указав на старца: «Вот мой барин!». Благородный вид привлекал к нему уважение: белые, как пух, волосы и окладистая борода резко отделялись от густой тени кустов, близ которых Стрешнев пролагал новую по ниве борозду. Приближаясь к чиновникам с сохою, он обтер полотенцем пот с лица, а поравнявшись с ними, поклонился им и посмотрел на них не без удивления, не прерывая работы своей. Чиновники, подступя к нему с почтением, возвещают, что дочь его наречена Царскою невестою. Стрешнев не вери тому и, полагая то более за ошибку послов, говорит им: «Конечно, вы отправлены к кому ни будь иному, а не ко мне. Нет ли другого Стрешнева, а меня зовут Лукьяном Стрешневым», Послы представляют ему грамоту, на имя его писанную. Стрешнев в недоумении своем приемлет грамоту и ответствует: «Не смею прикоснуться, не будучи уверен в точной истине. Прошу пожаловать ко мне в дом, и там меня подождать; там мы разберем все дело, и вы изволите узнать, что я верно не тот, кого вам надобно. А теперь дозвольте мне допахать свою ниву, пока погода хороша, да и солнце уже на закате». Послы, однако же, убедили его принять от них грамоту. Стрешнев, прочитав оную, призадумался немного; потом, окинув взглядом ниву, приказывает слуге своему допахать и заборонить ее, а сам провожает послов в хижину свою. Пришед туда, он полагает грамоту под образа и, отдав три земные поклона Подателю всех благ, воззвал к Нему, стоя на коленях: «Боже Всесильный, из ничего свет создавший, возводяй меня от бедности к изобилию, сердце чисто и дух прав утверди во мне! Подкрепи меня десницею Твоею, да не развращуся посреди честей и богатства, Тобою мне, может быть, во искушение ниспосылаемых!». После сей молитвы Стрешнев предложил чиновникам на вечернюю трапезу свой хлеб и соль, и что Бог ему послал. После ужина, пожелав им покоя, оставил, и занялся всем тем, что требовал от него скудный домашний обиход его. Потом лег спать на соломенный свой одр.
На другой день Стрешнев пошел в церковь, отслужил молебен, принял благословение от духовного отца своего, простился с соседями, как с братьями, искренно обрадованными благополучием его, и наделив их, чем мог, отбыл из бедного деревянного селения, из убогой хижины своей, в престольный град, в Царские палаты.
По прибытии к Москве, Лукьян Степанович встречен был во вратах столицы с великою почестию. Ему предшествовала Царская Рында; Окольничие и Бояре; стременные Царские вели за повод коня его и шли вокруг него; Стольники, Воеводы и прочие сановные люди, назначенные по урыду, провожали его до Грановитой палаты. Сам Государь выше к нему за золотую решетку, на красное крыльцо и, не допустив его поклониться себе в землю, повел его с собою в светлые терема, где дочь его вместе с Царицею, Марфою Ивановною, ожидали пришествия их. Какова же должна быть встреча Лукьяна Степановича с дочерью своею, после долговременной разлуки и при толь внезапной перемене ее состояния?
Лукьян Степанович, воздав почтение матери Государя, обратил взоры на дочь свою, близ нее стоявшую. Евдокия, ощущая неизреченную радость, с некоею робостью соединенную, имела устремленные на отца очи, и не чувствовала, как слезы катились на высокую грудь ее, колеблемую биением сердца. Но когда он сказал ей: «Здравствуй, дочь любезная!» тогда поклонилась она ему в ноги и поцеловала его руку. Стрешнев, благоговея в присутствии Государя, хранил при нем величественную твердость духа, и только что яркий румянец, выступивший на бледные старческие ланиты его, обнаруживал сильное движение скромного чадолюбия. Государь с Марфою Ивановною удалились.
Евдокия, будучи с отцом наедине, бросилась в объятия его, и почтенный старец сей, сколько не крепился, но не мог не плакать. Евдокия говорила ему: «Родитель мой, мне и на мысль не приходило, чтобы я могла быть Царскою невестою. — Дражайшая дочь! отвечал ей отец ее, Творец непостижим в делах своих… Бог гордым лишь противится, но смиренным дает благодать. Он призывает тебя на важный подвиг. Почуствуй, однако, бремя, какое Создатель, промышляющий о человечестве, возлагает на тебя, в новой твоей доле! Отныне ты должна разделить тяготу венца с Государем, нареченным супругом твоим, который есть твое неоцененное сокровище, дражайшее жизни твоей. Государь — страж общего покоя; а ты должны соблюдать его спокойствие! От него зависит благоденствие народа, а в тебе да обретет он отраду и услаждение от трудов, скорбей и печалей, неминуемо сопряженных с человечеством и величеством Царским! Отныне ты должны быть заступницею всех бедных, сирых и утесненных, тем паче, что ты сама была и сира и убога. Ты дожна быть ходатайницею за истину и невинность у супруга своего. Ты должна умолять его о помиловании даже и впадших в прегрешение; ибо един только Бог без греха. Милосердие его да будет плодом твоих добродетелей! Пусть лучше в милосьях, нежели в казнях, укорят его! И такая укоризна, превышающая многие похвалы, да будет тебе во славу и утешение; твоим человеколюбием да приумножится к нему любовь общая! О сколь много потребно душевных сил, чтобы совершать предлежащие тебе обязанности, обязанности священнейшие Царицы и благотворительницы целого народа! Всемогущий Зиждитель Царств и Податель им Царей, помоги своею силою небесною, да, воззванная тобою к Царскому величию, сирота, со славою и честию прейдет знаменитое поприще жизни своей». При сем Лукьян Степанович с сокрушенным сердцем начал молиться Богу, земно кланяясь, а помолясь поцеловал дочь свою и оставил ее в глубоком размышлении.
По прошествии месяца совершено было бракосочетание Государя Михайла Федоровича с Евдокиею Лукьяновною Стрешневою. Милостями Царя и Царицы, излиянными на все Царство, ознаменовано было брачное торжество ее.
Лукьяну Степановичу пожаловано Боярство, поместье и дом в Москве, и повелено ему заседать в Большой Думе. Сей почтенный муж, быв на поклоне у Государя, принес от себя Царице, дочери своей, дары, им для нее сбереженные. «Благоволи, Государыня, принять от меня сокровища, тебе полезные, сказал он, поставя перед нею небольшой старый ларец! — Родитель мой, отвечала Царица, на что мне сокровища? Взыскана будучи милостию Божиею, имею ли я в них нужду? Единые сокровища мои: любовь Государя, супруга моего, и твое родительское благословение: только о том прошу и молю Создателя» — Сокровищам, мною в дар тебе приносимым, нет цены, Государыня», возразил Боярин Стрешнев. Прими их от меня, как дочь, в залог любви родительской!».
Царица повиновалась воле отца своего, и приняла ларец. Тогда Лукьян Степанович открыл оный и, вынув из него суровый холстинный кафтан, сказал: «Любезная дочь! Вот кафтан мой, сшитый руками твоей матери, из холста, ею же вытканного. Кафтан сей был на мне в то время, когда я пахал мою ниву. Вот полотенце, которым утирался я, когда работал в поле лица моего. А в этом малом ларце заключалось все приданое твоей матери… Сокровища сии должны напоминать тебе, Государыня, каждый раз, когда ты на них взглянешь, чья ты дочь и в каком состоянии ты родилась. А сие напоминание более и более соединять тебя будут с человечеством. Чем чаще ты будешь видеть сии дары мои, тем скорее сделаешься матерью народа… Но молю Тя, Вседержитель, спаси меня от печали: не дай мне дожить до того злосчастного дня, в который увидел бы я в дочери моей одну токмо Царицу и не обрел бы в ней Евдокии, дочери бедного Стрешнева!».
— Господь Бог порукою тебе, дражайший родитель, в том, что дочь твоя пребудет всегда достойною любви твоей и благословения, отвечала царица отцу своему и, приняв от него с живейшей чувствительностью дары его, поставила ларец посреди драгоценнейших утварей своего чертога, так что он для нее всегда был первым предметом.
Боярин Стрешнев из Царских палат перешел на житье в пожалованный ему дом, который, по тогдашнему обычаю, столько украшен был иждивением Царским, сколько требовало ого жилище тестя Государева. Но спальню свою Лукьян Степанович убрал сам по своему нраву: в головах своей кровати поставил образа; в ногах меч и копье, коим разил врагов на ратном поле; по стене развесил свои земледельческие орудия, как то: серп, косу, заступ и сошник; против кровати, на широкой скамье, разостлал старый свой ковер, доставшийся ему от отца в наследство. Таким образом он устроил все для того, чтобы каждая вещь приводила ему на память первобытное состояние его. По непременному своему правилу, Лукьян Степанович начинал и оканчивал каждый день молитвою. В старом кожаном Молитвеннике, где написаны были его рукой утренние и вечерние молитвы, и по коему всегда молился, приписал он в конце: «Лукиан! Помни, что ты был!». Простодушный слуга его, деревенский его сотрудник, служил ему, и никто из прочих слуг, кроме его, не был к господину близок.
Таким-то неожиданным случаем Лукьян Степанович Стрешнев, из бедного дворянина сделавшись великим Боярином, не забывал в себе человека. Он был ходатай истины у Престола, ревнитель общего блага, защитник всех бедных и беспомощных, мудр в советах Царских, строг к себе одному и добр ко всем, верный слуга Царю и отечеству, сущий Християнин, совершенный русский вельможа. Он был равно благороден и в суровой бедности и в Боярстве.
Знаменитая дочь его, истинная наследница родительских добродетелей, и за них достойная Царского сана, благочестием, благоразумием и милосердием, украшала венец супруга своего — Царя Михайла Федоровича, который, во все время своей жизни, с нею неусыпно занят был благоустройством разоренного врагами государства. Царица Евдокия Лукьяновна была основательницею многих Богоугодных заведений, и сама она воспитывала сына своего, Царя Алексея Михайловича, коего мудрость и великие дела свидетельствуют о качестве ума и сердца его.
Провидение даровало нам ею славное поколение Романовых. Она матерь законодателя Царя Алексея Михайловича и бабка Петра Великого.
1) Из сборника прошлого столетия.
2) Рындою называлась комнатная Царская стража.
ИССЛЕДОВАНИЕ О РОДЕ СТРЕШНЕВЫХ
Стрешневы получили особую значительность с того времени, как одна из их рода, Евдокия Лукьяновна, сочеталась браком с Царем Михайлом Федоровичем. Но род Стрешневых, вопреки позднейшим догадкам и вымыслам, принадлежал к старым Русским Дворянским служилым родам, и некоторые из Стрешневых получили личную известность еще прежде прежде своего случайного родства с Царским Домом. При том Стрешневы, как оказывается, были искони Мещовскими, а не Можайскими Дворянами, тогда как последнее мнение, неизвестно почему, утвердилось и повторяется голословно всеми новейшими историками. Исследование наше имеет целью исправить эту ошибку и познакомить читателя с замечательными лицами этого угасшего рода.
Царица Евдокия Лукьяновна была дочь Лукьяна Степановича Стрешнева. Сочеталась браком с Царем Михайлом Федоровичем 1626 года, Февраля 5 дня.
Дети от сего брака были:
1. Царевна Ирина Михайловна, родилась 1627 г., Апреля 22; скончалась 1679 г., Февраля 3.
2. Царевна Пелагея Михайловна, родилась 1628 г., Апреля 17; скончалась 1629 г., Генваря 25.
3.Царь Алексей Михайлович, родился 1629 г., Марта 10, скончался 1676 г., Генваря 29.
4.Царевна Анна Михайловна, родилась 1630 г., Июля 14; скончалась 1692г., Октября 27.
5.Царевна Марфа Михайловна, родилась 1631 г., Августа 19; скончалась 1633 г., Сентября 21.
6.Царевич Иван Михайлович, родился 1633 г., Июня 2; скончался 1639 г., Генваря 10.
7.Царевна София Михайловна, родилась 1634 г., Сентября 15; скончалась 1636 г., Июня 20.
8.Царевна Татьяна Михайловна, родилась 1636 г., Генваря 5; скончалась 1658 г., Августа 23;
9.Царевич Василий Михайлович, родился 1639 г., Марта 25; скончался 1639 г., Марта 25.
Скончалась Царица Евдокия Лукьяновна в одном году с супругом, а именно: Царь Михаил Федорович скончался 12 июля (в день своего рождения), а Евдокия Лукьяновна 18 августа 1645 года, и погребена в Московском Вознесенском девичьем монастыре.
В описании бракосочетания их (1626 г.) мы встречаем имена некоторых ближних родственников Царицы (с отцовской стороны), как участников брачного торжества, а именно: отец Царицы Стольник Лукьян Степанович; Стольник Василий Иванович Стрешнев (у Государыниной свечи); Сергей Степанович сын Стрешнев; Илья Афанасьевич сын Стрешнев; Матвей Федорович сын Стрешнев; Максим Федоров сын Стрешнев; Степан Федоров сын Стрешнев; Иван Филиппов сын Стрешнев (все шестеро показаны в числе сверстных Московских Дворян, шедших в брачном поезде за саньми Государыни). Из лиц женского пола участвовали в свадебном обряде лишь жена Лукьяна Степановича Анна Константиновна, да жены: Ивана Стрешнева, Ульяна Ильинична, и Василия Ивановича Стрешнева, Ирина Прокофьевна 1).
1.Родитель Царицы Евдокии Лукьяновны Лукьян Степанович Стрешнев, мещовский дворянин, пожалован на свадьбе дочери Стольником, в 1630 г. окольничьим, 1634 г. Боярином; а в описании венчания на Царство внука его, Царя Алексея Михайловича (в 1646 году), он наименован «сродичем» (сродич) и держал Царский венец; тогда же он пожалован в Ближние Бояре. Скончался в 1650 году и погребен в мещовском Георгиевском монастыре.
2.Жена Лукьяна Степановича, Анна Константиновна, была ли родной матерью Царицы Евдокии Лукьяновны, или мачехою (согласно тому преданию, что Евдокия Лукьяновна выросла сиротой в доме одного из своих родственников), мы утвердительно сказать не можем, но, по некоторым соображениям, полагаем, что Анна Константиновна была точно мачехою Царицы Евдокии Лукьяновны, сестрою Окольничего Князя Григория Константиновича Волконского, который был так же, как и Лукьян Степанович, Мещовским вотчинником. На Царской свадьбе он шел за саньми Государыни. Предполагаемое нами родство этог близкого к Царю вельможи с Лукьяном Степановичем Стрешневым лучше всяких преданий дает ключ к разгадке обстоятельств, сопровождавших этот брак. Весьма вероятно, что кроткая Евдокия, получив воспитание в семействе своего сильного родственника, могла быть (согласно преданию) жертвой блажи его родной дочери, с нею вместе была на смотринах и понравилась Царю кротко задумчивым выражением своего приятного лица.
Боярыня Анна Константиновна была мамою Царевича Ивана Михайловича, родившегося в 1633г., а скончавшегося в 1639 г.
Братья Лукьяна Степановича: Федор Степанович и Сергей Степанович Стрешневы.
3. Федор Степанович, также Мещовский Дворянин, приобрел некоторую известность еще прежде, чем сделался Царским родственником. В 1613 году мы видим его выборным от г. Мещовска на Земском Соборе для избрания на Царство Михайла Федоровича. В разрядных книгах 1615, 1616 и 1617 годов Федор Стрешнев значится воеводою в Лихвине, «а с ним Лихвинских стрельцов 30 человек, пушкарей и затинщиков 18 человек». В 1616 году он мужественно отсидел г. Лихвин от наезда Лисовского, и был награжден тогда же «присылкою к нему в Лихвин от Царя с золотыми, а за всю его службу в смутное время придано ему к поместному окладу 100 четей, а денежного жалованья к прежнему окладу 18 рублев». По окончании войны Федор Стрешнев вошел к Царю Михаилу Федоровичу с следующим челобитьем: «Государю Царю и Великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп твой Федко Стрешнев. В прошлом, Государь, в 124 году, был я, хлоп твой, на твоей Царской службе в Лихвине; и приходили, Государь, под Лихвин Литовские люди и Черкасы Литовские с товарищи; и я, холоп твой, от них твой, Государев, город Лихвин отсидел, и на вылазке языки поймал, и ты, Государь, меня, холопа своего, за мое службишко пожаловал, велел ко мне в Лихвин с золотыми прислать; и за мое службишко твое Царское жалованье придано мне, холопу твоему, поместного окладу 100 чети, а денежнова жалованья к прежнему окладу 18 рублев. А которая, Государь, наша братья городы отсидели, и за такие службы пожалованы твоим Царским поместным окладом и денежным жалованьем больши тово, да им же было твое Царское жалованье кубки и шубы, а мне, холопу твоему, твоего Царского жалованья за мое службишка не дано ничего. Милостивый Государь, Царь и Великой Князь, Михаил Федорович всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего, за мое службишко своим Царским жалованьем против моей братьи, как тебе, милосердному Государю, Бог известит, чтобы мне, холопу твоему, в позоре не быть перед своею братьею. Государь Царь, смилуйся, пожалуй!». По справке оказалось: «Федор Степанов Стрешнев в прошлом 124 (1616 году) был в Лихвине воеводой; и выписана служба его из отпуску, как посылано к нему с золотыми: 124 года в… день, писал ко Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу, всеа Русии из Лихвина Воевода Федор Стрешнев: Сентября во 2-й день, за час до света, пришли к Лихвину Лисовской и Литовскими людьми, и к Лихвину приступили жестокими приступы всеми людьми; и он, Федор, прося у Бога милости, в Лихвине, в малом острожке, в осаде с Лихвинскими с ратными людьми сидел, и Государю служил, с Литовскими людьми бился с утра и до седмова часу дни, и Божиею милостию и государевым щастьем от Литовских людей в малом острожке отсиделись, и Литовских людей на приступех многих побили и переранили; и за тое службу и за осадное сиденье к Федору Стрешневу посылано с Государевым жалованьем и золотыми, да ему же за ту службу была поместная придача. А что Федору Стрешневу за тое службу поместного окладу придано, то и розряд не сыскано, потому что поместные столпы в Московской пожар во 134 (1626) году пригорели. А ныне Государю Царю и Великому Князю Михаилу Федоровичу всеа Русии бьет челом Федор Стрешнев, что ему придано Государева жалованья за тое Лихвинскую службу поместного окладу 100 чети, и денежнова жалованья 18 рублев. А которые его братья город отсидели, и им Государево жалованья поместново и денежново окладу придавано больше тово, да им же даваны шубы, и????убки. И ковши, а ему, за ево службу, не дано ничево; и Государь бы ево пожаловал за ево службу своим Государевым против его братьи, как Государю Бог известит. А поместной ему оклад, по ево сказке, прежней 700 чети, денег 27 рублев; да ему же за тое Лихвинскую службу придачи 100 чети, денег 18 рублев; и всево ему окладу 800 чети, денег 45 рублев. И выписаны Дворяне в примере (следует несколько примеров)». По склейке рукою Дьяка помета: «135 (1625) году Генваря в 26 день Государь Царь и Великий Князь Михайло Федорович всея Русии сее выписи слушав, пожаловал Федора Стрешнева, за прежнюю его Лихвинскую службу, велел ему придать своево, Государева, жалованья к прежнему его окладу придачи: поместья 100 четвертей, денег из четверти 25 рублев, да с казеннова двора велел ему Государь своево, Государева, жалованья дать отлас золотой в пятьдесят рублев, да сорок соболей в шестьдесят рублев, для тово, что ему в те поры за тое службу шубы и кубка не дано против его братьи» 2). В 1634 году Федор Стрешнев пожалован в Окольничие, а в 1656 году в Бояре и находился при Царском Дворе, что видно из одного акта 1634 года, в котором сказано: «а отписку велено подать в верху Окольничьему Федору Степановичу Стрешневу». 3) Федор Степанович Стрешнев скончался в 1647 году. Сын его Стольник Степан Федорович, в 1631 и 1632 годах был Воеводою на Ваге (Архангельской Губернии).
4. Сергей Степанович Стрешнев в 1615 году был Воеводою в Алексине, что видно из разрядных книг того же года.
5. Современник по службе Федора Степановича и родственник его, также Мещовский Дворянин, Илья Афанасьевич Стрешнев, по разрядным книгам 1615 и 1616 годов показан осадным головой в Мещовске, «а с ним Детей Боярских мещан с меньших статей 32 человека, стрельцов 13 человек, пушкарей и затинщиков 13 человек, воротников 3 человека, рассыльщиков 3 человека, посацких людей 55 человек». На свадьбе Царицы Евдокии Лукьяновны он показан в числе Московских дворян, сопровождавших свадебный поезд.
6.Василий Иванович Стрешнев, которого на свадьбе Царицы видим уже в звании Стольника, в 1634 году, вместе с Федором Степановичем Стрешневым, пожалован в Окольничие, а в 1646 году в Бояре. В Литовском походе (1654 г.) мы видим его Боярином и Воеводою сторожевого полку. Как за этот поход, так и за другие службы, Государь пожаловал Стрешневу, в числе прочих, «шубу под атласом золотым на соболях, кубок золочен с кровлею в 7-м гривенек, денежной придачи к окладу… рублев». Скончался в 1661 году.
7. Иван Филиппович Стрешнев, тоже упоминаемый в описании бракосочетания Царицы Евдокии Лукьяновны, в 1606 году был уже Думным Дворянином, в 1609г. Устюжским Воеводою 5), а в 1630 Воеводой на Ваге 6) в 1631 г. заменил его сын Федора Степановича, Степан Федорович Стрешнев.
Из братьев и сестер Царицы Евдокии Лукьяновны известны нам лишь:
8. Степан Лукьянович, и
9.Федосья Лукьяновна Стрешневы.
Первый (Степан Лукьянович) в 1655 году был уже Боярином, находился при Дворе и скончался в 1666 году. Он известен своим горячим участием в деле о низложении Патриярха Никона, и был один из самых влиятельных лиц в стороне, враждебной Никону. Он-то составлял вопросы о разных обстоятельствах Никонова дела, на которые Паисий не замедлил написать казуистические ответы, а Патриярх Никон возражения. Эти вопросы и возражения на них Никона остаются доселе в рукописи и служат любопытным матерьялом для верной оценки этого единственного в своем роде дела в Истории Русской Церкви. Рукопись эта хранится в Патрияршей (Синодальной Московской) Библиотеке; впрочем, встречаются с нее списки и в частных руках, но редко. Нам известен один из таких списков, принадлежащих Г. Кашкину.
О судьбе сестры Царицы, Федосье Лукьяновне, мы не могли найти никаких сведений; даже не знаем, за кем она была замужем. Памятником родственно нежных отношений между сестрами осталось лишь собственноручное письмо Царицы Евдокии Лукьяновны следующего содержания: «От Государыни Царицы и Великой Княгини Евдокии Лукьяновны Федосье Лукьяновне. Пожаловали есмя послали к тебе своего …. Жалованья волосник золотой… назиная с канителью и с трунцалом, три цевки золота, три цевки серебра, аршин на подубрусники тафты Виницейки червчетой, полотно двойное, да три полотна тройных, да пятьдесят золотник шелков цветов разных, да два фунта белил. Да дочери твоей пожаловали есмя сережки золоты с жемчюжки, каменья лады. Да шубку, камка желта, на пупках собольих, кружево серебрено, пуговки серебрены ж. Да ты ж нам била челом о сергах, и мы те серьги пришлем к тебе вперед, а ныне не успели послать». Подлинник сего письма хранится в Архиве Оружейной Палаты, писан столбцом на одном листке 7).
Из прочих известных членов этого рода встречаем в списках Окольничьих Царя Алексея Михайловича: 1. Ивана Большого Федоровича Стрешнева в 1654 году и 2. Ивана Меньшого Федоровича Стрешнева 8) в 1656 году. 3. Родиона Матвеевича Стрешнева с 1657 года 9). А в списке Стольников 1670 года: 1. Ивана Ивановича и 2. Якова Максимовича Стрешневых.
В царствование Петра I из Стрешневых были известны Бояре: 1. Никита Константинович и 2. Тихон Никитич Стрешневы; последний пользовался особым уважением Петра и был в конце своей службы Московским Губернатором 10). 3. Боярыня вдова Анастасия Ивановна Стрешнева, Стольники: 4. Иван Родионович 11) и 5. Иван Иванович 12) Стрешневы, которые все участвовали в 1694 году в, так называемом, кумпанстве Боярина Никиты Константиновича Стрешнева для построения судов.

Отца Царицы Евдокии Лукьяновны, неизвестно почему называют «бедным Можайским Дворянином». Мы полагаем, что это ошибка, или просто описка какого-либо писца XVII столетия: ибо известно утвердительно, что Стрешневы были коренные Мещовские Дворяне и вотчинники и погребались издревле в Мещовском Георгиевском монастыре.
Не имея под руками писцовых книг Мещовского Уезда, мы, в подтверждение того, что Стрешневы были искони Мещовские помещики, можем сослаться на переписную книгу церковных земель Мещовского уезда 1626 года (в которой упоминаются лишь одни села).
Из этой книги достаточно ясно видно, что родовые поместья Стрешневых были сосредоточены преимущественно в окологородном стану; стало быть, именно в окрестностях старого Мещовского монастыря на реке Ресе. В этой книге упоминаются: 1. «За Григорием Игнатьевым сыном Стрешнева старое отца его поместьье, село Петрушинское, на речке на Нисве и на речке на Недвижке. 2. За меньшим Афонасьевым сыном Стрешнева, по Государеве жалованной грамоте в 1615 году, за приписью Дьяка Герасима Мартемьянова, две трети села Гаврикове на речке на Крапивенке, а треть того села за братом его, Яковом Стрешнева. 3. Вдовы Матрены Федоровской жены Стрешнева, да Степановское поместье Борисова сына Стрешнева, пустошь, что было село Мурхвичи, на речке Нисве 13). 4. Во Владычинском Стану за Ильею, Афонасьевым сыном Стрешневым, что по приправочным книгам написано было за ним в вотчине и в поместье две трети села Травина с жеребьем на речке на Старке».
Из этого видно, во-первых, что род Стрешневых принадлежал к старым Дворянским родам; во-вторых, что род их исстари имел оседлость в Мещовском Уезде, и именно в окрестностях Мещовского монастыря, в стенах коего также исстари была их родовая усыпальница, чем и объясняется внимание к их обители Царицы Евдокии Лукьяновны, о коем память сохранилась не только в устных преданиях, но и вписьменных монастырских актах; так, во вкладной книге сего монастыря, заведенной Архимандритом Серафимом в 1681 году, сказано утвердительно, что «на милостыню (как душевную благодетель) и благолепие Дому Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Рождества Ея Георгиевского монастыря, зело устремилася своим тщательством блаженныя памяти Благочестивейшая Государыня и Великая Княгиня Евдокия Лукьяновна». Это известие, как записанное одним из настоятелей обители через 36 лет косле кончины Царицы, по одному этому уже не требует других подтверждений. Что же именно сделано Царицею в пользу обители, остается неизвестным. По ходу обстоятельств надобно полагатиь, что вообще. Щедротами Евдокии Лукьяновны и ее родственников, старая георгиевская обитель, что была на реке Ресе и совершенно разоренная в Литовское нашествие, построилась на новом месте, «в Мещовске на посаде» деревянным зданием.
В описи 1716 года из родственников Царицы, принимавших участие в судьбах обители в течение XVII столетия, упоминается: Отец ея Лукьян Степанович 14), пожертвовавший несколько колоколов, да брат Царицы, Степан Лукьянович, который принес большое Евангелие с серебряными вырезными наугольниками и средою. В начале XVII столетия Боярыня Анастасия Ивановна Стрешнева пожертвовала воздух и два покрова серебряной объяри с травы золотыми; Боярина Никиты Констатиновича Стрешнева: оклады ризы изобрафа травчатого с звездки, Боярина Ивана Федоровича Стрешнева: ризы участок серебреной с травы золотыми, и наконец вклад Боярина Тихона Никитича Стрешнева несколько колоколов и серебреный ковш.
Самое участие в судьбах Мещовской обители, начавшей с 1680 года воздвигаться каменным зданием Царей Федора Алексеевича, Ивана и Петра Алексеевичей, основываясь на уважении к памяти их добродетельной бабки, служат подтверждением выше упомянутого предания, устного и письменного.
Внимание же к Георгиевскому Мещовскому монастырю Царя Петра Алексеевича, в начале его единодержавия, получило еще и новое побуждение (с 1689 г.) в том, когда, по неисповедимым судьбам Промысла Божия, другая Евдокия, также, подобно первой, взросшая вблизи Мещовской Георгиевской обители, сделалась супругою молодого Царя. Разумеем Евдокию Федоровну Лопухину, дочь Боярина Федора Аврамовича Лопухина, бывшего владельца села Серебреного, находящегося в виду сей обители.
Архимандрит Леонид
1) См. описание в лицах торжественного бракосочетания Государя Царя и Великого князя Михаила Федоровича с Государынею Царицею и Великою Княгинею Евдокиею Лукьяновною Стрешневою. В 4 д. л. Москва, 1810 г., издание Платона Бекетова, составляющее ныне книжную редкость.
2) См. Временник 1849 г. кн. 3. Поместные дела, стр. 21—24.
3) См. «Чтения в Императ. Обществе Истории и Древностей Российских» 1862 г. кн. IV, Смесь, стр. 50: «Письмо Царицы Евдокии Лукьяновны к Новогородскому Иерею Максиму».
5) См. Исторические акты, т. II, стр. 160.
6) Временник, кн. 25, стр. 89.
7) Смотри Временник 1849 года, кн. 1. Смесь, стр. 15.
8) Один из них был тестем Князя Василия Васильевича Голицына и жил в Москве; род его записан в Синодик Мещовского георгиевского монастыря вместе с родами Лукьяна Степановича (230 имян) и Никиты Константиновича Стрешневых, и Князя василия Васильевича Голицына.
9) Погребен в Чудовом монастыре 1687 г.. Апреля 2, и назван в надписи Болярином. О.Б.
10) Когде Петр собственноручно обрезывал бороды Боярам, Тихон Никитич был пощажен, «за свою испытанную преданность» (Донесение Гвариента Царю от 12 сентября, 1698 года).
11) Погребен в Чудове же монастыре 1722 г., августа 14, в заглавии, против гроба родителя своего, и назван в надписи Ближним Стольником. О.Б.
12) Сын его, Генерал-Аншеф Петр Иванович Стрешнев. Погребен в Донском монастыре. Брат же Николай Иванович, генерал-Маиор, погребен в Чудове монастыре 1745 г., Мая 5, на 39 году от рождения. О.Б.
13) Мы полагаем, что здесь идет речь о родовом поместье отца Лукьяна Степановича Стрешнева (родителя Царицы), которое в Литовское разорение могло быть опустошено, через что Лукьян Степанович был вынужден переселиться в другое свое, или женино, поместье в Можайском Уезде, где и застало его счастливое для него событие 1626 года, когда дочь его, Евдокия Лукьяновна, сделалась Царскою невестою. Но еще вероятнее, что в письменном предании, по ошибке, вместо Мещовска, поставлено Можайск.
14) Не Семен ли Лукьянович Стрешнев, ибо в числе известных нам лиц из рода Стрешневых (Бояр и Окольничьих) не видно Степана Лукьяновича, а лишь Семен Лукьянович (ум. 1666).
2. ПЕРЕПИСКА КНЯЗЯ М.М.ЩЕРБАТОВА
Издательство «Древлехранилище». Москва, 2011. — 300 экз.
Публикация С. Г. Калининой.
С. 109—113: Письма к Ф.И.Глебову
С. 352—501: Письма к князю Д.М.Щербатову*, А.Ф.Щербатовой (Глебовой) и князю И.М.Щербатову.
С. 505—509: Переписка с П.П.Яковлевым**.
С. 174—175: из письма Г.Ф.Миллеру.
*Д.М.Щербатов — сын М.М.Щербатова, женатый на А.Ф.Глебовой, дочери Ф.И.Глебова от первого брака, единокровной сестры Е.П.Стрешневой.
**П.П.Яковлев — брат матери Е.П.Стрешневой.
Из «Введения»
Самая значительная утрата связана с пожаром в московском доме наследников Михаила Михайловича в 1812 г. Сейчас трудно с уверенностью сказать, какие именно документы сгорели. Однако мы можем точно утверждать, что полностью погибла вся та часть переписки М.М.Щербатова, которая приходила на его имя. А также все его собственноручные черновые ответы. Это одна из наиболее значительных утрат из всего творческого наследия князя. /…/
В переписке М.М.Щербатова с А.Р.Воронцовым… отсутствуют несколько ранних писем. То же можно сказать и о переписке с Ф.И.Глебовым, А.П.Мельгуновым, И.А.Остерманом.
…длительный перерыв… в 1981 г был прерван самой крупной на сегодняшний день публикацией писем М.М.Щербатова к сыновьям Ивану и Дмитрию, невесте, а затем жене последнего А.Ф.Глебовой и к А.Р.Воронцову*.
В сборнике 1981 г. были опубликованы 47 из 125 писем князя, сохранившихся среди хозяйственного архива Щербатовых. Письма писались из Москвы в Санкт-Петербург, где служил князь Дмитрий и куда приезжал к нему его старший брат Иван. После смерти М.М.Щербатова они были перевезены в имение Михайловское и переплетены в единую тетрадь, благодаря чему не погибли в пожаре 1812 г. и хранятся ныне в личном фонде Щербатовых в ЦГАДА Это наиболее полный комплекс писем М.М.Щербатова, обнаруженный на сегодняшний день. Письма охватывают период с 1775 по 1789 г.
* Памятники московской деловой письменности XVIII в. М., 1981. /…/


М.М.Щербатов — Ф.И.Глебову
21 декабря 1787 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.
Родство, дружба и почтение мое к вашему высокопревосходительству заставляют меня с удовольствием исполнить обычай поздравления с наступающими праздниками, и тем сие приятнее мне, милостивый г/осу/д/а/рь, что я нелестныя мои желании к особе и фамилии вашей сим могу объяснить. Итако позвольте мне принеси вам мое поздравление с ныне наступающими праз/д/никами Рождеством Христовым и Новым годом, и купно объяснить вашему превосходительству желании мои как сии наступающие, так и многия впредь вам благополучно праздновать. И да при возобновлении года сниспошлет вам Господь Бог обновление милости и благ своих, хотя я несколько замешкался за своими хлопотами, принести вашему высокопревосходительству мою благодарность за прислание ко мне сенатскова указу, о милостивой конфирмации в разсуждении учреждения моих именей 1). То сей долг теперь исполняя, пребываю с совершенным почтением милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва. Декабря 21 дня 1787.
1) Имеется в виду указ Екатерины II от 30 октября 1787 г., данный ею Сенату о предоставлении М.М.Щербатову и его жене Н.И.Щербатовой права распоряжаться своими имениями после смерти одного из них.
10 апреля 1788 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.
При наступлении нынешнего праздника Святыя Пасхи, имею честь вашему превосходительству принести всепокорнейшее мое поздравление, искренне желая, дабы как сей, так и многия впредь вам благополучно препроводить. Примите, милостивый г/осу/д/а/рь, сии от сердца происходящия мои изъяснения, и которые оно само, а не етикетом изъясняет.
Касательно до дела вашего, г/оспо/д/и/н Грунин выезжает, но в департамент не является. В праз/д/никах пройдет почти до конца апреля, а как от времени уже и выздоровлен я, сего маия 17 числа минет три месяца, то в сей самой день и дело ваше будет решено, а для сего я его и не понуждаю, дабы он ябедою еще какою продолжения не зделал. Ждали более, уже малое можно подождать, когда и без подписки его по законам дело должно быть слушано. Для лутчей осторожности предупрежу рекетмейстера, котораго я уже раз просил, чтобы он к тому времяни съездил, а потому, чтоб уж за всякое упоздание департамент повергнут был и штрафу от Сената. И сие донесши, имею честь себя назвать с искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, апреля 10 дня 1788.
25 декабря 1788 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иваныч.
При наступлении праздника Рождества Христова и Новаго году, имею честь ваше превосходительство с оными поздравствовать и пожелать вам как сии, так и многие впредь в желаемом благополучии и удовольствии. Се есть искрения желания того, которой с непременным почтением имеет честь назваться милостивый г/осу/д/а/рь мой вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, декабря 25 дня 1788.
Ея высокопревосходительству милостивой г/осу/д/а/р/ы/не моей Елисавете Петровне имею честь принесть и мое поздравление с нынешними праздниками, и желаю, дабы при возобновлении года Бог умножил вам благополучия и удовольствия.

5 апреля 1789 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович
Четыре недели продолжающаяся моя болезнь насило дозволяет мне надиктовать сие письмо, дабы исполнить долг мой искренним моим поздравлением вашему высокопревосходительству с наступающим праздником Светлою Пасхаю, которой желаю благополучно препроводить. Правда пред сим праздником радованием всех християн, и в болезни моей, я был огорчен известием, что дело мое правое по Межевой экспедиции противу меня и законов решено. Мне догадатца лехко можно от кого бомба происходит, хоть мне досадно, но я не обробел, а для ого прошу мне зделать одолжение копию с определния списав прислать. Чем одолжите пребывающаго вам искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, апреля 5 дня 1789.
Желал бы я знать верно, кто изволил из сенаторов определение подписать.
8 марта 1789 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иваныч.
Чрез сие имею удовольствие уведомить ваше высокопревосходитеьство, что любезная наша кнегиня Александра Федоровна вчерась во втором чесу после полудни от бремени своего с помощию Божиею разрешилась, и как я пишу свое письмо по утру, торопясь ехать ее видеть, то токмо могу сказать, что вчерась ана была в желаемом состоянии. Я же, прине/с/ши благодарность Господу, имею честь вас, милостивый г/осу/д/а/рь, со внуком кн/я/зем Михаилом поздравствовать и желаю, чтобы он мог утешение вам по возрасте своем зделать. Я истинно вам, милостивый г/осу/д/а/рь скажу, что я сим случаем толь обрадован, как более быть не можно, одним словом толико, колико я искренне люблю вашу дочь, или лутче сказать сколь много анна стоит и сколь мы радуемся ею. Се есть искренни мои чюства, и думаю, что и она всегда вам подтвердит. Также остается просить нам бога о выздоровлении ее, в чем на милость Его надежду полагая, пребуду с искренним почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, марта 8 дня 1789.

22 мая 1789 г.
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович
Приятное письмо вашего высокопревосходительства и с приложением копии с определения Межевой экспедиции я исправно получил, за которое приношу мое всепокорнейшее благодарение. Два раза, милостивый г/осу/д/а/рь, оставя приятнейшие для меня упражнении сие определение я читал сов сем безпристрастием, каковое может строжайшая филозофия в человека вдохнуть, и два раза, милостивый г/осу/д/а/рь, признаюсь вам, нашел я соплетение неправды и неправосудия. Мне вам будет длинно все это объяснять, но яко гражданин, имеющий право свое защищать, яко сенатор, имеющий право печся о благе государства, которое не может быть без правосудия, яко помещик, долженствующий пещися о справедливом умножении благосостояния своих крестьян, яко отец, должетствующей стараться не растерять своих именей, необходимым себе почитаю принеси мою прозьбу перед монарший престол и просить удовлетворения не мне, но закону, но воли монаршей, нарушенной во всех частях. Истинно поступок сей самого меня огорчает, что перо мое може быть принуждено будет употребить такие изъяснении, которые неприятны будут тем, которых я своими приятелями почитал. Но что делать, когда должности и судьба меня до того доводит. В протчем, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства всепокорный слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
С/ело/ Нагорное, маия 22 дня 1789.
Из письма Г. Ф. Миллеру
20 января 1763
/…/ P.S. Mon oncle monsieur de Strechnef* ma prie de vous ecrire de lui faire scavoir le prix des livres du cqtalogue ci joint, en quoi vous m obligerai de me faire scavoir enfin qu on puisse vous envoier l argens a l achat de ce livres.
Перевод:
/…/ Р.S. Мой дядя, господин Стрешнев*, просил меня написать вам, чтобы вы сообщили ему цены на книги из прилагаемого каталога, чем вы меня обяжете, сообщив мне это, чтобы можно было послать вам денег на покупку этих книг.
* один из братьев матери Н.И.Щербатовой (жены М.М.Щербатова) — Василий Иванович (1707—1782) или Петр Иванович Стрешнев (1711—1771), второй — отец Е.П.Стрешневой
М.М.Щербатов — П.П.Яковлеву
18 мая 1766 г.
Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.
Сей час имел честь от вашего превосходительства получить письмо, писанное маия от 11 числа о отдаче в гофшпиталь ваших денех две тысячи рублев, которые сей час отдать не могу, для ого, что имея ваши деньги, по большей части медныя, я, оставив тысечу рублев на первой случай, а опасаясь какова нещастия от пожарного случая, отдал пред самым ем временем одному купцу на месяц с тем, чтобы от него получить серебром, х которому, однако, сей час посылал, дабы он хотя медными ж в дополику суммы дву тысечь пятисот рублев отдал, что он и обещал. И конечно, могу ваше превосходительство уверить, что если не в понедельник, то во вторник такия деньги естли не все, то по крайней мере две тысечи рублев запачены будут и при взятии расписки приобщу в сем как имеющимся у меня, так и тем, которые еще в вашей деревне, окуратной щет. Чем прекратя, пребуду и искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, маиа 18 дня 1766 году.
25 мая 1766 г.
Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.
Сей час, отъезжая в деревню, дни на четыре, имею честь донести, что севодня ваших денех две тысечи рублев отдал в гофшпиталь для пеерсылки к вам и естли за неполучением расписки по притчине невозвращения тех, которые поехали отдавать деньги севодня к сему письму ее не приложу, то ее на первой почте пришлю. В протчем, за неимением времяни, прекращаю сие письмо прошением моим о продолжении ко мне вашей дружбы и пребуду с искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, маиа 25 дня 1766 году.
29 мая 1766 г.
Г/осу/д/а/рь мой и любезной друг, Петр Петрович.
Вчерашний день поздо вечеру, возвратясь из моей деревни, хотя во всю ночь претерпевал от мигрени, но не хотел, хотя через силу, упустить, чтобы севодня вашему превосходительству не донести об отдачи ваших денег дву тысячи рублях, на которые в прошедший четверк, то есть 25 числа сего м/еся/ца после отъезду моего в деревню, жена моя получила вместо росписки письмо от Ивана Анофрича Брылкина к его превосходительству Никите Ивановичу Панину, которое и послала к его высокопревосходительству через почту весьма напрасно, ибо я намерен был его в сем письме включить. Но как письмо, служащее распиской ему, в толь хороших руках и на имя толь великова человека, то затеряться не может, понеже верность почты в России, конечно, непременно для великих людей наблюдается. Итако, за неимением того письма, при сем к вам копию приобщаю, а и достальные 500 рублев и еще сколько саберу, к вашему превосходительству через купцов переведу, или естли поеду вскоре в ярославские деревни, перевесть без себя велю. В протчем же пребуду с искренним почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайла Щербатово.
Москва, маиа 29 дня 1766 году.
25 января 1767 г.
Г/осу/д/а/рь мой Петр Петрович.
Имею честь вашему превосходительству донести, что я вчарась получил от вашего человека тараканова пятьсот рублев денех, которые хотел севодня к вам перевести, но как купец ко мне не бывал, то до понедельника принужден сие отложить. Сверх того доношу, что человек ваш Боголюбов спился и с ума сошел, котораго сегодня из москвы посылаю под караулом в Жехово и от всех дел ему отказал и сие донещи, пребуду с должным почтением, г/осу/д/а/рь мой, вашего превосходительства нижайший слуга и верной друг кн/я/зь Михайла Щербатово.
Москва, генваря 25 дня 1767 году.
П.П.Яковлев — М.М.Щербатову
8 ноября 1776 г.
Милостивый государь мой князь Михайло Михайлович!
Вашего сиятельства оказываемая ко мне милость во принятии участия противу гонимаго меня рока, есть истинный опыт древнего римскаго содружества.
Приняв смеость доставить вам о существе по вексельному делу моему с сотником Новицким записку, разсудил я за пристойно сообщить вашему сиятельству таковую ж касательную и по судному моему делу, близ десяти лет продолжающемуся с жидами баррухами.
Человеколюбивое вашего сиятельства сердце, безсомненно востревожится о столь оказанных мне несправедливостях и наглых притеснениях. Естли бы только ваше сиятельство восхотели вникнуть в производство и все происшествия сего моего суднаго дела. Но милостивый государь мой! Сие все еще, хотя по малой твердости духа мне бы казалось некоторым образом сносно. А домашние мои злоключительства совсем из терпения моего меня уж вывели.
Вам, милостивому государю моему, знать потребно, что через десять лет по всем моим /нещастным/ приказным хлопотам, употребленной от меня к хождению за оными дворовыми мой человек Елисей Лебедев, не токмо на всякой день лжами своими слух мой напоевал, но и обыкновенно каждый год раза по три или чтыре, сутки по двои и трои от пребезмернаго своего пьянства, возвращаясь ко мне, рассказывал мне всегда несбыточные дела, подобные скаске Бовы Королевича. Коль рачителен и осторожен должен был я быть в выслушании сих равновымышленных его затей, и испытывать прежде решительного моего поступка на дальнейшее нужное производство текущих приказных моих дел. О сем ваше сиятельство по благоразумию вашему сами легко добраться изволите.
По сему тому неоспоримому некотораго мудреца изречению, твердоположительно и сказать можно, что ни знатность, ни пышность видимая в человеке не составляет совершенно в жизни его удовольствия. Но чтоб прежде чтоб об оном знать, должно еще вникнуть в домашние его обстоятельствы.
Сей пьяница и всякой распутной жизни зараженной человек мой Елисей Лебедев, по десятилетним за делами моим хождением, будучи всегда яко совершенный невежда и грамоте весьма мало знающий, при всяком случае собсвенными моими наставлениями ежечасно снабдеваемой, при ожидаемом решении трех важнейших моих дел, яко то в полном собрании Сената с жидами барухами, в департаменте магистратском по вексельному с Нивицким делу. А в банковой канторе об исключении из описи сибирской моей деревни, со всем тем вознамерился вдаться по привычке своей беспредельному своему пьянству, в котором он через шестеры сутки в отлучке от дома моего находясь, едва уже сыскан.
Как бы у него нашлось между протчим вместо объявления в банковую контору копия, якобы от оной требуемаго от меня доношения. И для того ваше сиятельство покорно прошу, и сие доношение вновь учиненное милостиво поручительством вашим утвердить /и подателю сего по подписке отдану/. Впротчем, сколь слабость здоровья моего на ногу меня поставит, вам мое почтение изустно засвидетельствовать, то я сего случая конечно не упущу.
Из Солитюда, 8 ноября 1776 года
P.S. Из посылаемого при сем домовнаго учиненнаго благоискусному моему славному стряпчему, ваше сиятельство усмотреть изволите и разум и слог его, и сколь он много знает и простой грамоте, яко же все оное рукой его писано.
Из писем к Д.М.Щербатову, А.Ф.Щербатовой (Глебовой) и И.М.Щербатову
Д.М.Щербатову
10 июня 1784 г.
Друг мой, князь Дмитрей Михайлович!
/…/ Дело Федора Ивановича Глебова* к слушанью готово, токмо должно ему представить поверенного для высмотренья выписки, о чем его превосходительству скажи, чтобы поскорея прислал поверенного с верющим письмом**.
*Глебов Фёдор Иванович (1734—1799), сенатор (1781), генерал-аншеф (1782). Участвовал в семилетней 1756—1763 гг. и русско-турецкой 1768—1774 гг. войнах. Отец А. Ф. Глебовой, будущей жены Д.М.Щербатова.
**Отношения между будущими родственниками — Глебовыми и Щербатовыми сложись. Видимо, в конце 1770-х гг. в последние годы службы М.М.Щербатова в С.-Петербурге. Еще задолго до обручения и свадьбы Дмитрия Михайловича и Александры Фёдоровны их родители состояли в переписке, о чем свидетельствуют несколько сохранившихся писем княгини Н.И.Щербатовой:
Милостивый г/осу/д/а/рь мой Федор Иванович.
Наступление нынешняго праз/д/ника Рождества Христова и приближение Новаго года подает мне случай себя в памяти вашего превосходительства возобновить и пожелать вам, милостивый г/осу/д/ар/ь, при возобновлении года всякаго желаемаго вами удовольствия и благополучия. От себя же рекомендуя в продолжение дружбы вашей пребуду с всегдашним почтением, милостивый г/осу/д/ар/ь мой, вашего превосходительства покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатово.
Декабря 26 дня 1782 году. Москва
Милостивая г/осу/д/а/рыня моя сестрица Лисавета Петровна.
Наступивший ныне праздник Рождества Христова и приближающийся Новый год подает мне случай изъяснить вашему превосходительству при поздравлении вас с оными искреннее мое желание, дабы как сии, так и многия впредь в желаемом вами благополучии препроводили и чтоб при возобновлении Нового года узрили б обновиться ваши удовольствии, чего искренне вам пожелав, пребуду с всегдашним почтением, милостивая государыня моя, покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатово.
После смерти князя М.М.Щербатова Глебовы не утратили связи с семьёй Щербатовых и продолжали общение.
Село Рождествено, 1793 году 21 августа.
Милостивая государыня моя сестрица Елизавета Петровна.
Приношу вам мои нижайшие благодарения за уведомление о приезде вашем в Москву. Вы меня очень обрадовали вашим письмом. Оное мне доказывает, что вы меня не забываете. Буе уверены, что и с моей стороны я право душевно к вам привязана. Чтошь касаетца до свиданья нашего, то я, матушка, с превеликим удовольствием желаю с вами видитца и буду старатца вас увидить, только после 26 нонешнего месяца, а прежде я быть не магу. Итак, лаская себя иметь честь вас увидеть, пребуду с искренним моим почтением, милостивая государыня моя сестрица, покорная услужница ваша кнегиня Наталья Щербатова.
При сем свидетельствую мое нижайшее почтение милостивому государю моему Федору Ивановичу и покорно благодарю за припаметование его обо мне. Также прошу вас, матушка сестрица, сказать детем вашим мою благодарность за их поклон и от меня также сказать мой поклон. Кнежна моя вас благодарит и приносит вам свое почтение.
29 ноября 1786 г.
Кн/я/зь Дмитрей Михайлович.
По отъезде твоем тысечи вещей встречаются мне на мысль тебе сообщить о новом твоем состоянии, в которое ты вступаешь, но я лутче хочю все сие предать чювствительности сердца твоего, нежели отеческим наставлениям. Они и достоинства твоей невесты (ибо я уже осмеливаюсь ей имя сие дать) суть лутчия наставления на свете, и они более тебя научат что ты должен от сих часов думать, что ты живешь более для нее, нежели для себя. Трерьегво дни я получил письма от Федора ивановича и Елизаветы Петровны ничего не значющие, в ответ не значющим же ничего моим письмам, и письмо адресированное на твое имя, подписанное женскою рукою, которое думаю быть от Александры Федоровны, и оное, не распечатывая, к тебе возвращаю, ибо, хотя думаю, ни один отец не более достоин войти в конфиденцию к сыну своему. Но я, не взяв от тебя позволения, сего не сделал, ибо всегда между любовников есть вещи, которые они за удовольствие щитают таить, а я вашего удовольствия помешать не намерен, а напротиву того желаю сколько можно его умножить. Весь поступок мой доказывает тебе искреннее мое удовольствие о сем начатом деле, которое прошу Бога, чтобы к совершенному удовольствию моему ано окончено было и чтобы ваши души и сердца совершенно навсегда были соединены, а единая бы пря у вас происходила, кто может более любви и преданности другому оказать. Сегодня за великой секрет, которой, однако, известен городу, как ниже тебе скажу. Я ближним своим не изъясняя ничего из обстоятельств, сообщил токмо о твоих намерениях и кн/я/зь Николай Михайлович Голицын похваляя мне твою невесту, говорил, что он сам, бывши в Петербурге видел, коль любит тебя Федор Иванович, называя его не меньше влюблен/н/ым в тебя как и невеста. Сие весьма вероятно, ибо без того бы он и не отдал за тебя свою дочь. И тако помни сие любезный мой кн/я/зь Дмитрий Михайлович, и если потребно, убавь почтения ко мне, но имей его совершенно к нему. Я истинно со слезами сие к тебе пишу, толь есь велико мое желание, чтобы дружба и родство навсегда сохранялись. Не меньше же должно тебе иметь почтение и к Елисавете Петровне, которая так же спомошествовала желанием твоим. Одним словом, я щитаю, что сие на веки счастие твое составляет, так умей за щастие твое платить почтением и благодарностию тем, кто его соделал. Оканчиваю свое письмо тем, что уже по всему выше писанному ощутительно то есть, что я ожидаю нетерпеливо формального окончания сего дела. Истинно ни одной очи не сплю в нетерпении моем и для того, пожалуй, поскорея меня о всем уведомь. Александре Федоровне скажи мой поклон и уверь ее, что я истинно признаюсь, что не зная ее, я так как дочь ее люблю и льщу себя, что анна найдет во мне друга. Наконец, желая тебе благополучнаго приезду и окончания твоего дела с помощию Божиею, предаю тебя в Его высшее защищение, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь М. Щербатово.
Москва, ноября 29 числа 1786.
/…/Р.S. не позабудь, друг мой, прислать по помолвленье реестр родни, куда нам рекомендоваться ехать.
Сие письмо ты можешь показать Александре Федоровне, ибо имей за правило ничего от нее не таить. /…/
7 декабря 1786 г.
Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.
Я толь нетерпеливо ожидаю твоих писем, щитая, что ты в понедельник еще рано мог приехать и писать ко мне или вечеру или во вторник поутру, что в суб/б/оту человек мой жил на почте, дабы поскорея от тебя письма получить, но получил вместо твоего, письмо на имя твое, подписанное. Думаю, от Александры Федоровны. Скажу тебе, друг мой, какое приключение с сим письмом случилось. Илья, который послан был ожидать почты имел неосторожность письмо сие принести при матери твоей. Ана, любопытно разсмотря печать стрешневскую с орденом, говорила, что надобно его распечатать, ибо оно может быть от Елисаветы Петровны, а потому и нужно к нашему сведению, а если и от ково другова, то неуповательно в нем быть такой важности, чтобы от нас скрыта могла быть. Видя ее в таких расположениях, не оставалось мне другова делать, как сказать, что может быть сие письмо и от Александры Федоровны, ибо имея уже дозволение от родителя, со всею благопристойностью может к тебе несколько строчек, да может быть и с их повеления написать, как и самый герб свидетельствует, ибо то печать Елисаветы Петровны.
/…/ Сказав тебе о сем, остается мне токмо желать скорея получить известие о публичном вашем помолвленье и чтобы письмы Федора Ивановича и Елисаветы Петровны, меня в согласии их уверили. /…/ дав тебе позволение, я зделался похож на прошедших веков матерей, которые без памяти радовались, когда женивали с/ы/на. Я ни к чему другому не приписую сего как к первому разу, когда видел невесту твою к продолжению слышеть об ней все доброе и к совершенной уверенности, что она много имеет достоинств и щастие твое зделает. Будь достоин всему сему беспредельною любовью к ней, а от меня ей поклонись и препоручая тебе в милость Божию, остаюсь доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, декабря 7 дня 1786.
10 декабря 1786 г.
Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.
Хотел тебя севодня побранить за то, что третьево дни на почте, где целой день человек почты ожидал, я от тебя писем не получил, а вчарась, препроводя без сна в беспокойстве целую ночь, получил от тебя письмы. За то тебя благодарю и поздравляю тебя с невестоюс той искренностию, какую ты во мне всегда видел. С радостными слезами к тебе пишу сие, и со всем усердием, приличным расположению моих мыслей и летам, прошу Г/оспо/да, да благословит Б/о/г начетое сие дело, да исполнит Бог благополучием, любовию и спокойствием ваши дни, и да убавит моего счастия и жизни, но да прибавит вашего благополучия. Мне должно тебе. друг мой, и о сказать, что весь дом мой в восхищении о щастии твоем. Твоя Александра Федоровна имеет нечто особливое, что и незнающих ее людей к себе притягивает, следственно, коль велико должно быть твое удовольствие, которое я искренне разделяю. Пожалуй, мой любезный кн/я/зь Дмитрей Михайлович, уверь с твоей стороны Федора Ивановича, Елисавету Петровну и Александру Федоровну, что все чювствования мои, изъясненныя в моих письмах, не суть этикетныя, но самые те, которые в сердце моем находятся. Уверь их в моем почтении и любви, ибо приятно мне, чтобы такия люди наивящее уверение о преданности моей имели.
/…/ Пуще всего, мой друг, уверьте вашу дорогую в моей преданности и моей дружбе к ней, пусть эти строки будут свидетельством чувствований моего сердца к ней (абзац написан по-французски).
Не забуть, мой друг, попрасить мне потрета Александры Федоровны. Сие мне будет утешение, чтобы иметь упредительно ее портрет, пока буду иметь утешение ее сам увидеть. /…/
14 декабря 1786 г.
/…/При сем посылаем мы подарки к твоей невесте, с приложением наших писем, которые, пожалуй, ей вручи, с уверением с моей стороны всей преданности и любви, каковую возможно иметь, и колико я чювствую удовольствия о намеряемом супружестве твоем, о котором, как думаешь ты оно будет, пожалуй, меня уведомь. Также Федору Ивановичу и Елисавете Петровне изъясни мое почтение и скажи, что я не хотя их трудить моими письмами, от оных удерживаюсь. А особливо скажи Федору Ивановичу, что я призывал к себе секретаря Камер-конторы, которому приказал зделать екстракт из дела, и оной к нему на будущей неделе пришлю /…/
21 декабря 1786 г.
/…/Наступающии же праздники Рождество Христово и Новый Год подают мне случай тебя поздравить с оными и пожелать тебе всех благополучей, какия ты можешь пожелать, и сверх желания твоего какия могут всегдашнее твое счастие составить. И сие со всею искренностию, какую отец, любящий тебя, может иметь. За первое щитаю, чтобы начетое твое дело скорея было окончено и что б я в начале будущаго года мог и себя поздраствовать приумножением моей семьи. Наконец, хотя я и писал особливо к Александре Федоровне, поздравляя ей с празниками, но и тебя еще прошу, уверь ее в искренних моих желаниях о всем, что до щастия ее касается, ибо как мне кажится, для нее лишнего зделать неможно, и изъяснении искренности и любви женихова отца противны быть не могут./…/
P.S. На сей почте письма от Александры Федоровны, от Федора Ивановича и от Елисаветы Петровны я получил, а от тебя ни строчки, хотя в самом деле ты более всех имеешь ко мне нужду писать и должен был уведомить меня, получил ли ты деньги, посланные к тебе с твоим человеком. Он же не мог тебе не сказать все мое удовольствие о твоем помолвленье, о и сие требовало некоего признания.
К тому же и ответами ты должен мне о расположении твоего состоянья, и о назначении время твоей свадьбы. /…/ Федор Иванович мне упоминает о свадьбе вашей и я к нему на сие ответствовал, что скорея то лутче, то пожалуй о очном сим расположении меня уверь. Письмо твоей Александре Федоровне такия чюствии изъявляет, что ано к удовольствию моему прибавило мне удовольствие. Могу сказать, что я ее не знаю, ибо единочасное свидание, да и то когда анна была ребенок, не может зделать знание. Но все, что слышу и вижу, мне делает почтение к ней. Думаю, другой мой, что в самой твоей любви ты и самое почтение к ней ощущаешь, ибо искреннее почтение есть основанием долгопродолжительные любви, ано составляет ее твердое основание, ано ее и покрывает. Наконец, не ограничивайте свою любовь к ней, но любите ее с уважением и деликатностью (фраза по-франц.)
4 января 1787 г.
Друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович.
С удовольствием я получил твои письма вчерась, на которые ответствую. Расположение твое перейти в Арханигородский полк* есть весьма изрядно, естли чего лутче неможно зделать, а однако и о пере/во/ду весьма подумать надобно, ибо и сей полк может в дальные места идти. Пожалуй о том посоветуй с Федором Ивановичем как тебе состояние и службу твою расположить, ибо ты знаешь, что определяя детей своих к службе отечества, собственно ни их труды, ни самые опасности меня не устрашают, но таперя я должен инако о тебе судить. Ты будешь не один и вступающая в обязательство с тобою особа требует моего размышления, дабы и ей тягости состояние твое не нанесло. Сия особа, быв дочь Федора Ивановича, он лутчия советы может тебе преподать для основания вашего состояния. /…/ Перевод твой в полки Петербургской дивизии, я думаю, привяжит тебя к житью в Петербурхе, а потому я не уповаю иметь удовольствие тебя видеть нынешнее лето, и в сем случае, колико ни есть искреннее мое желание тебя и любезную твою Аександру Федоровну видеть, однако знай, что я умею должности твоей уступать мои желании, а потому естли собственные тебя нужды не побудят ехать в Москву, я спокойствию вашему с охотою удовольствие и желание мое познакомится с Александрою Федоровною жертувую /…/ Вчарась и от Александры Федоровны получил я письмо, за которое ей приношу мое благодарение, и истинно более последуя этикету (понеже и сие есть етикетное письмо), нежели последуя движению сердца моего, к ней таперя не пишу, ибо естли бы оному последовал, то бы истинно всякую почту не оставил ее уверить, колико мне приятно видеть ее умножающу семью мою. Итак, мой друг, пожалуй объясни ей мои чуствовании и уверь ее в моей любви и преданности, и что я искренне прошу Бога, да ниспошлет на вас свои милости, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, генваря 4 дня 1787.
P.S. Письмо сие к тебе придет около 12 числа сего м/еся/ца, то ты можешь уже мне дать знать котораго числа назначается твоя свадьба. /…/
*В 1786 г. Д.М.Щербатов с чином подполковника был переведён в Новгородский полк.
7 января 1787 г.
/…/Заключаю тем, чтобы ты покланился от меня любезной твоей Александре Федоровне и препоручая тебя в милость Божию, я есть доброжелательный отец твой кн/я/зь Михайло Щербатово.
Москва, генваря 7 дня 1787.
P.S. Приехал Алексей Андреич* и сказывал, что Елисавета Петровна больна. Пожалуй, уведомь меня о ея состоянии и уверь ее и Федора Ивановича, что я истинное участие приемлю о ея состоянии здоровья**.
*Имеется в виду А.А.Волков.
**Сохранилось письмо княгини Н.И.Щербатовой к Ф.И.Глебову, в котором она выражает свое беспокойство по поводу болезни Елизаветы Петровны:
Милостивый г/осу/д/а/рь мой братец Федор Иванович
За приятное письмо вашего высокопревосходительства и за прислание карафина и свечек приношу мое благодарение, которые я исправно получила. Истинно могу уверить вас, милостивый государь мой, что я была в немалом беспокойстве, услыша о болезни милостивой государыни моей сестрицы Елисаветы Петровны, но чрез письмы сына моего нынче порадована, уведав, что ей лехче. И искренне желаю, чтоб скоро о совершенном выздоровленье слышать могла. Да посылаю я завтрашней день к вашему высокопревосходительству спаржи, которые покорно прошу приказать принять, и быть уверену, что я есть с совершенным почтением, милостивый г/осу/д/а/рь мой, вашего высокопревосходительства покорная услужница кнегиня Наталья Щербатово.
Генваря 21 дня 1878-го года.
Милостивой государыне моей сестрице Елисавете Петровне засвидетельствую мое нижайшее почтение и сердешно желаю, чтоп ана совсем выздоровила.
11 января 1787 г.
/…/Я уже к тебе писал, что слышал о болезни Елисаветы Петровны, то, пожалуй, уведомляй меня каждую почту о ее состоянии /…/
21 января 1787 г.
/…/удовольствие мое есь совершенно о браке твоем, и что наконец тебя и себя и всю семью свою щитаю щастливой, что ты женисся на Александре Федоровне. …/Тебе остается быть довольну и любовью твоей к любезной твоей Александре Федоровне любовь ее паче заслужить.
Я при последнем твоем письме от 14 числа генваря получил письмо от Александры Федоровны. Письмо толь приятное, что хотя в самое время получения я мучился мигренью, но истинно тебе скажу, что ано мне почти лекарством послужило. Мать твоя также с удовольствием получила ее письмо и я могу тебя уверить, что из всех наших разговоров, Александра Федоровна и ты треть оных составляет, что мы по десяти раз прочитываем ее письма и по десяти раз благодарим Бога о входящем к нам семьянине, а по сему суди о наших расположениях.
/…/ При сем прилагаю письмо к любезной твоей Александре Федоровне, которое отдав и словами уверь ея, что все изъясненное в оном, есть искренние чювствии сердца моего. Милостивому г/осу/д/а/рю Федору Ивиновичу и милостивой г/осу/д/а/р/ы/не Елисавете Петровне засвидетельствуй мое почтение и извини, что сам к ним не пишу, боюса обеспокоить их.
/…/Не утерплю не сказать: Федор Иванович уже тебе не дядюшка, но батюшка. Пожалуй так его называй и так почитай.
/…/Ежели успею, завтра пошлю споржей от жены моей к Елисавете Петровне. Проведай на тежолой почте и, получа, отдай.
И я кланеюсь и прашу Александру Федоровну за меня пацалавать.
8 февраля 1787 г.
/…/ Самое поминовение о спарже, ведет меня говорить о том, что ты пишешь о неполучении Александрою Федоровною ответу от нас на ее письма. Присылка спаржи и доказывает, что письмы пропали, ибо накануне оной посылки, писал я к тебе о ней, были письмы к Федору Ивановичю, в которых о сей спаржи поминал, и тут были и письма к Александре Федоровне. Я думаю, что самое сие доказывает нашу невинность и что анна нас оправдает. Но со всем тем, друг мой, кн/я/зь Дмитрей Михайлович, пожалуй изъясни твоей любезной Александре Федоровне, что мы весьма чювствительно приемлем, что и нечаенное с нашей стороны могло ей приключиться огорчение. Уверь ее в нашей любви и почитании, покажи ей сие письмо и прежния, где я об особе ее в каждом тебе говорю. Одним словом, помири нас безвинных с нею и загладь все, что могло такое молчание в сердце ее произвести, ибо истинно тебе скажу, что я беспокоин, не могла ли ана усумниться в нашей любви и преданности. /…/
Вторично вспоминаю Александру Федоровну, пожалуй ей от меня покланись и, пожелая вам всех благ, препоручаю вас в милость Божию/…/
P.S. Дабы не замешались посылки на имя Федора Ивановича, посылаю восемь фунтов шеколаду. Посылаю обое торопясь, ибо в обеих нужда, а не менее есть знак твоего внимания, что ты у меня выпросил шеколад.
А.Ф.Глебовой
8 февраля 1787 г.
Милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня моя, Александры Федоровна.
/…/прошу быть уверенной, что всякое писание ваше нам драгоценно, что единое воспоминовение имени вашего нам совершенное удовольствие делает и что благословляем ежедневно тот час и минуту, в которую избранием своим удостоили вы сына нашего. И тако, милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня, /…/ буте уверены, что мы всей семьею нашею совершенную к вам имеет любовь и за удовольствие почитаем, когда можем вам об оной объявить. А особливо скажу о себе, что оная превосходит все то, что я бы мог вам изъяснить и сим прекратя, пребываю с совершенною любовию и почтением, милостивая г/осу/д/а/р/ы/ня моя, вашего превосходительства всепокорной слуга кн/я/зь Михайло Щербатово.
/…/ Уведав через с/ы/на моего, что ее превосходительству милостивой г/осу/д/а/р/ы/не моей Елисавете Петровне надобен шеколад без ванилия, на завтрашней тяжелой почте десять фунтов, столько почти, сколько у меня случилось, посылаю, о чем покорно вас, матушка, прошу сказать, чтобы ее высокопревосходительство изволила приказать с почты сию посылку взять, подписанную на имя батюшки вашего.
3. И.М.ДОЛГОРУКОВ. Из книги: «КАПИЩЕ СЕРДЦА МОЕГО, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни» (1818)

ГЛЕБОВ
Федор Иванович. Старый и почтенный генерал Екатеринина войска. Он исстари бывал знаком с нашим домом, и я, проживая в Петербурге, по службе, часто у него бывал; жена его, дочь и он сам обходились со мной очень хорошо, и я всегда ласково бывал у них принят. Дядя мой родной, барон Строганов, был с ним очень дружен; ему рассудилось сватать меня на его дочери; она была недурна собой, хорошо воспитана и с состоянием, но мне не нравилась; я что-то находил злое в чертах ее, и удалился от сего выгодного для меня союза, но сим не прекратилось наше знакомство. Я доныне посещаю вдову, генеральшу Глебову. По смерти мужа ее, и достойного нашего полководца, я сочинил стишки на его кончину, кои напечатаны вместе с надгробными стихами, написанными мной по убеждению Елисаветы Петровны: они и высечены на памятнике его в Донском; рядом с отцом схоронен и сын их, дослужившийся генеральского чина. Мать опять просила у меня стихов на гроб его; я их сложил. Они напечатаны в моих книгах и вырезаны на камне. Сколько случаев, приводящих мне на память сие почтенное семейство.
4. Из книги: СОЧИНЕНИЯ ДОЛГОРУКОГО (КНЯЗЯ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА). Том первый. Издание Александра Смирдина, Санктпетербург, 1849
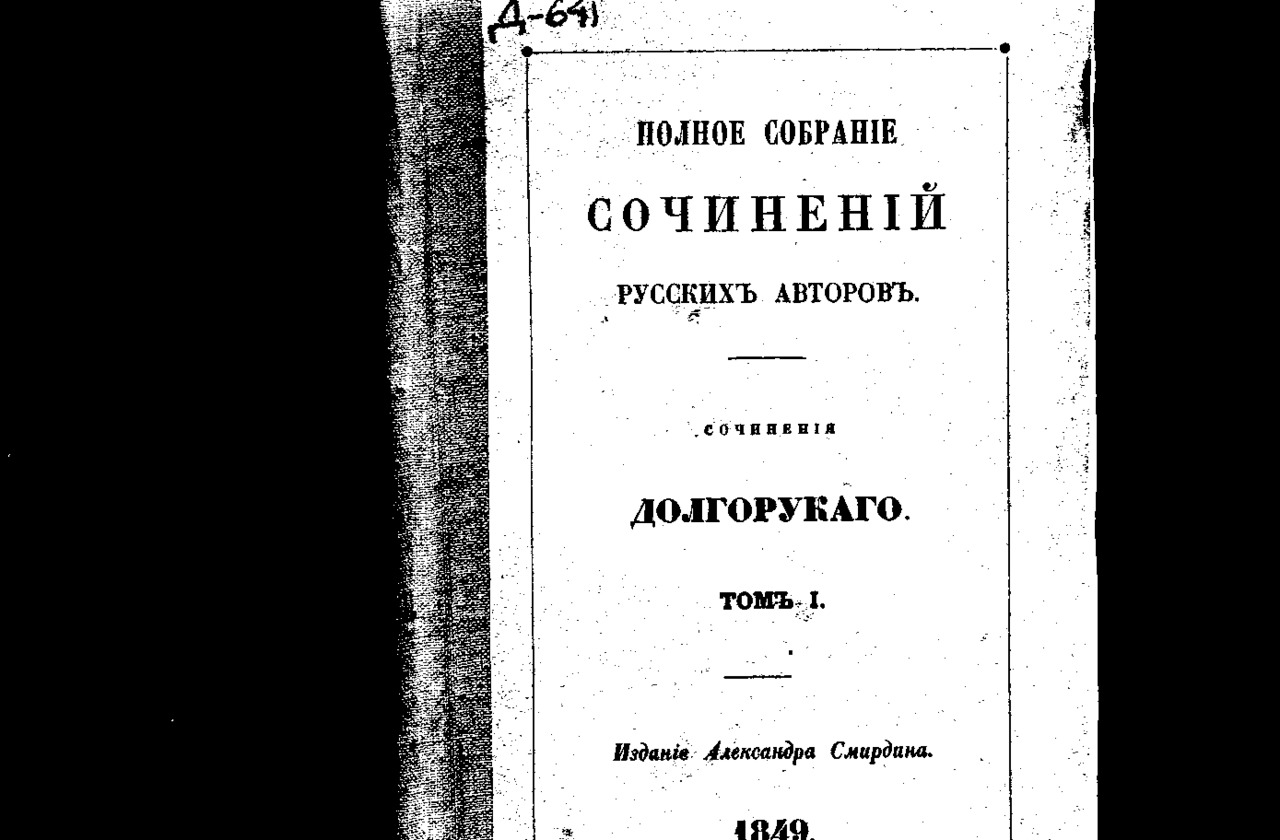
МЕРТВЫМ
НА КОНЧИНУ Ф.И.ГЛЕБОВА (с. 44—45)
Не гордость, людям в изумленье,
Поставила здесь камень сей;
Его воздвигло сокрушенье,
Любовь жены — и жар детей.
Он тело Глебова скрывает,
Который в правде век изжил.
И правды сей молва вещает,
Что добр, умён и честен был.
Возвышен чувством и душою,
Усерден царству и царям,
Был, жертвуя самим собою,
Родным родной — и друг друзьям.
Блаженна душ таких дорога!
Оставя сей плачевный край,
Идут они в объятья Бога.
Здесь плоти гроб — там духа рай!

НА КОНЧИНУ П.Ф.ГЛЕБОВА (с. 45—46)
Оставя мать, жену, детей,
На небо Глебов преселился,
К Создателю природы всей
От наших глаз навек сокрылся.
Здесь видим мы в могильном сне
Твоей лишь плоти измененье;
Там дух твой в сладкой тишине
Вместил уж Бога лицезренье.
Кто честь и нравы сохранил,
Свершил то вмале долги лета;
А ты Отечество любил
Превыше всех сокровищ света:
И Бог потомство здесь твое
Соблюл родившей тя в отраду;
Она ему отец, мать, все
Ей рай за то готов в награду.
НАДГРОБНЫЕ
Ф.И.ГЛЕБОВУ (с. 34)
Здесь Глебов кончил век!
Какой хвалы его достойна память стала? —
Был добрый человек, —
Вот много для Небес! — ужли для света мало?
5. СТИХИ НА КОНЧИНУ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ГЛЕБОВА-СТРЕШНЕВА ГЕНЕРАЛ-МАИОРА И КАВАЛЕРА ВОСПОСЛЕДОВАВШУЮ 23 ОКТЯБРЯ 1807 ГОДА
Тени почтеннаго мужа посвящает недавно навсегда узнавший его Буринский
Quis dasiderio sit pudor aut modus
Nam cari capitus Hor
Его уж нет! … удар нечаянный сразил.
Мрак ночи поспешил за светлою зарею. —
Ни ум, ни доброта, ни юность крепких сил,
Ни вопли рвущейся супруги над тобою,
Ни сиротство детей, едва узревших свет. —
Неумолимыя судьбины не смягчили.
Тлетворный ветр убил красующийся цвет —
И краток путь твой был до мрачныя могилы.
Таинственный предел! в кровавый час войны,
Как адски ужасы Геройство искушали,
Как тьмы разили вдруг, и тьмы поражены,
Доколе истощась перуны замолчали,
Он зрел вокруг себя сверепствующу сечь*,
Он зрел сподвижников преславное паденье,
Себя единого — в руках избитый меч,
Везде несытого железа устремленье —
Он зрел и не погиб. Так рок определил
Ретивой конь его, свинцом уже пронзенной,
Носящий смерть в груди, собрав остаток сил,
Исторг тогда его от смерти разъяренной,
И пал, как добрый друг и жертва за него.

Как истинный Герой, бестрепетен средь бою,
Друг человечества добротою сиял;
И там, где брань текла погибельной стопою,
Он участь тяжкую страдальцев облегчал**.
Нежнейший сын, супруг, отец чадолюбивый,
Свершив служенья долг, летел к семье своей.
Ах! тщетно он мечтал, как дни его щастливы
Отрадно потекут в кругу родных, друзей!
Уже увидел их, и нежная супруга
В восторге радостном сердечныя любви,
Еще не верила, что обнимает друга;
Уж дети малые средь игр, средь ласк своих,
Спешили лепетать любезное названье
Отца, который жить готовился для них,
Котораго уж нет… Болезненно страданье
Сгубило все на век в шесть кратких, грозных дней:
Померк блеск здравия, и гроб отверзся жадный,
Похитить щастие супруги и детей.
Судьбы таинственны и смертным непонятны:
Тебе ж, о кроткий дух! живущий в небесах
Неведомый для нас устав судьбы раскрылся;
Ты ведаешь теперь, почто твой бренный прах
На лоно матери так скоро возвратился? —
Почто Отечество рассталося с тобой?
Почто за радостью минутной и неверной
Скорбь бледная спешит разрушить наш покой?
Теперь освобожден из сей юдоли слезной,
К отцу и вечному блаженству ты паришь,
Превыше всех страстей и горестей терзанья,
И радостей земных. Быть может, долу зришь,
Как здесь потоки слез, и вздохи, и стенанья,
В нельстиву даль сердец, даль памяти твоей,
И дружба, и любовь согласно приносили,
Когда твой гроб, тебя похитивший у нас,
На место общаго покоя приводили!…
Прими их, и прими печальной Музы глас! —
Начало бытия — начало разрушенья.
Смерть в мире царствует! Ужасный нам урок! —
Смиренье гордому, нещастным утешенье,
И грозный, адский бич, взнесенный на порок.
О Провидение! Роптать я не дерзаю!…
Но — слабый — не могу не плакать пред Тобой:
Там, в славе, в щастии злодея созерцаю,
Здесь вянет, как трава, муж кроткий и благой!
Слез горесный поток еще не осушился ***,
Еще мы… злобный рок навеки нас лишил
Того, кто щастием Парнасса веселился! —
Еще зеленый мох могилы не покрыл!
Где ты, о Муравьев! прямое украшенье
Парнасса Росскаго любитель, нежный друг?
Увы! за чем среди стези благотворенья,
Как в добродетелях мужал твой кроткий дух,
Ты рано похищен от наших ожиданий?
Где страсть твоя к добру, сей душ избранный дар?
Где рано собрано сокровище познаний?
Где, где усердия в груди горевший жар
Служить Отечеству, сияя средь немногих,
Прямых его сынов, творивших честь ему?
Любезность разума и прелесть нравов кротких,
Исчезло все! Увы! … Мир праху твоему.
* На сражении под Прейсиш-Эйлау, сей Генерал, бывший тогда Шефом Оливиопольскаго Гусарскаго полка, врубился во французскую конницу, и обхвачен был отовсюду неприятелем. Шенель на нем вся была изрублена, сабля избита, лошадь смертельно ранена пушечною картечею; но сия полумертвая уже лошадь вынесла его из толпы неприятельской и тотчас упала. Покойный плакал, рассказывая сие.
**Истинным доказательством его человеколюбия служит добровольное свидетельство жителей Лацена, где покойный стоял с полком. Пусть читатель сам увидит сие:
Из Кенигсбергских ведомостей
(№47. 11 июля. 1807)
Бургомистр и Советник от имени всех жителей Лацена.
Установление, фуражирования для облегчения здешнего Ландманна, и продовольствие великаго числа лошадей заставили необходимо вывести отсюда стоявший здесь Ольвиопольский гусарский полк под начальством Генерала Глебова. Сердечная наша благодарность сопровождает сего истиннаго друга человечества, ибо под начальством его мы менее других областей чувствовали бремя войны. Порядок и военная подчиненность, соединенныя с человеколюбием, отличали здешний полк, и мы были бы очень несправедливы, если бы что-нибудь дурное об нем сказали. Прощай, добрый, почтенный Генерал! Твоя память будет вечно для нас драгоценна.
***Ощущение одной горести возобновляет ощущение другой, и потеря напоминает потерю. Как не позволить сердцу придаться чувствованию, его увлекающему — чувствованию прискорбному и сладостному?
6. СЛОВО, ГОВОРЕННОЕ НИКОЛАЕВСКИМ, ЧТО В ХЛЫНОВЕ, ПРОТОИЕРЕЕМ ИОАННОМ ИОАННОВЫМ РУСИНОВЫМ И КАВАЛЕРОМ ПРИ ПОГРЕБЕНИИ КАВАЛЕРСТВЕННОЙ ШТАТС-ДАМЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ ГЛЕБОВО-СТРЕШНЕВОЙ ДЕКАБРЯ 12 ДНЯ 1837 ГОДА
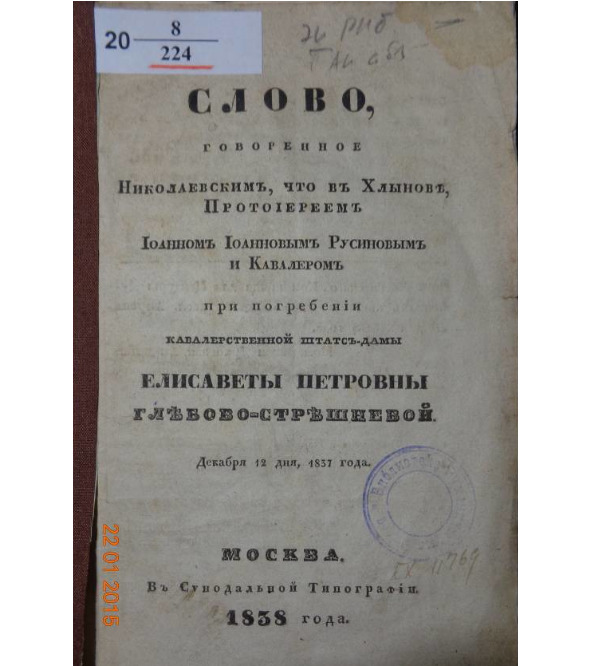
От Московского Комитета для Цензуры Духовных книг печатать позволяется.
Апреля 29 дня, 1838 года.
Московская Духовная академия.
Цензор Профессор Математики
Священник Петр Демицин
Сколь кратка самая продолжительная жизнь наша! — Она, по выражению Псалмопевца, в толь тесных заключается пределах, что вси дни наши седмьдесят лет, аже в силах, осмьдесят, и множае их труд и болезнь (Псал., LXXXIX, 10). Мы, подобно блуждающим огням, мелькающим средь темной ночи, являемся в мир сей, — блеснем, и тотчас угасаем; явимся посреде живых, и мгновенно сокрываемся во мраке смерти.
Предлежащая в плачевном гробе сем, благочестивая Болярыня Елисавета Петровна, при образованном уме имела превосходные качества души, доброе и благорасположительное ко всем сердце, пользовалась от всех уважением и особенным ВЫСОЧАЙШИМ благоволением, по которому даже пред кончиною своею была удостоена посещением Монархини; но исполнения дней, подобно светильнику при оскудении елея, медленно угасающему, угасла. И блаженна она, что в жизни руководствовалась верою, привержена была ко Святой Церкви, усердныя совершала молитвы, благоговела ко Святым Тайнам, коих неоднократным в течение года употреблением освящала себя. Блаженна; ибо милостивый Господь даровал ей кончину мирну, безболезненну, Святых Тайн причастну.
Честна, мирна и вожделенна кончина добродетельных, нераскаянных же грешников смерть люта.
Совершенно чувственный человек время почитает за ничто, и потому безрассудно тратит его на все суетное и законопреступное, — тратит — на роскошь, забавы и увеселения; тратит — и о потере онаго не мало не имеет сожаления: ибо не чувствует, что утрата времени есть убийство, где более, нежели кровь проливается; не чувствует, что с потерею времени теряется вечность, теряется душевное спасение, которого лишась, ничем искупить не льзя: что даст человеку измену на души своей? (Марк. VIII, 37).
Остановись, нечувственный грешник, в стремлении своем! Возстань от сна нерадения, и познай бесконечную трату! Безконечную, говорю я, трату: и потеряв время, приближаясь к концу жизни, не льзя уже возвратить его. Царь не пожалел бы отдать за него все царство свое: но Заимодавец неумолим, перемены срока не допускает, договариваться с Собой не позволяет и цены не приемлет. — Воззовет — и неминуемо надобно повиноваться гласу Его; надобно отдать долг естеству. — С каким же лицем предстанешь пред Него, употребя во зло все время твоея жизни? Думаешь ли сказать ему во оправдание свое, что ты предавался забавам и роскоши в пустые промежутки времени, что уступал чувственному удовольствию ничего не значущия малости, остающиеся свободными от дел твоих? Но от кого происходят промежутки оныя и малости? Не от твоего ли неискуства пользоваться златыми минутами? — Творец вселенныя, произведя из небытия в бытие все вещи, не с тем ли дал нам жизнь, и положил срок жизни, чтобы мы хотя бы малейшую часть этого срока вольны были обратить на наше развращение, на наше во зле ожесточение. Напротив повелено нам во все времена жития нашего жительствовать со страхом, (1 Петр. I, 17) стоять бодренно на стражи своей, исполнять неупустительно Христианские должности: святи будете во всем житии (15). Так оставь предрассудок свой, не обольщайся мнимыми промежутками времени, посвяти себя добродетели — и не останется в деяниях твоих малостей, а во времени промежутков; все увеличится; всякий час, всякая минута для тебя будет драгоценна.
Тит, Римский Император, вспомня в один вечер, что весь тот день прошел у него без доброго дела, что никому не оказал благодеяния; вспомня сие, ужаснулся, и с тяжким вздохом сказал предстоящим: друзья! я потерял день сей. О! Каким ужасом должны поражены быть сердца наши, если воззрим на прошедшия лета! Сколько их у нас потеряно? — День без добродели, год без покаяния, целую жизнь без всякого проводим исправления. Придет внезапу Судия, вострубит Архангельская труба, позовет на суд, — и увы! Горько, горько будет тогда проснуться!
Вот для кого смерть в ужасном виде представляется! –Кто во всю жизнь свою не готовился и не располагал себя к стерению последняго часа; кто жил — и не знал для чего; кто на подобие безсловесных наслаждался только чувственностию; златоткаными украшался одеждами, как Евангельский богач; пиршествовал и ругался над святынею как Валтасар: но никогда не размышлял о вечности; никогда не вспоминал неминуемой судьбы своей; никогда не воображал Бога, Бога воздающаго комуждо по делам; таковаго смерть, по словам Давида, люта (Псал. XXXIII, 22).
Но человек добродетельный, человек искупующий время, человек, каждый день, каждый час ознаменующий Богоугодными делами, умирает спокойно, мирно. Ибо после суетной и многим бедствиям подверженной жизни сей, надеется вступить в жизнь спокойную, вечную, блаженную. Ему спасительна смерть, как путь к вечному животу. Он даже скучает продолжением жизни: увы мне, вопияет с Давидом, яко пришествие мое продолжися (Псал. CXIX, 5). Когда приду и явлюся лицу Божию?? (Псал. XLI, 3). Он с миром возлегает на смертный одр, с праведным Симеоном вопия: ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, с миром (Луки II, 29). Он разлучается с светом; оставляет бренную плоть свою, не иначе, как мрачную темницу, и с восторгом восклицает: мне еже жити, Христос; а еще умрети, приобретение есть (Фил. I, 22). Се глас истиннаго Христианина! Посему кончина его благословенна, мирна, вожделенна.
Таковою блаженною кончиною преставилась раба Божия благочестивая Болярыня Елисавета. Она заблаговременно располагала себя к сретению грядущаго Жениха; и потому была истинная дщерь Церкви, в которой и вне оной, ежедневно усердныя приносила молитвы, строго соблюдала все церковныя постановления, благоговела к таинствам веры, к принятию которых незадолго до кончины своей приготовляла себя постом и молитвою, но не достигнув назначеннаго к тому времени, почувствовав болезнь, очистила себя исповедию, с примерным усердием приняла Св. Дары, и напутствована благодатными Церкви молитвами при помазании елеем, по желанию ея. Она искренно любила детей, находящихся при ней и пеклась о них; хоть и показывала иногда приличную строгость. Она как добрая Госпожа пеклась о подчиненных своих, и многих посторонних питала при себе.

И можно ли не жалеть о потере ея? Можно ли забыть о том Христианском добродушии, каковым расположена была ко всем! Ее приветливое и ласковое обхождение всех привлекало к себе; все любили и уважали ее: ибо она всех любила от добраго сердца.
Великий Монарх и Монархиня особенное внимание обратили на ея доблести, украсили и почтили знаками отличия, возложили на нее почтенное звание. Боже великий! Прими в недра милосердия Твоего, почившую днесь о господе Болярыню Елисавету, да вселится душа ея в селениях праведных. Аминь.
7. ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА ГЛЕБОВА-СТРЕШНЕВА
(Род. 21 Февр. 1751 +4 Дек. 1837)
По воспоминаниям внучки ея Натальи Петровны Бреверн (1)
(«Русский архив», издаваемый Петром Бартеневым, 1895, вып. 1)
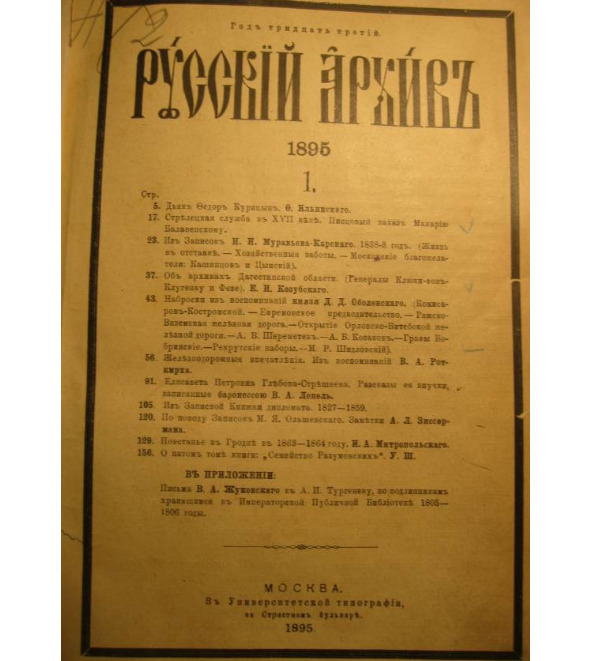
Отец Елисаветы Петровны, Петр Иванович Стрешнев, бывший ген.-губернатором в Киеве (2) рано лишился жены и из девяти человек детей сохранил только одну, младшую дочь, которую он безгранично любил и баловал. Все домашние преклонялись перед нею, и надо полагать, что самое это чрезмерное баловство развило в ней непреклонную силу воли и деспотизм, отличавшие ее до конца жизни.
Слышав, что братья и сестры умерли от болезни, которая начиналась сильной головною болью, Елисавета Петровна с малолетства пользовалась предлогом подобной же болезни, чтобы заставить слишком слабаго отца исполнять все ея прихоти. Мать ея скончалась, когда ей было только семь лет, и с тех пор гувернантки безпрестанно сменялись при ней, увольняемыя при первом желании ребенка. Однажды, во время народнаго праздника на площади перед домом генерал-губернатора, Елисавета Петровна увидала круглые качели, на которых катался народ, и вот ей непременно захотелось испытать это удовольствие. Напрасно нянюшки, гувернантки, адъютанты отца окружают ее, стараясь объяснить ей, что для нея немыслимо мешаться с этой толпой… Девочка бросается на пол, царапает себе лицо. Прибегает отец и, весь взволнованный, приказывает отнести дочь на площадь. Тем временем однако Елисавета Петровна успела придти в себя и природным чутьем поняла, на сколько каприз ея был неприличен. «Но, сама говорила она впоследствии, я также поняла, что уроню свое достоинство (ей тогда было только 9 лет), если уступлю окружающим». Итак, в сопровождении целой свиты она направилась к качелям, сделала три круга и затем тотчас велела отвести себя домой.

Дядюшка ея, князь Щербатов, при Елисавете бывший посланником в Лондоне, прислал ей оттуда куклу, которая играла большую роль в жизни ребенка и, можно даже сказать, всего дома. Кукле этой дали имя Катерины Ивановны и приставили к ней карлицу, которой было поручено ее одевать и носить ее из комнаты в комнату. Если в гостиной случалось кому-то не кланяться Катерине Ивановне, маленькая ея госпожа сердилась не на шутку и, уходя на свою половину, заставляла иногда все общество ждать себя целый час к обеду, под обычным предлогом, что «у нея болит голова». Она обыкновенно брала куклу с собой во время прогулки; но когда ей самой не хотелось выезжать, она подходила к отцу и говорила ему: «Катерина Ивановна хочет кататься». — Хорошо, матушка. Какую заложить карету? Турецкую? (3) — Нет, парадную.
Эта карета была вся вызолочена и эмалирована, с золотыми кистями и 8-ью стеклами; четверо гусар сопровождали ее верхом, с серебряными бляхами на чепраках; сзади ехало два гайдука, а спереди бежал скороход, носивший на жезле серебряный герб Стрешневых. Весь дом приходил в волнение: лакеям пудрили волосы и заплетали косы. Все суетились и приготовления продолжались не менее двух часов. Наконец Катерину Ивановну и карлицу сажали в карету, и народ, попадавшийся им на встречу, кланялся до земли.
Одна из ея гувернанток имела маленькую дочь, неотлучно при ней пребывавшую; но если эта малютка смела садиться на так называемое первое место (большия кресла, тоже привезенные из Англии), старуха-няня Аксинья Ивановна в бешенстве бросалась на ребенка. Заводился спор между гувернанткой и няней, и Елисавета Петровна, в качестве верховнаго судьи, решала в пользу последней.
Отец ея, слепо исполнявший все ея фантазии, воспротивился ей однако, когда она пожелала выйти за-муж за Федора Ивановича Глебова, вдовца, имевшаго дочь (4) от первой жены своей, рожденной княжны Дашковой. По прошествии года по смерти отца своего, Елисавета Петровна вышла за него; но на замечание приятельницы своей графини Пушкиной, доказывавшей ей, что, несмотря на все свои уверения, и она также умеет любить, Елисавета Петровна отвечала ей: «Я никогда не была в него влюблена; но я поняла, что это единственный человек, над которым я могу властвовать, вместе с тем уважая его».
Действительно, муж ея Федор Иванович Глебов (5), никогда и ни в чем не противоречил ей, разве что в нескольких важных случаях, где ему казалось, что честь его замешана. Таким образом, вопреки советам жены, он возстал против некоторых несправедливых повелений императора Павла и настойчиво просил у него увольнения от службы. В это время и под его надзором, был выстроен настоящий дворец в Тверском имении их, селе Знаменском, с филантропической целью образовать крестьян и доказать на что они способны во всех отраслях искусств: выделывании паркетов, мебели, ковров, обработок мрамора и проч. Елисавета Петровна часто делала мужу упреки на сей счет, говоря, что ему бы следовало обучать их и танцам.
Припоминают лишь один случай, когда она признала его превосходство и смирилась перед ним. Ф.И.Глебов состоял еще на службе и находился при дворе; но каждые 3 года ему давали отпуск, чтобы ехать в Покровское, наследственное Стрешневское имение, которое оба очень любили. Приезжая туда, Елисавета Петровна каждый раз заказывала себе баню в соседнем своем поместье, отстоявшем от Покровского в ¾ верстах и отделенном от него одним только парком. Господского дома там не было, и однажды Елисавета Петровна заметила вскользь: «хорошо бы иметь здесь дом». Муж на это ничего не отвечал, и они вскоре за тем уехали в Петербург. Когда через три года им снова пришлось приехать в Покровское, Елисавета Петровна по обыкновению вспомнила про свою баню: Фёдор Иванович, чтобы завтра была баня! — Хорошо, матушка! (В сохранившихся от него письмах он называет ее «своей царицей»).
Она надевает шлафор и чепчик, и, подходя к окну, видит, что мимо дома едет множество экипажей. — «Фёдор Иванович, куда все эти кареты едут?» — Не знаю, матушка. Может-быть, в Братцево, к Строгановым. — «Разве вы не дали знать знакомым, что я приехала?» — Не успел, матушка: вы знаете, как я был занят! — «Да, конечно: вы с мужиками своими все занимаетесь. Это известно!».
Она глядит при этом в свою зрительную трубку и вдруг узнает фельдмаршальшу Пушкину (которая была самым близким, может-быть, единственным другом ея). — «Как, фельдмаршальша едет мимо! Вы и ей не моли дать знать? Конечно, вы и танцмейстера не успели еще найти для ваших мужиков».
Федор Иванович молчал. Подали карету, и во все время дороги она продолжала свои колкия замечания. Вдруг экипаж останавливается перед прелестным домом. Раздаются звуки оркестра. Вверху террасы, при входе, стоит фельдмаршальша с хлебом и солью, остальное общество с цветами и конфектами. Елисавета Петровна прослезилась и, протянув руку мужу, сказала ему: «Я тебя не стою!».
Гостям захотелось танцовать. Елисавета Петровна извинялась небрежностью своего туалета. Фельдмаршальша сняла с нея чепчик и, смотря на распустившиеся до земли великолепные белокурые ея волосы, сказала ей: «Бог дал тебе украшение драгоценнее всех наших». Начался бал. Когда стали поговаривать об отъезде, Елисавета Петровна заметила своему мужу, что желала бы остаться все лето в Елисаветине, которое тут же получило это имя, пестрыми огнями сверкавшее над новым домом. — «Матушка, уже все перевезено: и ваши мопсы (которых у нея было штук до двадцати, под надзором многочисленных горничных), и ваши девушки, и ваши птички. И постель ваша готова».
С тех пор Елисавета Петровна всегда по-очереди проводила одно лето в Елисаветине, а другое в Покровском.
— — —
Одним из самых ярких примеров, обрисовывавших удивительную силу характера этой женщины, может служить история обеда у графа Остермана, ея двоюродного брата, которого она любила и уважала, хотя и презирала скромное его происхождение. Он жил в то время в Москве и давал по четвергам обеды, на которые съезжалось самое блестящее Московское общество, так же как и случайно приезжавшие знатные иностранцы. Знаменитый митрополит Платон никогда не пропускал этих обедов, которые и Елисавета Петровна так любила, что даже, находясь в последнем месяце беременности, не хотела отказаться от одного из них. Напрасно ее остерегали муж и доктор, предупреждая, чего она могла ожидать с минуты на минуту. «Воспитанныя родят, когда хотят, отвечала она. Это только бывает с простыми бабами: надо родить, так родят». Во время обеда она бледнела. Федор Иванович также менялся в лице; беспокойство, претерпеваемое им, было неописанное. Она не произносила более ни одного слова и с трудом дождалась конца обеда. Только что встали из-за стола: — «Федор Иванович, карету поскорей!» с трудом выговорила она. Дорогой он, может-быть, в первый раз, вышел из терпения в обращении с нею. — «Вы, матушка, чуть-чуть не родили при митрополите Платоне!».
По приезде домой, минут через 10 благополучно явился на свет второй сын ея, Дмитрий. Впоследствии она говорила мужу: «Я молчала во время дороги, потому что не до тебя было. Знай, что все можно, que tout depend de soi et de sa proper volonte» (6).
— —
Вот еще черты, доказывающия ее самоуверенность и неустрашимость. Она ехала однажды в монастырь Нила Столбенского, который находится на острове посреди озера Селигера. Малолетний сын ея, Петруша, кормилица последнего и горничная сопровождали ее. Подъехав к берегу, они увидели паром, которым должны были править две крестьянки; но так как начиналась сильная гроза, женщины эти отказали в своих услугах и в ответ на повелительное понуждение Елисаветы Петровны даже спросили ее: не с ума ли она сошла переправляться в такую погоду? Деньги, предлагаемыя ею, наконец прельстили их; но когда они отчалили от берега, гром и молния их до того испугали, что они в ужасе бросились на колени. — «Дуры, чего вы боитесь! Воскликнула она. Я с вами. Вы не погибнете!». И точно, они доехали до острова, где настоятель монастыря немало удивился при виде неожиданной гостьи в такую минуту.
В другой раз, Елисавета Петровна с мужем и сыном спускались с горы, подъезжая к Киеву. Карета ехала боком, под горой виднелся Днепр. Федор Иванович боялся особенно за ребенка и умолял жену выйти из экипажа; но Елисавета Петровна продолжала преспокойно обрезывать моченое яблоко и оставалась невозмутимой. Когда они съехали с горы: — «Что же, спросила она, не погибли? Погибают люди только от трусости!».
— —
Из четырех детей Елисавета Петровна сохранила только двух сыновей (7); (один сын и одна дочь умерли в малолетстве). Восприемницей старшего сына (8), родившегося, когда они жили еще в Петербурге, была сама Екатерина II. На крестильной подушке его во дворце лежал маленький офицерский мундир. В 12 лет его заставили командовать взводом в присутствии Императрицы. Он был очень красив, и старшие солдаты, нежно любившие его, указывали ему что делать и в какую сторону поворачиваться. Впоследствии он женился на княгине Друцкой; но мать его всегда считала этот брак неравным, так как князья Друцкие не занимали видного места в свете, тем менее в Петербургском обществе, которое Елисавета Петровна, гордясь именем и положением в нем Стрешневых, привыкла считать выше всего в мире. Когда, по смерти Петра Федоровича Глебова, вдова его вступила во второй брак с г-ном Лесли, Елисавета Петровна оставила при себе внука своего Федора и двух внучек, Наталью и Прасковью.
Воспитание, которое получили эти несчастные дети, в продолжение долгого времени занимало всю Москву. Строгость их бабушки была так велика, что они при ней едва осмеливались раскрывать рот; исключения бывали лишь в тех случаях, когда она находилась в особенно хорошем расположении духа, или же когда дети, вернувшись откуда-нибудь, были принуждены сообщить ей о том, что они видели и слышали.
Вечером они даже боялись подходить к свету, и молодые девушки по нескольку часов кряду вязали в темноте и распускали свою работу только для того, чтобы иметь вид, как будто заняты каким-нибудь делом. Более отдаленные родственники также подвергались подобному же страху. Сохранился напр. анекдот о княжне Елисавете Дмитриевне Щербатовой, которая со свойственной ей, даже в старости, застенчивостью, взошла однажды к Елисавете Петровне и с cамого порога начала повторять: Bonjour, ma tante; bonjour, ma tante. Дошедши наконец до нея, она поскользнулась и, вместо того, чтобы присесть, упала между двумя стульями. При выходе ея из гостиной, тетушка послала ей вслед довольно внятное восклицание: Дура! Молодой Лесли, иногда ночевавший в нижнем этаже ея дома, в комнатах сводного брата своего Федора Петровича, никогда не мог спать, потому что чувствовал над головой своей Елисавету Петровну.
Только вечером дозволялось внучатам сидеть с нею. Утром они с ею здоровались и затем должны были стоять около стола, за которым она пила кофе, приготовляемое тремя особами. Дядя их Дмитрий (9), гувернантка, воспитатель молодого Федора Петровича, управляющий, главный конторщик также присутствовали, стоя, при этом завтраке. Однажды, когда бабушка, находясь в духе, задержала их более обыкновенного разговорами, обращенными ко всему обществу, с бедной Натальей Петровною, которая всегда была слабого сложения, от продолжительного стояния сделалось дурно: ее увели в другую комнату. Но лишь только она несколько пришла в себя, как должна была вернуться на прежнее место, и никому даже не пришло на ум обратить дальнейшее внимание на ея нездоровье. После кофе Елисавета Петровна обыкновенно занималась трением табака и слушала мало интересовавшие ее доклады управляющих. Она читала весьма мало; в руках у нея видали только романы г-жи Радклиф; но она говорила с восторгом о Шатобриане и, казалось, хорошо знала его творения. Последние годы своей жизни, щадя глаза, она даже совсем не читала. В продолжении разговора никто не смел обращаться к ней с вопросами; только за обедом Наталья Петровна должна была при каждом блюде спрашивать ее: может ли она, брат и сестра взять этого кушанья? Никогда, даже при гостях, не допускалось освобождения от этой церемонии, которая, в присутствии чужих, до того стесняла Наталью Петровну, что она предпочитала довольствоваться супом и пирогом, которые позволялось есть без особенного разрешения. Брат ея, пользовавшийся хорошим аппетитом, был этим очень недоволен и в подобных случаях говаривал ей: «Это ты только хочешь прослыть малопищною, и все должны говеть вместе с тобою».
Не менее странными были маленькие детские приборы, которые подавались им чуть-ли не до 20-летняго возраста и которые однажды обратили на себя внимание почетной гостьи из Петербурга, посадившей возле себя старшую внучку хозяйки дома. На вопрос ея, что это значит, «бабенька» (10) отвечала, что это делается по старой привычке. Однако с тех пор не подавали им более маленьких приборов, и также был отменен обычай испрашивать позволения при каждом кушанье. Сколько могла припомнить Наталья Петровна, это случилось во время коронации Николая Павловича, когда к ним часто приезжали придворные особы. Обе императрицы оказывали большое уважение Елисавете Петровне, особенно Мария Феодоровна, которая обращалась с нею совершенно по-дружески.
К этому же времени вероятно относится и приезд великой княгини Елены Павловны в Покровское, когда бедные молодые девушки, по обыкновению плохо одетые, находились в саду. Испуганныя за них горничныя побежали туда с более приличными платьями, которыя он спешно надели сверх других, прежде чем явиться перед великой княгиней.
По Воскресеньям, в домовой церкви Московскаго дома, на Большой Никитской улице, у Елисаветы Петровны собирался весь Московский beau-monde, и неизвестно по какой причине бабушке угодно было, чтобы внучки ея являлись на глазах всех в старых поношенных пуховых косынках. Оне же сами приходили от этого в отчаяние и предпочли бы дрожать от холода, чем обращать на себя общее внимание. Однажды одна из горничных, сочувствуя горю своих барышень, надумала нарядить их в бабушкины шали; но Елисавета Петровна это тотчас заметила и недовольным голосом спросила: что это значит? Горничная не стесняясь отвечала ей, что невозможно долее смотреть, как все смеются над барышниными туалетами. Неизвестно, что возразила на это бабенька; но желаемой перемены не воспоследовало.
— —
Она ни за что на свете не хотела, чтобы внучки ея выходили за муж и если при ней говорили о женитьбе, никогда не упускала случая продекламировать известныя строчки Фон-Визина: «Хочешь Митрофанушка, жениться? — Давно, дядюшка, охота берет».
На все предложения, с которыми обращались к ней на счет ея внучек, она отвечала отказом или полным невниманием, называя некоторых из женихов дураками, других мальчишками, даже приказывая лакеям выгонять их. К счастию, прислуга ея была великолепно дрессирована и отличалась изысканной вежливостью. Однажды, когда г. Волков, рекомендуя ей молодаго человека, который желал сватать Наталью Петровну, выставлял в пользу его, что он получил на войне семь ран, она с обычной своей меткостью отвечала: «C est a I Empereur, et pas a moi, a recompense les invalids (11)
— —
Первый выезд в свет Натальи Петровны составляет весьма интересный эпизод в ея жизни. Это было по случаю бала у тогдашнего Московского генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына, в тот самый день, когда, после бала, произошел пожар в его доме. Во время одевания барышня, привыкшая видеть себя в уродливых костюмах и слышать как она дурна собой, не могла надивиться на самоё себя, в столь непривычном для нея наряде: в газовом платье на белом атласе, с блондами, на голове Noeud d Apollon (12) и локоны сзади. Сестра Натальи Петровны сказала ей: «Мне кажется, что ты хороша собой?» — Мне тоже кажется, отвечала на; но помнишь, m-elle Chomer (13) всегда говорила, что люди из самолюбия обыкновенно считают себя красивее, чем они есть.
По приезде на бал, молодую девушку увела в другую комнату дочь князя, графиня Протасова. Всем известна была горестная ея жизнь. Ее осыпали любезностями. Почему, думала про себя Наталья Петровна, говорят, что люди злы; напротив, какие они добрые! Все ее интересовало и возбуждало ея любопытство. Знаменитая г-жа Офросимова тотчас взяла ее под свое особое покровительство. — Елена, позвала она свою дочь, смотри, чтобы Наталья Петровна не оставалась без кавалеров. Племянники князя С.М.Голицына, Михаил и Федор, и Толстые Василий и Владимир, часто посещавшие дом Глебовых, были почти единственными ея знакомыми. Когда мимо Елисаветы Петровны проходил кто-нибудь ей неизвестный, она спрашивала: Что это за птица? Кто его мать? И т. д. Представления г-жи Офросимовой происходили в следующем порядке. Густым голосом она окликивала кавалеров: «Куда ты бежишь? Даму ищешь? Какую тебе еще даму? Внучка Елисаветы Петровны Глебовой-Стрешневой!». Бабушка приказала внучке взять и отложить для нея конфект, которыя висели над буфетом, привязанныя разноцветными лентами. Эти конфекты, на которыя только-что явилась мода, были из белаго и розоваго леденца и представляли собак и людей, совершенно в роде тех, которыя продаются теперь на сельских ярмарках. Молодая Офросимова подвела Наталью Петровну к одному из этих буфетов и за тем оставила ее, так что бедная девушка очутилась совсем одна и в большом испуге. Подходит к ней генерал и, принимая ее за девочку, говорит ей: Vous avez envie de bonbons, n est-ce pas? — Oui monsieur. — De ces chiens? — S il vous plait. Vonz aimez les chiens: c est un signe de bon Coeur (14)
Она берет довольно большое количество конфект, завертывает их в бумагу и кладет на окно, покрывая их своей шляпой.
— Comment votre grand-maman vous laisse-t-elle ainsi toute seule dans la salle si jeune et si inexperimentee? — Monsieur? J ai 18 ans! — Vraiment? J en suis tres etonne. Dans quelques annees vous prendriez ma surprise pour un compliment (15)
При конце бала Наталья Петровна передала свой пакет бабушке, которая осталась очень недовольна его объемом. Comment! Tu as pris tout cela? — Un general me l a donne! — Quel general? (16)
Наталья Петровна, которой имя генерала было тогда неизвестно, узнала позднее, что этот самый генерал (Сипягин) напрасно пытался всеми силами найти доступ в дом Елисаветы Петровны, желая жениться на ея внучке, простодушие которой его пленило. Он доверился в этом фельдмаршальше Каменской, прося ее достать ему письменное согласие Натальи Петровны, чтобы затем просить ея руки через Государя, у котораго он был в большой милости. Фельдмаршальша за это не взялась, и дело тем и кончилось.
Елисавета Петровна очень редко выезжала, особенно в последние годы своей жизни. Однако она охотно обедала у знакомых и сама давала четыре больших обеда в год для важных лиц города, как митрополит и т. п. За-просто у нея часто обедало несколько человек, также собирались гости в Субботу после всенощной; но в остальные дни у нея редко бывал кто-нибудь вечером, за исключением двух-трех proteges или некоторых из монахов Симонова монастыря, которые служили в ея домовой церкви. Она в это время занималась вязанием снурка, раскладыванием пасианса или же играла в тогдашнюю игру baguenaudier (17). Можно себе представить, что разговор был не слишком оживленный, так как все привыкли дрожать перед нею. Самые простые дела производились потихоньку, что сильно не нравилось Наталье Петровне. Однако она сама иногда поддавалась общему примеру и летом в Елисаветине и Покровском без ведома «бабиньки» вставала в 4 часа утра и ходила гулять по лесу, унося с собою сочинения Ламартина, Псалтырь или трактат Циммермана об «Уединении».
— —
Домашняя прислуга была очень предана молодым господам, особенно Наталье Петровне, и в знак этой преданности часто приносила им подарки в роде саек и калачей (конечно опять же потихоньку). Всеобщий страх, царивший вокруг них, был причиной и следующей сцены, которую Наталья Петровна, еще в старости, рассказывала так живо и наглядно, что казалось будто видишь все это пред собой. Один из монахов, о которых мы говорили выше, отец Виктор, сочинитель прекрасной церковной музыки, которую еще долго после этого пели в Симоновом монастыре, пришел однажды в нижний этаж, где жили внучки Елисаветы Петровны, чтобы слышать игру на фортепиано приятельницы их г-жи Васильчиковой. Бабушки не было дома. Вдруг раздается какой-то шум, и все воображают, что это Елисавета Петровна возвратилась домой. Панический страх овладел всем обществом; кто бросается в одну сторону, кто в другую. Главная забота: куда спрятать несчастнаго Виктора, и его почти вбрасывают в соседнюю комнату компаньонки. — Ведь это побег Наполеона, восклицает он: второе пришествие! Но там будет милость, а здесь ея нет. В конце же концов то была лишь фальшивая тревога, вызванная тем, что кто-то вошел в первую комнату.
Главный любимец Елисаветы Петровны, существо самое близкое к ней, был Калмык Павлов, котораго князь Волконский, генерал-губернатор в Сибири, прислал ей в подарок еще молодыми к которому она привязалась до необыкновенной степени. Когда императрица Мария Федоровна в последний раз посетила ее и спросила, что может сделать ей в угоду, она не подумала ни о чем другом и тотчас выпросила для своего Калмыка офицерский чин (18).
— —
Суровый характер Елисаветы Петровны заметно укротился на склоне ея жизни; тем не менее дисциплина и трепет, возбуждаемые ею, оставались всегда в одинаковой силе. Быть может, отчасти этому следует приписать примерный порядок, господствовавший в ея доме и между ея прислугой. Последняя содержалась прекрасно; но щедрая с одной стороны, Елисавета Петровна, будучи плохо знакома с делами и с ценою денег, иной раз казалась скупой и сожалела, когда ей приходилось истратить какой-нибудь четвертак. В доме ея проживал целый штат барских барынь, которыя, наряженныя в огромные чепцы с большими бантами, кланялись ей до земли, когда она проходила мимо них, во время шествия своего в домовую церковь.
— Точно складные ножи! Говорил внук ея Федор Петрович, которого преувеличенный аристократизм бабушки перебросил в противоположный лагерь демократических понятий. Ему она также ни за что не хотела позволить служить, и когда он настойчивостью своею достиг желаемого позволения, запретила ему по крайней мере требовать себе нужныя на то бумаги. — «Вдруг Стрешнев будет искать каких-то бумажек, чтобы доказать свое дворянство! говорила она. Бумажечки нужны какому-нибудь булочнику (19); для Стрешнева оне лишния». Государь Николай Павлович, узнав об этом, посмеялся над новой выходкой старухи и приказал именным повелением выдать все бумаги молодому Глебову-Стрешневу, безо всякаго с его стороны прошения. — Вот вам доказательство, что значит conserver sa dignite (20), сказала Елисавета Петровна тем, кто прежде советовал ей уступить обще-принятому закону. Тоже самое сделала она по поводу своих внучек, метрических свидетельств которым она ни за что не хотела выправлять.
— —
Несмотря на преходящия всякую границу гордость и высокомерие ея, Елисавета Петровна проявляла иногда признаки глубокой чувствительности, не могла слышать без слез о каком-нибудь трогательном случае, была ласкова к детям и к больным и отличалась верностью в дружбе. Она питала особенную любовь к двоюродной сестре своей Софье Матюшкиной, вышедшей за графа Виельгорскаго (21) и любовь свою к ей перенесла на несколько поколений этого семейства, выходившаго из ряду всех своими талантами и самыми редкими качествами ума и сердца. Иногда ей случалось сознаваться в слишком большой строгости к своим внучкам. Старику Обольянинову, упревкашему ее в этом, она рассказывала про свое детство, про баловство, принесшее ей столько зла, и прибавляла: «Я чувствую, что я изверг и не желаю, чтобы они были такия же».
На счет некоторых вопросов можно даже сказать, что она для своего времени имела либеральные понятия. «Людьми нельзя торговать, говорила она: они для нас все равно что дети». Крестьяне платили ей 7 рублей с души и когда, чтобы помочь в беде графине Пушкиной, она заложила 2000 душ, и ей советовали набавить оброка, она отвечала: никакой тут не будет справедливости. Говоря о своих предках, она прибавляла: «Вот настоящее величие, что ни один предок ничем не замаран, никаких басесов не делал».
В старинном ея доме на Никитской находилось, кроме бюста, несколько ея портретов; но, как кажется, не слишком похожих. В Лидербахе (22) существовала маленькая акварель, изображавшая ее старую и сухую, с замечательно жестким и решительным ртом, в лиловой блузе и простом чепце, но с портретом как статс-дама, и орденом Св. Екатерины на груди. Она была ростом выше средняго и всю жизнь очень худая. Голубые глаза ея были прекрасны, а кожа так нежна и прозрачна, что сквозь нея виднелись все жилы. Окружающие до того изучили ея физиономию, что когда одна из этих жил, лиловенькая, под левым глазом, начинала вздрагивать, он знали, что это признак возрождающегося гнева. Взор ея, по рассказам их, становился в то время «ошеломляющим» (23). Управляющий Николай Иванович называл действие этого взора «точно поленом по спине». Она говорила самыя беспощадныя вещи, но без малейшего возвышения голоса. «Кричат одни только мужики и бабы», гвоорила она. В городе она одевалась всегда безукоризненно, по последней моде; в деревне-же носила туалеты, запоздалые на 50 лет.
Не менее поразительна была противоположность, которою отличилась манера ея: в обществе оне были самые благородныя, так что привозили к ней молодых девушек учиться как держаться в свете; в семейном же кругу, особенно когда она была не в духе, речь ея пересыпалась вовсе не изысканными выражениями (как-напр., такая-то дура то-то сказала, с чего она взяла), также пословицами и народными поговорками. Она допускала в интимный кружок свой особ далеко не утонченнаго тона и давала своим горничным прозвища в роде: Дурочка из переулочка и т. п. Но когда она принимала в своей гостиной, это была настоящая «grande dame», в приеме своем одинаково вежливая и обходительная со всеми (24)
Имя Стрешневой она снова приняла и прибавила к фамилии мужа уже после смерти последняго, унаследовав его от двоюродного брата, который в молодости, говорят, был влюблен в нее, а в последствии ее ненавидел. Состояние этого двоюроднаго брата также перешло к ней, между тем как она отказалась с высоким бескорыстием от другаго великолепнаго наследства: родоваго имения, следовавшего ей от дяди, который по завещанию своему, вопреки закону, оставил его жене своей. Елисавета Петровна даже не подумала отстаивать своих прав, говоря: «В Стрешневском роде процессов не делают». Она пожелала только выговорить себе вышитое каменьями платье прабабушки своей, царицы Евдокии Лукьяновны; но тетушка на это отвечала: «Сама буду в нем в маскарад ездить». Из семейных драгоценностей она отдала только крест, жалованный Петром Великим за Азовский поход стольнику Ивану Родионовичу Стрешневу, с подписью о том. Впоследствии тетушка эта вышла за молодаго мужа, который ее бросил, стала продавать полученныя драгоценности, о чем в семействе Стрешневых узнали слишком поздно. В числе вещей, которыми особенно дорожила Елисавета Петровна, находился образ Тихвинской Божьей Матери, относящийся к ея рождению. Киевская монахиня посоветовала ея матери, у которой, как мы уже говорили, умирали все дети, купить этот образ и благословить им новорожденную, обещая от имени последней, что она никогда с ним не разстанется. Ребенок, наша Елисавета Петровна, остался жив и исполнил обещание матери, никогда не расставаясь с иконой, которая хранилась завернутая в парчевое покрывало и находилась близ нея и во время ея смерти. Случилось однажды, что, путешествуя по Тверской губ., Елисавета Петровна забыла этот образ у Петра Хрисанфовича Обольянинова и чуть-чуть не утонула, поехав обратно за ним. До самой смерти она, в день рождения, всегда надевала новое платье, атласное или бархатное, какого нибудь яркаго цвета: краснаго, желтаго или голубаго, юбку которого не кроили, но только загибали, чтобы платье потом могло служить для церкви. Елисавета Петровна была суеверна и обращала внимание на все приметы. Ей кто-то советовал чаще читать Тропарь и Кондак Св. Великомученице Варваре, как помогающие в часе смертном, и по странной случайности она умерла в день именно этой святой (4-го Декабря). Двор был в то время в Москве, и императрица навестила ее за несколько часов, что казалось как будто оживило ее.
Большую часть переданных здесь рассказов она иногда сама любила вспоминать в тесном кружке, но только не в присутствии своих внуков. В ней угас тип, может-быть еще не совершенно исчезнувший на Руси, но, с тех пор уже не проявляющийся в такой силе: смесь самых противоположных качеств и недостатков, утонченной цивилизации и первобытной суровости, Европейской grande-dame и до-Петровской барыни; один из последних образцов старинного самодурства только без обыкновенно сопровождающих его вспышек и взбалмошности; это олицетворение какого-то систематического самодурства. Судя так метко о бабушке своей, Наталья Петровна Бреверн, прелестнейшая старушка, не сохраняла однако никакой горечи от тяжелых годов своего детства и юности. Она рассказывала о них совершенно беспристрастно, но в то же время увлекательно, с улыбкою на добрых, умных устах своих.
Баронесса В. Лепель
Москва, 1894 года.
P.S. После ея смерти были найдены бесчисленныя драгоценности; одних табакерок оказалось 300, из которых 80 золотых. Грановитая Палата желала приобрести большую часть оставшихся исторических памятников. У наследников Елисаветы Петровны до сих пор хранится великолепный туалет en vermeil, подаренный императрицей Елисаветой Петровной одной из Матюшкиных, и много других дорогих и интересных предметов. К сожалению, многия серебряныя вещи, как-то декорации, карет и т.п., были расплавлены по приказанию внука Елисаветы Петровны, желавшаго истребить аристократические предания Стрешневых. «Мне эти Стрешневы надоели сверх головы» говаривал он. Многое было роздано, многое продано. Сестра Натальи Петровны Бреверн, большая богомолка, доставшееся ей отдала монастырям и священникам и из целого мешка жемчуга и дорогих каменьев заказала митру для архимандрита.
(1) Переведено для «Русского архива» с французской неизданной рукописи — П.Б.
(2) Генерал-аншеф (1711—1771), Петр Иванович Стрешнев, потомок брата первой царицы Романовой, Евдокии Лукьяновны, женатый на Наталье Петровне Яковлевой (+1758), отец которой Петр Петрович Яковлев был одним из любимцев Петра Великаго. Сестра Петра Ивановича Стрешнева, родная тетка героини настоящего разсказа гр. Марфа Ивановна (1698+1781) — супруга славнаго гр. А. И. Остермана — П.Б.
(3) Так называли любимую ея карету, en laque Martin, с турецкими узорами.
(4) Эта дочь, Александра Федоровна, вышла замуж за князя Дм. Мих. Щербатова (сын историка); мать памятной Московскому обществу княжны Елисаветы Дмитриевны Щербатовой. Она же — бабка известного П.Я.Чаадаева. — П.Б.
(5) Ф.И.Глебов, ген.-аншеф, Александровский кавалер, род. в 1734, ум. в 1799 году — П.Б.
(6) Что все зависит от себя и от собственной воли.
(7) В 1803 году, уже по кончине их отца (+1799), Елисавета Петровна выхлопотала им фамилию Глебовых-Стрешневых — П.Б.
(8) Это отец Натальи Петровны Бреверн — П.Б.
(9) Умерший в 1838 году холостяком. Мать никогда не позволяла ему ни жениться, ни служить (он был только причислен к какой-то службе в Москве). Он жил во флигеле большого дома на Никитской и часто отговаривался болезнью, чтобы не являться к матери и не подвергаться такой же дисциплине, как его племянник и племянницы.
(10) Так звали ее внуки до конца своей жизни.
(11) Государю, а не мне, подобает награждать инвалидов.
(12) Модная в то время прическа, называемая Аполлоновым узлом.
(13) Бывшая их гувернантка.
(14) Вам хочется конфект, не правда ли? — да. — Этих собак? — Пожалуйста! — Вы любите собак: это означает доброе сердце.
(15) Как это ваша бабушка оставляет вас одну в зале, такую молоденькую и неопытную? — Мне 18 лет! — Неужели? Это меня удивляет. Через несколько лет вы бы приняли мое удивление за комплимент.
(16) Как, ты взяла все это? — Мне это дал генерал. — Какой генерал?
(17)
(18) Он был еще жив в 1874 году.
(19) Под этим именем обозначался будущий командир ея внука, Зас, древнее, хотя и не-Русское, происхождение котораго могло бы избавить его от подобного титула.
(20) Сохранить свое достоинство.
(21) Это мать известных графов Михаила и Матвея Юрьевичей.
(22) Лидербах — поместье Бревернов, близ Франкфурта на Майне, где, в 1874 г., записывались эти воспоминания.
(23) «Тerrassant», как выражалась Н.П.Бреверн.
(24) В доказательство этого припоминается еще, как Елисавета Петровна приняла Французскую актрису, имевшую к ней какую-то просьбу, и затем проводила ее до дверей как самую знатную гостью, объяснив на чей-то вопрос об этом, что все переходящие порог ея гостиной во время своего посещения делаются для нея равными.
В 3-м выпуске «Руского архива» за тот же 1895 год под рубрикой «Поправки и заметки» к статье о Е.П.Глебовой было сделано следующее примечание:
Маститый археолог наш, А.А.Мартынов, знавший близко внука Е.П.Глебовой, Федора Петровича Глебова, доставил нам нижеследующие строки об этой статье.
«В примечании, в конце статьи „Елисавета Петровна Глебова-Стрешнева“ значится, что после ея смерти, по приказанию внука ея, многия серебряныя вещи были уничтожены из желания истребить аристократическия предания Стрешневых. Вероятно память на этот раз изменила достопочтенной сестре Ф.П.Глебова (со слов которой написана эта статья) или до нея дошли в чужие края неверные слухи. Подобнаго ничего не происходило. Это я могу засвидетельствовать, будучи с давних лет знаком с Федором Петровичем Глебовым-Стрешневым и бывая у него чуть не каждый день. Напротив, он любил и уважал старину Русскую и не променял бы свою фамилию „Глебов-Стрешнев“ ни на графский, ни на княжеский титул».
12 января 1895.
8. В.Г.АВСЕЕНКО
«ГЕНЕРАЛЬША»
Рассказ
(Исторический вестник. 1909. Т. 118. №11)
I
К длинному двухэтажному дому на Большой Никитской, принадлежавшему известной всей Москве Лизавете Петровне Глебовой-Стрешневой, подъехала огромная карета на круглых рессорах, запряженная четвернею. Из кареты проворно выскочил молодой человек невысокаго роста, в куньей шубе и собольей шапке. Швейцар, в потертой ливрее с басонами и гербами, раскрыл перед ним стеклянную дверь.
— Есть гости? — спросил молодой человек, сбрасывая шубу.
— Никак нет-с, — ответил швейцар. — Монахов только пропустила из Симонова монастыря. А настоящих гостей нет.
И он как бы с недоумением оглянул посетителя, стараясь дать объяснение и его приезду, и парадной карете четверней, и коричневому фраку с точеными из черепахи пуговицами, и модным высоким ботфортам с кисточками. На лице стараго слуги мелькнула и тотчас исчезла едва приметная усмешка.
«Почитай, что и этот свататься приехал, — решил он про себя: — По всему видно, что так. А то что бы ему в незваный день жаловать?»
От верхней площадки лестницы перевесилась невысокая фигурка калмыка, в казакине военного покроя.
— А, его благородие! Не произвели еще в следующий чин? Все еще в подпрапорщиках состоишь? — крикнул, подымаясь по ступенькам, посетитель.
— Так точно-с, — ответил калмык.
— Да неужто вправду ты офицер? — продолжал молодой человек. — И кто это мог тебя произвести?
— По милостивому соизволению вдовствующей императирицы, в снисхождение к личному ходатайству ея превосходительства Елизаветы Петровны, — объяснил калмык, скаля свои крупные белые зубы.
— Диковинное дело! — произнес гость. — Кабы не в этом доме, не поверил бы.
Его, москвича, удивлял такой случай. А прапорщик действительно был калмык, подаренный Глебовой-Стрешневой князем Волконским, бывшим генерал-губернатором в Сибири. Прозвали его Павловым. Он приобрел чрезвычайное доверие Лизаветы Петровны, и та, желая вознаградить его за верную службу, выхлопотала ему у императрицы Марии Феодоровны первый офицерский чин. Но, чтоб он не прислуживал у нея в доме в военном мундире, сейчас же взяла для него отставку.
— Прикажете доложить: Василий Андреевич Нечаев? — спросил калмык, не уверенный, что он твердо знает имя гостя, всего только несколько раз появлявшегося в доме.
— Постой, ты мне скажи раньше: генеральша что делает? Монахи какие-то сидят у нея? А барышня Наталья Петровна внизу? — спрашивал гость, идя по большой и холодноватой зале на шаг впереди калмыка.
— Барышни обе наверху, а генеральша в образной, духовную беседу ведут, — объяснил Павлов. — Новый напев пробуют.
— Какой новый напев?
— Монастырский. Я не знаю, мне дворецкий говорил.
Нечаеву показалось, как будтов самом деле откуда-то доносились осталенные (отдаленные?) звуки церковного пения.
«Кстати или некстати?» — подумал он.
Он шел дальше через ряд комнат. Навстречу ему то и дело попадались какия-то приживалки разнаго возраста, плохо одетые мужчины, слонявшиеся тут без всякого дела, и множество прислуги, ходившей по струнке и одетой в старенькое дешевое платье. Население дома, повидимому, было огромное, и на нем лежал отпечаток той крайней строгости, какою отличалось управление Лизаветы Петровны Глебовой-Стрешневой, вдовы генерал-аншефа и представительницы старинного рода, из именитейших когда-то в Москве.
В большой угловой гостиной калмык подвинул посетителю кресло и удалился, сказав, что доложит генеральше.
Нечаев сел и голянулся. Высокая, светлая и холодная комната имела важный и неприветливый вид. Напрасно улыбались со стен портреты напудренных красавиц из рода Стрешневых, их круглыя лица с круглыми глазами и яркими губами не рассеивали впечатления какого-то жуткаго, величаваго пустодомства, веявшего от скупого и важнаго убранства комнаты. Чувствовалось, что сухая, жесткая, бедная человеческими радостями жизнь притаилась в складках штофных драпировок и в резной позолоте мебели и зеркал.
И Нечаеву почти жутким показалось сознавать себя здесь, в этих суровых стенах, под неподвижными взглядами напудренных мужчин и женщин, словно насмешливо глядевших на него из позолоченных рам.
И зачем он здесь? Чтобы свататься к старшей внучке, хорошенькой Наташе… Какая смелость!
Разве он не знал, что строгая бабушка, Лизавета Петровна, не хочет выдавать их замуж? Вся Москва рассказывала, как она грубо отвживала всяких искателей, чуть не приказывая лакеям гнать их из дому. Еще недавно, когда ея старинный знакомый, всеми уважаемый Волков, попытался присвтать своего приятеля, получившего несколько ран в наполеоновских войнах и замеченнаго при дворе, Лизавета Петровна ответила с сухою надменностью:
— C est a l empereur, et pas a moi, a recompensez les invalidеs.*
Эта Глебова-Стрешнева никого не считает себе равным. В ея роду была царица, супруга царя Михаила Федоровича. Она свою невестку, покойную мать Наташи и Паши, рожденную княжну Друцкую, почти не признавала за родню, потому что Друцкие, хотя и князья, казались ей недостаточно важными для Стрешневых.
А он — только Нечаев, простой дворянин. Будет прямо смешно, когда он станет говорить Лизавете Петровне, что наташа ему нравится, что он готов посвятить свою жизнь ея счастью.
Что ей счастье внучек? Она понимает его по-своему.
И от этого раздумыванья на молодого человека нашла такая робость, что он готов был убежать и никогда более не показываться в этом угрюмом доме.
Но лакей распахнул обе половинки дверей, и на пороге гостиной показалась сама Лизавета Петровна, в сопровождении трех любимых, толстых, отяжелевших от старости мосек.
*Это дело государя, а не мое, вознаграждать инвалидов.
II
Немного повыше средняго роста, худая, с землистым цветом лица и седыми волосами, бабушка казалась еще живою и бодрою. На ней было старого покроя лиловое шелковое платье, и на груди портрет государя в медальоне и знак екатерининского ордена. В молодости она могда быть красивой, но теперь в лице ея не было добродушной ласки, которая красит седину и морщины. Сухия черты и строгие, взыскательные глаза ничего не выражали кроме суровой непреклонности. Тонкия, поджатыя губы с опущенными книзу углами говорили о надменной властности характера.
Наружность выдавала женщину, выразившуюся однажды о своем муже:
— Я пошла за него замуж потому, что это был единственный мужчина, котораго я могла подчинить своей воле, не переставая уважать его.
Нечаев при входе Лизаветы Петровны поспешно встал и подошел к руке.
— Садитесь, сударь. Не от поздней ли заехали? Я сегодня согрешила, не поехала, — приветствовала старушка гостя. — А хорошо в Симоновом. У них свое пение.
Нечаев, хоть не был у обедни, но догадался скрыть это и извинился, что позволил себе приехать не в приемный день.
— Посещение мое имеет особую цель, — предупредил он.
Лизавета Петровна бросила на него косой взгляд, но как бы пропустила его слова без внимания.
— Какия по Москве новости-то? Рассказывайте, сударь, — предложила она.
Нечаев, волнуясь, решительно не знал, что на это ответить.
— Признаюсь вам, что в настоящее время мысль моя равнодушна к тому, что совершается в окружающем мире, — произнес он наконец. — Все мои помышления направены к одной цели…
На тонких губах старушки появилась высокомерная усмешка.
— Чтой-то вы, сударь, издалека начинаете, — сказала она. — Уж не женихом ли к нам пожаловали?
— Дозволил себе такую смелость… — проговорил, теряясь, Нечаев.
— К Наташе свататься приехали?
— Был бы счастлив, удостоившись разрешения…
Лизавета Петровна откинулась на спинку кресла и обвела гостя надменным, властным и уничтожающим взглядом. Об этом взгляде ее управляющий выражался, что она может им словно поленом по спине ударить.
— Так, так… — произесла она, постукивая маленькой, сухой рукой по подлокотнику кресла и не сводя с гостя насмехающегося взгляда. — Это как у Фонвизина в его комедии: «Хочешь, Митрофанушка, жениться?» — «Давно, дядюшка, охота берет». Вот и вам тоже впало в голову. Внучка-то у Лизаветы Петровны — невеста хоть куда. А только подумали ли вы, сударь, с какой стороны вы моей внучке пара? Мне, вот, доложили о вас: Нечаев. Ну, знаю, много в Москве Нечаевых. А кто такие? Матушка-то ваша кто была? И не слыхала никогда. А Наташа-то моя, слава Богу, никто другая, как Глебова-Стрешнева. Стрешневскую родословную всякий дворянин знает. В нашем роду и царица была. Так вот что, сударь. Сказала вам прямо, потому что сами на то назвались. Невест в Москве много, только у меня вам искать нечего. И если в другой раз моя прислуга откажет вам от дому, не взыщите. А я всяким таким глупостям не потатчица.
Лизавета Петровна проговорила все это ровным, властным тоном, не повышая голоса. И только синеватая жилка под левым глазом у нея слегка вздрагивала, чем всегда обнаруживалось зкиппавшее гневное волнение.
Нечаев сидел бледный, подавленный. Он даже не испытывал желания ответить старухе какою-нибудь дерзостью: в Москве уже привыкли благоговейно принимать ея грубости, не оскорбляясь, а только уясняя себе разстояние, отделявшее простого дворянина от Глебовых-Стрешневых.
Жирный мопс, забившийся под креслом старухи и нестерпимо сопевший, вдруг раскашлялся, визгливо захлебываясь, словно у него был коклюш. Боковыя двери быстро раскрались, в комнату вбежали, как ошалелыя, две женщины, подхватили мопса на руки и унесли…
— Вы тут с морозу, вот оттого и Джипинька раскашлялся, — с неудовольствием сказала Лизавета Петровна и встала.
— Простите… — промолвил окончательно растерявшийся Нечаев.
Он расшаркивался, отступая к выходу. Лизавета Петровна, не обращая на него внимания, удалилась в другия двери.
В большой зале Нечаев схватил себя обеими руками за голову.
— Что ж это такое! Ведь ошельмовала, в полном смысле ошеьмовала человека1 — подумал он с тоской, но не чувствуя никакой злобы к оскорбившей его женщине. Напротив, он готов был сам себя презирать за то, что позволил своим мечтам так высоко занестись.
Он приметил выглядывающую из коридора белокурую голову мальчика лет пятнадцати. То был брат Наташи.
— А, Федя! — поманил его Нечаев. — Как, брат, поживаешь?
Федя потряс головой, давая знать, что без разрешения бабушки не может выйти в залу к постороннему человеку.
— Да, брат, бабушка у нас — ой-ой! — сказал внушительно Нечаев. — Так меня сейчас отчитала, что больше мы и не увидимся. Ты, брат, держи ухо востро!
Он осторожно подошел к двери и одним глазом заглянул в коридор.
— Наташи нет? — спросил он шопотом.
Федя взглянул на него точно с испугом и тотчас отбежал.
Нечаев только теперь заметил, что коленки у него дрожат. Он постоял, обвел глазами стены и вздохнул.
— Да, есть баре и в Москве, — произнес он мысленно, и торопливо, как-то странно подпрыгивая, вышел на лестницу, спустился, молча кивнул калмыку и влез в свою карету, так некстати заложенную парадной четверней.
III
Федя прошмыгнул по коридору в буфетную. Старый Филипп, в ливрейном фраке, только что внес туда от Лизаветы Петровны огромный серебряный поднос с чашками и вазою печений.
— Филиппушка, дай крендельков… — попросил Федя.
— Что вы, сударь, как это возможно, — отказал буфетчик. — Не приведи Бог, бабушка узнает…
— Да я вниз снесу.
— Нельзя, сударь. Сами знаете положение. Лучше не вводите нас в грех.
А Феде очень хотелось есть. Все дети в этом доме всегда хотели есть, потому что за завтраком и за обедом должны были спрашивать разрешения бабушки, чтобы прикоснуться к блюду. Это за всех делала Наташа, как старшая. Но ей очень не нравился такой порядок, и она предпочитала отказываться от половины кушаний. Давать же детям что-нибудь в неурочное время было строжайше запрещено.
Потоптавшись в коридоре, Федя спустился во внутренней витой лестнице вниз.
Там были детския, классныя, комнаты гувернанток и некоторых приживалок и «барских барынь», как называли главных из них.
Обе сестры стремительно бросились к брату.
— Мы смотрели в окно… ты ведь не скажешь бабушке? Это Нечаев приезжал В карете цугом. Не слышал наверху, зачем? — заговорили оне сразу.
Федя оглянулся и, наклоняясь к Наташе, выразительно моргнул бровями.
— Маремьяна Петровна сказала. Она подслушивала. Только не проговорись бабушке, — шепнул он.
— Сватался? — переспросила Наташа так тихо, что Федя понял вопрос только по движению ея губ.
Он утвердительно мотнул головой.
— Я его в зале видел. Бабушка, говорит, так меня отчитала… И уж больше не придет к нам, — сообщил он.
Наташа ничего не сказала. Что-то пробежало по ея полудетскому лицу, словно она думала и недоумевала.
— Мне он нравился; но я еще не могу понимать этих вещей, — произнесла она с забавной серьезностью. — Если бабушка ему отказала. Значит она знает что-нибудь.
— Бабушка всем отказывает, — возразал Федя.
— Потому что все люди гадкие, злые. Она сама столько раз говорила об этом, — напомнила Наташа.
— Вовсе не все гадкие. Нечаев совсем не гадкий. А я знаю, почему бабушка не хочет, чтобы ты была невестой, — неожиданно сказал Федя.
— Почему?
— Потому что невесте надо шить наряды. Невесту нельзя водить вот в таких старых платьях и рваных пуховых платках.
И мальчик с брезгливой гримаской дернул за складки платка и провел пальцем по заштопанному лифчику сестры.
Наташа покраснела. Ее до боли смущало это затрепанное люстриновое платьице и этот протертый пуховый платок, в которых ее неизменно водили в будни и в праздники и даже показывали гостям. Она знала, что все бывавшие в доме смеялись над этим нищенским нарядом, и ея самолюбие очень страдало. Но она не допускала сомнения, что так почему-нибудь нужно.
— Бабушка говорит, что мы не должны приучаться к роскоши, — сказала она. — Знают же все, что она очень богата, и могда бы одевать нас как принцесс.
— Мы и без того принцессы. Стрешневы еще больше, чем принцессы, — неожиданно вмешалась младшая сестра.
— А бабушка делает это из скупости, — убежденно решил Федя.
Наташа бросила на него укоризненный взгляд, но сейчас же потянула его к себе за руку и заговорила взволнованным шопотом:
— Ты знаешь, что вчера Луша сделала? Она слышала, как все над нами смеялись, и целый час проплакала в девичьей, а потом вдруг все рассказала бабушке. Все, все: и какие о нас пересуды идут, и как людям обидно, что наших барышень точно нищенок водят.
Горничная Луша, вошедшая в эту минуту в комнату и слышавшая последние слова разговора, досадливо передернула плечом.
— Как есть, все и рассказала, — подтвердила она. — Потому что уж очень меня жалость взяла. Не побоялась. Только что же из всего того? Разве бабушка кого послушает? Моргнула только этак грозно бровями и приказала уйти вон.
— Ах, я, кажется, умерла бы от страха… — прошептала Наташа.
— Срам, одно дело срам. При этаком-то богатстве, да в таких платьишках барышень водит — срамота! — продолжала Луша. — Прошлое-то лето, как в Покровском жили, помните что было?
— Это когда великая княгиня Елена Павловна к нам приезжала?
— Вот то-то. Приехала великая княгиня, да прямо в сад. А в саду-то вы играете, а на вас платьица из полинялой хостинки, рваныя, мятыя-перемятыя — не глядеть бы. Мы с Марфушей перепугались: как, думаем, барышень такими чумичками великой княгине показать? Побежали мы скорее в комнаты, схватили какия есть чистыя платьица, вот которыя к причастию вам шили, да и потащили их в сад. Там скоро-наскоро напялили их на вас поверх хостинковых, подпоясали лентами, да в таком виде и вывели вас к великой княгине. А кабы мы не догадались, что сраму-то было бы! Шутка сказать — увидала бы великая княгиня, как Стрешневых барышень в затрапезном водят…
Наташе было и смешно и обидно.
— Бабушка хочет, чтоб нас держали просто, — сказала она.
— Да уж чего проще, — подхватила Луша. — А откуда эта простота у нея? Все от скупости да от большой собственной важности. Чтоб все для нея, а другие чтоб и равняться с нею не смели… Собственые внучки чтобы рядом с нею последними замарашками себя чувствовали.
— Ах, Луша, — какая ты злая, — вступилась за бабушку Наташа.
— Ничего я не злая, а как понимаю, так и говорю. Жалость-то во мне тоже есть.
За стеной как будто скрипнула половица. И Луша, и обе сестры, и Федя стремительно бросились врассыпную. Торопливо ворвалась в комнату старая гувернантка, швейцарка Шомер, с книгою в руке. Барышни присели к окну и схватили лежавшее на подоконнике вязанье. Федя кинулся стремглав к себе.
Появилась Лизавета Петровна. Она тихо подошла к внучкам и осмотрела их работу.
— Вот это хорошо, что m-lle Шомер не позвояем вам оставаться в праздности, — сказала она по-французски. — Вы получаете строгое воспитание, которое сделает вас счастливыми.
— Я во всем следую вашим указаниям, — промолвила швейцарка, повторяя уже сделанный ранее почтительный реверанс.
— Иначе я и не доверила бы вам воспитание моих внучек, — сказала Лизавета Петровна. — Я знаю, некоторые находят, что я их держу их слишком в большой строгости. Но я имею на то свои основания. Я испытала на себе самой, к чему ведет баловство. Для моего отца я была божеством: он не отказывал самым глупым моим капризам. И что же получилось? Я сделалась извергом. Да, да, я сама понимаю, что я — изверг. Потому-то я и не хочу, чтоб оне выросли похожими на меня.
— Oh. Madame! — протестовала m-lle Шомер.
Лизавета Петровна еще раз оглядела внучек и, ничего не сказав им, тихо и величественно вышла из комнаты.
IV
Среди московскаго общества 20-х годов Лизавета Петровна Глебова-Стрешнева занимала исключительное положение. Не очень много выезжая и не часто принимая у себя, она была известна всей Москве, как самая знатная, вельможная и своенравная представительница минувшаго века. Ее окружало не только всеобщее почтение, но и боязливое угодничество. Все знали, что характера и режимости у нея больше, чем у любого мужчины, и что она никогда не постеснится высказать в лицуо каждому все, что ей захочется. Ея непозволительные резкости давали пищу московским анекдотистам. В этом отношении с нею могла поспорить только известная офросимова, от которой бегали за версту, чтоб не попасться ей на язык.
Но Офросимова была груба по врожденной прямоте характера. Глебова-Стрешнева, напротив, имела утонченное воспитание, зачитывалась Шатобрианом, и все ея резкости происходили от сознания, что перед Стрешневыми всякие остальные дворяне были так ничтожны, что не стоило с ними считаться.
Это был любопытный пример прозвольнаго самовозвеличения, вполне возможнаго среди общества, не обладавшего ни политическим, ни гражданским самосознанием.
Старинный, но ничем не замечательный род Стрешневых никогда не стоял в первых рядах русской знати. Помимо замужества одной из Стрешневых за царем Михаилом Федоровичем, никто в этом роду не достига высших отличий, не СОБРа несчетных богатств и не выдвинулся заслугами дарованиями. Но Лизавета Петровна решила, что Стрешневы не имеют себе равных, и она заставила всю Москву разделить это убеждение.
Даже больше: она заставила и правительство смотреть такими же глазами на ея исключительное положение. Когда внук ея Федя поступал на службу и потребовались необходимые в таких случаях документы, Лизавета Петровна не в шутку разобиделась.
— Как, я должна представлять какие-то метрики да разныя там бумажки, чтоб доказать, что мой внук — столбовой дворянин? Подъячие ваши не знают, какой такой род Стрешневых? — вскипятилась она. — Стану я выправлять какие-то документы? Да никогда!
— Но это формальность, которая ото всех требуется, — убеждали ее.
— Так и пускай от всех требуют, а не от Стрешневых, — упиралась старушка. — Пускай в царских грамотах прочитают, или пусть ко мне пожалуют, я им покажу, какие у меня портреты предков в гостиной висят.
— Однако… если закон требует…
— Может быть, от кого и требует, только не от Стрешневых…
Сдвинуть Лизавету Петровну с ея точки зрения не было возможности. Пришлось доложить о таком анекдоте императору Николаю Павловичу. Государь разсмеялся и приказал вытребовать документы от митрополита и предводителя, помимо спесивой представительницы рода Стрешневых.
Когда внучки Лизаветы Петровны выходили замуж, метрик у них не оказалось. Пришлось добывать их из консистории помимо бабушки.
Конечно, не одно высокомерие помогло Лизавете Петровне утвердить свое исключительное положение в обществе. Все знали ея небычайную силу воли, настойчивость и упорство. Раз навсегда решив, что дя нея не ничего невозможнаго, она много раз с успехом это доказывала.
Между прочим, в Москве знали такой случай. Там проживал в 20-х годах граф Остерман, женатый на тетушке Глебовой-Стрешневой, Марфе Ивановне. Несмотря на графское достоинство и свойство, Лизавета Петровна относилась к нему очень пренебрежительно.
— Что ж, что граф, да происхождение-то у него какое? — отзывалась она о нем. — Всякий знает, откуда взялись остерманы. Хоть и породнился с Стрешневыми, а поравняться с нами не может. Равнаго со Стрешневыми не было и нет.
Этот граф Остерман жил широко, и зимой по четвергам давал роскошные обеды для всей московской знати. Неизменным посетителем этих обедов бывал также и митрополит Платон. Лизавета Петровна также любила ездить по четвергам к дядюшке, пренебрегая даже нездоровьем.
И вот в один из четвергов Лизавета Петровна, находившаяся в интеерсном положении, почувствовала с утра близость развязки. Тем не менее приказала себя зашнуровать и одеть как можно наряднее.
— Как, матушка, неужто вы все-таки поедете к Остерманам? — изумился муж.
— А почему бы я не поехала?
— Но ведь вы, матушка, того и гляди…
— Пустое! — с уверенностью возразила Лизавета Петровна. — Это только простыя бабы зависят от природы; воспитанныя же дамы распоряжаются как им удобнее.
Муж пожал плечами, но, зная, что противоречить безполезно, велел подавать карету.
Лизавета Петровна, бледная, с прикушенною губою, села за стол рядом с митрополитом. Перемогая жестокия боли, она высидела до конца обеда, но затем принуждена была точас уехать, сославшись на мигрень.
По дороге муж позволил себе в первый и единственный раз высказать неодобрение.
— Ну, матушка, недалеко до греха было. Ведь вы чуть не разрешились от бремени при самом митрополите, — проворчал он.
Минут через десять по приезде домой семейное событие благополучно совершилось. Лизавета Петровна, вспоминая впоследствии тревогу мужа, спокойно говорила:
— Все зависит от нас самих и от нашей воли.
Москва, знавшая не один подобный случай в жизни Глебовой-Стрешневой, не шутя ея побаивалась.
V
Лизавета Петровна не заблуждалась, относя недостатки своего характера к чрезмерному баловству, откружавшему ея детство и молодость.
Действительно, это было совсем сказочное детство.
Отец ея, генерал-аншеф Петр Иванович Стрешнев, бывший некоторое время генерал-губернатором в Киеве, рано овдовел. На руках у него осталась маленькая дочка Лиза, хорошенький ребенок с золотыми волосами и серьезным, важным выражением детского личика. На эту девочку он перенес все обожание, к какому была способна его мягкая и, повидимому, не богато одаренная натура. Лиза сделалась его идолом, своенравным, затейливым и безгранично самолюбивым. Окруженная роскошью, дорогими игрушками, бестолковым и безобразным угодничеством домашней челяди, она с ранних лет догадалась, что нет такого желания, которое не было бы исполнено отцом или окружающими.
В семейных преданиях Глебовых-Стрешневых сохранилась память о ея детских капризах и о знаменитой кукле, являвшейся посмешищем для одних и тягостной докукой для других. Звали эту куклу Катериной Ивановной. Лиза сделала из нее какого-то божка, и настаивала, чтобы окружающие оказывали ей благовейнаго почитания. В приемные дни кукла эта выносилась и усаживалась в кресле на видном месте. Всякий гость, если хотел сохранить добрыя отношения с Петром Ивановичем, должен был непременно почтительно расшаркиваться перед нею, а дамы — делать реверанс.
Можно представить себе, какия формы приобретало это идолопоклонство в среде мелких подчиненных и крепостной прислуги.
В праздничные дни Катерина Ивановна любила выезжать.
— Как думаешь, не послать ли ее прокатиться? — спрашивал Лизу почтенный генерал-аншеф и киевский генерал-губернатор.
— Да, да, непременно — подхватывала Лиза.
— И, пожалуй, в парадной карете?
— Конечно, в парадной, с гайдуками.
На удивление собравшихся перед домом ротозеев, разряженную по последней моде куклу выносили из подъезда, усаживали на бархатной подушке в огромную восьмистекольную карету с позолотой и стрешневскими гербами, пара рослых гайдуков вскакивала на запятки, четверня цугом трогалась с места, и необычайный поезд направялся по городским улицам.
Можно было бы подумать, что сумасшедшие разыгрывают какой-то мрачный фарс. А это только баловник-вельможа тешил свою любимую дочку. И никто сумасшедшим его не считал; напротив, публика видела в фарсе невинную вельможную шутливость.
В такой обстановке Лиза выросла до того возраста, когда можно быо подумать о выдаче ея замуж. С свойственною ей самостоятельностью, она без долгих размышлений объявила:
— Я пойду за Федора Ивановича Глебова.
Отец был поражен. Этому Глебову было уже под-сорок; жена его, урожденная княгиня Дашкова, умерла, оставив ему дочь. Служебная карьера его не обещала чего-нибудь блестящаго: он не был достаточно деятелен, предприимчив и упорен. Да, кроме того, у него замечались некоторыя сумасбродныя по тогдашним понятиям идеи: он верил в восприимчивость русскаго мужика к культуре, и в своем тверском имении завел мастерския, где крестьяне обучались ремеслам и искусствам: делали стильную мебель, ткали дорогие ковры, обрабатывали мрамор и пр.
В глазах Петра Ивановича этот пожилой генерал представлял совсем неподходящую партию для Лизы. В первый раз он решился показать свою волю и заявил, что согласия на этот брак не даст.
Лиза покорилась, — может быть, потому, что ей не хотелось дать повод говорить, будто она очень заинтересована Глебовым.
Но отец ея вскоре умер, и спустя год она все-таки настояла на своем и вышла за Глебова.
Как было уже упомянуто, она обьъясняла свой выбор тем, что Глебов бы единственный человек, котораго она могла покорить себе, не теряя уважения к нему. И действительно, она всегда относилась к нему с видимой почтительностью, и только одного не могла му простить — образовательных затей в его тверском имении.
— А танцовального учителя вы не нашли еще для своих крестьян? Уж надо было бы их и менуэту выучить, — насмешливо говорила она ему, когда он показывал ей изделия своих крепостных художников.
Понятно, что пожилой муж перенес на молодую жену обожание ея отца. Для Лизаветы Петровны возобновились сказочныя условия ея избалованнаго существования. Только теперь все было шире, пышнее, значительнее. Служа в Петербурге в близости ко двору, Глебов ввел жену в высший петербургский свет, и она кружилась в блеске, затоплявшем жизнь екатерининской знати. В этой среде Лизавета Петровна умела заставить оценить преимущества и своей привлекательной наружности, и своего тщательнаго для тогдашнего времени образования.
В три года раз Глебов ьрал продолжительный отпуск и уезжал с семьей в стрешневское именье, с. Покровское. Там была больша барская усадьба с чудесным садом и всеми затеями прихотливаго помещичьяго хозяйства. Переселялись туда всем домом, с детьми, гувернантками, приживалками и многосленной отлично вышколенной дворней.
Кругом — приятное соседство, на половину состоявшее из близкой и дальней родни.
Здесь Лизавета Петровна отдыхала от петербургской суеты и наслаждалась почтением, оказываемым местным дворянством представитеьнице именитаго рода Стрешневых.
Рядом с Покровским, по другую сторону парка, находилась небольшая деревенька, где почему-то выстроена быа прекрасная баня. Лизавета Петровна любила пользоваться именно этой баней.
Раз она сказала мужу:
— Вот, хорошо бы иметь тут дом, да и жить в нем.
Федор Иванович промолчал, но сохранил в памяти слова жены.
Через три года, когда Глебовы снова приехали в Покровское, Лизавета Петровна сейчас же распорядилась приготовить ей баню в соседней деревеньке и собралась туда ехать.
Нарядившись в халатик и кисейный чепчик, она подошла к окну, в ожидании, когда подадут карету, и с удивлением увидела, что по дороге мимо усадьбы едут то одни соседи, то другие.
— Почему же они к нам не заворачивают? Разве вы еще никого не оповестили о нашем приезде? — обратилась она к мужу.
— Не успел, матушка, не успел еще, — ответил Федор Иванович.
Но вот показалась громадная карета графини Пушкиной, жены фельдмаршала, особенно близкой с Глебовыми. И тоже проехала мимо.
— Неужели вы и Пушкиным ничего не дали знать обо мне? Это ни на что не похоже! — набросилась она на мужа.
— Уж извините, царица моя, не догадался. Да и дел много было, — оправдывался тот.
Крайне недовольная, Лизавета Петровна села с мужем в карету, и во всю дорогу не проронила ни слова.
И вдруг она видит, что карета остановилась у крыльца большого, прекрасно выстроеннаго дома, а на крыльце стоит графиня Пушкина с букетом роз в руках, и за нею целая толпа соседей, а в сенях дворовыя девушки с клетками любимых птиц и со всеми двадцатью любимыми мопсами из Покровскаго.
Очарованная и растроганная, Лизавета Петровна не знала, как выразить свой восторг.
— Впрямь, вы нынче волшебствами занимаетесь! — говорила она мужу.
Федор Иванович прослезился.
— Для вас, царица, и волшебств недостаточно… — умилялся он.
Пушкина подхватила Лизавету Петровну под руку и повела в дом. Там она сняла с нея чепчик, распустила ея прелестные белокурые волосы и принарядила ее в платье.
— Ну, баня от вас не уйдет, а теперь извольте-ка праздновать с нами новоселье, — распорядилась она.
И всей гурьбой потянулись в столовую, где уже приготовлен был роскошный завтрак.
Деревенька, украшенная новой усадьбой, была названа в честь избалованной владелицы — «Елизаветино».
VI
Перемену в жизни Глебовых произвело новое царствование. Федор Иванович принадлежал к числу тех, которые не легко расставались с привычками и преданиями екатерининской эпохи. Мягкая натура его не мирилась с своенравными, крутыми и часто несправедливыми капризами императора Павла. Новый двор, новые петербургские порядки на по души пришлись ни ему, на Лизавете Петровне. В чине генерал-аншефа Глебов попросился в отставку и, поучив ее, занялся хозяйством в своем имении селе Знаменском, в Тверской губернии. Он выстроил там великолепный дом-дворец, предполагая провести в нем остаток жизни. Но в 1799 году от умер, шестидесяти пяти лет.
В живых у Лизаветы Петровны оставались два сына. Старшаго, Петра, предназначили в военную службу и чуть ли не от рождения записали, по тогдашнему обычаю, в гвардию. Двенадцати лет ему уже приходиось на смотрах командовать взводом. Это был очень красивый и милый мальчик, солдаты сердечно его юбили, и так как службы он совсем не знал, то старые унтеры подсказывали ему на ученьи, что надо делать.
Он рано женился и рано умер. Женитьба на княжне Друцкой состоялась, повидимому, вопреки желанию матери: Лизавета Петровна находила, что для Друцких — слишком большая честь — породниться со Стрешневыми. Но бывшая княжна смотрела на это иначе и, овдовев, вышла замуж за дворянина Лесли, совсем не вельможнаго.
Такого посрамления знаменитаго рода Лизавета Петровна уже не могла перенести. Помешать второму браку невестки было не в ея силах, но она заставила выдать ея детей от перваго мужа: дочерей Наташу и Пашу и сына Федю. Всех троих она взяла к себе на воспитание.
В новой семье Лесли сохранялась, должно быь, не очень родственная память о Лизавете Петровне, потому что сын Лесли, гостя иногда у своего своднаго брата Феди в угрюмом доме на Большой Никитской, ночью не мог заснуть от страха, зная. Что наверху живет суровая бабушка.
И не мудрено, когда даже взрослая родня совершенно терялась в присутствии Лизаветы Петровны. С двоюродной племянницей ея, кн. Еленой Дмитриевной Щербатовой, был такой случай. Входя в комнату к тетушке, она еще от порога начала почтительно приседать, повторяя при каждом реверансе:
— Bonjour, ma tante! Bonjour, ma tante!
Но смущение все более овладевало ею, и, подходя к тетушке, она поскользнулась и упала.
Грозную тетушку прикючение это не расположило к снисходительности, и когда окончательно растерявшаяся племянница выходила от нея, она послала ей вслед очень явственное:
— Дура!
Очевидно, к тому времени резкий, крутой и самовластный нрав Лизаветы Петровны выработался вполне.
Продолжать петербургскую жизнь по смерти мужа, при новых порядках, не представлялось ей привлекательным. Москва и с. Покровское притягивали ее гораздо больше. Она сохраняла петербургские связи, но все более сближалась с московским обществом, вполне отвечавшим ея потребности надменно властвовать, выдаваться над всеми, ни с кем не стесняться и от всех принимать знаки благоговейнаго почтения.
После «разореннаго» года вновь обстроившаяся Москва могда уже считать Глебову-Стрешневу коренною обитательницею старой столицы, и ея дом на Большой Никитской — одним из главных центров высшаго московскаго общества.
Кстати же Лизавета Петровна выхлопотала разрешение присоединить к фамилии по мужу свою девическую, ближе связанную с московскою стариною. Глебова-Стрешнева — это лучше звучало в стенах Кремля, вблизи древних царских палат, дававших некогда кров одной из Стрешневых.
И вот в барском особняке на Большой Никитской водвориась своеобычная жизнь, полная угрюмой важности и одинаково отражавшая на себе избаованныя причуды властной старухи и московский уклад глухих двадцатых годов.
Смысл этой жизни заключался в безраздельном владычестве Лизаветы Петровны над всем, что росло и дышало в доме. А владычествовала она как будто для того, чтобы не допустить ущерба чести и достоинству столбоваго дворянскаго рода Стрешневых.
Преимущества этаго рода Лизавета Петровна основывала не толкьо на его знатности, но и на нравственной незапятнанности.
— Настоящее величие состоит в том, когда никто из предков ничем не замарал себя, не делал никаких «басессов» (bassesse) — внушала она своей многочисленной родне.
Кроме Глебовых, кн. Друцких, Лесли, которых она считала толкьо в свойстве со Стрешневыми, среди московской родни ея были князья Щербатовы, графы Вьельгорские, Остерманы, а среди друзей — князья Голицыны, графы Пушкины, Толстые — и все это жило роскошно и важно, владело тысячами крепостных душ и было связано не только личною жизнью, но и культом стародавних обычаев, величавою охранительницею которых неизменно выступала Лизавета Петровна.
Привычка властвовать и сознавать себя на недосягаемой высоте среди окружающих до такой степени слилась с ея природою, что она не замечала в своем домашнем укладе своеобычностей, над которыми исподтишка посмеивалась даже благоговевшая перед нею Москва. Скупость не казалась ей скупостью, а только строгостью, соразмерной с ничтожеством окружающих. Заставляя внучек трепать старенькия простенькия платьица, она хотела предохранить их от суетности и заносчивости. Может быть, в таких же видах, им, уже вышедшим из детскаго возраста, продолжали подавать к столу детские приборы. Может быть, и этою обидною мелочью подчеркивалось разстояние, отделявшее их от бабушки.
Сидеть детям разрешалось только за обедом. За утренним кофе они стояли, также как и их дядя Дмитрий Федорович, второй сын Лизаветы Петровны. Не смели сесть ни гувернантка m-lle Шомер, ни воспитатель Феди, ни управляющий, ни главный конторщик. Все они молча и подобострастно стояли вокруг стола, наблюдая, как три кофишенка старательно приготовляли ароматный напиток, и как потом Лизавета Петровна веичественно прихлебывала его из фарфоровой чашки.
Многочисленныя «барския барыни» не имели права даже присутствовать при этом священнодействии. Оне показывались только, когда генеральша проходилась по комнатам, и при этом кланялись ей в пояс.
— Точно складные ножи, — острил Федя.
Откушав кофе, бабушка приступала к прозаическому занятию — терла для себя табак. Подобно многим старушкам екатерининского времени, она сохранила привычку держать всегда в руке изящную жалованную табакерку.
Все, что делалось не в пристуствии бабушки, делалось потихоньку. Дети, приживалки, прислуга помогали друг другу скрывать от строгаго глаза самыя невинныя нарушения установленнаго порядка.
VII
А между тем старшей внучке, Наташе, шел уже восемнадцатый год. Это была хорошенькая девушка сохранившая детскую свежесть души под властью суровой морали. Воспитание не забило ее и не ожесточило, а только приучило задумываться и искать в себе самой разъяснения представлявшихся ея уму противоречий и загадок.
Она не роптала. Но ощущала лежавший на всем доме гнет. Оображение начинало действовать, развивая свойственную возрасту мечтательность. Летом, в Покровском, девушка чувствовала себя гораздо лучше, чем в Москве. Там громадный, старый парк вносил в жизнь какой-то призрак свободы. И так как днем там можно было гулять только под неусыпным надзором m-lle Шомер, но Наташа, пользуясь преданностью горничной Луши, убегала туда потихоньку в четыре часа утра и, забравшись в какой-нибудь любимый уголок, зачитывалась там стихами Ламартина или сентиментальным сочинением Циммермана «Об уединении».
В покровском парке Наташа набиралась свежести для угрюмых, скучных месяцев в особняке на Большой Никитской.
Но вдруг, в средине зимы, в этом печальном доме произошло нечто необычайное.
В сумерки в ворота вошли две молодые девушки в салопчиках и шерстяных платках. Оне притащили огромную черную картонку, перевязанную ремешками.
По черной лестнице оне пробрались со своей ношей в девичью.
И через минуту по всему дому разнеслась удивительная весть:
— Из французскаго магазина принесли старшей барышне бальный туалет! Барышню везут на бал!
Действительно, в тот день московский генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын давал большой бал.
Среди местной знати было принято вывозить девиц в первый раз в свет именно на такие полу-официальные балы.
И так как Наташе в этом году исполнилось восемнадцать лет, то Лизавета Петровна решила показать ее высшему московскому обществу.
M-lle Шомер бросилась вверх за приказаниями.
В комнате барышень началась торжественная суета.
Явился парикмахер с Кузнецкаго моста и завил Наташе локоны. В густые, шелковистые волосы ея вплели noeud d Apollon, для которагно бабушка прислала нитку фамильных жемчугов. Из картонки извлекли бледно-розовое газовое платье на белом атласном чехле, убранное нежными блондами и цветами. Мастерицы из магазина надели его на наташу, обдернули, расправили складки.
Присутствовашая тут же четырнадцатилетняя Паша с изумлением смотрела на сестру широко раскрытыми глазами.
— Знаешь, мне кажется, что ты хороша собою! — воскликнула она наконец, восхищенная, но не вполне доверяющая себе.
Наташа с забавною внимательностью оглянула себя в огромном, потускневшем от времени зеркале.
— Мне тоже кажется, что я как будто недурна, — согласилась она.
— Нет, в этом наряде ты прелесть какая хорошенькая, — все больше восхищалась Паша.
— Да уж лучше нашей барышни разве кто будет на балу! — убежденно выразилась горничная Луша.
Лицо Наташи становилось все серьезнее.
— Мы не должны доверять себе, — сказала она сесетре. — Помнишь, m-lle Шомер всегда говорит, что из самолюбия люди считают себя красивее, чем на самом деле.
— Ну, m-lle Шомер! — протестующим голосом произнесла Паша, и покрутила по-детски головой.
Старая швейцарка как раз в эту минуту вернулась в комнату и оглядела со всех сторон свою воспитанницу.
— Сегодня знаменательный день в вашей жизни, дитя мое, — сказала она по-французски. — Сегодня вам предстоит выставить свои добродетели, плод тщательнаго воспитания, пред судом многоюднаго и блестящаго общества. Помните. Что люди недоброжелательны и их глаз подмечает самый ничтожный недостаток.
— Но тогда это очень страшно, m-lle Шомер? — произнесла, все более робея, Наташа.
— Пусть будут вашею защитою внутшеныя вам высокия правила, — отвечала гувернантка. — И поищите в вашем сердце немного признательности к бабушке, которая, из любви к вам, снисходит до ваших невинных удовольствий.
M-lle Шомер оглянулась, вынула из запрятаннаго в густых складках кармана табакерку и быстро послала себе в нос понюшку.
— А теперь сядьте на стул и сидите не шевелясь, чтобы не измять платья и не разстроить прическу, — приказала она. — Когда будет время, бабушка позовет вас.
Наташа села, сложив на коленях затянутыя в длинныя перчатки руки. С ней осталась только Паша.
— Вот я нисколько не потерялась бы на балу, — произнесла она после минутнаго созерцания сестры. — Главное, надо твердо знать все фигуры. Ты ведь и мазурку будешь танцовать?
— Конечно, буду.
— Вот мазурка — это страшно. В ней есть такия фигуры… А разговаривать я бы с каждым могла.
— Мне кажется. Что разгвоор — это-то и есть самое страшное на балу. Так легко сказать что-нибудь неулачное.
— Лишь бы не мямлить, а резать сразу. Тогда и не заметят.
В комнату осторожно заглянул Федя. Вид разряженной сестры, неподвижно сидевшей на стуле, поразил его.
— Совсем кукла! — вырвалось у него. — Это и на бале все так сидят? Вот скука-то!
Он обошел вокруг сестры и потрогал пальцем ея локоны.
— Отстань! Убирайся! — прикрикнули на него сестры.
— Барышня, пожалуйте к бабушке! — объявила вбежавшая в комнату Луша.
Наташа встала, быстро несколько раз перекрестилась и осторожно, держа руки так, чтобы не прикасаться к платью, поднялась по витой лестнице наверх.
Лизавета Петровна, уже совсем принаряженная, сидела перед туалетным зеркалом и застегивала на худой, изсохшей шее фамильный фермуар. Наташа должна была несколько раз пройти перед нею, показывая со всех сторон свой туалет.
— Очень мило! — одобрила бабушка. — да и странно было бы, если б за такую цену не сделали хорошенькаго платьица. Ты рада?
— Да, бабушка.
Лизавета Петровна протянула руку для поцелуя.
— Надеюсь, что ты сумеешь держать себя, — продолжала она. — Помни, что все люди злы и завистливы. Они будут рады поднять на зубок всякий промах внучки Глебовой-Стрешневой. Злословие — обычное орудие ничтожества. Но Стрешневы всегда стояли выше человеческого суда. Иди в залу и жди меня.
«Но если люди так злы, то какое же удовольствие разделять их общество?» думала, проходя полуосвещенными комнатами, Наташа.
VIII
Генерал-губернаторский дом весь сиял огнями. Светился не только безконечный ряд окон, но вся улица, уставленная пылавшими и чадившими плошками. Полиция разгоняла теснившуюся на панели толпу зевак, жандармы устанавливали в ряд подъезжавшия кареты.
Лизавета Петровна была недовольна, что пришлось ждать.
— Меня-то могли бы вперед пропустить, — ворчала она. — Кажется, других Стрешневых нет.
Рослый гайдук распахнул дверцу и почти на руках вынес генеральшу на широкое крыльцо.
По затянутой ковром и уставленной растениями лестнице подымались, между двумя рядами ливрейных лакеев, разряженныя дамы и блистающие мундирным шитьем мужчины. Слышался сильный запах духов и ароматическаго курева. Сверху падали веселыя звуки собственнаго голицынскаго оркестра.
Пробираясь за бабушкой, Наташа прошла в аванзалу, где князь Голицын с адъютантом Толстым встречали гостей. Дочь князя, графиня Протасова, увидав Наташу, сейчас же взяла ее под руку и увела в боковую комнату.
— Вы в первый раз выезжаете, вам надо оправиться, — предложила она.
В комнате было уже много молодых дам и девиц. Некоторые из них знали Наташу, бывая на больших приемах у Лизаветы Петровны. При виде чуть побледневшаго, растеряннаго лица Наташи всем им хотелось обласкать и ободрить ее. Московское общество, даже не знавшее ее, уже сочувствовало ей, благодаря рассказам о необычайной строгости, в какой воспитывала ее бабушка.
— Выпейте стакан флердоранжевой воды, это освежит вас, — предлагала графиня Протасова. — Да какой же на вас хорошенький туалет, и как вам к лицу этот noeud d Apollon в волосах!
Элен Щербатова, та самая, которая упала, делая реверансы перед Лизаветой Петровной, чуть не со слезами бросиалсь целовать Наташу.
— Душка, да какая же ты прелесть! — восклицала она. — Кто бы мог подумать, видя тебя всегда в дырявых пуховых косынках, что ты будешь так хороша в бальном туалете!
— Постараемся, чтоб вам не было скучно на вашем первом балу, — говорили молодыя дамы, ласково и ободрительно заглядывая в глаза Наташи, начинавшие доверчиво поблескивать.
И все, припоминая собственное смущение на своем первом выезде, хотели сказать что-нибудь хорошее, дружеское, этому славному полу-ребенку, знавшему так мало радостей у себя дома.
Не прошло и нескольких минут, как Наташа почувствовала себя совсем легко и свободно. Застенчивое смущение разсеялось, и, точно в сказке, жизнь сразу показалась ей совсем другой стороной своей.
«Почему мне говорили, что люди злы, завистливы, насмешливы? — спрашивала она себя с недоумением. — Напротив, все такие хорошие, добрые… и мне так легко среди чужих…»
Убедившись, что Наташа совсем оправилась, графиня Протасова повела ее в большую залу.
Там уже было тесно, в особенности около стен, где толпились не танцующие. Между колоннами прохаживались барышни и суетились молодые люди, на обязанности которых лежало составлять пары. Молодые князья Голицыны и Толстые выбивались из сил, чтобы как можно удачнее наладить первый контрданс.
В углу, перед большой гостиной, далеко выдвинувшись в залу, сидели самыя знатныя пожилыя особы, и впереди всех Лизавета Петровна. Выпрямившись на поданном ей высоком кресле, онас с строгим и несколько презрительным вниманием лорнировала публику. Ее словно удивляло, что в зале мелькали незнакомыя ей лица.
— Это еще что за птица? — поминутно спрашивала она сидевшую подле нея кузину графиню Вьельгорскую, урожденную Матюшкину, указывая лорнетом на проходившаго невдалеке какого-нибудь молодого человека.
— Соколинский, — отвечала Вьельгорская.
— Как? Соколинский? Не слыхала. Кто ж он такой?
— Служит у князя. Недавно, кажется, из Петербурга.
— Да кто его мать?
— Не знаю.
— Ну, матушка, если не знают кто его мать, то, стало быть, птица не важная. У нас, у столбовых, все в роду известны.
Офросимова, высокая, в темнокрасном бархатном платье стараго фасона, прохаживалась своей грузной походкой по всей зале, не обращая ни малейшаго внимания на то, что контрданс уже начался. Она толкалась между парами, наступала на шлейфы и тут же делала сердитыя замечания не успевшим очистить ей дорогу. И все почтительно разступались, отодвигали стулья и путали фигуры, чтоб только уклониться от описываемых ею по залу зигзагов.
Офросимова очень уважала Лизавету Петровну за ея резкость. Поэтому, узнав, что ея внучка сегодня первый раз на бале, хотела оказать ей покровительство. Она подозвала свою дочь, девицу уже не первой молодости.
— Аленушка, смотри, чтобы Наташа не оставалась без кавалеров, — приказала она. — Пусть девочка попрыгает.
Во время вальса она натиском вошла в круг и принялась густым басом окликать знакомых и незнакомых мужчин:
— Ты куда бежишь? Даму ищешь? Чего тебе еще искать, когда Наташа тут. Какую тебе еще даму нужно? Вот внучка Елизаветы Петровны Глебовой, с ней и вертись. Хотя в наше время это верченье приличным не считалось. При покойном государе Павле Петровиче кавалеры не смели так обхватывать дам. На что, правда. Похоже: облапит, словно простую девку, да еще дышит на нее.
Дамы исподтишка хихикали, а мужчины принимали смиренный вид.
IX
Наташе было невыразимо весело. Чувство подавленности, с которым она вступила сюда, совсем разсеялось. Она уже не боялась ни человеческой враждебности, ни злословия, ни насмешек, — кажется, не боялась даже самой бабушки. По ней скользили сотни дружеских взглядов, и такия добрыя лица улыбались ей ласково и поощрительно…
Она была замечена, ею заинтересовались. Самые блестящие молодые люди хотели быть ей представленными. Голицыны, Толстые приглашали ее на все танцы. Дамы уводили ее в уборную, поправляли ей локоны, складки платья, учили освежать лицо пуховкой с пудрой. И она почти с удивлением замечала, что разговаривать с мало-знакомыми мужчинами вовсе не так трудно, как она думала. Даже на старомодныя шутки пожилых людей у нея как-то сами собой находились удачные ответы. Хозяин бала князь Голицын, как всегда любезный и со всеми внимательный, поговорив с ней пять минут, с значительным видом подмигнул старому Обольянинову, явно желая сказать:
— А девочка эта совсем не дура…
Повидимому, он сказал о ней что-то очень лестное бабушке, потому что та с довольным видом покивала головой и подозвала внучку.
— Нравится тебе тут? Веселишься? — спросила она ее.
— Да, бабушка.
— Я думаю! — с чувством собственного достоинства промолвила Лизавета Петровна. — Не кто-нибудь, а Стрешнева.
Она откинулась на спинку своего высокого кресла и помахала старинным разрисованным веером.
— Говорят, там какия-то новыя конфеты в буфете выставлены, — вспомнила она. — Голицынский кондитер выдумал. Поди, принеси мне взглянуть, что такое.
Счастливая, что может услужить бабушке, Наташа бросилась в буфетную, уставленную фруктами, печеньями и прохладительными напитками.
На этот раз здесь была новость: по стенкам громадного резного буфета были развешаны на ленточках фигурки из разноцветнаго леденца, изображавшия мужичков, баб, собачек, коров и пр. Незатейливыя изделия крепостного кондитера, напоминавшия ярмарочный товар, вовсе не имели соблазнительного вида и мало обещали для вкуса; но это была новость, пускаемая в ход генерал-губернатором, и потому гости оказывали ей почтительное внимание.
Когда вошла Наташа, в буфетной никого не было; только моложавый, очень представительнаго вида генерал, стоя у стола с тарелочкой в руке, прожевывал какое-то пирожное и запивал его морсом.
Это был генерал Сипягин, недавно приехавший из Петербурга.
Наташа, оглянувшись, поднялась на цыпочки и стала отвязывать висевшия на ленточке фигурки из леденца. Генерал смотрел и улыбался ласковыми голубыми глазами. Ему нравилась эта хорошенькая девушка, больше похожая на девочку, так наивно занятая леденцами в то время, как ея подруги кокетничали с кавалерами.
— Вам хочется конфет, не правда ли? — обратился к ней по-французски генерал, поглаживая усы и любуясь ее проворными и красивыми движениями.
Наташа не смутилась, заметив, что она здесь одна с незнакомым мужчиной. Разве все они не были так добры к ней?
— Oui, monsieur, — ответила она с достоинством.
Генерал приблизился к ней, продолжая оглаживать пушистые, холеные усы. Наташа при этом заметила, что и рука у него тоже была холеная, небольшая и красивая.
— Вот этих собачек вам хочется набрать? — продолжал Сипягин и сорвал всю ленточку. — Помочь вам?
— S il vous plait, — промолвила Наташа.
На столе лежали пустые бумажные картузы. Сипягин наполнил один из них доверху.
— Вижу, что вы любите собак; это признак добраго сердца, — сказал он, с возрастающим восхищением разглядывая девушку.
— Это я для бабушки, — объяснила Наташа.
— А ваша бабушка?
— Глебова-Стрешнева.
— Я рад приятному случаю, — сказал Сипягин с поклоном и назвал себя.
Косясь любующимися глазами на девушку, он медленно и старательно завертывал пакет.
— Comment votre grand maman vous laisse-t-elle ainsi toute seulle dans la sale, si jeunne et si inexperimentee? — продолжал он.
Наташа слегка вспыхнула. Ей показалось обидным, что этот моложавый, изящный генерал с пушистыми усами и ласковыми голубыми глазами как будто принимает ее за девочку.
— Monsieur, j aid ix-huit ans, — сказала она с важностью.
— Vraiment? — удивился Сипягин, и под пушистыми усами его мелькнула веселая, милая улыбка. — j en suis tres etonne.
Он помолчал и подал Наташе пакет.
— Tres etonne, — повторил он. — Dans quelques annees vous prendriez ma surprise pour un compliment…
Как это было хорошо сказано! Наташа готова была рассмеяться — до того ей нравился этот коротенький разговор, обнаруживший в генерале утонченно-светскаго человека.
И притом… притом она чувствовала всеми инстинктами своей неопытности, что генерал потому так мило разговаривает с ней, что чем-то она нравится ему, и что-то особенное говорят его скромно поблескивающие, любующиеся голубые глаза…
Слегка раскрасневшаяся, Наташа сделала генералу великолепный реверанс и побежала к бабушке.
— Зачем же ты так много наложила? — упрекнула Лизавета Петровна, раскрывая пакет.
— Это мне генерал Сипягин наложил, — объяснила Наташа.
— Какой Сипягин?
Она озабоченно повернулась к Вьельгорской.
— Ты не знаешь, какой такой Сипягин? Кто его мать?
Вьельгорская не знала.
А бал продолжался. Наташа танцовала уже третий контрданс. Лизавета Петровна решила, что ужинать они не останутся, и увезла внучку домой.
Раскрасневшаяся, возбужденная, вся под властью еще не отцветших впечатлений, Наташа вбежала в свою комнату и предоставила Луше снять с себя бальное платье, корсет и собрать волосы в толстую косу. Но в слегка отяжелевшей голове она не ощутила сна. Ей не хотелось даже лежать. Накинув на плечи старую пуховую косынку, она села у запушенного инеем окна и молча смотрела в темную зимнюю ночь, нежась в каком-то ласковом кругозоре только что пережитых ощущений. Ей припомнилось все ея детство, утомительное и запуганное, и словно зажигающим блеском врывался в эти тусклыя воспоминания очаровавший ее первый праздник девичества.
А темное небо как-то странно яснело за невысокими крышами соседних домов. Загоралась ли заря завтрашнего дня? Нет, до утра было еще далеко. И Наташа в недоумении следила, как расплывался где-то на Тверской багровый отблеск на серых облаках.
На улице замечалось движение. Откуда-то взявшиеся прохожие спешили по одному направлению, проскакал казак в кожаном кивере, потом проскрипел на полозьях пожарный обоз.
Наташа бросилась в коридор и столкнулась с Лушей, только что прибежавшей с улицы.
— Где пожар? — спросила Наташа.
— Да у князя, в генерал-губернаторском доме, — объяснила горничная. — Как только гости разъехались с бала, сейчас и занялось. На улице сказывали: так и горит, так и горит…
Наташа почувствовала непонятную грусть.
«Бал сгорел!» прозвучало в ея растерявшихся мыслях.
Но как только она легла в постель, крепкий молодой сон охватил ее, и опять заиграли перед нею огни в хрустальных люстрах и замелькали разряженныя фигуры, любующиеся взгляды и поощрительныя улыбки…
Х
Встреча с Наташей застала Сипягина в том периоде жизни, когда человек, устроивший свою карьеру и прискучивший одиночеством, начинает мечтать о женитьбе. И ему показалось, что он сразу нашел то, чего иска. Наружность Наташи, минутный разговор с нею произвели на него очень сильное впечатление.
«Сколько пленительной наивности, ласковости и доверчивости в этом милом ребенке! — думал он, вернувшись с балу. — Среди московских невест ни на ком, кроме нея, не могу остановить своего выбора. И, конечно же. Она не откажет тому, кого одобрил ея бабушка».
Но бабушка… вот в ней и было затруднение. Сипягин не знал лично Лизаветы Петровны, но много слышал о ея надменности, резкости и упрямстве. Еще надавно ему рассказывал Волков, как он попробовал сватать к Наташе отличившагося на войне полковника, и как та резко ответила ему, что за военныя заслуги приличествует награждать государю, а не ей.
— Чего же она ждет для своей внучки? — спросил тогда Сипягин.
Волков на это развел руками и ответил:
— Должно быть, Ивана-царевича, и при том непременно из рода Стрешневых.
— А мне кажется, что она немножко умнее, чем вы думаете, — возразил Сипягин. — Как ни разборчива, а все-таки понимает, что надо выдать внучек замуж.
Узнав, что Глебовы-Стрешневы бывают в Симоновом монастыре, Сипягин поехал туда в первый же большой праздник. Он действительно видел там Лизавету Петровну с внучками и внуком, но они только прошли мимо него в сопровождении двух ливрейных лакеев, и скрылись в одной из ниш храма. Сипягин успел поклониться Наташе; та смущенно кивнула ему, а Лизавета Петровна оглянула его таким удивленным и словно оскорбленным взглядом, что молодой генерал, в свою очередь, почувствовал нечто похожее на обиду.
Но мысь о сватовстве не покидала его. Ему казалось, что успех должен зависеть от того, кто явится посредником с его стороны. И так как он бы хорошо знаком с женой фельдмаршала Каменского, то решил обратиться к ней с просьбой переговорить о нем с Глебовой.
Каменская, узнав, в чем дело, разволновалась.
— Это чтобы я к Лизавете Петровне свахой разлетелась? Да ни за что на свете! — сразу отказалась она. — За родного сына не взялась бы слова замолвить. Разве вы не знаете, как она о женихах отзывается? Сейчас из Фонвизинской комедии представление дает: «Хочешь, Митрофанушка, жениться?» — «Давно, дяденька, мне хочется». — Нет уж, благодарю покорно, свахой к Лизавете Петровне не пойду.
— Но ведь не засушит же она внучек в старых девах? Выдаст же за кого-нибудь? — возразил Сипягин.
— А уж не знаю, что у нея на уме, только мешаться в ея дела не стану, — решительно отказалась старая фельдмаршальша. — И вам не советую пытаться: так отрежет, что со сраму некуда будет деваться. Вот, недавно, разлетелся к ней Нечаев, прекрасный молодой человек, сосед наш по имению. А она не только что напрямки на дверь ему указала, да еще прибавила в глаза: не взыщите, сударь, если впредь моим слугам не приказано будет вас принимать.
— Однако! — произнес Сипягин, и подкрутил свои пушистые усы. — Но в таком случае эта бедная Наташа, этот прелестный ребенок — жертва семейного тиранства?
— Уж там судите как хотите, а только напрашиваться на оскорбления никому не лестно, — ответила Каменская.
Сипягину все-таки не хотелось разстаться со своей идеей.
— Хорошо, мы пока оставим бабушку в стороне, — сказал он. — Но, бывая там в доме, вы могли бы заговорить обо мне с Наташей и узнать, как взглянула бы она на мое предложение. Сообразуясь с тем, и я мог бы составить дальнейший план действий.
Каменская замахала руками.
— Ну, батюшка, видно, вы совсем не знаете Лизавету Петровну, — возразила она. — О женихах-то, потихоньку от нея, с внучкой переговариваться? Да сохрани меня Бог! Девочка как-нибудь проговорится, а старуха съест меня живьем. Нет, бросьте вы лучше ваши помышления.
Сипягин подумал, поскучал… и уехал в Петербург.
— —
Но Наташа все-таки вышла замуж. Это случилось несколько лет спустя. Счастливцем, нашедшим в ней свое счастье, оказался молодой офицер Всеволод Федорович Бреверн, впоследствии генерал-майор и коломенский предводитель дворянства.
В. Авсеенко
9. Кн. Е.Ф.ШАХОВСКАЯ-ГЛЕБОВА-СТРЕШНЕВА
МОИ ПРЕДКИ (1898)
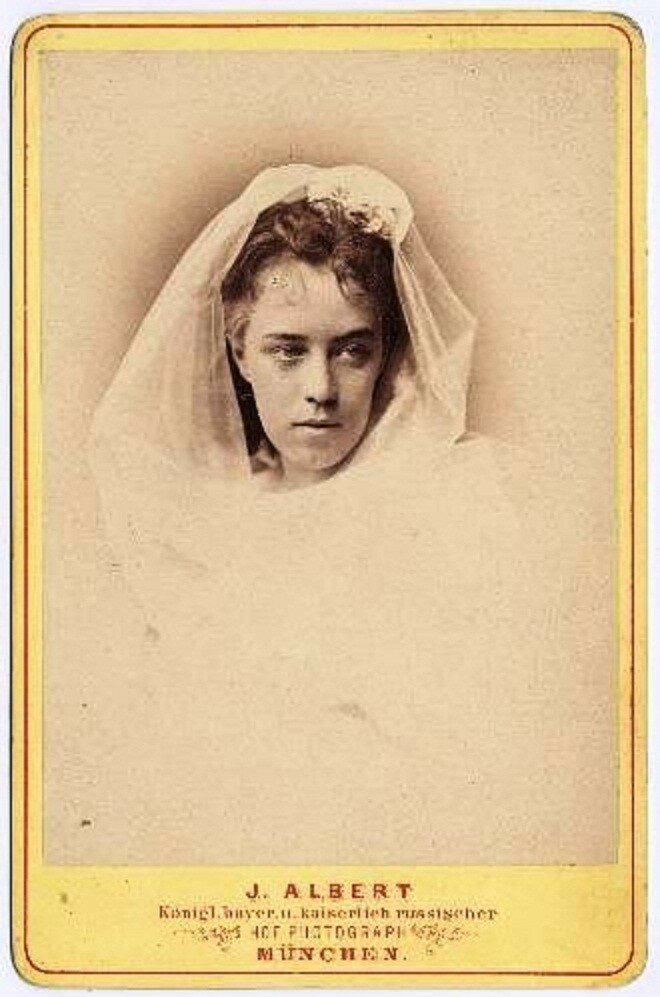
МОЯ БАБУШКА
— 1-
Эта женщина не была красавицей, но обладала неотразимой привлекательностью. Она принадлежала другому веку, закончившемуся почти сто лет назад.
Тонкая, стройная, какая-то бело-розовая, с нежными чертами — такой предстает она на портрете Лампи во всем блеске своей юности. В густо напудренном лице, глядящем с портрета кисти придворного художника Екатерины П, лишь угадывается ее победное очарование. У нее были чудесные шелковистые волосы, необыкновенного светлого тона, ниспадающие до пят густым волнистым плащом. Уложенные золотистой короной на макушке, они были так тяжелы, что вызывали головные боли.
Она вошла в жизнь победительницей и богиней.
Отец, владевший мощным богатством, бесконечно обожал ее и абсолютно терял перед ней самообладание. Она выжила единственная из девяти рожденных детей.
Он потерял и горячо любимую жену — не справившись с безутешным материнским горем, она обессилила и угасла: несмотря на мольбы и отчаяние мужа, удалившись в монастырь, как в прижизненную могилу. У очага, тепло которого она прежде поддерживала, на месте исчезнувших картинок прошлого появился ее монашеский портрет, подписанный новым именем: Пиора. Никто из семьи больше никогда ее не видел.
На этих руинах семейного очага и в атмосфере отчаяния поднялась маленькая царственная и живая фигурка Елизаветы, последней наследницы блистательной фамилии.
Все, кто зависел от ее отца, Киевского наместника — чиновники высокого ранга, крестьяне, бесчисленные слуги, — все стояли на коленях перед этим хрупким идолом, дрожащим от страха смерти, от мистического зла, унесшего ее братьев.
Самые невероятные фантазии роились в избалованной детской головке, опьяненной ласками и лестью.
Однажды, когда девочке было восемь лет, она захотела председательствовать на официальном банкете. В другой раз, она заставила отца запрячь парадную золоченую карету и, в сопровождении эскорта гайдуков, отправилась на прогулку по городу со своей куклой. Об этом в зрелые годы она и сама рассказывала, добавляя, что не была наивна в ухищрениях, к которым пришлось прибегнуть, чтобы обставить эту прогулку и, по крайней мере, избежать комизма ситуации.
— Мне хотелось, чтобы моей кукле оказывали всевозможные почести. Ведь это была моя кукла, — говорила она.
Эта детская гордость, эта необыкновенное упорство должны были раскрыться еще сильнее в том кругу, где она росла. Бесконечные занятия на европейский манер ничем не закончились. Гувернантка, приехавшая со своей дочерью из Парижа, чтобы обучать принцессу французскому языку, через несколько месяцев сбежала, смертельно уязвленная в своей материнской любви.
Катастрофа разразилась из-за оплошности маленькой иностранки, которая захотела присесть на место, эксклюзивно занимаемое домашним божеством. Это было расценено как дерзость главной няней — русской воспитательницей. Она не смогла перенести такую чудовищную небрежность: ее покою, тщательно и терпеливо взрощенному дисциплинарными уроками, которые она были задуманы как оружие против посягательств маленькой хозяйки, пришел конец. Самые унизительные телесные наказания, обрушившиеся на дочку гувернантки, переполнили чашу ее терпения. Гувернантка, чей справедливый гнев невозможно было унять, уехала, чтобы никогда не возвращаться. И больше никто не попытался занять ее место.
Но, о, чудо!
Елизавета, не желавшая произносить ни слова по-французски при гувернантке, в компании маленькой парижанки проявила, по меньшей мере, весьма удовлетворительное владение языком Вольтера и, освободившись от ненавистного авторитета, принялась бегло болтать. Она никогда не умела грамотно писать, но благодаря практике и чтению, позднее она научилась изъясняться со всею элегантностью гран-дамы своего времени.
Ее интеллектуальные способности развивались самым неожиданным образом. Несмотря на сложный в целом характер, она в высшей степени обладала особой славянской мягкостью, была столь податливой и переменчивой, что из невоспитанного ребенка превратилась в превосходную придворную даму, одаренную исключительным чувством такта и совершенным достоинством. А до той поры продолжала предаваться своим бесчисленным капризам, подчас подвергавшим ее жизнь опасности.
Так однажды она спустилась в кабриолете с вершины лесистого холма, где был выстроен летний дом, самостоятельно управляя бегущей лошадью, и при этом осталась живой и здоровой.
Ее отец, оставив пост в правительстве Киева, вернулся в Москву и всецело посвятил себя ненадежному счастью воспитания дочери. Его никак не оставлял страх потерять девочку.
Свежая как жасмин, она была хрупкой, почти прозрачной. Но за внешней хрупкостью скрывалась сильная натура, позволявшая противостоять любым испытаниям, начиная с экстравагантного распорядка, согласно которому она питалась только сладостями, не подчиняясь никаким правилам. Тем временем, ей исполнилось семнадцать лет. В тот период ее отец жил то в Москве, то в Петербурге. Там он представил дочь ко двору.
Она была одной из излюбленных партнерш наследника престола в танцах и с неутомимым увлечением принимала участие во всех развлечениях. Претендентов на ее руку было множество. Тем более при дворе и в городе удивились, когда блестящим юношам, искавшим ее расположения, она предпочла степенного генерала, не слишком избалованного судьбой. Он был старше ее на тридцать лет, необыкновенно умен, а его доброта стала легендой всей семьи. Ее в отчаянии умолял отец, но она не хотела уступить и сумела отстоять свое желание с таким жаром и настойчивостью, что никто из ее окружения не мог ей возразить. Она объясняла свое непоколебимое решение тем, что будущий муж — это единственный известный ей мужчина, над которым она сможет властвовать, не презирая его.
— 2-
Выйдя замуж семнадцати лет, Елизавета слишком рано рассталась с юностью, с ее золотыми мечтами и сияющими иллюзиями. Для такой великодушной и честной и в то же время капризной и своенравной женщины, какой она была, однако, ее реальная жизнь была тихой.
Матримониальные торжества проходили в Петербурге с невоображаемой пышностью.
Она появилась в белом свадебном платье, подвязанном бархатными ярко красными узлами и, по ее собственным словам, не было ничего более прекрасного, чем необыкновенные наряды, созданные по этому случаю.
Вскоре она стала матерью двух мальчиков, старший из которых, ставший крестником императрицы Екатерины, подарил ей безоблачную радость.
Она любила свет, и свет платил ей сполна. Важные обязанности ее мужа способствовали росту ее престижа.
Несмотря на свои причуды, она знала горячую женскую дружбу, верность которой сумела сохранить до конца жизни.
Она обладала шармом и привлекательностью, умела прощать грубости. Мужчины страстно искали ее расположения, а она, ослепительная кокетка, была непреклонна.
Нельзя предположить, что она обязана этой редкостной добродетелью эпохе: она оставалась недоступной, тогда как многие позволяли себе подобные слабости. Скорее, это была непоколебимая верность мужу и рабская преданность, может быть, так же объяснимая темпераментом.
Как бы там ни было, мотивы ее поступков остаются скрытыми. Гордость не позволяла ей морально освобождаться от тайн, посвящая в них даже самых близких людей.
Ореол добродетели ее мало заботил. Напротив, она предпочитала образ женщины модной и соблазнительной в своей пикантной и грациозной красоте. Со своей врожденной прямотой она избегала недостойных уверток.
В ее окружении был медик, доктор Марианна, прекрасный, как неотразимый тенор. С ним она прогуливалась в поэтическом уединении при лунном свете в своем парке Покровское. Это была единственная уступка, которую она сделала нравам своего времени. Она во всем следовала своему девизу — «veritas vincit» — «правда восторжествует», — ни с кем не могла изменить ему и хранила свою репутацию незапятнанной, вопреки этим ночным прогулкам. Вероятно, таково было ее решение, так как после смерти фатоватого итальянца никто не заменил его в роли псевдо-чичисбея.
Она была очень нежной матерью своим сыновьям. Домашними делами постоянно занималась рука об руку со своим избранным старым супругом. В то же время, по отношению к нему, она вела себя достаточно деспотично, что не мешало этому интеллигентнейшему и умнейшему человеку глубоко любить свою королеву, «царицу», как он ее называл во всех письмах, и окружать ее обожанием и заботой. Он предупреждал малейшие ее желания, называя их «целью своей жизни».
Однажды во время очередного посещения обожаемого ими обоими Покровского он устроил жене настоящее любовное испытание.
Это было в сияющий весенний день.
Елизавета вышла на балкон и увидала множество проезжающих мимо экипажей. Заинтригованная этим зрелищем, она спросила мужа:
— Федор Иванович, куда направляются эти экипажи?
— Я ничего об этом не знаю, моя царица.
Тогда она взяла подзорную трубу, продолжила свое расследование и вдруг разглядела свою лучшую подругу, жену маршала Пушкину, пожалуй, единственную женщину, которую по-настоящему любила.
— Что это все значит? Подруга удаляется, даже не заехав ко мне? — воскликнула она оскорбленная.- Вы не сообщили ей о моем приезде?
— У меня не было на это времени, сердце мое.
— Конечно, вы заняты исключительно своими крестьянами!
И она стала бросать ему бесконечные упреки в филантропии, с ее точки зрения, абсолютно бесполезной.
Виновник молчал, и она нехотя продолжила:
— Вы распорядились подготовить баню?
— Конечно, все готово.
— Ну что ж, пойдем!
Она накинула кружевной пеньюар, надела на свою светлую головку чепчик и, по заведенному порядку, как всегда, когда они приезжали в имение, села с мужем в карету, чтобы ехать в баню, располагавшуюся в километре от усадебного дома.
Русская баня была выстроена на горке с очаровательным ландшафтом. Как-то однажды Елизавета отметила, насколько желательно было бы построить дом в этом прекрасном месте.
Всю дорогу молодая женщина без устали упрекала мужа, который выслушивал все это, опустив голову.
Внезапно в середине пути карета остановилась напротив большого белого дома, на колоннаде которого стояла масса народу. В этой нереальной толпе Елизавета заметила во главе блестящего общества свою подругу Пушкину, спускавшуюся по каменным ступеням, чтобы преподнести ей хлеб-соль. Другие дамы и кавалеры преподнесли ей цветы, конфеты, и в тот же момент оркестр разразился праздничными фанфарами…
Поняв все, Елизавета обернулась к своему важному молчаливому супругу и, не скрывая слез раскаяния, сказала ему в порыве непривычной покорности:
— Я не достойна тебя…
Солнце уже скрылось за горизонтом, и его последние лучи потерялись в полях и лесах.
Кто-то из приглашенных предложил начать танцы.
Хозяйка дома, смущенная своим банным нарядом, отказалась принимать в них участие. Тогда княгиня Пушкина внезапно стащила с нее чепец, и прекрасные золотые волосы упали, укутав молодую женщину мантией более прекрасной, чем королевская.
— Бог одарил тебя самым лучшим украшением, — сказала она.
Бал начался.
Елизавета, подобная нимфе с распущенными волосами, танцевала, чувствуя на себе восхищенные взгляды присутствующих мужчин. Она действительно напоминала нимфу со своей воздушной грацией и легкостью.
Когда собрались уезжать, она объявила мужу, что хотела бы на все лето остаться в Елизаветино, именно это имя зажглось фейерверками на фронтоне нового жилища.
— Душа моя, все к этому подготовлено, — ответил муж.- Ваши камеристки, карлики (их у нее было двенадцать), ваши птички, все здесь и… ваша постель готова…
— 3-
Этим феерическим праздником завершился, возможно, самый счастливый этап ее жизни.
Вскоре после этого муж, как и многие его современники, навлек на себя немилость нового монарха и был изгнан. Она последовала за супругом.
Благодаря личной благосклонности, которую испытывал к ней ее старый товарищ по играм, император Павел, это изгнание совсем не было жестоким.
Во дворце, принадлежавшем ее мужу, недалеко от Твери, среди слуг и крепостных, составляющих дворню русского помещика того времени, ее дни текли ясно, были наполнены чтением, охотой. Иногда на сцене дворца разыгрывали комедии и даже оперы. Артисты были выбраны из крепостных, которых прекрасно подготавливали профессионалы.
Ее муж даже вошел во вкус такой независимой жизни и, когда гроза утихла, не пожелал больше возвращаться в Петербург. Он расположился в Москве, где дружеский и родственный круг сформировался скорее возле его молодой супруги Елизаветы, которая естественно стала еще более избалованной, чем прежде.
Среди своих знакомых она особо выделяла кузена, графа Остермана, сына соперника Петра, тоже удаленного от двора и изгнанного. Каждый четверг он устраивал большие обеды, собиравшие всю элиту московского света, а также иностранцев, посетивших древнюю столицу.
Знаменитый архиепископ Платон никогда не пренебрегал пирушками. Елизавета тоже не пропускала обедов, несмотря на мольбы мужа, даже накануне появления на свет малыша. Она объясняла свое легкомыслие тем, что будто бы испытывала свою необузданную силу воли — главную черту ее характера.
Однажды за обедом, когда она сидела по обыкновению на почетном месте рядом с архиепископом, у нее внезапно начались болезненные схватки. Она поднялась из-за стола, вцепилась в руку мужа, который не мог без сострадания видеть ее бледность и слабость, и очень тихо сказала:
— Экипаж… быстрее!
Когда, наконец, с большим трудом она расположилась, неимоверным усилием железной воли едва справляясь с ситуацией, он ец взбунтовался. В первый раз в жизни Федор Иванович потерял самообладание, глядя на жену:
— Мадам, Вы могли родить в присутствии архиепископа Платона!
Через десять минут, дома, она родила.
Бледная и утомленная, лежа на подушках, она повернулась к мужу и с улыбкой сказала:
— Я всю дорогу не отвечала тебе. То, что ты мог сказать, не имело значения. Я берегла силы. Теперь, когда все закончилось, знай, что все возможно, когда этого хочешь, все зависит только от нас, от нашей собственной воли!
Она особенно почитала наличие воли, и события ее жизни не давали ей повода разубедиться в том, на что она подчас отважно полагалась вопреки здравому смыслу.
Однажды во время паломничества, предпринятого с новорожденным сыном в расположенную на острове озера Селигер обитель Святого Нила Столбенского, в тот момент, когда она взошла на паром, о его борт ударилась мощная волна. В тот же момент раздался раскат грома.
Паромом управляли две крестьянки. Страшно напуганные, они отказывались отплыть от берега. Елизавета решительно приказывала им трогаться. Они стали спрашивать ее слуг, не безумна ли она. Тем не менее, она настаивала на своем, пообещав заплатить им большие деньги. Паром пустился в путь. На полдороги сверкнули молнии, и загремел гром. Судно было уже отвязано. Крестьянки были так напуганы, что отпустив канаты, бросились на колени со слезами.
— Глупые! — кричала им путешественница.- Откуда этот ужас? Вы не погибнете, ведь я с вами.
И действительно, они без происшествий достигли острова, где их встретил владыка, ошеломленный их появлением в такой момент.
Елизавета не знала страха. Она не боялась ничего — ни людей, ни событий.
Тогда же, в другом путешествии ее бесстрашие подверглось новому испытанию.
Однажды она ехала на коляске вместе с мужем и держала на коленях маленького Петра. На подъезде к Киеву экипаж попал на ужасную дорогу, которая шла по обрывистому склону горы над водами Днепра. Вдруг коляска накренилась над пропастью… Муж, испугавшись за нее и ребенка, стал умолять ее покинуть экипаж, но она совершенно спокойно продолжала чистить яблоко для себя и ребенка. Когда опасный склон остался позади, она сказала, иронизируя:
— Представляешь, мы не погибли! Боятся только трусы…
— 4-
Однако даже такая исключительно счастливая жизнь не может уберечь нас от ударов судьбы.
Елизавета похоронила своего мужа и долго оставалась безутешной..
Федор Иванович принадлежал к старшему поколению, и это обстоятельство как будто делало скорбное событие естественным.
Яростная в своем отчаянии, как всегда мятежная, она не показывалась никому первые шесть недель своего вдовства. Она закрылась в своей комнате в непроницаемом мраке и лежала в постели, хотя и была совершенно здорова. Один на один со своим горем она давала ему молчаливое и ожесточенное сражение, чтобы вернуться, в конце концов, к спокойной и тихой жизни. Ее никогда не видели плачущей. Только служанки знали, какими мокрыми от слез бывали ее подушки.
Но время лечит. Она была еще совсем молодой, и жизнь готовила ей испытания.
Вскоре княгиню вновь ждало огорчение.
Старший сын Петр, крестник императрицы Екатерины П, необыкновенно одаренный, душевный и обаятельный мальчик одиннадцати лет был назначен командиром полка, в который был зачислен императрицей еще при рождении почетным офицером.
На параде перед солдатами он очаровал императрицу своею детской красотой.
В возрасте 20 лет он женился против материнской воли на девице из опальной семьи. Невеста была восхитительно прекрасна, но когда юная пара пала к ногам Елизаветы, чтобы испросить ее благословения, они встретили лишь ледяной холод. Глядя на слезы своей невестки, она произнесла: «Теперь я пониманию эту глупость Петра».
Великолепный портрет старшего сына в гусарском мундире, с золотыми, блестящими под пудрой волосами висит в старинном кабинете Елизаветы Петровны в Покровском. Это лицо, совершенно прекрасное, с удлиненными мечтательными и нежными глазами и грустной улыбкой спустя шестьдесят лет заронило в сердце его внучки первую идеальную любовь. Девочка тайно обожала эти черты, полные невыразимого очарования, притягивающие к себе взгляд, и прятала свои чувства с ревнивой тщательностью, чтобы никто не заметил, как часто она с замиранием рассматривает портрет.
Злопамятность матери нанесла Петру смертельную обиду, переполнявшую сердце. И когда в своей уязвленной материнской любви и гордости она не сказала сыну на прощание ни одного ласкового слова, он сказал юной жене, что и она сама отныне никогда не сможет смягчить жгучее разочарование. Вовлеченный в круговорот наполеоновских войн, он прожил недолго и умер молодым, вдали от дома, с именем матери на устах.
После этого сокрушительного несчастья Елизавета Петровна увиделась со своими внуками — мальчиком и двумя девочками, которые явились отныне единственной отрадой в ее безутешной скорби.
Чтобы исполнить свою страстную волю, она согласилась принять невестку в своем доме. Она диктовала завещание, лежа в постели, в темной комнате, прикрыв глаза…
Жестоко страдая, она старалась приблизиться к уцелевшему сыну, грустному и болезненному Дмитрию, сильно уступающему во всех отношениях старшему брату, так мало любимому по сравнению с ним. Оберегая его как единственную законную надежду, она невольно тиранила его. Он не должен был умереть, но, оставаясь живым, он всю жизнь скрывал от матери свою недозволенную привязанность, о которой она узнала только у его могилы…
Внуки принадлежали ей всецело, даже больше, чем она могла надеяться.
Их мать не могла перенести авторитарного гнета Елизаветы Петровны и предпочла отказаться от детей. К счастью, эта пустота была скоро заполнена: женщине удалось выйти в провинции замуж. Прячась от гнева Елизаветы, она навсегда отправилась в ссылку — далеко от детей первого мужа.
И дети не простили ей предательства памяти отца. Дети, права на которых ожесточенно оспаривала их мать, должны были стать безмолвным орудием судьбы для наказания гордыни и деспотизма.
Но в начале века час возмездия еще не наступил.
Княгиня Елизавета продолжала свое триумфальное шествие, не участвуя лично в тех событиях, которые грозили бедой ее родине и привели в 1812 году к великой драме — нападению французов на Россию.
Тогда же она была вовлечена и в историю со значительным наследством своего кузена, влюбленного в нее в юности. Его любовь в силу внутренних противоречий переросла в ненависть.
Всю глубину разочарования и великодушия его натуры блестяще продемонстрировало его абсолютно противозаконное завещание: свое огромное наследство он завещал женщине, на которой женился при двусмысленных обстоятельствах. Права Елизаветы Петровны были неопровержимыми, но она не хотела и слышать об оспаривании завещания: «В нашем роду никто никогда не судился!» — надменно заявляла она законникам, настойчиво требовавшим пересмотра дела.
Богатства ее старинного воздыхателя достались насмехавшейся над ней авантюристке, отказавшей в единственной просьбе — передать ей бальное платье, отделанное драгоценными камнями, принадлежавшими венценосному предку. Дерзкая вдова ответила, что сама рассчитывает надевать этот костюм на маскарады.
Денежные проблемы снова возникли перед ней, когда ее подруга Пушкина пережила финансовую катастрофу. Чтобы помочь Пушкиной, Елизавета без колебаний заложила Государственному Банку свои имения под Ярославлем. В те времена собственность в России измерялась не капиталом, а количеством крепостных. Управляющие предлагали ей увеличить значительно заниженный оброк, который она получала с крепостных. Это легко покрыло бы дефицит, образовавшийся из-за ее щедрости. Она категорически отказалась:
— Это неверный шаг.
— 5-
Когда разразилась великая катастрофа войны с Францией, она жила во дворце на подступах к Москве.
Наполеон уже занял Смоленск, а Елизавета Петровна мирно предавалась своим ежедневным занятиям.
Все бежали вглубь России. Друзья приезжали слезно прощаться. Снисходительно усмехаясь их душевному волнению, она принимала их среди распустившихся под горячими лучами осеннего солнца цветов. Необыкновенная красота той осени предвещала сказочные морозы грядущей зимы.
В эту бурю, гораздо более серьезную, чем когда-то пережитая на озере Селигер, ее бесшабашная отвага, слишком известная окружающим, могла привести к трагическому финалу. Но ни один человек ее окружения, почтительно склонявшийся перед своей госпожой, не решался ей противоречить. Сын Дмитрий, которому она запретила идти на войну с французами вместе со сверстниками, остался подле матушки, бледный и немощный, с омертвелой душой. Ее горничные плакали. Внучки дрожали в своих детских кроватках на третьем этаже дворца, когда бонны рассказывали им о призрачном Корсиканском Людоеде. Только Елизавета расхаживала своей обычной походкой по саду среди роскошных хризантем и деревьев с краснеющей в преддверии осени листвой.
Внезапно по Москве прошел смертельный трепет.
Сладостную тишину окрестностей разорвал глухой рокот пушечных залпов. Это было Бородино. Битва за Москву началась.
Обитатели Покровского в ужасе бросались на землю, прижимаясь к ней ухом, чтобы лучше расслышать шум далекой артиллерии.
Только Елизавета снова оставалась спокойной, играла со своим шутом и находила, что не время волноваться, когда Француз подошел вплотную к Покровскому.
— По крайней мере, будет с кем поговорить, — казалось, всем своим высокомерным видом показывала княгиня.
Одетая в деревенский костюм по моде прошлого века, в платье, вытканное шелком с отделкой, подчеркивающей ее элегантную и тонкую фигуру, она отправилась в домовую церковь. Неожиданное зрелище предстало перед ее взором: огромная толпа окружила храм, повсюду стояли лошади, запряженные в разнообразные повозки. При появлении Елизаветы толпа упала на колени. Это была целая коммуна, вотчина, из ее ярославского имения. Все крестьяне приехали, чтобы уберечь ее от опасности, увести в фамильные имения. Старосты поднялись ей навстречу и твердо объявили, что не намерены оставлять здесь на милость врага ни ее, ни детей, что у них она будет укрыта — Ярославль, благодаря своей удаленности от театра военных действий, не досягаем для французской армии.
То, чего не смогли добиться ни страдающий сын, ни друзья со своими убедительными аргументами, ни дворня со своими слезами, в одно мгновение как громом поразило и растрогало ее. Она благодарила своих крепостных со слезами на глазах, а плакала Елизавета Петровна только, когда теряла близких. Она была побеждена.
Пока она стояла службу, с великой и тревожной поспешностью шли приготовления к отъезду. Вовсю звонили колокола. Когда княгиня вышла из церкви, карета с детьми, готовыми к переезду, уже ожидала ее у паперти.
Вся громадная дворня господского дома вместе с хозяйством погрузилась на телеги, присланные из Ярославля: кухарки со своими кастрюлями и тарелками, конюхи, домашняя утварь, домашние животные, карлики, шуты, калмыки, — все откликнулись на зов, вплоть до негра-гиганта Помпея, устроившегося на запятках кареты, «чтобы распугивать французов», как объяснил он двум испуганным и молчаливым горничным девочкам, высунувшимся из кареты, в то время как их брат радостно орал ура.
Елизавета, молча, бросила последний взгляд на покинутый дворец, хранительницей которого она собиралась быть до конца дней, и осенила себя крестом: увидит ли она его когда-нибудь…
Под аккомпанемент раскатов боевых орудий длинная процессия пустилась в путь…
Вскоре после этого на кровати с украшенным золочеными купидонами балдахином, принадлежавшей непримиримой хозяйке дома, спал французский маршал Даву.
— 6-
В семейных анналах эпизод с отъездом в Ярославль рисуют в не слишком темных тонах.
Он не был тяжелым — так как тамошние крестьяне были заняты на промышленных работах, жили богато, имели просторные и удобные жилища. Гостеприимство, которое они с удовольствием проявляли, не оставляло желать лучшего.
Впрочем, людей тревожили другие мысли: все жили, мысленно находясь на далеких полях сражений, которые прежде были такими близкими. Гром самых грозных залпов долетал до Ярославля.
Долго Россию считали потерянной.
Наконец, отступление Наполеона началось… и изгнанница могла вернуться к очагу, который считала разрушенным. Но и в этом катаклизме ее звезда осталась ей верна: вернувшись в Москву, она обнаружила среди всеобщего разрушения свое наследное имение нетронутым — его сохранил французский маршал — начальник квартала.
При аналогичных обстоятельствах уцелело и Покровское.
Москва воскресла из пепелища с удивительной быстротой.
Общественная жизнь мало-помалу вновь вступала в свои права, и к концу года Елизавета Петровна вернулась в свет и вновь собирала по воскресеньям у себя и в часовне своего дома.
Она вспомнила свои старые привычки, восстанавливая заведенный порядок утренних рабочих докладов. Теперь они стали еще более активными и обстоятельными из-за вызванных войной финансовых потрясений, с которыми она боролась с незаурядной изобретательностью и энергией. Объемные управленческие архивы, написанные ее рукой, являются неопровержимыми свидетельствами ее усилий.
Среди документов наиболее любопытным является письмо к правительству, в котором она просит выделить материалы для восстановления трех ее домов, разрушенных во время обороны Москвы. Что особенно поражает, в своих посланиях она обращается к правительству не как вдова, вместо этого она подписывается невероятной формулировкой «супруга покойного генерал-аншефа» такая-то. Она не желала склониться даже перед великой безвозвратной утратой! Во всех делах ее проницательный ум находил возможность решения, и рядом с этими мужскими качествами ее женское отвращение к принятию свершившегося факта было еще более поразительным.
Было ли это вопросом самолюбия, восставшего против потери или непобедимый сентиментальный ужас осознания невосполнимой утраты? Теперь уж никто не узнает!
Все это время ее внуки воспитывались в строгих правилах, диктуемых военной ситуацией, подрастали в ее тени. Но ее сын, тихий и молчаливый Дмитрий удалялся от нее все дальше, его здоровье ухудшалось из года в год, и однажды ночью он умер, как и предчувствовала его мать.
Еще один раз — последний в ее жизни — смерть коснулась ее своим крылом и отняла самое дорогое. Еще один раз все погрузилось в непроницаемый моральный и материальный мрак, окружавший ее в ее вдовстве. Как и в прошлый раз, она пережила его, верная своей натуре, владея собой и другими, и хотя жестокое раскаяние только усиливало ее страдания, она не показывала свои раны никому.
Без видимой дрожи в голосе она читала записку сына, где он упоминал о неутешном горе, вызванном тем, что он остался в стороне от великой национальной эпопеи. Не медля ни мгновения, она исполнила его волю по отношению к его незаконной семье, о существовании которой не подозревала.
С этого момента что-то в ней переменилось. Вспышки веселья, иногда пронизывавшие ее обычную суровость, исчезли. Больше никто не слышал ее смеха, ставшего столь же редким, как и слезы. Почти религиозный страх, который она внушала и в котором она, казалось, находила своеобразное очарование, только увеличился. Ее продолжал лелеять свет. Ее мнение было законом.
Во время ее пребывания в Москве она была осыпана милостями двора.
Долгое время она служила придворной дамой. Императрица-мать засвидетельствовала ей свою особенную истинную любовь, и, хотя ее честолюбие всегда было ее уязвимым местом, но в этом отношении она была удовлетворена. Казалось, сухая, в последние годы она принимала свою долю совершенно безропотно. Но в отношениях с государями она всегда умела найти верную ноту, такт и безупречное чувство меры, чем и объясняется особое покровительство, которое ей постоянно засвидетельствовали. Она была выше того, чтобы просить что бы то ни было для себя или своих близких. С равными у нее были превосходные надежные отношения. Благодаря своей выдержке она могла много совершить. Ее прекрасные манеры так высоко ценились, что к ней приводили девиц, которым предстоял дебют при дворе, чтобы они увидели идеальную модель для подражания. Ее общества искали мужчины всех возрастов, но ореол, который создавали ей извне, только увеличивал ее замкнутость. Порой всеобщее уважение перерождалось в ужас.
Однажды она уличила в проступке своего главного управляющего. Она сама назначила старого слугу на эту высокую должность. Грозным взглядом строгих глаз она повергла его на землю. Приближенные хорошо понимали: когда начинают пульсировать голубовато- фиолетовые вены, подчеркивающие чрезвычайно прозрачную кожу лица и великолепные глаза княгини, лучистые и удивительно молодые, — это предвещает грозу. Несчастный управляющий много дней ходил буквально разбитый этим взглядом, воздействующим на него, по его собственным словам, физически. Несмотря на проступок, он был всецело предан своей хозяйке, за что, умирая, она завещала ему за службу коллекцию драгоценных тарелок, приобретенную по случаю.
Другие тряслись перед ней, буквально теряя рассудок.
Отец Виктор, служивший в часовне, юный, прекрасный как Святой Себастьян, умный. Пылкий, озаренный пламенем самой искренней набожности, благодаря которой он позднее стал знаменитым миссионером, однажды с изумлением застал ее у внучек, где тайно собиралось достаточно многочисленное общество. Все в доме делалось тайно, самые невинные занятия скрывались как преступные.
Вдруг услышали, как во дворе разворачивается экипаж:
— Елизавета Петровна! — закричали потерянные слуги.
Одним движением отец Виктор оказался под софой и спрятался, накрывшись платком. Тревога была напрасной, но ужас, пережитый бедным монахом, и унижение, испытанное им перед одним из божьих созданий, которым он служил, были безутешными.
Княгиня Элиза Щербатова, племянница Елизаветы Петровны, тоже боялась ее до крайности. Однажды она от волнения упала на пол вместо того, чтобы сесть на стул после поклона. Под пронзительным взглядом тетушки она потеряла чувство дистанции и промахнувшись, упала. Неловкость ситуации, в которую попала бедная мадемуазель, растянувшись на ковре, усугубилась тем, что, падая, Элиза громко закричала.
Сын от второго брака ее невестки, тайно привезенный в дом, не мог заснуть в комнате, расположенной под покоями хозяйки этих мест.
Она была окружена церемониалом, продуманным до мелочей.
Во время первого завтрака вокруг княгини стояли внук и внучки в сопровождении воспитателя и гувернантки. Тут же стояли главный управляющий и его помощник: они отчитывались о предстоящей работе.
Однажды Елизавета Петровна, будучи в хорошем настроении, чрезмерно затянула утреннюю церемонию, и ее старшая внучка Натали, девочка слабая и болезненная, потеряла сознание от усталости.
Пока шла княжеская беседа, никто не имел права к ней обращаться, но во время каждой трапезы двадцатилетняя Натали, несмотря на то, что ей исполнилось уже двадцать лет, должна была спрашивать разрешения для себя, брата и сестры откушать подаваемое блюдо. Этот обычай был столь унизительным для тихой юной девушки, что, несмотря на гнев брата и сестры, обладавших отменным аппетитом, она частенько предпочитала лучше отказаться от еды, чем о чем-то просить в голос. Все трое должны были пользоваться детскими столовыми приборами — их бабушка приходила в ужас от любых перемен.
Эта анекдотическая ситуация прекратилась только, когда высокопоставленный чиновник, прибывший из Петербурга, выразил по этому поводу свое недоумение.
И туалеты двух юных барышень были крайне детскими и простыми настолько, что в один прекрасный день, когда великая княгиня Елена приехала в Покровское и захотела их увидеть, их камеристки в спешке побежали в сад, где прогуливались внучки, и надели поверх лохмотьев платья из гардероба бабушки.
Вечером барышни сидели подле Елизаветы Петровны, не смея открыть рот и судорожно сжимая в руках вязание.
Ее тирания не была связана ни с жестокостью, ни с равнодушием.
В откровенной беседе с одним из друзей молодости Елизавета призналась, что она пытается вылечить свою душу:
— Думаете, — говорила она грустно, — я не отдаю себе отчет в том, что эти причуды делают из меня чудовище? Эти дети не должны быть ни в чем на меня похожи.
Воскресные и праздничные дни она отправлялась в домашнюю церковь, проходя сквозь толпу, склонившуюся перед ней в молчаливом почтении. Многочисленные приживалки (барские барыни) в огромных, украшенных лентами чепцах, приветственно кланялись ей до самой земли.
— Складываются как перочинные ножики, — пренебрежительно говорила она внуку, у которого легкая походка и чрезмерный аристократизм бабушки вызывали жгучее стремление к свободомыслию.
Он стал демократом настолько, насколько это было для него возможно, в то же время искренне преклоняясь перед наиболее автократичным монархом на земле, императором Николаем 1. Волей обстоятельств молодого человека скоро вынесло из круга, в котором он задыхался: подобно своим предкам, он стал солдатом, что совершенно соответствовало его желанию.
По этому случаю, Елизавета Петровна в очередной раз продемонстрировала свое непоколебимое высокомерие.
Речь идет о предоставлении внуком документов, подтверждающих знатность происхождения, то есть родословных грамот и т.д., необходимых для его зачисления в гвардейские офицеры. Это была чистая формальность, однако бабушка внезапно стала противиться.
— Я не желаю, чтобы мой внук представлял какие-то бумаги как какой-нибудь булочник! — таков был ее ответ на все запросы.
Ее ответ был связан с тем, что будущий начальник Федора был немцем благородного происхождения. И всех тогдашних московских булочников она зачислила в немцами — считая это презабавной шуткой.
Вопрос окончательно разрешился, когда император Николай, узнавший об этих спорах, отдал распоряжение подчиниться ее фантазиям и позволить занять внуку подобающее место без предварительного предъявления документов.
— Вот как следует защищать достоинство, — заключила победившая в борьбе гран-дама.
— 7-
После отъезда внука и начала его военной карьеры Елизавета Петровна должна была объявить о представлении в свете старшей внучки.
К грациозной и обаятельной Наталии она тайно чувствовала особое расположение, в отличие от ее сестры Полины — та напоминала ненавистную невестку, не слишком умную и ничем не похожую на родных по линии Елизаветы Петровны. Напротив, Наталия была живым портретом мужа, покинувшего мир столько лет назад, но ревностно хранимого в памяти княгини. Наталия была так же ангельски добра, как и ее дед, имела такие же тонкие и правильные черты лица и его особенные, бесконечно нежные карие глаза — «голубиный взгляд», как говорили о ней окружающие.
Елизавета Петровна в своей высочайшей и почти непроизвольной сдержанности, с верностью этикету, благодаря которому ее и детей разделяла китайская стена, не отдавала себе отчет в том, какие совершенные манеры она привила своей внучке, усердно воспитанной французскими гувернантками. Однако со своей обычной проницательностью она могла это оценить. Когда хрупкая девочка тяжело заболела, княгиня, изменяя своим привычкам, удивила весь свет своею материнской заботой и хлопотами. Она неотлучно находилась у изголовья Натали, доставляя больной настоящие мучения. Но как только та выздоровела, к Елизавете Петровне вернулись ее непроницаемая, ледяная сдержанность, с которой она более не желала расставаться даже во время представления внучки свету.
Первый бал Натали стал значительным событием ее жизни. Запертая до этой поры в первом этаже дома, она и ее сестра могли наблюдать московское общество только сквозь фимиам домашней часовни, где девочки показывались очень плохо одетые, заплаканные, униженные и оскорбленные.
Великий день первого бала все изменил.
На ней было белое платье из газа и сатина, ее первое длинное платье, волосы были приподняты и заплетены в «узел Аполлона», из которого выбивались длинные, тщательно уложенные локоны. Сестра смотрела на нее так, будто видит в первый раз:
— Мне кажется, ты красавица.
— И мне тоже, — краснея, ответила Натали.
Как только она появилась на балу, ее тотчас предупредительно окружили. Каждый знал, какой грустной была жизнь этой девочки, и старался сказать что-нибудь ласковое.
— Почему же мне говорили, что свет зол? Я вижу только великодушие и бесконечную доброту.
С первыми звуками музыки, показавшейся ей небесной, ее пригласили танцевать.
Перед балом, бабушка позволила ей выбрать в буфете конфеты, сахарных человечков и леденцовых петушков, подвешенных, как на ярмарке, на розовых лентах. Они были для девушки желанным и новым лакомством. Когда закончился вальс, Натали тихонько подошла к буфету, испуганная собственной своей дерзостью. Блестящий военный, заметив ее смущение, принял ее за ребенка и фамильярно спросил:
— Вы, наверное, хотите конфет?
— Да, сударь.
— С собачками?
— Да, пожалуйста.
Он взял много конфет, насыпал их в бумажный кулек и положил на окно, прикрыв шляпой.
— Как же матушка оставляет вас одну в зале в вашем возрасте?
— Сударь, мне восемнадцать лет!
— Правда? Я удивлен. Через несколько лет вы приняли бы мою ошибку за комплимент.
В конце бала Наталия взяла пакет и отдала бабушке, которая была неприятно удивлена его величиной.
— Как же ты все это взяла?
— Один генерал мне дал.
— Какой еще генерал?..
Этот вечер не имел продолжения для Наталии.
Юный генерал с конфетками безумно влюбился и предпринимал безнадежные попытки приблизиться к ней. Он даже хотел просить ее руки, прибегнув к посредничеству императора, у которого был в фаворе. С первыми предложениями он обратился к Елизавете Петровне и терпеливо выслушал перечисления достоинств других претендентов. Он напрасно полагал, что его боевая доблесть и семь перенесенных ранений дадут ему некоторое преимущество перед ними — ироничный вердикт княгини был иным:
— Это обязанность императора заботиться о своих инвалидах, а отнюдь не моя.
Ни один из вариантов замужества не представлялся княгине достойной ее девочек. Сохраняя ужас перед любыми переменами, она последовательно отклоняла все предложения претендентов.
— 8-
Годы сжались в воображении Елизаветы Петровны и, казалось, не оставляли никаких следов ни на ее высохшем лице, ни на ее тонкой талии, ни на вечно прямой спине, которую ничто не сгибало. Ее прекрасные золотые волосы побелели, но все еще были густыми и длинными. Психологически, однако, она стала мягче, хотя и не отказалась от своих привычек. Она читала мало, избирательно, не пользовалась очками, и ее необыкновенная память исправляла ляпсусы воспоминаний о юности.
В богатстве, окруженная почтением она была объектом зависти для своих редких современников.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.