
Бесплатный фрагмент - Страницы жизни
«В небесах отгорели зарницы…
И в сердцах утихает гроза…
Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза…
Ничто на земле не проходит бесследно…»
Александр Градский
(Текст песни)
Предисловие
Взялся за воспоминания я в первую очередь из соображений навести порядок в фотографиях, которые, с крайне скупыми пометками, хранились частично в альбомах, а большей частью в беспорядке. Просматривая эти фото, я обнаружил пробелы не только в представлении информации о жизни тех лет (тогдашняя техника не всегда отвечала отражению событий на жизненном пути), но и, что более существенно, обнаружились пробелы в воспоминаниях о многих важных жизненных моментах. Совместными усилиями, вместе с Леной, моей женой, попытались решить эти проблемы.

Появился я на свет 23 июня 1937 года. Плод счастливой любви и несчастного времени. Да, оба эти фактора сказались в дальнейшем на развитии и формировании моей личности. Хочу оговориться, что я старался воспроизвести события как можно правдивее, хотя могут быть и некоторые неточности. Прошло слишком много лет, нет дневниковых записей и главные участники событий, учитывая время, в котором мы жили, не считали возможным делиться тогда со мной происходящим в стране и с ними (это один из факторов, упомянутых выше). По этой же причине я никогда не интересовался своим происхождением, полукровка — кто я больше еврей или русский. Я читал книги на русском языке, общался со сверстниками исключительно в русской среде. В доме я никогда не слышал ни одного слова на идиш или иврит. Меня не крестили ни в какую веру. В стране царил атеизм. Меня никогда не тянуло в церковь, даже просто зайти полюбопытствовать. Мне это было неприятно. Я считал себя русским и по паспорту записан русским. Конечно это тоже была защитная мера со стороны родителей по отношению к своим чадам, опять же характерная для того времени.
Но вот прошли годы, и хотя никаких побудительных мотивов к этому нет, и не было, я почувствовал «зов крови». Лена в корне не согласна с этим. Генетика не связана с разумом. Я не знаком ни с религией, ни с историей, ни с языком Израиля. Она считает, что все это навеяно внешними факторами. Возможно, что так и есть и, скорей всего, это разрядка на реакцию всех предшествующих лет. Действительно накипело. «Пятый пункт», который мешал и поступлению в институт, и продвижению по карьерной лестнице, и получению почетных наград, вроде бы, ушел в прошлое и можно не стесняться звучанию твоей фамилии в общей массе.
Мэтры нашей эстрады Кобзон, Жванецкий, Хазанов, Шифрин и др., все громче заявляют о своей принадлежности к еврейской нации, народу, который дал миру огромное количество выдающихся музыкантов, писателей, ученых, финансистов мирового уровня, и который, по-прежнему, в умах многих людей не только в нашей стране значится изгоем. Как созвучно это со словами поэта Андрея Дементьева, прожившего в Израиле много лет:
…..На Святой земле, как прежде, в декабре цветут цветы.
Жаль, бываем мы все реже в этом царстве красоты.
Жаль, что жизнь здесь стала круче
с взрывчаткой и стрельбой.
И страданием измучен, стал Израиль моей судьбой.
И, хотя еврейской крови нет ни в предках, ни во мне,
Я горжусь своей любовью к этой избранной стране.
Четвертый год живу средь иудеев.
Законы чту и полюбил страну.
И ничего плохого им не сделав, Я чувствую в душе своей вину.
Не потому ль, что издавна в России таилась
к этим людям неприязнь.
И чем им только в злобе ни грозили!
Какие души втаптывали в грязь!
Простите нас… Хотя не все виновны.
Не все хулу держали про запас.
Прошли мы вместе лагеря и войны.
И покаянье примиряет нас.
Дай Господи Земле обетованной на все века надежду и покой.
И кем бы ни был ты — Абрамом иль Иваном,
Для нас с тобой планеты нет другой.
Прошел почти год, как я начал писать эти заметки, делился их содержанием с Леной, и вот на днях узнаю интересные подробности, касающиеся памятника А.С.Пушкину. Оказывается, Пушкин нарисовал проект памятника, который он хотел бы видеть на своей могиле в Святогорском монастыре. С этой просьбой он обратился к Наталье Николаевне, и она ее выполнила после смерти поэта, несмотря на противодействие со стороны Бенкендорфа и Николая I. А трудность заключалась в том, что в центре лаврового венка Пушкин пожелал видеть магендавид. Он считал, что его древний род и происхождение, напрямую связано с иудейским родом царя Соломона, и он должен это увековечить. Наталья Николаевна была шокирована, но не могла не исполнить последнюю волю мужа. Сложнее оказалось принять решение Николаю I: «Я загнал этих жи…, евреев в зоны оседлости, а тут в центре европейской части России будет красоваться шестиконечная звезда Давида».
Кое-что о фамилии Гилерович, почерпнутое из сохранившихся фото и воспоминаний близких
Мои родители внесли достойную лепту в строительство жизни в СССР. Начиная с 1929 года, отец принимал самое активное участие в телефонизации всей страны от дальнего востока и до Калининграда, от Тбилиси и до Мончегорска. Его прекрасно знали в Киеве, Минске, Ижевске и других городах, о чем я мог убедиться лично при посещении этих мест во время моих командировок в зрелые годы. Мама успешно занималась решением вопросов спецсвязи в городах Рига, Днепродзержинск. Несмотря на все трудности чего-то достиг и я в этой жизни. Да и благодаря успехам Лены на научном поприще фамилия Гилерович вполне достойно звучит не только в интернете. Мне нечего стесняться и пора вылезать из раковины, в которую тебя упрятали родители и обстоятельства недавнего прошлого. Нет, я уже не поеду на войну в Палестину, но я, по крайней мере, хотя бы мысленно хочу быть с этим народом. В этой связи мне захотелось узнать хоть что-нибудь и о своей фамилии.
Естественно сегодня — это обращение к интернету. Но интернет это техника последних десятилетий и все, что можно найти в сети, касающееся «маленьких» людей крайне незначительно. Фамилия Гилерович, согласно интернету, происходит из Польши или соседних с ней стран (Белоруссии и Украины). Исторически фамилия образовалась от прозвища или имени, данных далекому предку. А также возможно, что фамилия привязана к роду занятий или профессии. Основное словосочетание в фамилии происходит от прозвища Гиль. Гилями на Руси называли шутников и балагуров.
Относительно большая часть носителей фамилии Гилерович относилась к польской шляхте. Однако эта фамилия часто встречается и среди евреев, происходящих в свое время из украинских, польских или белорусских областей. По этой версии фамилия представляет застывшую форму еврейского мужского имени Гиль, которое в переводе с иврита означает «радость». Часто фамилия происходила не только по мужской, но и по женской линии. В известных исторических материалах люди с этой фамилией являлись знатными персонами из русского новгородского купечества в 15—16 веках, имевших определенную царскую привилегию. Первые свидетельства фамилии можно обнаружить в реестре переписи населения Руси в эпоху правления Ивана Грозного (в постановлениях городища Рязань 1458 года упоминается офеня Селиван Гилерович). У царя хранился особенный реестр знатных и красивых фамилий, которые давались придворным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому фамилия Гилерович является редкой и исключительной.
Сегодняшний интернет пестрит упоминаниями о работах моей жены и презентациях москвички Ольги Гилерович. Я написал Ольге письмо с просьбой ответить: имеем ли мы какие-либо родственные связи, но она не сочла нужным отвечать. Другой путь — социальные сети. Но и здесь меня ждало разочарование. В «Одноклассниках» — два упоминания о некоей Светлане Гилерович, живущей в Израиле, и Галине Гилерович, проживающей в Москве. Светлана, судя по всему, носит фамилию мужа, так как она эмигрировала из Молдавии. Лет ей всего тридцать два года и мое обращение к ней она проигнорировала. Другая девушка, напротив, с удовольствием поделилась всеми своим родственниками, живущими в Москве и дальнем зарубежье. Она на фотографии удивительно похожа на мою бабушку, но, к сожалению, пути моих родителей и ее родственников, впрямую, не пересекались.
В интернете нашел данные на некоего Турека Александра Матвеевича (родился в 1939 году), предположительно сына Матвея Турека, двоюродного брата моего отца (помнится, он постоянно упоминал «Мотьку Турека», с которым они учились вместе в Петрограде), отправил письмо в Москву с фотографиями прадеда и прабабушки, но ответа не получил. Согласно адресной книге в Санкт-Петербурге старше 70 лет значусь только я, тогда как в Москве таковых под фамилией Гилерович — 6 человек. Нашел я под этой фамилией в США 7 человек, но думаю, что ко мне они прямого отношения не имеют.
Прародители по отцовской линии
Мой отец, Гилерович Матвей Михайлович, происходил из бедной еврейской семьи. Отец — портной, мать — домохозяйка. Согласно Удостоверению, выданному ЗАГС Коломенского района города Петрограда на основании представленных документов «у граждан Хамма Берковича и Веры Янкелевны, супругов Гилерович, имеется сын Мордухай Гилерович, родившийся шестого ноября тысяча девятьсот четвертого года». Пишу я об этом, потому что это единственный документ, не считая двух детских фотографий, сохранившийся в семье. После смерти моей тети Маруси ее «воспитанница» Татьяна Приходько передала старый сафьяновый альбом с медной застежкой, в котором были фотографии родителей отца и некоторых их родственников. Конечно, никаких записей не было. По отдельным заметкам на обратной стороне пытаюсь восстановить генеалогическое древо хотя бы с этого момента
Корни семьи тянутся в Старую Руссу. Почему я так, (в меру известных подробностей) останавливаюсь на этом. Мне хотелось бы для будущих потомков донести историю скромной семьи. К сожалению, пока не удается продвинуться дальше этого. Но может быть я все-таки смогу вырваться в Старую Руссу, поискать архивы, побродить по кладбищу. Правда на сегодняшний день все это проблематично и по другой причине. В 1941 году все еврейское население Старой Руссы (3800 человек) было уничтожено.
Когда Гилеровичи покинули Старую Русу мне неизвестно, но в начале 20 века они обосновались в Санкт-Петербурге. Дед продолжил портняжное дело. Основной его работой было обслуживание офицеров Конногвардейского полка. В 1914 г. отца отдали в «Реальное училище», которое помещалось на 12 линии Васильевского острова, и где он проучился до 1918 года. Бабушка и дедушка умерли в 1917—1918 годах. По линии отца у Гилеровича Берха были три сына: Соломон, Хамм и Урий. Хамм (Михаил Борисович) — мой дед. О судьбе Урия ничего не известно. Соломон, прекрасный краснодеревщик, однажды после войны навещал наш дом. Ему тогда было больше 70 лет. Жена его, Паня, была очень красивой женщиной и отец всегда ей восторгался. Дед Соломон умер в 1954 году, Паня — 1960. От их брака был сын Гилерович Б. С., который умер в 1996 году. О дальнейшей судьбе этой линии я ничего не знаю.
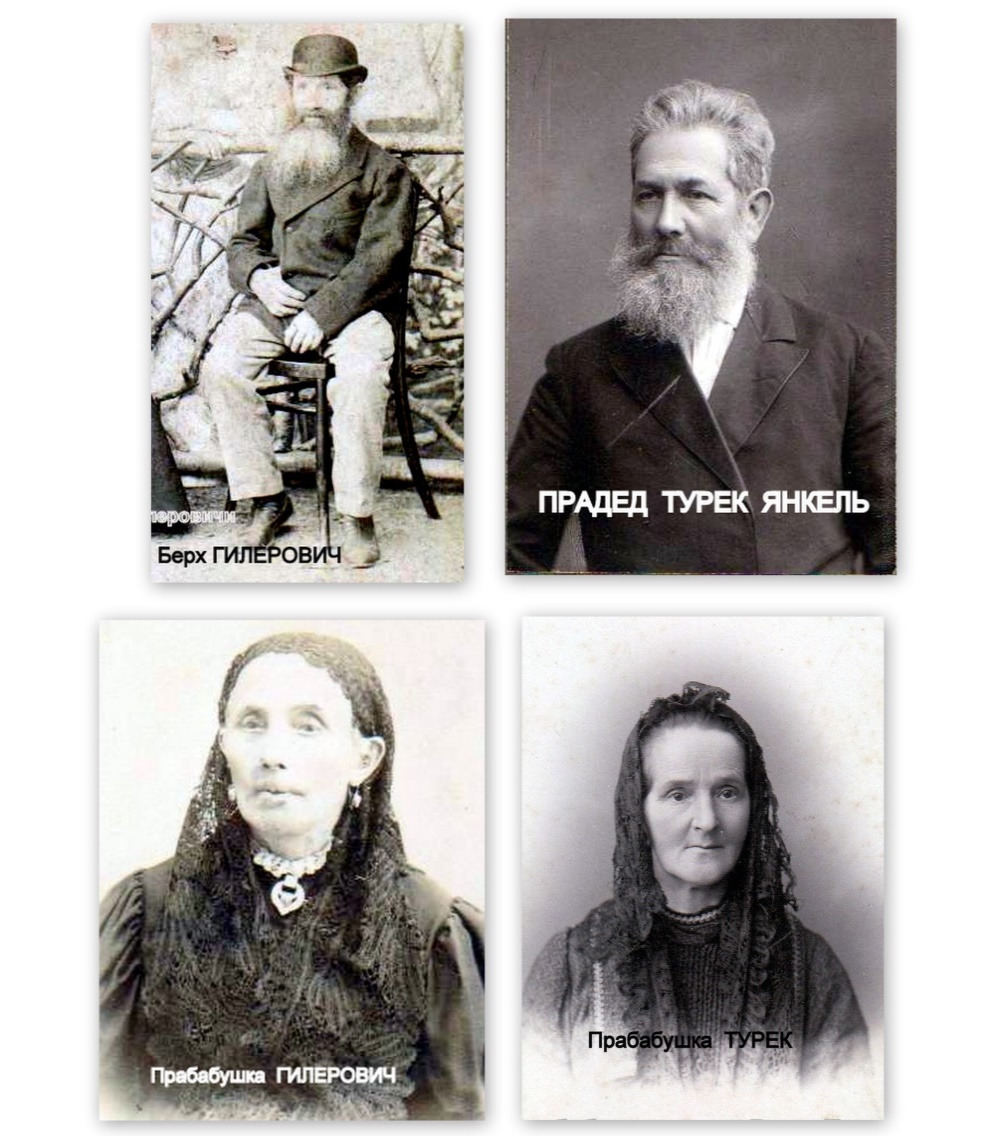
Моя бабушка по отцовской линии, Вера Яковлевна (Янкелевна), была из рода Туреков. С ней я никогда не виделся. Она слишком рано умерла от туберкулеза, в 1923 году, и похоронена на Преображенском (Еврейском) кладбище. По этой линии у Турека Янкеля (предположительно) были дочка Вера (моя бабушка), сын Даля Турек. О других детях мне неизвестно. Сын Дали, Матвей, дружил с отцом.
Но это было все до 1914 года, до первой мировой войны. Когда смотришь на эти странные отношения и межсемейные связи удивляешься — разве это свойственно еврейским семьям, как правило, держащимся друг за друга, терять своих близких и родственников. Этого не было до революции. Корень зла — в сталинской национальной политике, я думаю.
От брака Хамма Гилеровича (мой дед) с Верой Янкелевной Турек родились Ася, Мария, Бася и Мордух (Матвей Михайлович) — мой отец. Ася умерла в 1910 году. Маруся всю жизнь проработала на телеграфе, истинная партийка, незамужняя. Причиной тому явилось неприятие отцом жениха не еврея. Тетя Маруся часто бывала у нас дома, привечала и меня, и Андрюшу, и Лену. Один раз я был у нее в комнате в коммунальной квартире на Почтамтской улице. Жила она бедно, но на крохотную зарплату и пенсию умудрялась каждый раз приходить с шоколадкой, дарить и серебряную ложку, и подстаканник мне, серебряные ложки на свадьбу, серебряную ложку «на зубок» при рождении Андрюши. Как она это делала, я ума не приложу.
И сегодня, спустя много лет после ее смерти меня мучает совесть за прохладное отношение к ней, в известной мере обязанное маме, и невозможность проводить в последний путь. Эту обязанность выполнила Лена.
Бася, вторая сестра, прошла всю войну медсестрой, а после войны работала в туберкулезном диспансере. Однажды мы с отцом навестили ее. Но, то была моя первая и последняя встреча с ней. На память осталась железная коробочка от карандашей kox-i-nor, которая лежит в верхнем ящике письменного стола.
В семье отца росла еще приемная девочка Соня. С Соней отец постоянно перезванивался, она бывала у нас дома, правда не часто. Как сложилась ее судьба, я тоже не знаю. Почему семейные связи не поддерживались, трудно сказать.
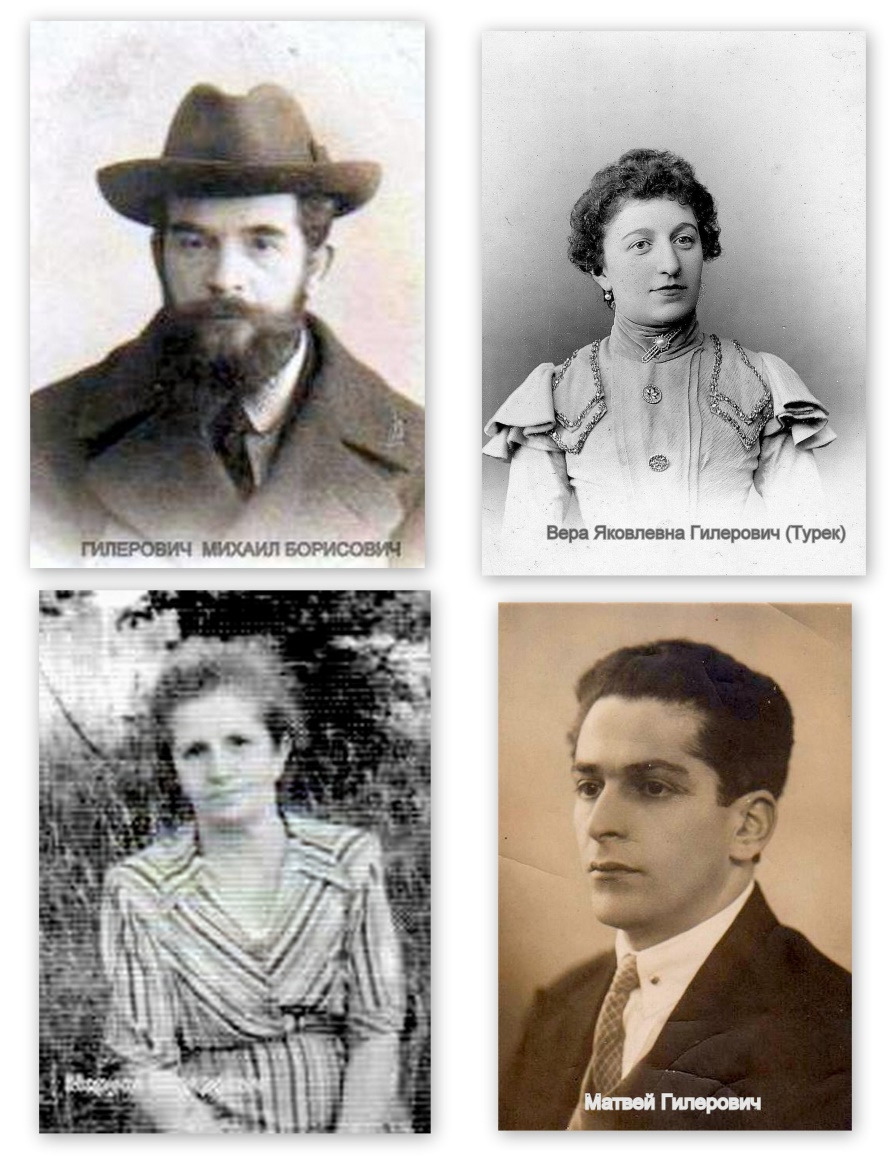
Отец
Раннее детство отца прошло в Красном селе, где его родитель кустарь военный портной находился при Конногвардейском полку. В детстве каждый ребенок хочет иметь животное, о котором он заботится. И таким объектом для отца были лошади, с которыми в конюшне он проводил все время. Будучи совсем взрослым при виде лошадей он менялся на глазах, говоря о них с такой нежностью, что можно было представить, вот стоит она рядом с тобой, и ты даешь ей хлеб, обтираешь вспотевший круп, и он блестит, лоснится на солнце.
Вместе с ними жили дедушка (тоже портной) и бабушка. К сожалению, подробностей об их тогдашней жизни я не знаю. Могу привести только один факт: на Новый Год дети получали по апельсину. Это был, по рассказам отца, большой праздник.
Мама, Вера Яковлевна, была больна туберкулезом и достаточно рано ушла из жизни, когда моему отцу еще не исполнилось 17 лет. Еще раньше он был вынужден уйти из дома, дабы не быть обузой для семьи, и в итоге попал в Трудовую колонию для несовершеннолетних «Тигода» в Любани. Что пришлось вынести мальчику еврею там, он рассказывал только моей маме. Плод счастливой любви оберегали от всех этих ужасов. Мне отец рассказывал только про замечательного человека, одного из воспитателей колонии, Евгения Максимова. Он, по профессии литературовед, один из исследователей творчества Н.А.Некрасова не только привил отцу любовь к поэзии, и, в частности Некрасова, но, и, по сути, помог преодолеть ему все тяготы колонистской жизни. Любовь к Евгению Максимову отец пронес через всю жизнь.
В колонии отец пробыл до 1922 г., откуда Петроградским Главпрофобром был направлен на краткосрочный Рабфак при Технологическом институте. Дальнейшая судьба привела отца в Ленинградский Электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) — (ЛЭТИ). Почему туда?

Поскольку он был сыном портного-кустаря, то выбор был весьма ограничен. В Горный институт, Железнодорожный институт, Политехнический институт принимали детей только с пролетарским происхождением.
Началась новая жизнь. Институт объединил самых разных людей, стремящихся к знаниям, к новой жизни, людей у которых, не было за плечами родителей, и рассчитывать им нужно было только на себя. Жизнь в общежитии на углу Каменноостровского проспекта и улицы Графтио сдружила их и родилась первая в Союзе коммуна, известная как «Коммуна 133-х». Годы были двадцатые. В двадцать четвертом образовалась эта коммуна, в двадцать пятом их было двадцать пять, а когда о них была написана книга, коммуна насчитывала 133 человека. В 1974 году коммунары собрались в ЛЭТИ на свой золотой юбилей. Я там не был, была мама. Были известные мне друзья отца, которых я встречал у нас дома: Михаил Семенович Ермолаев, вступивший в коммуну в 1924 и вскоре ставший ее председателем, Николай Михайлович Дриацкий, Григорий Заславский, Федор Дворкин, Капитолина Волкова, Дуся Головко, Борис Можевелов и другие.
В коммуне воспитывались дружба, чувство ответственности и товарищества, честность и принципиальность. Вспоминал отец: «То, что было у нас в коммуне, стало во многом прообразом нашей сегодняшней жизни. Вот, например, магазин без продавца. И контролера, заметьте. Такой магазин был у нас. Каждый брал, что ему нужно, и записывал в книгу. И почему-то ничего не пропадало. А как отмечались все большие события — свадьбы, рождение ребенка. В честь таких праздников пили тогда какао. Какао пили из фарфоровых кружек, с выгравированными на них фамилиями владельцев». Эта кружка сохранялась у нас дома. Кружку с фамилией Гилерович и номером 25 на пятидесятилетнем юбилее коммунны отец вручил Ректору Вавилову А. А., и теперь она хранится в музее ЛЭТИ.
Закончен институт. С дипломом инженера и кружкой коммунара вперед в новую жизнь.


В стране кипит стройка, нужны молодые грамотные инженерные кадры. Есть где проявить себя и по направлению Наркомата Связи отец едет в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток, Верхнеудинск, где работает прорабом, проектировщиком на строящихся объектах связи.
Затем его перебрасывают в Белоруссию. В должности Главного инженера треста связи НКС он занят строительством АТС в городах Минск и Могилев. Возвращается в Ленинград с почетной грамотой Министерства связи за досрочный пуск АТС. В Ленинграде его ждет работа в Ленинградской Телефонной дирекции сначала прорабом и затем Заместителем Главного инженера по строительству и пуску Некрасовского и Выборгского телефонных узлов. Работа успешно выполнена, отмечена правительственной наградой.
Что мне известно о жизни отца в 30-е годы. Немного. Только фотографии. Зарплата позволяла ему отдыхать на берегу Черного моря, питаться всухомятку и шоколадными конфетами в неограниченном количестве, что привело впоследствии к заболеваниям желудка и лечению в санаториях. О его увлечениях женщинами я тоже ничего не знаю. На фото приведена одна из пассий — Кето Джапаридзе, дочка одного из 26 Бакинских комиссаров, с которой его связывала многолетняя дружба. Отец не мог обходиться без женского общества. На всех фото он исключительно в кругу женщин. Да, они его любили, и он пользовался их благосклонностью. Наверно это передалось и мне. Я предпочитаю женское общество мужскому. Мне в нем уютней не зависимо от состава и возраста Я не запоминаю и не умею рассказывать анекдоты, не терплю скабрезностей и мата, обсуждения в кулуарах женщин как таковых.
Каким был мой отец? Сейчас, спустя 30 лет после его смерти, многое стерлось из памяти, но остались черты характера, присущие ему и неотделимые от него как личности.
Это его прямота и безукоризненная честность перед кем угодно. Это и спасало его в жизни и позволяло сохранять дружбу и любовь окружающих. Лично я видел, с каким уважением и почтением относились к нему бывшие рабочие-кабельщики, как выхаживала после операции районный врач уролог Бродская, посещая в течение года 2—3 раза в неделю и не требуя за это никакой платы.
Да, он был любвеобилен. Его любовь распространялась не только на семью. Он безумно любил детей. Всех и везде, красивых и сопливых, в доме, на улице, во дворе, трамвае, метро. Он просто не мог пройти мимо ни одного ребенка.
Был ли он строг? Да. Хотя, я и не могу это применить в полной мере на себя. Два раза я был порот ремнем. Причиной этому были устроенный пожар в доме и похищенные из кобуры патроны. За моей учебой он больше наблюдал со стороны, не прибегая к строгим мерам. Да это и не требовалось. Наоборот, отец старался привечать прилежание к учебе платными дотациями за каждую пятерку, но при условии, что эти деньги будут лежать на книжке и до совершеннолетия не будут использованы.
Был ли он ленив? Нет. Он был трудолюбив, как пчелка на любом поле деятельности. Это и «Гипросвязь», и дача, и работа по сбору материалов для проф. Коськина Ю. П. в последние годы жизни после первого инсульта. Об этом говорят и отзывы всех, кто его знал и работал рядом с ним и один из результатов его трудов — построенная дача.
Для отца не существовало неразрешимых задач. Он умудрялся решать любую задачу, поставленную перед ним, используя только свое обаяние и убеждения, и никогда не прибегая к взятке. Он, как фокусник, извлекал из заднего кармана колоду карт, а из нее нужных людей: родственников, знакомых, друзей, которые помогали ему достичь нужного результата.
Крайне отрицательно отец относился к накоплению. У него никогда не было сберкнижки, за исключением необходимости связанной с командировками. Ведь тогда не было таких платежных документов, как дебетовая пластиковая карта. Он гордился своей квартирой и считал, что главное, что должно быть в ней — это телефон, который связывает его с окружающим миром. Он был ярым противником дачи, машины, телевизора, считая, что отдыхать надо на юге, в санатории или доме отдыха, вместо машины пользоваться такси, а уж вместо телевизора, тем более, ходить в театр или кино. Жизнь, конечно, взяла свое, и все это появилось в нашем доме, но значительно позже, уступив веянию времени.
В то время, когда не было телевизора и программы «Время», все выписывали газеты. Выписывались газеты и у нас в семье. Это были «Известия», «Ленинградская правда» и мои «Пионерская правда» или «Ленинские искры». В семье были два читающих человека — отец и бабушка (с ее-то 4 классами церковно-приходской школы). Они прочитывали газеты от корки до корки. Отец не любил обсуждать прочитанное, но у него всегда было свое мнение, дополненное, информацией, откуда бравшейся, не знаю, по существу, происходящих в стране событий.
Отец был искренне привержен дружбе, которая родилась в коммуне 133. До последних дней оставались преданными друзьями Миша Ермолаев, Гриша Заславский, Коля Дриацкий, Али Янбулат, Виктор Федоров, Вася Скулябин, Борис Норневский, Женя Шварцман, Дуся Головко, Шура Скрипова, Рая Финкель. Как пишут друзья, они помнят отца жизнерадостным человеком, веселым, энергичным, а главное всегда добрым, внимательным и отзывчивым. В ту счастливую пору «МОТЯ» был одним из лучших парней, общение с которым доставляло радость и без которого трудно представить прошедшую жизнь в коммуне.
Встречи друзей были не частыми. Запомнилась одна из встреч у нас дома с Василием Ермолаевым после возвращения его из лагеря в Ухте, где он провел в шахте 20 лет за то, что охранял Ленина в 1917 году. Примечательно, что ни он, ни кто либо, из других друзей, не говорил ничего о власть предержащих. Возможно, с них брали подписку, а скорей всего это воспитание. Думать — думай, а не болтай. Сегодня же только немой, пожалуй, не говорит на эту тему.
У Григория Заславского я однажды останавливался, будучи в командировке в Курске, но поговорить с ним не удалось, так как в тот единственный вечер его сыновья утащили меня на вечеринку, а на утро надо было уезжать. Николай Дриацкий (с его сыном я учился до 8 класса) отмечал вместе с нами 75-летие отца. В память о нем осталась подаренная яблоня, которая в этом году дала небывалый урожай яблок. Все годы отец поддерживал тесную связь с семьей Ильи Харитонова, Заместителя Председателя Ленгорисполкома, расстрелянного по «Ленинградскому делу». Была у нас и Дуся Головко, красавица казачка, жена Главкома ВМС.
Одновременно с пуском Выборгской АТС рядом был построен дом для специалистов связи и отец как главный строитель станции первым получил в нем квартиру. В этом доме наша семья живет и поныне. Немножечко про дом. В документах по приватизации квартиры дом значится в памятниках архитектуры. Построен он в 1935 году в стиле конструктивизма, отделан мраморной крошкой. Такой отделки я в городе не встречал. Интересно другое, что по нынешним временам покажется странным. Это не конструктивизм дома «политкатаржан», и уж тем более Батенинского или Крестовского жилмассивов. Здесь смешение двух уровней комфорта. В доме три лестницы. По двум квартиры в полном соответствии с нынешними представлениями о комфортном жилье: три комнаты, раздельный санузел, ванная комната, относительно большая кухня. По третьей — квартиры двухкомнатные, без ванны, но с балконом. Зато на первом этаже большая душевая комната для общего пользования и большая прачечная с котлами и всем необходимым. Отопление в доме паровое — от своей котельной, которая находилась здесь же в подвале, ну и конечно в каждой квартире плита для готовки. Во дворе деревянные сараи для дров. До 60-х годов двор был закрытой территорией. Запозднившимся жильцам калитку в воротах по звонку открывал дворник, который жил по нашей лестнице.
Бессменным дворником с момента постройки дома и до самой смерти была Кочергина Татьяна (Тетя Таня). До постройки дома она с мужем и двумя детьми жила в ветхой избушке на этой территории. В новом доме ей предоставили небольшую двухкомнатную квартиру с подвалом, чтобы иметь возможность вести, как и ранее натуральное хозяйство. Именно ей обязаны жильцы за поддержание порядка, как в доме, так и на прилегающей к нему территории. Не знаю, за какую зарплату (сравнивая с зарплатой дворников по нынешним временам) работала Тетя Таня, но ее день начинался в 5—6 утра и заканчивался, как я говорил поздними встречами жильцов. Без всякой техники, с одной лопатой вся придомовая территория, уличная и во дворе, каждый день была убрана, так же, как и лестничные клетки. Так как в ту пору неработающих родителей не было, значительную часть времени дети были предоставлены сами себе и пригляд за ними поручался все той же Тете Тане.
Возвращаюсь к дому и курьезами с нашей квартирой. Как я уже говорил, отцу была предоставлена возможность выбора любой квартиры. Отец с его воспитанием в колонии и коммуне был бессребренником. Он сказал — зачем мне трехкомнатная квартира, нас с женой и сыном вполне устроит двухкомнатная и назвал номер квартиры, который был написан мелом на двери. Необходимо только подключить телефон. Так как телефонизация дома еще не проводилась, то телефонный провод был протянут прямо с кросса АТС на втором этаже через форточку к нам в квартиру. Когда прибили бирки с номерами квартир, то оказалось, что выбранный номер приходится на другую квартиру. Пришлось поменять бирки и с тех пор, кто приходит к нам в гости очень удивляются странному порядку чередования квартир на этажах. Номер телефона в доме также не менялся с 1936 года. Насколько достоверна эта история, не знаю (так говорил отец), но так как это был первый номер на узле, то ему присвоили номер приемной Вождя народов. С тех пор постоянно отвечая на звонки в приемную Калининского исполкома, мы говорим, что вы ошиблись номером — набирайте последние цифры 2434, а не 2437. Прошло совсем немного времени, и жизнь показала, что отец оказался прав и в выборе квартиры. Наступил 1937 год с его массовыми посадками и расстрелами. Первыми, кто попал под эту гребенку, были специалисты, жившие в трехкомнатных квартирах. Которые тут же были заселены чекистами из «большого дома».
Попал под раздачу и отец. Он был отстранен от работы в Телефонной Дирекции, как несправившийся с работой. Отец человек принципиальный и кристально чистый, зная, что его не в чем обвинить, идет в суд с требованием восстановить на работе. Суд, соглашаясь с его доводами, не принимает никакого решения. И это повторяется неоднократно в разных инстанциях. Тогда отец принимает окончательное решение — идет в «большой дом». Если я действительно виноват — стреляйте, отправьте в лагерь, но дальше я так жить не могу. Жена без работы, только что родившийся ребенок, мать жены — чем мне их кормить? В итоге он вынужден согласиться отправиться в качестве вольнонаемного в один из лагерей города Сегежа. Это решение спасло нам жизнь в прямом смысле. Семья прожила на подножном корму. Ведь это был не Ленинград.
А отец не переставал добиваться справедливости — вернуться в Ленинград и восстановиться на работе. Руководство лагеря, видя его упорство, предложило компромисс: взамен себя привозишь из Ленинграда специалистов такой же квалификации. К счастью, дело это оказалось простым. В ту пору по Ленинграду бродила уйма «шпионов: японских, польских, латышских и пр.», безработных, голодных, готовых на все. Первым оказался Владукас (имени не помню). В дальнейшем отец, таким образом, вытащил еще и других. После снятия в суде всех обвинений, он поступил на работу старшим инженером в ЛО Треста «Связьпроект», где его и застала война.
Перед самой войной, когда произошло «присоединение» Прибалтийских республик к СССР, отец был направлен в командировку по мобилизации РККА в город Рига. Это была довольно странная командировка. С одной стороны она носила ознакомительный характер, с другой — прямая подготовка к эвакуации оборудования, например завода ВЭФ. Отношение латышей было крайне недружелюбное. Они прекрасно понимали, что ждет их на Востоке. А Запад в это время подкармливал их всячески, чтобы препятствовать «воссоединению».
Рига была завалена импортными товарами. Отец решил сшить пальто. Пошел покупать ратин. Все полки до потолка завалены отрезами любого цвета и происхождения. Купил отрез два с половиной метра. Пришел к портному, а тот говорит: зачем так много. Тридцать сантиметров лишних, идите и сдайте назад. Отец говорит: «неудобно». Никаких «неудобно» не может быть. Нашли компромисс — сделали кепку из этих 30 сантиметров. О качестве материала: было это в 1940 году, с тех пор прошло 70 лет, после отца это пальто перешили на меня, потом из него сделали куртку, и сегодня Андрей возит в машине ее в качестве подстилки и накидки в холодное время. На куртке ни одной дырки.
Из Риги отец привез маме массу красивейших кофточек из шифона, маркизета, а также бижутерию — вещей, которых мы не видели в Ленинграде. В эвакуации, в Казани, они очень выручали нас, спасая от голода. Привез отец и пластинки Лещенко. Везли их в туалете, спасаясь от таможенной службы. С этими пластинками (Студенточка, Катюша, Любушка, Тройка и др.) прошла моя юность.
Обстановка в Риге была тяжелая, со всех крыш стреляли и когда объявили войну и мобилизацию, отца в первый же день 24 июня направили снова в Ригу (Прибалтийский Военный округ). Тогда никто еще не понимал, что такое война и направление в Ригу в семье казалось самым страшным. Мама была в истерике. Из Риги войска «драпали» как могли. После переформирования Прибалтийского округа отец оказался на Северо-Западном фронте, под Демянском, а впоследствии — на Ленинградском фронте. Это произошло в ноябре 1943 года после ликвидации Северо-Западного фронта. После освобождения городов восточного побережья Ладожского озера (Питкяранта, Ласкеле, Харлупа..) его местом службы стал Ленинград, где он командовал отдельной ротой связи.
В 1946 году отец демобилизовался и вернулся на работу в «Связьпроект», который в 1951 году был реорганизован в ЛО Института «Гипросвязь». В этом Институте отец проработал до октября 1977 года в должности главного инженера проектов станционных сооружений. По его проектам построены АТС в городах Киев, Минск, Баку, Тбилиси, Ижевск и др. Сегодня мне приходится бывать по своим страховым делам в новом здании «Гипросвязи», где половина помещений сдается различным фирмам. Мне было очень приятно, когда мои клиенты, ничего не имеющие общего с «Гипросвязью», обратили мое внимание на мраморную доску с фамилиями ветеранов войны и фамилией моего отца.
Послевоенное время было достаточно тяжелое и чтобы поддерживать материальную сторону семьи большинству трудящихся приходилось значительную часть времени проводить в командировках. Отца я практически видел дома только на праздники. Так как он страдал заболеванием желудка, а в последнее время и почек, то в отпуск он уезжал в Ессентуки, Кисловодск, один раз был в Карловых Варах.
Иногда проводили отдых все вместе. Это большей частью было связано со мной. Я имею в виду нашу поездку в Тбилиси в 1950 году, где у отца была ответственная командировка, в Одессу в 1953 году, где я в это время отдыхал в пионерлагере санатория связи, в Репино, когда я готовился к поступлению в институт.
Я не помню серьезных размолвок между родителями, исключая период 51—53 годов. В это время отец был в командировке в Тбилиси. Единственная женщина, которая работала с ним в это время, была Валя Куличкина. Я не думаю, чтобы она могла послужить причиной конфликта (в большей степени в нее были влюблены я, как мальчишка, и Жора Творадзе — главный инженер Тбилисской телефонной сети). Отец после женитьбы любил только одну женщину, мою мать, и был предан ей до конца жизни. Думаю, конфликт был в другом.
Пережив 37 год, отец очень бережно относился к семье и опасался за ее будущее в условиях разгоревшегося государственного антисемитизма (убийство Михоэлса, разгон Еврейского комитета, «дело врачей» и т.п.). Предполагаю, что перед ним встал вопрос выбора: или возможность выезда во вновь образовавшееся государство Израиль, или переезд в Биробиджан, Еврейскую автономную область, созданную Сталиным для ссылки евреев, и куда устремились евреи со всего мира, пытаясь найти землю обетованную. Естественно, по причинам указанным мною выше, меня ни во что не посвящали. Лишь однажды я услышал брошенную фразу: «я никуда не поеду». Не исключаю, что за этим стояла бабушка. Конфликт разрешился после смерти тирана. Свидетельством тому стал серебряный подстаканник, подаренный отцу на день рождения 06.11.1953 г.
Отец прожил 78 лет и умер в 1983 году. Он похоронен на Преображенском еврейском кладбище вместе с мамой, как он того хотел. Недалеко находится могила моего деда, который умер от рака в 1937 году. Надо сказать, что отношения моего отца с дедом были непростые. Деталей не знаю, но видимо корни тянутся в детство, когда отец был вынужден покинуть отчий дом и пройти ужасы детдома. В дальнейшем у них возникли принципиальные разногласия по поводу женитьбы на русской.
Прародители по материнской линии
Моя мама, Гилерович Нина Евгеньевна (в девичестве Смоленская), родилась в Петербурге в семье служащего. Отец — работник сберкассы, мама домохозяйка. Мои бабушка, Смоленская (в девичестве Григорьева) Ксения Павловна, и дедушка, Смоленский Евгений Андреевич, были родом из деревни Вычелобок Лужского уезда.
Деревня Вычелобок расположена на левом берегу реки Удрайки в 1 км от ее впадения в реку Лугу, на границе Ленинградской и Новгородской областей. Первое упоминание о «сельце Вычелобок» относится к 1500 году. Считается, что название деревни происходит от возвышенности, на которой она находится, напоминающей своим видом «бычий лоб». Название реки Удрайка связано с прихотливо извилистым, «кудрявым» руслом в нижнем течении. В прошлом река отделяла село от погоста.
История погоста восходит к ХV1 веку, к деревянной Покровской церкви, поставленной в 1539 году. В дальнейшем церковь много раз перестраивалась, и в 1909 году был воздвигнут пятиглавый храм с шатровым верхом на восьмигранном барабане, проект которого был разработан архитектором А. П. Аплаксиным. Главную роль в декоре церкви играет оформление 26 оконных проемов. Высота церкви до карниза достигала 13 м, двухъярусной колокольни — 16. Практически с 1930 года церковь не действовала, и до наших дней храм дошел весьма в плачевном состоянии. Справа, в задней части церкви, располагалось подворье, где обитали Смоленские, и мы останавливались, бывая там на отдыхе.
В Вычелобке заботами священника Сергея Ефимова в 1859 году было открыто училище при церкви. К началу ХХ века в приходе имелись церковно-приходская школа, две земские и одна школа грамоты. Почему я об этом пишу. Дело в том, что с церковью, и училищами тесно связана фамилия Смоленских. Псаломщиком в храме до 1902 года был Михаил Андреевич Смоленский, с 06.10.1905 г. — Михаил Смоленский. Андрей Смоленский исполнял обряд крещения бабушки, а обязанности просфорни — Смоленская Мария, дочь умершего Михаила Андреевича.

Установить точную степень родства Смоленских сейчас не представляется возможным. Однако, можно полагать, что Евгений Андреевич Смоленский, муж бабушки, был по всей вероятности сыном псаломщика Андрея Смоленского. Бабушка любила петь на клиросе, сказывали, что у нее неплохой голос, но я, правда, никогда не слышал ее пения.
На обязанность псаломщика (в большинстве случаев ими были светские люди) возлагалось исполнение клиросного чтения и пения, все письмоводство по церкви и приходу. Он вел метрические книги, ведомости с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, количества земли, библиотеки, а также семей причта. То есть псаломщик был весьма образованным человеком и неслучайно, что Евгений Андреевич Смоленский подался в Петербург и устроился на работу в качестве бухгалтера. В последние годы, вплоть до самой смерти в 1930 году он был заведующим сберкассой.
О жизни деда я знаю мало. Священнослужители и их семьи стали первыми изгоями в новой стране. Поэтому любое упоминание в семье о родственных связях было табу. Новую церковь и «красных попов» бабушка не приняла. Она больше никогда не ходила в церковь, не носила креста. В доме никогда не было никаких икон.
Бабушка родилась 18 января (по старому стилю) 1885 года. Отец — фельдфебель 8-го резервного Кадрового батальона Павел Григорьев, мать — Матрона Иванова. Обряд крещения совершен 20 января священником Сергием Ефимовым и псаломщиком Андреем Смоленским. Мне известно о старшей сестре бабушки Анне (Марии, точно не знаю), которая была выдана замуж за Герасима Матвеевича Матвеева в деревню Мроткино, и брате Василии Павловиче, который в метриках был записан под фамилией Богданов.
Дед Василий (или дядька Вася, как я звал его) был любимым человеком в нашем доме. Он регулярно навещал тетю Сюту. Так он звал бабушку. С его приходом все оживлялись. Огромный, он снимал в прихожей валенки и «треух», свою зимнюю шапку в которой никогда не завязывал сверху уши и надевал, ее сдвинув набок, и вплывал на кухню, заполняя ее чувством благожелательности и добродушия. Держался он всегда под этакого простака.

Биография его в годы революции достаточно яркая. Призванный в армию, он нес службу в Павловском полку, куда призывались крестьяне рослые и соответствующего телосложения. В Октябрьские дни, участвовал во взятии Зимнего, о чем у него остались «приятные» воспоминания о винных подвалах. «Не помню, как выбрался оттуда, очнулся со шкаликом на улице; вокруг толпа переживает — солдатик то пьяненький, что с ним делать?». Поднялся и пошел к тете Сюте за Нарвскую заставу. Потом было возвращение домой, в Вычелобок, и уже оттуда, как «образованный питерский мужик» он был делегирован на 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов. От него тоже «яркие» воспоминания — «Дядька Васька, что было то? Да помню, как мочились за портьерой». После этого были сражения в составе отрядов Красной армии против белогвардейцев Юденича под Петроградом, ранение и многолетняя работа на Обуховском заводе.
В Великую Отечественную войну он возил через Неву продукты и боеприпасы, для бойцов, сражающихся на «Ораниенбаумском пятачке». Поддерживая продуктами, спас от голода Тетю Марусю и Сергея Васильевича. Его участие во всех этих событиях нашло документальное подтверждение в архивах Красной Армии и Октябрьской революции, и помогло в период «хрущевской оттепели» наконец-то решить квартирный вопрос и переехать из крохотной темной комнаты в коммуналке на проспекте Майорова, где они ютились втроем, в отдельную двухкомнатную квартиру в Калининском районе. После выхода на пенсию дядя Вася приобрел домик в Вычелобке, к сожалению, на старом месте все было занято новыми постройками. В деревне он проводил время летом. Однажды и я был там. Ездил туда на охоту. Как память об отчем доме, на даче у нас растет куст сирени, который дядя Вася привез из Вычелобка.
Бабушка была ярким лучом в моей жизни. Сейчас трудно сказать, с чем это конкретно связано. Это просто внутреннее чувство. Глядя на ее фотографию невозможно не признать красоту и величавость этой женщины. Надо сказать, что ее красота передалась и следующим поколениям — дочке Нине и внучке Наде. Ей бы царицей быть, однако жизнь распорядилась иначе. На бабушке всегда лежало ведение домашнего хозяйства — и в Ленинграде, и в Вычелобке и Мроткино, и в Сегеже и Казани. Будучи рачительной и экономной хозяйкой, она умудрялась даже в условиях эвакуации, когда основными продуктами были турнепс и картошка, баловать меня «кухонными деликатесами». По сей день чувствуется во рту вкус хвороста и наполеона, повторить который не удалось ни Любе, ни маме. И это все из продуктов военного времени, приготовленных на керосинке.
Бабушка никогда не «сюсюкала» надо мной, но она всегда была рядом: и когда бежали мы от немцев из Вычелобка в Лугу, и когда я чуть не отстал от поезда при эвакуации в Казань. Она никогда не кричала меня с балкона, призывая домой на обед или ужин. При отдыхе во Мроткино не держала «на коротком поводке», а считала, что я ни в коем случае не должен быть дачником, а проводить с деревенскими детьми все свободное время. Она никогда не контролировала выполнение мной уроков. Эта свобода и доверие вызывали во мне ответное искреннее уважение к ней.
Я прекрасно помню обстановку тех послевоенных лет на кухне, где «обитала» бабушка и где я проводил с ней все время. Сейчас кухня перестроена. На месте газовой плиты стояла большая дровяная плита, которая давала тепло, необходимое для уюта и комфорта. У стенки, напротив, стояла бабушкина железная кровать (тогда проход на кухню из прихожей был по центру). У окна располагались кухонный стол со столешницей из чертежной доски, который ныне доживает свой век на балконе, и сундук (бабушкино приданое), доживающий свой век под сливой на даче.
У сундука этого большая история. Он путешествовал вместе с семьей в эвакуацию в Казань, где также являлся предметом необходимой домашней обстановки. Так вот дело в том, что когда началась реэвакуации, меня с мамой отец в 1944 году выписал в Ленинград, Люба возвращалась с Институтом синтетического каучука, Сережа — по заявке на Судомех, а бабушка, бесправный элемент, домохозяйка вынуждена была остаться там одна без средств на произвол судьбы. И тогда приняли решение на свой страх и риск везти ее в сундуке. К счастью, досмотры тогда были не столь тщательные, и все обошлось благополучно. Ну а здесь, в Ленинграде, отец с его энергией оформил бабушке через Большой дом въездные документы.
Запомнил я бабушку постоянно читающей все выписываемые в доме газеты. Это-то с ее четырьмя классами церковно-приходской школы. Она всегда была в курсе событий, но никогда не обсуждала происходящее в стране. Наверно богатый жизненный опыт подсказывал: «меньше знаешь — лучше спишь». Она никогда не сидела на лавочке во дворе с соседями, но к ней постоянно приходили за советом и Тетя Таня, наш дворник, и привозившая молоко из Дибунов, молочница финка, и соседи по дому. Она была самым уважаемым в доме человеком и пользовалась непререкаемым авторитетом.
Последние годы бабушка серьезно болела. Долгое время не могли диагностировать причину — рак поджелудочный железы. Из дома она уже не выходила. Время проводила на оттоманке (то же реликвия на даче) и на балконе. Я очень переживал и по-детски старался помочь: собирал чагу, чтобы приготовить целебный настой. Кто-то сказал, что очень помогает настой из травы «воронец — колосистый» и мы вместе с моим приятелем Борей Райхманом перевернули весь Ботанический сад, чтобы найти ее описание и как ее собирать на Вороньей горе под Дудергофом. Нам объяснили, что нужно ее собирать весной, в пору цветения. На дворе был сентябрь, а в марте бабушки не стало.
Прощались с ней дома. Гроб стоял на столе в большой комнате. Похоронили бабушку рядом с мужем на Красненьком кладбище. В детстве я очень любил бывать там вместе с бабушкой, когда она ездила приводить в порядок могилы. Она всегда отпускала меня, и я с удовольствием бродил по кладбищу, разглядывая старые надгробия. Кладбище тогда было небольшое, на окраине города. Его не окружал каменный забор, и могила деда была в первом ряду, при входе. Сейчас все первые ряды заняты партийными бонзами.
Мама
Мама родилась 2 июня (по новому стилю) 1911 года. Она была вторым ребенком. Старшая сестра Люба родилась в 1909 году. Судя по всему, семья жила на съемной квартире за Нарвской заставой в Петербурге. Адреса не знаю. Ничего не известно мне о ранних и школьных годах девочек. Учились, а после смерти отца пошли работать. Мама идет работать на «Кировский завод». На Кировском заводе она согласно записям в трудовой книжке работает с 14.03.1929 по 19.12.1933 на телефонной станции в должности линейного механика.
Одновременно с 1931 по 1936 год учится в Институте связи им. Бонч-Бруевича и работает в проектном отделе Управления ЛГТС в качестве техника-проектировщика. Здесь-то, на защите дипломного проекта и вспыхнула любовь студентки и руководителя. Отец практически похитил молодую студентку. Далее события развивались стремительно. Свадебное путешествие в Гагры. Черное море, пальмы, южное небо, впервые, увиденные юной девой. Страстная любовь — вот и Я.
Свадьбу праздновали в комнате коммунальной квартиры на Суворовском проспекте (Советский пр.) дом 36 кв.4, где жил отец. Комната площадью 21 кв. м. на 3 этаже, сухая, светлая (по справке, выданной Домовым хозяйством №2). Единственно, что осталось на память о ней — бронзовая люстра и настольная лампа стиля ампир. Они и по сей день с нами. К счастью жить в коммуналке не пришлось. Одновременно с пуском Выборгской АТС рядом был построен дом для специалистов связи и отец как главный строитель станции первым получил в нем квартиру. В этом доме наша семья живет и поныне.
После окончания Института связи мама приступила к работе на Выборгской АТС в качестве инженера-стажера и затем помощника начальника станции. Радостная жизнь молодоженов длилась недолго. Пришел 37-й год. Отца снимают с работы как допустившего промахи и не справившегося с работой. В то же время случается пожар на Выборгской АТС. Отец сказал: «Готовься, все повесят на тебя». Так и случилось.

Маму увольняют и откомандировывают в распоряжение технического отдела Ленинградской телефонной дирекции в качестве техника 1 разряда. Затем были война и эвакуация в Казань вместе с Институтом синтетического каучука, где работала Люба.
После возвращения из Казани мама устраивается на работу в Проектно-монтажный трест (ПМТ №5), где она проработала 22 года в проектном отделе, вплоть до выхода на пенсию. Позднее он вырос в НИИ Радиопроектирования. Унаследовав от отца аккуратность, четкость и деловитость она выросла в ПМТ №5 до Главного инженера проектов. Ее спецификой была спецсвязь и станционные сооружения, реализованные в городах Дзержинске, Риге и других.
Неоднократно приходилось мне бывать на работе у мамы. Особенно помнятся первомайские и ноябрьские демонстрации. Собирались на демонстрацию в Апраксином дворе у корпуса №8, где размещался ПМТ №5. Помещение предприятия было весьма убогое, где-то на последнем этаже, под крышей, но коллектив, в котором она провела все эти годы, был исключительно дружный. Общее число сотрудников в те годы было не более 100 человек. Руководителем проектного отдела был Давид Яковлевич Деречинский. Он и его брат Рувим Яковлевич были членами комиссии на защите дипломного проекта мамы. Они-то и сосватали моих родителей. Рувим Яковлевич, впоследствии, был репрессирован и расстрелян в 1937 году.
В тесную компанию приятных и общительных людей этой организации, проводивших свои праздники весело и непринужденно, большей частью у нас дома, входили Самуил Исаакович Аграчев, Ксения Давыдовна Бровкина, Иосиф Давидович Левин, Мария Евгеньевна Максимова, Евгений Петрович Семенов, Елена Владимировна Шелковникова, молодежь — Лев Шагал, Наташа Бутовская, Модест Вайсбурд и другие.
Наверно стоит упомянуть и еще одного сотрудника Это — Константин Хрисанфович Муравьев. Появился он в ПМТ №5 после разжалования из генерал-лейтенантов, начальника Военной академии связи.
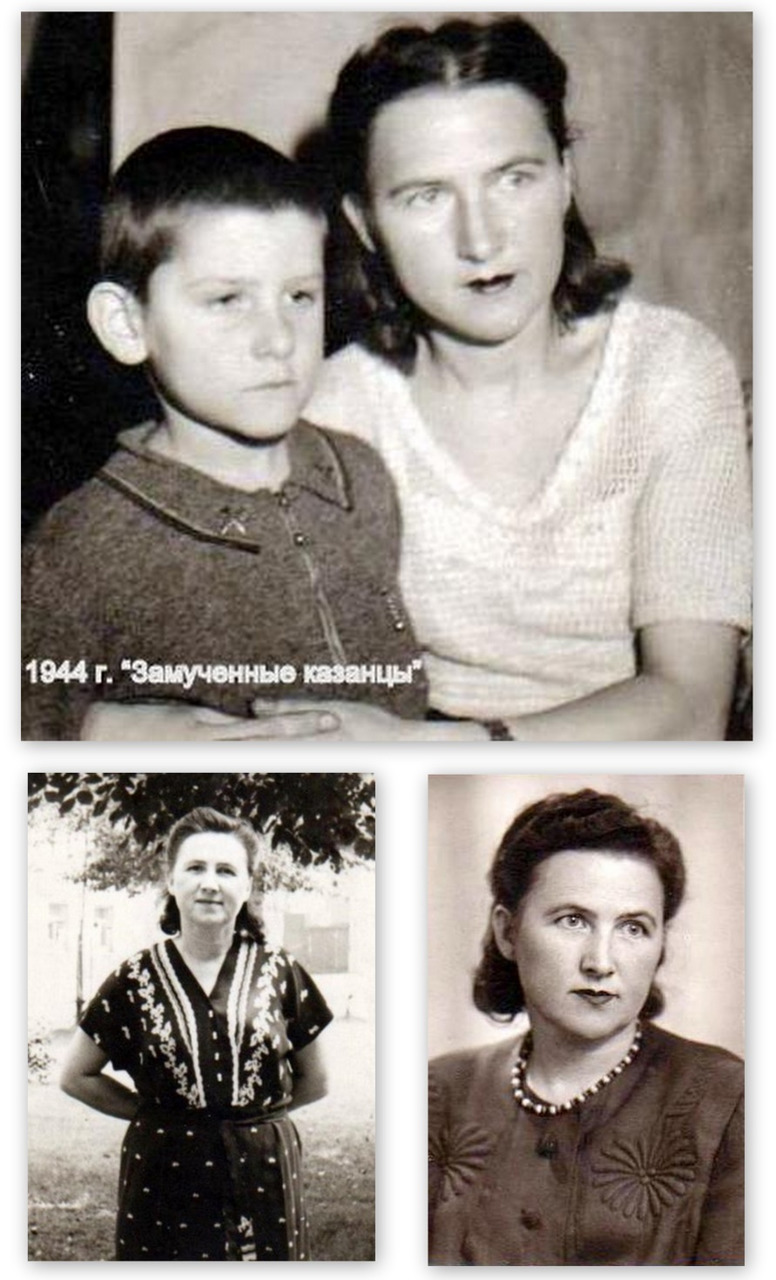
Причина разжалования мне неизвестна. Толя Брискер в своих воспоминаниях называет причиной «ошибки в кадровых вопросах», имея в виду использование лиц еврейской национальности. Так это или не так не могу судить, но в быту существовала другая версия. Ему было предложено расстаться с дачей, построенной в Репино силами солдат. Он отказался и выложил партбилет на стол. В 1953 году пошла реабилитация, власть сменилась и ему вернули и ордена и воинское звание, предложили командовать войсками связи Закавказского военного округа, но он предпочел стать ректором Института связи им. Бонч-Бруевича.
Вспомнилось мне это сейчас, спустя 50 лет, после посещения дач и коттеджей, которые приходится страховать и когда никого уже не удивляют дворцы с бассейнами, зимними садами и пр. Но тогда, в 1953 году, когда мы с мамой посетили его на этой даче, обнесенной железным, кованым забором на территории в несколько гектар с прекрасным лесом, надворным постройками и средствами механизации, все это не укладывалось в сознании рядового труженика эпохи советского социализма с его равноправием.
Мама — это слово святое. Дав начало своему чаду, любая мать растит, воспитывает, заботится о нем на протяжении всей жизни. С момента моего рождения мама старалась постоянно быть со мной везде и дома, и на отдыхе, в Сегеже с опальным отцом и в Вычелобке в 1939 году. Она навещала меня в пионерских лагерях, приехала в Одессу специально, чтобы быть поближе ко мне, когда я был там в лагере-санатории. Вместе с ней мы провели отпуск под Киевом в местечке Ирпень в голодный 1946 год и совершили изумительную поездку в Тбилиси в 1950 году, где по пути я впервые увидел и познакомился с Черным морем. Она провела свой отпуск в доме отдыха в Репино вместе со мной после окончания школы, специально чтобы я мог отдохнуть и спокойно подготовиться к поступлению в Институт.
Естественно, что все тяжелые годы эвакуации в Казани я провел вместе с ней. Помню ее искаженное ужасом лицо, когда по дороге в Казань во время бомбежки поезд остановился, а затем быстро тронулся и я не успел подняться в свой вагон и бежал за поездом пока кто-то из следующего вагона не схватил меня за шкирку и не втянул в него. Вернулись мы с ней из Казани с первым поездом, который пошел из Москвы после снятия блокадного оцепления. На вокзале встречал отец с машиной. Увидев нас, водитель, находившийся до этого в блокадном городе, спросил: «Товарищ капитан, а откуда ж они такие?». Пережив в Казани туберкулез, мама страшно переживала и сделала все возможное, чтобы помочь мне, когда у меня обнаружили эту болезнь.
Она всегда следила за тем, чтобы я был аккуратно одет и накормлен. Из множества блюд, которыми меня баловали, в памяти осталось коронное блюдо на завтрак перед школой — творог с вбитым в него яичным желтком. А еще запомнились «стиляжные» ботинки на толстой белой микропоре, которые мама доставала какими-то путями, чтобы угодить желаниям своего чада.
Мама отличалась несомненной красотой. И ее красота сохранилась и не увяла до выхода на пенсию. Конечно, она не была похожа на современных длинноногих див на подиуме, но пользовалась несомненным успехом в молодости, о чем свидетельствуют множество фото на память, и у сотрудников в зрелом возрасте. Отец всегда был готов исполнять все ее пожелания. Мой товарищ по школе, Саша Синдеев, спустя 50 лет после окончания школы признался мне, что был безумно влюблен в нее.
У нее был прекрасный вкус. Она умела красиво и элегантно одеваться даже в то непростое послевоенное время. Поражало ее отношение к своим туалетам. По окончании сезона все аккуратно чистилось, заворачивалось, пересыпалось нафталином и убиралось в шкаф. Ее шубка из «лейпцигского меха» (стриженый котик), которой она так гордилась, подвергалась реставрации у лучших скорняков, так как такого меха нигде было не достать, по-моему, и сейчас хранится упакованная в шкафу.

Бережное отношение к вещам распространялось не только на туалеты, но и на предметы домашнего обихода, независимо от того будь то мебель или садово-огородный инвентарь. В доме два раза в год натирались полы с воском. До войны это делал полотер; после — сами. Сейчас этот культ утрачен. Умение хорошо одеваться она прививала и мне. Тогда не было нынешнего изобилия массового ширпотреба. Костюмы и пальто шились на заказ, и это делалось в лучших ателье в Гостином дворе из материала не абы какого, а обязательно ратин или шерсть, которым сносу нет до сих пор. Это все организовывала мама.
Со смертью бабушки ведение домашнего хозяйства перешло в ее руки. Надо сказать, что она успешно справлялась с этим, переняв в полной мере умение вкусно готовить. Непременным антуражем праздничного стола была сервировка, и к ней у мамы было особое отношение. Помню, как в те годы, когда никакой посуды не было в магазинах, она охотилась за столовым и чайным сервизами, подбирая в тон рисунок. Сколько было счастья, когда в доме появился столовый сервиз с большой суповницей. Правда, мы никогда из нее не ели. А хрусталь! Хрустальные рюмки и фужеры — это был фетиш. И не дай бог разбить их.
В доме всегда отмечались праздники: домашние (дни рождения и Новый Год) и традиционно — 7 Ноября и 27 января. Первое Мая не располагало как-то к широким сборам за столом. Приближалось лето, было тепло, и нет надобности в домашнем уюте. Иное дело 7 Ноября. После демонстрации всем хотелось расслабиться и согреться в домашней обстановке. За столом в этот день обычно собирались кроме домашних (нас и Любы с Сережей) кто-либо из друзей. В послевоенные годы бывали Давыдовы (соседи и друзья по Любиной довоенной квартире), Кирилловы, Татьяна Григорьевна и Константин Иванович, кто-либо из приезжих командированных. В последние годы за столом появились мамины друзья по обществу садоводов-любителей.


Совсем иное дело 27 января, Это день снятия блокады Ленинграда и мамины именины (Нинин день). Это был мамин праздник. Она была «королевой бала». Собирались преимущественно сотрудники. Веселая и жизнерадостная компания, не менявшаяся в течение всех лет: Аграчев, Семенов, Левин, Деречинский, Бровкина, Максимова, Шелковникова, Модест Вайсбурд, Шагал, Бутовская. Закуска на столе менялась от картошки, селедки и водки, обычной закуски для послевоенного времени, до современного стола, но неизменными были смех, шутки и веселье.
В 1966 году мама вышла на пенсию, и надо было искать занятие для души (хобби). Этому предшествовала массированная бомбардировка отца: «Хочу кусок земли, маленькую грядку, где бы можно было выращивать цветы». И отец решает этот вопрос вступлением в Дачно-строительный кооператив на 69 км Приозерского направления Финляндской железной дороги. В том же году дача была построена, и началось освоение участка. Энтузиазм охватил всех, и это было радостное коллективное творчество по организации клумб, дорожек, пересаживанию деревьев.
В организации цветников и выращивании цветов мама достигла больших успехов. Постоянно приходили соседи посмотреть и перенять ее достижения. Выращиванию цветов и кустарников в саду способствовал постоянный обмен экзотическими растениями с ведущими садоводами города через общество садоводов-любителей в Выборгском Дворце культуры, членом которого она была все последние годы. Увлечение цветоводством переросло в создание картинок из засушенных цветов и листьев, создание аранжировок букетов из свежих и засушенных цветов. Несмотря на отсутствие художественной школы (передача объема, построение композиции и др.), чему она училась и постепенно постигала в процессе работы над своими произведениями, а также учитывая тот факт, что к этому моменту она была почти совсем слепая, успехи ее несомненны. И картинки, и букеты неоднократно выставлялись на выставках, завоевывали призы и были желающие их приобрести.

Строительство дачи совпало с важным событием в моей жизни. Я женился, и в семье появилась Лена. Не могу сказать, что она была принята свекровью, хозяйкой дома в штыки, но традиционное противостояние невестки и свекрови, хоть и в завуалированной форме, но было. Борьба за главного мужика в жизни двух женщин часто принимает нешуточные масштабы, выходит за нормы приличия; проявление доброжелательности становится невозможным и оскорбления далеко не редкость. Будучи властной женщиной, мама всячески пыталась навязать свое мнение и по рождению, и по воспитанию детей, и по обеду для любимого чада. Утешением было то, что у нее практически не оставалось на это времени. Все очень просто. Основное мамино внимание было уделено даче, цветам, отцу, перенесшему два инсульта, работе в клубе цветоводов и только в последние годы, когда всего этого не стало кроме единственного сыночка, больное воображение стало давать себя знать. Спасибо Лене, что она сумела понять это ненормальное психическое состояние и преодолеть его.
В 1969 году родился наш сын Андрей. Конечно для бабушки любой внук — это любимый внук. И Андрей, когда мы были на работе или учебе, рос под присмотром бабушки и дедушки. Он был накормлен, одет и обласкан ими. Глядя сейчас, спустя много лет, на это участие мне кажется, что и здесь сказалась мамина властная, требовательная натура, которая подавляла всякую инициативу, идущую снизу. С взрослением Андрея это все чувствовалось острее и вызывало соответствующее отдаление их друг от друга
Красота, и вкус сыграли с мамой злую шутку, наложив существенный отпечаток на ее характер. Она привыкла, чтобы все восхищались не только ею, но и всем, что ее окружало: касалось ли это меня, участка на даче, цветников, картинок, кошек. Постоянно слышались слова «мой сад», «мой сын», «мои кошки» и т. д. Это звучало неприятно, но исправить ее эгоизм было нельзя. А из этого проистекала и другая сторона вопроса: она представляла себя некоей достаточно властной «железной леди», исполнение желаний которой непререкаемо.

Но для этого требуется, как правило, соответствующая экономическая самостоятельность, чего у нее конечно не было.
Отец выполнял все прихоти и пожелания, Сергею Васильевичу было неудобно отказывать, а я естественно возмущался. Ты хозяйка дома и считаешь, что так должно быть, но это не соответствует моим представлениям. Это приводило к мелким конфликтам и не способствовало обоюдному взаимопониманию. Конечно, мама любила меня и всячески заботилась обо мне, но эта «жесткость» ее поведения никак не соответствовала ответной «нежной» любви.
Мама прожила долгую жизнь. В 2001 году мы отметили ее девяностолетие. На праздник собрались родственники и знакомые, поздравил представитель райисполкома. До последних дней она вела достаточно активную жизнь. Она не представляла себе, как можно подняться с постели и не выполнить утренний макияж. Ее, слепую, я постоянно возил на машине в парикмахерскую, чтобы она могла сделать химическую завивку и укладку. Мама скончалась в 2006 году в возрасте 95 лет. Да, она любила и была любима и в памяти друзей и родственников осталась как милая, элегантная, красивая женщина. О ней напоминают посаженные на даче деревья и кустарники, картинки из засушенных цветов.
Люба
В семье Смоленских были две дочки Нина и Люба. Люба была старшей сестрой в семье. Она родилась 23 августа 1909 года. После смерти отца в 1929 году Люба устроилась работать на завод «Красный треугольник» техником-лаборантом, а затем перешла на работу во Всесоюзный Научно-исследовательский институт синтетического каучука (ВНИИСК), где и проработала до выхода на пенсию в 1967 году.
В 1934 году она встретила и полюбила молодого моряка (он был на два года младше ее) Долговского Сергея Васильевича. Сергей Васильевич (для меня он всегда был дядей Сережей, а в последние годы и просто Сережей) плавал на торговых судах, участвовал на ледоколе «Красин» в спасении экспедиции Нобиле. Предвоенные годы я плохо помню, но их комната на Бумажной улице мне помнится отчетливо. Она не сохранилась. Сохранились в памяти висевшая на стене большая фотография команды ледокола «Красин» и гипсовая статуя гречанки, покрашенная бронзовой краской. Эти предметы жили с Долговскими во всех послевоенных квартирах. Дом на Бумажной улице был разрушен бомбой и сейчас на его месте отстроен Дом быта.
В 1941 году ВНИИСК был эвакуирован в город Казань. Люба устроила нас с мамой и бабушкой в последний эшелон, отправлявшийся из окруженного города. Сережа в это время работал на заводе Судомех (ныне Адмиралтейский) и как мобилизованный не мог покинуть город. Его вывезли из осажденного города в 1942 году для работы на судоремонтном заводе в городе Зеленодольск (пригород Казани). Разместится впятером в маленькой комнатушке, площадью не более 10 квадратных метров, было сложно, да и добраться до завода, чтобы успеть к началу рабочего дня было практически невозможно. Поэтому Сережа жил там постоянно в общежитии, а к нам наведывался в выходные дни и праздники.
Надо сказать, что долгое время Любе с Сережей не удавалось завести ребенка и вот в самое трудное, неустроенное, голодное время у них родилась дочь. Назвали ее Надеждой. Характер у моей сестренки далеко не ангельский. В этом плане она многое заимствовала у отца. Жизнь у нее была бурной, но неустроенной и сегодня, к великому сожалению ее накрывает зонтик одиночества, к которому она в известной степени стремилась. Есть подруги, есть культурное общение, но все время практически подчинено «братьям и сестрам нашим меньшим». Обидно, когда такая красивая женщина и не имеет продолжения рода.
В Ленинград из эвакуации в Казань Долговские вернулись в 1946 году. И в этом же году у них родился сын Александр. Судьба Саши сложилась трагически. К моменту окончания школы он попадает в компанию. Случай достаточно типичный. Конечно сказалась мягкость мамы и отстраненность отца. В результате — уголовное дело по групповому изнасилованию. Срок — семь лет, который он отбыл от звонка до звонка в местечке Ивдель на Северном Урале.
Вернулся он в 1971 году, двадцати пяти лет от роду без законченнго образования, без специальности. На работу никуда не устроится. Частично выручает Надежда. Она сосватала за Сашу свою приятельницу Аллу. Алла старше Саши на пять лет, у нее взрослая дочь, но семья исключительно надежная, типичная еврейская, где все хозяйство держится на теще. По-началу все складывалось благополучно. В 1973 году рождается дочка Катя. Саша устраивается на работу в Балтийское пароходство, затем на завод Шампанских вин.
Парень он рукастый — в отца. Но в стране непростая обстановка — перестройка. Белой зарплаты на семью нехватает, добирать приходится тем что производишь. Если учесть, что к алкоголю он не стоек и к семейной жизни не очень готов, да и жена, работая секретарем в большой компании, вращаясь в кругу молодых людей, дает повод к размышлениям, то здесь совсем недалеко до краха семьи.
Так оно и случилось. Саша ушел из семьи, а дальше накатанная тропа 80—90 годов — БОМЖ. Так Сашка и сгинул без всяких следов.
Меня и по сей день мучает совесть — почему я не помог ему. Чем не знаю, но должен был. Вот только дочку я простить ему не могу. Это же его родная кровь. Как можно забыть, вычеркнуть ее из своей жизни.

После возвращения из эвакуации в Ленинград вместо комнаты на Бумажной улице Долговских поселили практически в такой же по размерам комнате в коммунальной квартире на проспекте Римского-Корсакова, но с видом на Никольский собор. Соседи у них оказались очень приятными людьми — сестры Кира и Валя Самарина с мужем. Дружба их продолжалась долгие годы и после разъезда на разные квартиры.
Сережа после войны работал в Балтийском пароходстве на ремонте судов. В порядке улучшения жилищных условий ему предоставили две комнаты в коммунальной квартире на улице Новостроек, которые они впоследствии разменяли на отдельную двухкомнатную квартиру в этом же доме, но по другой лестнице. По характеру это был прямой, честный, жесткий человек. Он безумно любил море, поддерживал контакты со старыми друзьями, с капитанами плавающих судов. Трудно сходился с окружением на работе и родственниками. Я имею в виду Павла, его родного брата. В характере они были как две капли воды. Ни в чем не уступали друг другу.
В работе он отличался исключительным трудолюбием и добросовестностью. Все, что он делал, делалось на века. Морская служба воспитала в нем аккуратность, подтянутость. Он всегда был в идеальной форме — костюм, галстук, морская фуражка на голове, рабочая роба при выполнении любых работ даже на даче. К своим инструментам он относился исключительно бережно, не допуская кого-либо к ним. Лишь в последние годы подобрел и разрешил мне пользоваться ими безраздельно. В его хозяйстве ничего не пропадало. Все гвозди, даже ржавые, всегда выпрямлялись и использовались неоднократно. Будучи один раз забитыми, вытащить их было практически невозможно.
С появлением дачи в нашей семье Сережа стал, по сути, главным строителем. Забор, водопровод, душ, мансарда, балкон, лестницы на второй этаж — все это дело его рук. Люба с Сережей обосновались во времянке, которую он отделал и утеплил. Все годы мы вместе с Долговскими жили практически одной семьей. Люба занималась вместе с мамой садово-огородными работами, Сережа — хозяйственными нуждами. Первые годы, когда не было электричества, коротали вечера за игрой в лото или домино. Зимой все дружно вставали на лыжи, причем самым большим энтузиастом был Сережа. На лыжах он бегал до тех пор, пока его не сломала операция по удалению аденомы простаты. Лето же было посвящено сбору грибов и ягод. Выезжали либо на машине вчетвером — мы с Леной, мама и Люба, либо дружно посещали окрестные леса.
С Любой неразрывно связана вся моя жизнь. Она незримо всегда была рядом: и на Бумажной улице, и в Казани, и в послевоенные годы на Римского-Корсакова и Новостроек. Я всегда радовался и ждал похода ним в гости на любые праздники (само собой разумеется, я так же радовался их приходу и к нам в дом на Лесном). Наверно лакомства к столу готовились для всех гостей, но я был твердо уверен, что и «наполеон» и «хворост» делаются специально для меня, по моему заказу. Ее отзывчивость, доброта и ласка, вселяли в меня эту уверенность. Запомнился навсегда поход в лес за грибами. Это было после окончания 9 класса. Не помню, где были мои родители, но я сидел в тоске и одиночестве и вдруг появляется Люба с корзинкой и говорит, чтобы я немедленно собирался — мы едем за грибами в Мельничный Ручей. Я так благодарен был ей за тот прекрасно проведенный день и поднятое настроение.
Наша соседка по дачным участкам Галина Евгеньевна Новикова, старший научный сотрудник ВНИИСК, встреченная мной на страховом поле, работавшая вместе с Любой в предвоенные годы и в эвакуации, и соседка по даче, старшая Галина Ивановна, иначе как «Любочкой» ее не называли. Для всех окружающих она была всегда мила, ровна и радушна. Характер у Любы была очень мягкий, и это сыграло не лучшую роль в воспитании детей, Нади и Саши. Последние годы свою любовь она перенесла на внучку Катеньку и очаровательную собачонку Максимку.
С появлением Лены в нашей семье у нее с Любой с самого начала установились доверительные, добрые отношения. Надо сказать, что когда Лена была в Америке, Люба была для меня наиболее близким человеком, всегда готовым выслушать, дать добрый совет. Приезжая на дачу, разгрузившись, я в первую очередь заходил во времянку к Долговским, обменяться мнениями о последних событиях дома и в мире. Вообще Люба для меня, как в песне Лещенко, всегда была и останется в памяти как «Люба, Любушка, Любушка-голубушка, сердцем Любу-любушку любить».
Детские и школьные годы
Раннее детство
Появился я на свет 23 июня 1937 года. Произошло это в Институте акушерства и гинекологии им. Отто. Принимал роды профессор Беккер. Кстати, он же участвовал в родовспоможении при появлении на свет Андрюши. Родился я в сложное время. С одной стороны — счастливые родители, прекрасное свадебное путешествие, новая квартира, интересная работа. Только жить и жить. Но в стране Советской жить счастливо получалось далеко не всем и не всегда. Начинается период жутких сталинских репрессий. Я, конечно, в том возрасте ничего этого не знал и не понимал, но сейчас по рассказам и бытописаниям можно представить, как жилось родителям, слушая каждую ночь шум подъезжающего «воронка» и вычислять — за кем приехали.
Телефонная дирекция, где работал отец, была «выбита начисто». К счастью мои родители, если можно так сказать, отделались легким испугом. Исключительная честность отца спасла его от серьезных последствий этого времени, и он отделался увольнением за допущенные упущения в работе. Мама, как «жена врага народа», естественно была тоже уволена с работы. У мамы пропало молоко. Зарплаты нет. Отец решается на отчаянный шаг — идет в Большой дом: «Если я виноват, то судите, а так жить дальше нельзя». И добровольно соглашается ехать в лагерь на «Сегежстрой» вольнонаемным. Год, проведенный там всей семьей на подножном корму, спас нас от голодной смерти. Там же нашлась и кормилица для меня. Год, проведенный в лагере, позволил отцу выиграть время, чтобы через суд восстановиться на работе и вернуться в Ленинград.
Жизнь начала налаживаться. Наверно для меня это было счастливое детство. Обычно в памяти откладываются острые, переходные моменты жизни. Честно признаюсь, что память не сохранила ничего необычного, чем-нибудь примечательного. Пожалуй, может быть, один момент запомнился, когда отец принес домой мандарины. Это было, когда в стране отменили продовольственные карточки.


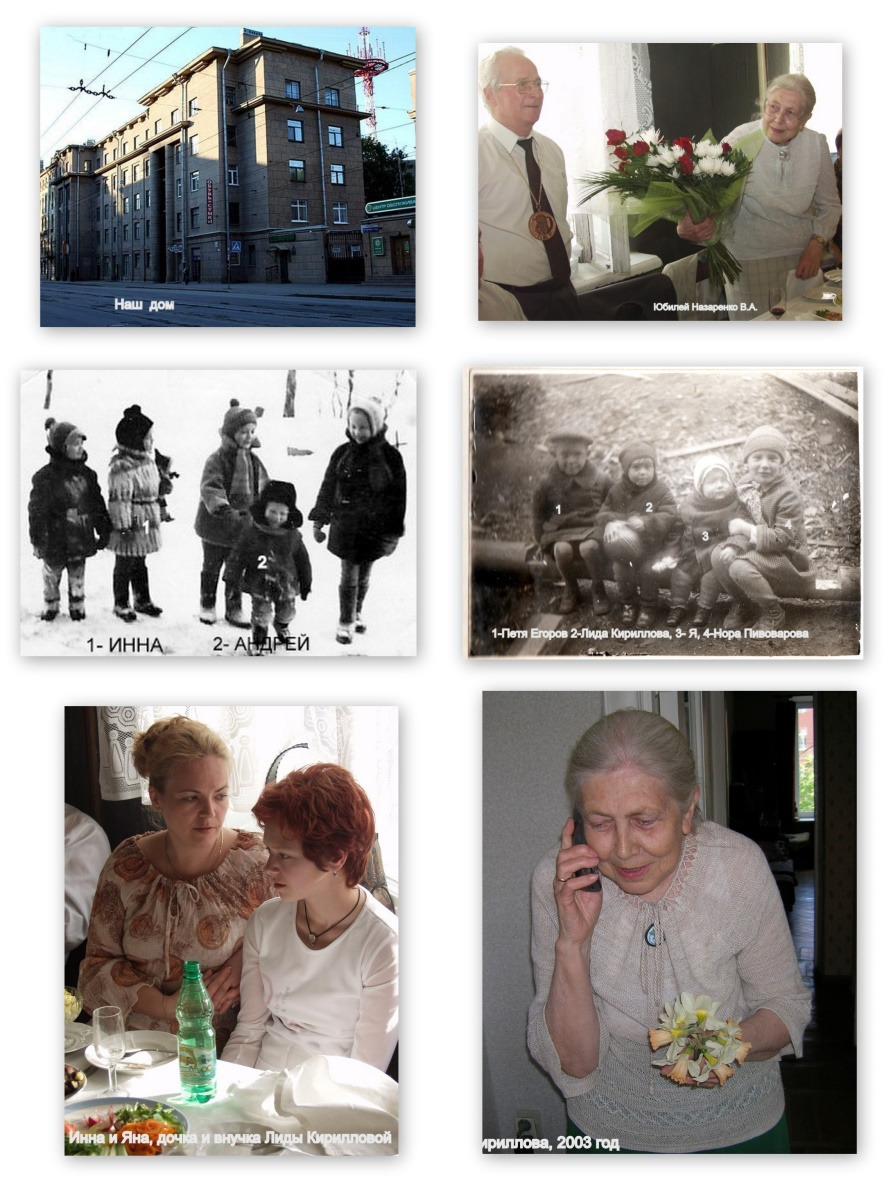
Двор нашего дома располагался на закрытой территории. Во дворе гуляли только дети связистов, живших в доме: Нора Пивоварова, Лида Кириллова, Петя Егоров. Квартиру нашу помню смутно, скорей по расстановке той же мебели в послевоенное время. Книжный шкаф и фикус в одном углу, слева от балконной двери, в другом углу, справа от нее, письменный стол отца и над ним картина — детский портрет отца, рядом тумбочка с приемником ЦРЛ-10К. Стену, напротив окна, занимала «холостяцкая» оттоманка отца и посередине комнаты обеденный стол с фанеровкой под дуб. И стол, и тумбочка, и оттоманка по сей день служат нам на даче. В другой комнате были кровать родителей, моя кровать, оттоманка, платяной шкаф и тумбочка под красное дерево, которые также пребывают с нами на даче. Комнаты соединялись межкомнатной дверью, и был большой простор для катания на велосипеде. На кухне стояла бабушкина кровать, ее сундук и конторский стол со столешницей из чертежной доски (сейчас он на балконе). В переходе между прихожей и кухней размещался бабушкин черный шкаф. Почему я вспомнил все это. Возможно с этим «хламом» давно можно было расстаться, но с ним прошла вся моя жизнь. И когда я приезжаю на дачу, то не столько пользуюсь этими предметами как мебелью, сколько вижу в них определенные реликвии моей и родительской прошлой жизни.
Лето мы проводили в деревне Вычелобок, на бабушкиной родине. В раннем детстве (до войны) меня вывозили родители на отдых в эту деревню. Жили мы в доме у двоюродных сестер мамы, Маши и Симы. Это было счастливое детство. Во время войны дом этот сгорел. А сестер немцы угнали в Германию. После войны они осели в городе Стрый (Западная Украина), так как возвращаться к разбитому очагу не хотелось, да и восстанавливать его после плена двум забитым, неграмотным женщинам было не только не под силу, но и невозможно по тем суровым временам.
В один из отпусков, когда мама приезжала во Мроткино, мы с ней пешком сходили навестить место моего детства. Деревня представляла жалкое зрелище. Кругом запустенье. Церковь разрушена. Река Удрайка обмелела. Но оставшиеся в живых, более состоятельные деревенские уже возводили дома. Мне еще дважды, в 60-х годах, довелось побывать в этих местах. Приезжал я к бабушкиному брату Василию Павловичу. После выхода на пенсию его потянуло в родные места. И он поселился там, но не на месте родового гнезда, которое уже было застроено, а на другом берегу реки. Дед, я его звал не иначе, как дядька Вася, всегда хорошо относился ко мне, да и был он исключительно добрым, отзывчивым человеком. К сожалению, с этими местами меня уже ничего не связывало, и позже я там не был.
Дошкольная жизнь
В Вычелобке мы оказались с бабушкой и в страшный, 1941 год. Жаркий июнь, казалось, что ничего необычного: война где-то далеко. А она вмиг приблизилась к нам. Командир одной из проходивших через деревню воинских частей спросил у бабушки: «А что вы здесь делаете? Немцы в 100 километрах». Пришлось срочно принимать решение. Председатель колхоза дал бабушке лошадь. Погрузив меня на подводу, она отправилась в Лугу, чтобы успеть на поезд в Ленинград.
Город уже бомбили. Кольцо блокады вокруг города замыкалось. Было принято решение эвакуироваться. Уезжали мы с Институтом синтетического каучука, где работала Люба, в Казань, одним из последних поездов, покидающих осажденный Ленинград. Ехали в товарных теплушках. По дороге часто бомбили. Поезд останавливался, все высыпали из вагонов и прятались по придорожным обочинам. Во время одной из таких остановок я умудрился потерять свой вагон и в ужасе мчался за поездом, пока кто-то из другого вагона не подхватил меня.
В Казани, эвакуированных сотрудников института, разместили в бараке, недалеко от озера Кабан. Нам досталась маленькая комнатушка на втором этаже. В ней вдоль стенок размещались два топчана и бабушкин сундук, на которых мы спали. В первую ночь все собрались у окна в большой комнате соседей, окна которых выходили на озеро Кабан. За озером был сильный пожар, горело здание, в котором размещалось эвакуированное ЦКБ-17. Страшной показалась первая ночь.
Дальнейшие события развивались спонтанно. Мама с ее сестрой, Любой ушли устраиваться на работу, а я остался с бабушкой. Игрушек никаких не было, только две книги: Бадигина «Седовцы» и сборник стихотворений под редакцией Маршака. Судя по всему, читать я научился рано, так как обе эти книги читал самостоятельно довольно бегло и знал их почти наизусть. В этот год детский сад еще не был организован и я все время проводил с бабушкой. Мама все свободное время посвящала добыванию продуктов для пропитания. С этой целью она ходила на базар и меняла предметы одежды на крупу, сахар и картошку. Особенно в ходу были кофточки, которые отец привез маме накануне войны из Прибалтики. Это бабушка, умудренная опытом, посоветовала маме взять с собой именно эти вещи, казалось бы, совсем не нужные в такое время.
Лето 1942 года было очень жарким. Из-за жары находиться в помещении было невозможно, да еще заедали клопы, этот бич барачной жизни. Поэтому после работы все население барака высыпало с матрацами на улицу спать. Озеро Кабан было относительно недалеко, но на его берегах ютилось местное население, с которым отношения были весьма сложные. Предупреждение со стороны местного населения звучало красноречиво: «Если немцы приблизятся к Казани на 150 километров, мы всех вас вырежем». Поэтому о купании не могло быть и речи. Лишь однажды мама взяла меня на Волгу реку, и я был поражен ее величием и шириной. Из детских забав были бесконечные войны, в которых мы бегали друг за другом с палками, изображающих воображаемые винтовки и автоматы; ведь шла война. Наиболее спортивной была игра в «бабки». Это прототип игры в «городки». В качестве «рюшек» использовались лошадиные или бычьи мосолыги.
Осенью 1942 года я пошел в детский сад. Детский сад мне ничем не запомнился. Была одна группа ребят разных возрастов. Развлечения все те же — игра в войну, лазание по крышам. Ходил туда я без радости и когда однажды, прыгая с крыши, подвернул ногу и вынужден был провести дома какое-то время, то был безмерно счастлив.
В это же время из осажденного Ленинграда через Ладогу вывезли Любиного мужа, Сергея Васильевича. В Ленинграде он работал по ремонту подводных лодок на заводе «Судомех» (ныне «Адмиралтейский завод») и поскольку его физическое состояние соответствовало крайнему истощению, то был откомандирован в Казань на «Зеленодольский судоремонтный завод». С появлением Сережи (так я звал его всегда) в нашей жизни наступило некоторое облегчение. С его помощью оказалось возможным создать некоторые запасы продовольствия на зиму. Картошку и турнепс (кормовая свекла) заготавливали на подшефных институту полях. Оплата в процентах от собранного урожая, ну а доставка домой мешков с картошкой и турнепсом, конечно, собственными силами на своем горбу. Сладость того турнепса стоит и по сей день во рту. Сколько я не пробовал турнепс после войны, таких ощущений не испытывал.
Зима в Казани устанавливалась рано и холмы, и безбрежная степь, на которую открывался вид из нашего окна, покрывались снежным покровом. Вот тут и наступало раздолье для веселья и развлечений — игра в снежки, катание с гор на санках и просто так. Перед Новым Годом с фронта в отпуск приехал отец. В доме появилась американская тушенка, конфеты и сухие галеты вместо печенья. В придачу к тушенке прилагались консервный нож, до невероятия простой и надежный. Ничего лучше я не встречал и сейчас дома мы с успехом пользуемся таким. А еще был складной нож «scaut knife» из великолепной стали, моя гордость, который мне служил верой и правдой в командировках. Отец пробыл с нами два дня, а мне запомнилась морозная лунная ночь, когда мы вдвоем катались на санках с самой большой горы
Новый 1943 год мы встречали под елкой. Елку же конечно привез Сережа из-под Зеленодольска. Мы с мамой к ней старательно готовились. Она принесла какой-то журнал с картинками, и мы их вырезали, склеивали, так что получались разнообразные елочные игрушки, к которым добавились конфеты, привезенные отцом. Некоторые из этих клееных игрушек и сейчас сохраняются в коробке с новогодними атрибутами. В крохотной комнатушке мы по-прежнему размещались вчетвером. Сережа жил в общежитии при заводе и наведывался к нам по выходным. Зимой он добирался до завода на лыжах. Запомнилась его стремительная фигура, убегающая вдаль через снежные холмы. А в июле 1943 года нашего полку прибыло. У Любы с Сережей родилась дочка Надя. Теперь все внимание было уделено ей.
Радостно встретили полное снятие блокады с Ленинграда и начали готовиться к возвращению в родной город. Отец перевелся к этому времени на Ленинградский фронт и озаботился освобождением нашей квартиры. На квартиры военнослужащих, призванных в действующую армию, устанавливалась бронь. Во временно пустующих квартирах во время блокады размещали жителей из квартир, расположенных близко к фронту и подверженных частым обстрелам. Наш сосед по лестничной площадке Игорь Евгеньевич Голубцов, чтобы избежать подселения к себе, перевез в свою квартиру все наши вещи, сохранив их тем самым.
Возвращались в Ленинград мы с мамой по только что восстановленной железной дороге из Москвы. Сесть на поезд оказалось не сложно, так как в город пускали только по пропускам. На вокзале нас встречал отец на штабной машине. Город только отходил от блокады, но наш вид смутил даже водителя: «Товарищ капитан, откуда ж они такие замученные?». Пока мы ехали от вокзала до дома, несмотря на разрушенные дома, город показался мне очень чистым, на улицах не звенели трамваи, было малолюдно. Поразили аэростаты воздушного заграждения, которые несли по улице. Квартира встретила нас голыми стенами, с обоями, сплошь исписанными людьми, которые жили здесь и умирали в блокаду. Написанные разным подчерком, разными людьми, все они сводились к одной мысли: «Будьте счастливы, кто будет жить здесь после нас».
Наш дом в городе располагался на закрытой территории. Не было сквозных проходов, как сейчас, в другие дворы. И это служило основой образования дворового коллектива с его мужской и женской половиной. В мужской половине верховодили Витя Новиков, Петя Егоров и Витя Демин. Они были на 5—6 лет старше нас — меня, Игоря Демина, Толи и Жени Платоновых, Бориса Райхмана, Геши Чернышева, Кима Нургалеева. Где сегодня эти ребята не знаю. Витя Демин окончил Военно-морское училище, служил на флоте. При расселении дома, когда на две парадные, за исключением нашей, претендовал Выборгский телефонный узел, все разъехались в разные концы города. Бориса Райхмана я еще встречал в 80-х годах, но сейчас думаю, что он в Израиле. Это был удивительно подвижный парень, достаточно хлипкого телосложения, но увлекающийся, принимавший активное участие в комсомольских дружинах по наведению порядка на улицах нашего района.
Геша Чернышев и по сей день живет в той же квартире, несмотря на все попытки ФСБ, разместившегося ныне в этих парадных, отселить его. Толя Платонов уверенно пошел по уголовной стезе. Нина, дочка дворничихи тети Тани, (в их квартире сейчас располагается магазин белорусского белья) работала продавцом в овощном магазине. Видел ее за прилавком в палатке на улице Лебедева в 80-х годах.
Развлечений в те годы было не так уж много. Это лазание по крышам и чердакам, устройство лежбища на чердаке, походы по карнизу пятого этажа, обливание водой из шланга (пока дворник не видит), походы на рыбалку за колюшкой на Неву, катание на буферах и подножках трамвая, игра в прятки, используя все те же чердачные помещения и сараи.
Надо сказать, что в то время дальних прогулок по городу мы не совершали. Я не бывал ни на Невском проспекте, ни на Петроградской стороне, ни на Васильевском острове. Самый дальний поход — в пункт сдачи металлолома у Кондратьевского рынка. На путях Финляндской дороги, за тюрьмой, стояло множество паровозов, пригнанных для ремонта. Вот с этих паровозов мы и снимали медные части и затем через пути, старое польское кладбище тащили их в пункт сдачи металлолома. Денег заработать не удалось, но милиции избежали.
Во время одной из игр я умудрился так спрятаться в прачечной, что свалился с вытяжной трубы через котел прямо на бетонный пол. Увы, разбитый нос и сломанная на всю жизнь носовая перегородка.
Еще играли на деньги в «пристенок» или с битой. В первом случае, ударяя монетой об стенку, нужно было попасть в монету противника, либо, в крайнем случае, дотянуться до нее рукой с растопыренными пальцами. Во втором случае деньги выкладывались на кону стопкой. Надо было с расстояния 5—10 шагов попасть битой в эту стопку, разбить ее. Те монеты, которые перевернулись «решкой» вверх, ты выиграл, но можно и продолжить, ударяя битой по монетам с орлом вверх. Если перевернуть ее не удается — ход переходит к следующему игроку.
Это было летом, а зимой мы катались на коньках по Лесному проспекту, цепляясь крюком за проезжающие автомобили. После войны улицы не очищали от снега. Правда на коньках катались те, у кого они были, а это была большая редкость. Зато катание на санках с горы была величайшая радость для всей детворы нашего двора. Целый флигель дома 12, расположенного по улице Нижегородской (Академика Лебедева), который частично граничил с нашим двором, в результате попадания бомбы в 1941 году, был разрушен, и образовалась гора высотой до 3 этажа. С нее можно было съезжать, выкатываясь через подворотню даже на Лесной проспект. Эта гора просуществовала 2 или 3 года (точно не помню). Потом ее вывезли и на этом месте в очередной день Победы всем двором разбили сквер.
До прихода родителей после возвращения из школы я попасть домой не мог, так как ключи не оставляли и будучи однажды облит из шланга с ног до головы ничего лучше не нашел как забраться в курятник к Тете Тане дворничихе. Осень на дворе и нигде не согреться. Там меня и обнаружила Татьяна Григорьевна Кириллова, наша соседка. Она работала рядом, на Выборгской АТС, и до прихода родителей я проводил время у них дома в играх с ее дочкой Лидой. В ту пору игр было не так уж много. Нашей любимой игрой была игра «Три поросенка». Мы увлеченно ползали по полу, строя дома за Наф-нафа, Ниф-Нифа и Нюф-нюфа и спасаясь от злого волка. У Кирилловых появился и первый телевизор в доме. И все вечера после приготовления уроков мы сидели, уткнувшись в маленький экран КВН-49, впоследствии дополненный плексигласовой линзой, наполненной дистиллированной водой.
Трамвай, как и сейчас, ходил по Лесному проспекту, но контактная сеть подвешивалась на столбах, которые стояли посреди трамвайных путей. Перед поворотом с улицы академика Лебедева на Лесной трамвай всегда притормаживал и если вскочить на подножку площадки (трамваи тогда были с открытой площадкой) или на буфер, то можно было прокатиться до остановки на Ломанском переулке (ныне улица комиссара Смирнова). Однажды друзья успели вскочить на подножки, я же не успел этого сделать и результат — столкновение с трамвайным столбом, искры из глаз, разбитый лоб и навсегда отпавшее желание догонять трамваи.
Вспоминается и другой эпизод — старшие товарищи пришли в гости, поиграли и утащили отцовский трофейный фонарь и патроны из кобуры от пистолета. Эти патроны раскладывали на трамвайных рельсах, не задумываясь о возможных последствиях — возможности подстрелить случайного прохожего. Тогда я получил впервые порку армейским ремнем отца. Второй раз порка была по случаю пожара, который мы устроили с соседским мальчиком, Вадиком Медведевым. В то время, пока наши родители мирно беседовали на кухне, мы занялись тем, что начали чиркать спички и бросать друг в друга. Одна из горящих спичек попала на занавеску, она молниеносно загорелась, начался пожар, следы которого и по сей день хранит платяной шкаф, отвезенный на дачу.
По мере нашего взросления во двор пришли и другие игры. Это конечно футбол, волейбол и моя любимая игра — лапта. Сделав себе биту из отрезка алюминиевой трубы, я смог проявить неплохие качества игрока. И волейбол и лапта объединили мужскую и женскую половину нашего двора, сделав из них единомышленников. В это же время родилась и другая страсть — игра в домино. Сражения продолжались с раннего утра до позднего вечера.
Нельзя не упомянуть здесь и об отношениях полов. Сейчас это покажется странным и неправдоподобным, но для нас — ухаживание за девушкой (я даже боюсь упоминать слово «любовь») было чем-то противоестественным и пришло значительно позже по мере взросления с поступлением в институт и приобретением свободы от опеки домашних и школы. В ту пору никаких кафе не было, можно было пойти в кино, но это был единственный кинотеатр при ВДК (Выборгском доме культуры), где собирались все ученики класса одновременно. Да и карманных денег практически не было. Дискотек не было, а в парке гулять с девушкой было как-то зазорно.
Лида Кириллова в те годы была моим кумиром и «первой любовью». Стройная, высокая девушка с огромной русой косой, круглая отличница — ей не было равных в нашем дворе, а в других местах я и не бывал. Конечно ни о каких объятиях, поцелуях, играх в «бутылочку» не могло быть и речи. В ту пору мне попалась книга Перельмана «Занимательная математика», где рассказывалось о различных способах шифровки документов. Так вот, пользуясь этим пособием, я писал ей «любовные послания», чтобы их не могли прочесть родители. Другим способом наших отношений — было перестукивание по батарее: я проснулся, идем гулять, сейчас зайду к тебе…
Свадьба Лиды Кирилловой и Володи Назаренко состоялась в 1959 году. Познакомились Володя с Лидой, в одну из поездок в Крым на последнем курсе института. В этой поездке с ними был мой друг Саша Хорьков, который все подтрунивал над Володей, говоря, что Лиду ожидает жених в Ленинграде, имея в виду меня. Долгое время Володя ревновал меня, но после свадьбы мы подружились и до его смерти поддерживали дружеские отношения.
Лида после окончания Политехнического института и защиты диссертации осталась работать в должности доцента на кафедре Соколова. Володя работал в Институте ядерной физики (ИЯФ) в Гатчине. Он защитил докторскую диссертацию, получил за работы Ленинскую премию и в последние годы занимал должность директора ИЯФ. Кирилловы обменяли квартиру в нашем доме и переехали на улицу Победы в Московском районе. Там родилась дочка Инна. С Инной раз в году встречаюсь на предмет страховки дачи. Лида после смерти мужа очень изменилась. Она привыкла жить с Володей как за каменной стеной. Потеряла интерес к активной жизни. Меня очень удивляло: как программист, электронщик, специалист лучшей кафедры в стране по ЭВМ, не хочет общаться с компьютером.
Были и другие девушки, но помладше, а в юности всегда тянет к более зрелым женщинам. Какие взоры мы бросали на высокую, румяную, белокурую сестренку Толика Моссе или изящную кокетку Киру Ниссен, или певицу Лиду Бобченко, когда они проходили по двору. Среди младших своей красотой выделялись Таня Жукова и Камашина Галя. Галя слыла девочкой «нелюдимой» и мы играли с ней редко. У обеих сложилась непростая судьба с первым замужеством. Но должен отдать должное, когда спустя пятнадцать лет я увидел Таню Жукову при очередном посещении ею родительского дома, я был просто сражен ее красотой.
В старших классах был кружок бальных танцев, Мы разучивали такие танцы как падеграс, падепатинер, польку, мазурку, на закуску — вальс, а хотелось танго и фокстрот! Интуитивно чувствовалось, что только в них, обнимая партнершу, можно почувствовать запах женщины, вместе совершать какие-то па, кружиться, увлекая друг друга. На одном из таких уроков в кружке я так увлекся партнершей (ее я не помню ни внешне, никак), так закружился в вальсе, что потерял сознание и рухнул на пол. Было уже не до запаха женщины. Попытки освоить танцы были и дома. Соседкой Бориса Райхмана была Алла Соловей. Ее-то мы подбили пригласить подружек и организовать танцы. По какой причине то ли родители вклинились, то ли не было взаимных симпатий, но это мероприятие продолжалось не долго.
Летние каникулы в 1945—47 годах прошли в пионерских лагерях в Мельничном Ручье, Раута (ныне Сосново) и Петергофе. В поселке Раута лагерь был на берегу красивого озера, но так как все вокруг несло следы войны, не разминированные окрестности, то жили мы за колючей проволокой. От Мельничного ручья воспоминаний никаких. Это был обычный городской лагерь. В Петергофе — лагерь работников связи. Размещался он в здании школы. Территория огороженная, за которую не выпускали. Развлечения стандартные: зарядка, линейка и т. п. Потому главным удовольствием среди этой повседневной рутины были побеги в Петродворцовый парк. Надо сказать, что в те годы парк (дворцовые ансамбли, фонтаны) пребывал в разрушенном состоянии, еще не был полностью разминирован и для посетителей не функционировал. В эти годы ко мне попала довоенная книга с описанием Петродворцовых парков, какими они были раньше, и во время отлучек из лагеря оказалось возможным изучить их достаточно досконально.
В 1948—50 годах лето я проводил с бабушкой в деревне Мроткино Батецкого района Новгородской области. Бабушка была родом из деревни Вычелобок, которая находилась в 25 км от Мроткино. Ее сестра была за мужем за дедом Герасимом, в доме которого мы и проводили лето. Правда бабушкина сестра давно умерла; дед Герасим был женат во второй раз и от большой семьи в деревне остался младший сын Леня и новая жена деда, баба Анна. В памяти она осталась как, старуха злая, неприветливая, в противоположность Герасиму Матвеевичу.
Старшие сыновья Герасима Матвеевича разъехались по всей стране. Вася жил в Краснодаре, Саша, полковник медицинской службы, — в Воронеже, Николай и Машенька — в Ленинграде. Николай работал на Кировском заводе, Маша — ткачихой на «Советской Звезде». С Николаем и Машей (Машенькой, так я ее называл) бабушка, и мама поддерживали тесные отношения. Леня все пытался вырваться из бесправной деревни. Это ему удалось после женитьбы на Ане, девушке из соседней деревни. Аня была эстонка, работала бухгалтером и имела паспорт. Когда в Союзе началось послабление с возвращением на Родину переселенцев, Леня с Аней выехали в Эстонию и поселились в городе Тапа. После выхода на пенсию Маша вернулась в родительский дом и продолжила пчеловодческие дела отца.
В деревне было настоящее раздолье; целый день вместе с деревенскими ребятишками я был предоставлен сам себе. Игры в песочном карьере, походы на речку Удрайка, в лес за грибами и ягодами, возня с Лениной машиной. Надо сказать, что дед Герасим был мужиком хозяйственным. Все в руках у него ладилось. Дом у деда был большой, ладный; во дворе амбар каменный, гумно огромное. Разбит прекрасный сад с яблонями, сливами, вишней, крыжовником, малиной, смородиной; в саду пчелы. Он и — столяр, он и — плотник, вся деревня ходила к нему косы править. На общем фоне беспаспортной деревни с копеечными трудоднями в колхозе он выглядел достаточно зажиточным крестьянином, хотя по возрасту уже давно не работал в колхозе. Деревню спасло от разграбления только то, что не было по близости партизан, а единственный дом сгорел только тогда, когда пришла Красная Армия. Бабушкина родина — деревня Вычелобок была сожжена дотла немцами.
Школьные годы
В школу, в первый класс я пошел в 1944 году. Это была 138 школа Калининского района. Бывшая гимназия, она располагалась на улице Комсомола между тюрьмой «Кресты» и военным госпиталем. Сейчас там размещается роддом. Учился я в той школе недолго — неделю или две и в воспоминаниях осталось только, что меня и мою соседку, Лиду Кириллову, отвозили в школу на служебной машине ее отца Константина Ивановича Кириллова.
Потом меня перевели в 94 школу Выборгского района. Эта школа находилась на Ломанском переулке (ныне улица Комиссара Смирнова). Она и по сей день функционирует. С 1976 по 1985 год в ней учился сын Андрюша. Перевод из школы одного района в школу другого района в те годы был серьезной проблемой. Как крепостные все были жестко закреплены за местом жительства (пропиской).
Откровенно говоря, об учебе в 1 классе этой школы у меня воспоминания крайне скудные. Помню только милую, добрую учительницу, которая, как выяснилось, была мамой братьев Стругацких. И еще — естественно как новичок я был встречен обычным образом. Как бы развивались события дальше, не знаю, если не появился мой заступник и друг Саша Синдеев.
Родители Саши (отец — танкист, а мать военврач) жили в ломе на территории Военно-Медицинской академии на Нижегородской улице (ныне улица акад. Лебедева). Это был отдельный флигель и сейчас его снесли. Там еще была арка с фрагментами конных голов. Сегодня на этом месте находится проезд к недостроенному корпусу ВМА. В этом доме мы проводили время после школьных занятий. Саша был отчаянным и любознательным парнем. В один из дней, при разборке найденного снаряда, последний взорвался у него в руках. Саша лишился большого пальца на правой руке и частично зрения.
Надо заметить, что и в 138 и в 94 школе классы были смешанные. Мальчики и девочки учились вместе. Шла война, и было не до перестройки. В 1945 году прошло жесткое разделение на мужские и женские школы. И если я не ошибаюсь, это разделение существовало до конца 50-х годов. Таким образом, Новый учебный год я начал во 2б классе 107 средней школы, которая находилась на Выборгской улице в помещении старинной гимназии (казенная гимназия №11), но, в наше время, никто об этом не вспоминал.
Какую цель преследовало такое разделение, не знаю. Конечно общение с девочками только в свободное от учебы время и только по месту жительства при пуританских законах того времени в части морали задерживало половое созревание молодежи и увеличивало пубертатный возраст. Каких либо хулиганских проявлений мужского сообщества как стаи из определенного класса я не припомню. Нас было четыре класса: А, Б, В и Г. Как и ныне отбор в классы проходил по принципу известному только руководству. Классы А и Б были сформированы в значительной степени из детей сотрудников Военно-Медицинской академии.
Практически до перехода в выпускные классы у нас не было мероприятий коим-то образом связывающим класс: ни совместных праздников, ни турпоходов. Конечно совместные походы в рамках учебной программы в театр, в ТЮЗ на Моховой были, но это совсем не то. Содружества в классе формировались по территориальному признаку. Это Марк Израилев, Володя Сиверов, Женя Петров, Валя Балашов, Дима Кутин, из домов 15 и 18 по Лесному проспекту. Сегодня в доме 15 по Лесному проспекту живет только Дима Кутин. Периодически мы с ним встречаемся, обмениваемся информацией о тех, кого встречаем. Он прекрасно выглядит внешне, бодр. Основное его увлечение — рыбалка. Сразу, после окончания Строительного института Дима, также как и Женя Петров, попали на работу в Институт по проектированию атомных объектов, где и работают, по сей день. О Валентине Балашове ничего не известно.
Другая группа, это ребята родителей из Военно-Медицинской академии (ВМА). Витя Миловский, Игорь Новиков, Александр Сапрохин, Лев Надирьянц, Юра Дробышевский, жили на территории ВМА, в домах 4 по Лесному проспекту и по проспекту Карла Маркса, а также в доме 12 по улице акад. Лебедева. Ребята, с проспекта Карла Маркса (ныне Большой Сампсониевский) — это Саша Синдеев, Руфа Мусабеков, Валера Васильев, Олег Васильев. С Сашей Синдеевым после его переезда с улицы академика Лебедева на пр. Карла Маркса мы по-прежнему поддерживали дружеские отношения, играли у него дома, но как-то постепенно отдалялись друг от друга. И, наконец, ребята с улиц Астраханской, Саратовской — Гоша Пединовский, Минкин, Игорь Гудков.
По этой же причине сошлись мы с Юрой Груздевым, который жил в доме 5/6 по Лесному проспекту. Вместе мы готовили уроки, вместе катали какие-то машинки. Много увлекались в то время настольным хоккеем. Основной инструмент в игре — это пятак и в руках у каждого расческа. Цель — поразить ворота соперника, используя поочередные ходы. По сути это был прообраз появившегося позже настольного хоккея. Юра проводил все свободное время в нашем дворе, как член дворовой команды. Хотя не все это воспринимали как само собой разумеющееся.
В один из вечеров дворовая компания парней и девчат скакала через веревочку. Все дружно веселились, но это не устроило Тольку Платонова, который появился в заметном подпитии и стал отнимать скакалку. Связываться с ним никто не хотел, так как мы знали, что он уже давно вращается в воровской компании. Возможность реализовать свою неудовлетворенность у него появилась при виде «чужака» и он всадил нож Юре под правую лопатку. В темноте никто этого не заметил, да и Юра в азарте игры ничего не почувствовал. Нож был тонкий, острый и прошел в 3 см от легкого. В милицию, конечно, сообщили, но дело не возбуждали. Откровенно боялись. А Толька по другим делам пошел на посадки одну за другой. Встретил я его году в 1972. Выглядел он стариком в его 35 лет. Разговор не клеился, да и общаться не хотелось
Жили Груздевы в большой коммунальной квартире, вход был со двора, а окна выходили на Лесной проспект. В этой же квартире, в другой комнате жили Москвины (Виктор двоюродный брат Юры). Комнаты соединялись длинным коридором, в конце которого стоял шкаф. Вот у этого шкафа Юра, по чьему-то совету, становился и стоял головой вниз. Это был прообраз его последующих увлечений йогой, сначала физической стороной ее, а затем и психической с формированием определенной диеты. Боюсь, что это сказалось не лучшим образом на его здоровье, но в целом характеризовало как очень целеустремленного и организованного человека.
В классе Юра по росту был одним из самых маленьких, а это всегда уязвляет самолюбие парней. Чтобы преодолеть некий психологический барьер, он бросил все усилия на совершенствование в гимнастике и добился несомненных успехов. Помнится и такой момент. Однажды у меня случилась стычка с отличником Вовкой Сиверовым. Не успел я опомниться, как Груздев был тут как тут, и мы вдвоем «отметелили» долговязого Вована, которого не любил весь класс. После пришлось вдвоем отдуваться перед Агнией Александровной, нашим классным руководителем.
В их квартире под стеклом на большом письменном столе лежала фотография его отца с Осовиахимовским значком на лацкане пиджака. Кто был его отец в те годы, он не знал. Мама, Нина Васильевна, это скрывала, обходила стороной, дабы не травмировать ребенка. Время было такое. В 1956 году он получил документы, что его отец, расстрелянный в 1939 году, полностью реабилитирован. Юра всегда стремился к установлению истоков своего рода. Вместе со старшим сыном, Лешей, они ездили на родину в Костромскую область и даже купили в родной деревне дом, дабы поддержать родовое гнездо. Сохранить его в сегодняшних условиях не удалось.
После окончания школы, Юра поступил в Политехнический институт, на последнем курсе женился и переехал в кооперативную квартиру на проспекте Мориса Тореза. С этого момента мы виделись значительно реже. Правда, в 1967 году стараниями моего отца он получил место под дачу рядом с нами.
Наши семьи опять сблизились. Моя мама и мама Юры Груздева постоянно встречались, да и мы все вместе ходили на озеро купаться, в лес за грибами. Вместе росли и наши дети. Юра рано ушел из жизни. Ему исполнилось только 55 лет.

Все его яркие качества: целеустремленность, организованность, стойкая жизненная позиция в полной мере передались его детям. У каждого из них, Леши и Коли, по трое детей, они достигли успехов в своей карьере.
Обычно наличие женской половины в классе препятствует созданию объединенного товарищества, единого мальчишеского братства, но у нас не было хоккейной или футбольной команды, за которую можно было болеть всем классом. Кучковались, как я говорил, преимущественно по территориальному признаку.
Уроки биологии, которые вела Ясенева Валентина Алексеевна, сопровождались занятиями в кружке, где каждый имел свою подопечную «зверюшку». У меня был еж. Зимовал он у нас дома весь сезон в оттоманке, не вылезая наружу. Любимицей же всех была морская свинка «Пальма», подопечная Юры Груздева. Все очень расстроились, когда однажды голодные крысы прогрызли клетку и расправились с «Пальмой». После этого увлечение зоологическим кружком пошло на убыль.
Ярким событием в школьной жизни тех лет была учитель географии — Анна Ивановна. Она же была и пионервожатой в школе. Молодая, жизнерадостная, красивая. Она была вдохновителем и организатором всех внеклассных мероприятий, пионерских сборов, военной игры (прообраза современных «Зарниц»), выступления самодеятельности на большой сцене ВДК. Она была воистину нашей любовью. На перемене, после уроков, на продленке мы не отходили от нее. И ту любовь мы не могли делить ни с кем, а она вышла замуж за заведующего учебной частью, родила дочь и после декретного отпуска снова приступила к занятиям в школе.
Но это была уже не наша любимая Анна Ивановна. Повзрослевшая, изменившаяся внешне — с нашей стороны она встретила полную обструкцию. В последующие годы преподавал географию Д. С. Карпатский. География была моим самым любимым предметом. По сей день, память хранит знания о странах и материках, которыми не могут похвастаться современные выпускники школ.
В эти же годы нашей любимицей была и учительница литературы и русского языка Третьякова Ольга Васильевна. Именно она научила нас работать с книгой, писать сочинения и регулярно посещать публичную библиотеку. К нашему сожалению, проработала она в школе недолго.
С пятого по седьмой классы наш классный воспитатель — Агния Александровна Морошкина, учитель математики. Как сейчас представляется: это была милая женщина довоенной формации, которая педантично следила за нашим поведением. Был такой случай. Не помню, что послужило причиной наших действий, но факт, что однажды весь класс дружно спустился из окна по водосточной трубе (двери в школу во время занятий закрывались) и отправился на стадион «Красная Заря». Агния Александровна не сочла нужным жаловаться на поведение класса ни завучу, ни директору, а разыскала нас на стадионе и нашла нужные слова, уговорив вернуться в школу.
Конечно, в эти и последующие годы дружеские отношения и общее поведение определялось с кем ты сидишь на парте. Какое-то время мне пришлось сидеть вместе с Левой Затонским. Он учился с нами не все время и ушел в художественную школу. О чем он думал на уроках — не знаю, но он все время рисовал человеческие профили. Это было заданием в художественной школе. Глядя, как он их рисует, я стал повторять и именно благодаря этим урокам я сейчас могу изобразить профиль человека. Это не получило дальнейшего развития, но думаю, что для большинства подобное является неразрешимой задачей.
Значительную часть времени из этих лет я провел вместе с Витей Миловским. Розовощекий, коренастый, женственный, он привлекал мягкостью своего характера. Много лет мы провели за одной партой, играли вместе во дворе дома 10 по улице Лебедева, на территории Военно-Медицинской академии. Нашим с ним, общим делом была автомобильная тематика. В это время в его семье появился автомобиль «Победа». Само по себе это было событием, а для мальчишек в особенности. Мы рьяно изучали книги по автомобильной тематике. Для меня это было продолжением увлечения автомобилями, зародившегося во время летних каникул в деревне.
С послаблениями в музыкальной политике в стране интересы сместились в сферу джаза. На свет вытаскивались редкие пластинки довоенных лет. Между нами шел постоянный обмен им.
Школу Виктор закончил с серебряной медалью, поступил в Военно-медицинскую академию и после окончания ее работал в закрытом учреждении на Ржевке, занимаясь то ли химическим, то ли биологическим оружием. Защитил докторскую диссертацию. Один раз участвовал во встрече выпускников, но в дальнейшем от встреч уклонился по неизвестной причине.
Бессменным учителем физкультуры в школе был Игорь Николаевич Соловьев. Может быть, это зависело от оснащения спортзала, а может быть от специализации учителя, но все годы (по крайней мере, в холодную погоду) мы занимались в спортзале гимнастикой, которая включала освоение упражнений на брусьях, перекладине, кольцах, коне, канате. Лазание по канату в положении сидя, перевороты на брусьях и кольцах так до окончания школы освоить мне не удалось.
Был я по физкультуре в нашем классе «слабаком» и троечником и несказанно удивился при встрече с Игорем Николаевичем, который спустя двадцать лет после окончания школы прекрасно помнил меня. Все-таки, наверно атлетическая подготовка, которую он проводил с нами, дала неплохие результаты. При поступлении в институт на приемных экзаменах я выглядел вполне респектабельно.
Наша 107 школа была средней, и по окончании седьмого класса мы остались учиться в том же классе, но уже в 8Б и с новым классным воспитателем — учителем английского языка Гоняевой Алевтиной Михайловной. После окончания седьмого класса часть ребят ушла учиться в техникумы, а в наш класс влились ученики из неполных средних школ Выборгского района.
Пришли и новые учителя. Запомнились и оставили самое приятное впечатление учитель истории Раиса Давыдовна, учитель химии Зинаида Ивановна. Раиса Давыдовна преподавала историю. Она была непомерно строга и не терпела прогульщиков. Наверно сказывались венные годы, проведенные ею на фронте. Последний раз я видел ее на вручении выпускных аттестатов при окончании Андрюшей той же 107 школы. Зинаида Ивановна, наоборот, отличалась напускной строгостью, но увлекала рассказами о предмете, выходящими за рамки учебной программы. Это мне очень помогло при поступлении в институт. Терпеть не мог учительницу русского языка и литературы Ашихмину (как звать не помню).
Появление в классе новых ребят повлияло на структуру (организацию групп уже не только по территориальному признаку проживания, но и по интересам). В классе традиционно были три колонки парт. «Камчатку» в двух колонках (средней и у окна) держали старожилы, в крайней — вновь прибывшие вместо ушедших в техникумы. В средней колонке «прописались» Марк Израилев и Юра Дробышевский, Алик Сапрохин, Лева Надирьянц, Витя Миловский и я. Позднее к нам присоединился Миша Либинштейн. В колонке у окна прочно обосновались Руфа Мусабеков, Валера и Саша Васильевы, Саша Синдеев и Володя Коротков. В колонке у стены расположились Гена Старостин, Игорь Гудков, Виталий Лысогор. Помню, что в центральной колонке ближе к столу учителя размещались отличники — Володя Козловский, Боря Бобров, Юра Груздев.
Два года Козловский и Бобров провели за одной партой. В десятом классе Козловский сел за парту вместе с Сиверовым, а Бобров с Груздевым. Боря Бобров невысокого, а Козловский — среднего роста, были крепкие, спортивные ребята, отлично подготовленные и в спортивном и учебном плане. Козловского в классе по этой причине называли «наш Ленин». Он, действительно чем-то напоминал нашего вождя. Манеры поведения у него были довольно странные и симпатий в классе ни за годы учения, ни после он не приобрел. С ним мы больше не встречались.


У каждой из групп были свои увлечения. На камчатке в нашей колонке Алька Сапрохин заразил всех джазом. Весь год в девятом классе мы провели вместе за одной партой. На нелюбимых уроках, особенно на военном деле, разыгрывали популярные джазовые мелодии, в особенности из Цфасмана, изображая каждый свой музыкальный инструмент. Альку уже по тем временам можно было назвать «стилягой». Учился он средне, но успешно поступил в Технологический институт. Закончил его и, по слухам, эмигрировал в Канаду.
Наоборот, в колонке у окна заводилами были Володя Коротков и Саша Синдеев, кого отличала явная страсть к различным техническим изыскам. Самое выразительное их достижением было приготовление взрывчатки на основе азида йода. Все выглядело очень просто. Заранее приготовленным раствором на основе азида йода поливалось выбранное место для диверсии, например учительский стол.
Cей метод был использован в 10 классе для выживания нелюбимой математички. У нее была привычка не входить, а врываться в класс одновременно швыряя на стол свой портфель. И в этот момент на столе раздавались взрывы, все грохотало — «училка» убегала из класса. Приходил директор Кирцедели. Так как он был химиком — ему доставляло удовольствие, потягивая носом воздух, определять исходные составляющие взрывчатого вещества. Ну конечно — родители в школу, но до исключения дело не дошло. Победа оказалась за нами — математичке пришлось покинуть школу.
Кстати для выживания ее использовались и другие способы. Я увлекался решением задач, собранных в старых учебниках (Моденова, Шахнова и др.) по подготовке для поступления в ВУЗ и преуспел в этом деле, решив более полутора тысяч задач. Ряд решений по алгебре и геометрии пришлось искать в старых дореволюционных учебных пособиях, и они были действительно уникальны. Так вот с началом урока математики класс начинал жалобно жаловаться, что, готовясь к поступлению в ВУЗ, встретили задачу, которая никак не решается. Помогите. Учительская гордость не позволяла отказаться от возможности показать, как она решается. Но не тут-то было — время идет, а не только ответа нет, но и пути к его получению нет. И вот тогда вытаскивали на свет меня для демонстрации уникальных решений.
Другой «развлекухой» всего класса была так называемая «ДЮДЯ». Автор сего изобретения неизвестен, но думаю, что он принадлежит все тем же, Синдееву-Короткову. Идея «дюди» максимально проста: берется плоская длинная резинка, скручивается многократно и заворачивается в промокашку (для современных школьников такие вещи как чернила и промокательная бумага неизвестны, так же как для нас шариковая ручка). Скрученная и завернутая в промокашку, резинка незаметно опускается в чернильницу, которая имелась на каждой парте. С возгласом «Атас! Дюдя!!» ученики двух соседних парт должны были прятаться под партой, так как размякшая промокашка освобождала резинку, последняя распрямлялась и «ошметки» промокашки, пропитанные чернилами вместе с остатками чернил разлетались во все стороны. Поскольку делалось это незаметно и неожиданно — радость всего класса была неописуемой.
Сейчас, когда основным инструментом школьника стали шариковые ручки и компьютеры, эти «радости» недоступны. И вместе с тем, хочется с благодарностью вспомнить ненавистные уроки чистописания простой ученической ручкой с «94 пером». Подавляющее число выпускников нынешней школы не только не владеют мало-мальски искусством каллиграфии, но не могут даже поставить за себя приличную подпись. С ужасом взираю на подписи моего сына и внучки. Это же просто неуважение к себе самому и окружающим. С каким благоговением смотришь на подписи под указами наших царей или автографы известных писателей и ученых на титульных листах книг, на обратной стороне фотографий прошлых веков.
Еще одно развлечение, в котором участвовал весь класс, были бои на партах. Дело выглядело так. В бою участвовали ученики, сидящие на одной парте (можно участвовать и одиночкой). Надо сказать, что представляла парта в то время. Это была монолитная деревянная конструкция, в которой на полозьях крепились скамейка со спинкой и наклонный стол с откидными крышками, под которыми располагалась полка для портфеля и книг. Сидя на скамейке, упираясь ступнями в пол, а коленями приподнимая полку парты и тем самым поднимая нос парты, нужно было быстро и синхронно работать ногами, чтобы заставить парту двигаться. Такие «танки» бросались друг на друга, сталкивались, из чернильниц разливались чернила. В этих движениях мы достигли такого совершенства, что учителя, объясняющие материал, стоя у доски спиной к классу, порой не замечали, как в результате таких перестроений парты с учениками из одной колонки оказывались в другой.
По случаю всенародных праздников, Октябрьской революции и 1 мая, в школе проводились торжественные мероприятия, включающие доклад директора и концерт самодеятельности учащихся с неизменными выступлениями Славы Пожлакова (в будущем известный композитор), встречи с выпускниками школы. Запомнился выпускник школы (фамилию не помню) в форме студента Горного института. Форма очень впечатлила нас. Это казалось очень важным, ответственным в то время. Танцев не было — школа то мужская. Однажды в самодеятельности поучаствовал и я. Это была роль Тома Сойера, в спектакле, который ставила учительница логики, на английском языке.
Зимой отдушиной был каток на стадионе «Красная Заря». Странно, то ли зимы тогда были другие, но каток функционировал ежедневно с декабря по март. Регулярно заливался, расчищался и освещался независимо от количества посетителей. Раздевалкой мы обычно не пользовались, коньки одевались на дому и вперед на каток по Лесному проспекту, через забор с 5 до 7—8 вечера. Сначала я катался на родительских коньках, но к 8 классу обзавелся беговыми коньками, что по тем временам было «писком» моды. Характерно, что лыжи тогда были не в почете.
Впервые в десятом классе пришлось столкнуться с заключением в тюрьму нашего одноклассника Юры Торопова. Связано оно было с убийством человека на фоне повального увлечения голубями и строительством голубятен. Осудили его на 10 лет, и это казалось очень страшным и непривычным для нашего поколения. Еще одна «посадка» наших учеников случилась позже. На волне «хрущевской оттепели» появились многочисленные кружки и сообщества, безобидные, но нежелательные для власть предержащих. Под одну из таких посадок попал Ваня Кулябко, отбывший пару лет в лагере.
Ученье мне давалось довольно легко, особенно математика и химия. Не любил я литературу и физику по причине личной неприязни к учителям этих предметов. Зато химия и математика доставляли истинное удовольствие. На уроках химии учительница Зинаида Павловна Горбачева увлекала не столько опытами, сколько рассказами об ученых, их открытиях. Это очень помогло мне при поступлении в институт. Математикой же я увлекся самостоятельно, занимаясь решением самых различных задач собранных в задачниках Моденова и Шахно. Общее количество решенных задач составило более полутора тысяч, описанных в двух объемистых тетрадках. К сожалению после поступления в институт они пошли по рукам и не сохранились. А там были крайне интересные варианты решений очень сложных задач. И это увлечение мне также очень помогло на вступительном экзамене в институт.
После окончания школы все мы разбежались по выбранным учебным заведениям и долгое время не встречались. Я поступил в ЛЭТИ им. И. И. Ульянова (Ленина), Юра Груздев — в Политехнический институт, Юра Дробышевский — в Академию связи, Лева Надирьянц — в МАДИ, Алик Сапрохин — в Технологический институт, Витя Миловский — в Военно-медицинскую академию, Саша Синдеев — Горный институт, Ваня Кулябко — Медицинский, Женя Петров, Дима Кутин — Строительный институт, Валера Васильев — мореходку, Боря Бобров — Кораблестроительный институт, Соловьев Игорь — Институт связи им. Бонч-Бруевича; Миша Либинштейн — Высшее Военно-морское училище оружия. Школу наш класс закончил с 4 золотыми (Сиверов, Козловский, Дробышевский, Израилев) и 3 серебряными медалями (Миловский, Бобров, Либинштейн). В последний день после сдачи экзаменов мы понесли еще одну потерю. Утонул любимец класса золотой медалист Марк Израилев. Как все произошло так не ясно и до сих пор. Ребята группой, в которой был Марк, Володя Козловский и другие, поехали купаться в Парголово на Второе озеро. Марк прыгнул в воду, по-видимому, наткнулся на что-то в воде и не смог самостоятельно всплыть. Все винят Козловского, спортсмена, атлета, который не смог, а может и не сумел оказать необходимую помощь.
Три года занималась нашим воспитанием Алевтина Михайловна Гоняева. Она была у нас классным воспитателем и учителем английского языка. Это был учитель старой формации который приобрел, основы педагогической науки еще в гимназии дореволюционного периода. Тогда мы не понимали и не ценили ее отношения к нам. А она вкладывала в нас всю душу. Какое–то чувство стеснительности, боязнь показаться чересчур сентиментальными мешало нам навестить старого человека, поблагодарить за все то, что она сделала для нас.
Уже после окончания института я собрал ребят: Сиверова, Груздева, Боброва и мы отправились навестить ее на улицу Каляева, напротив Большого дома, где жила она в крохотной комнатушке, в большой коммунальной квартире. В комнате много цветов и телефон, ее основное средство связи с внешним миром. У нее было плохо со зрением, на этой почве она постоянно созванивалась с моей мамой, рекомендовала ее доктору в Максимильяновской поликлинике. Узнав, что мы придем к ней, Алевтина Михайловна была так рада, что специально сходила в магазин за пирожными, чтобы угостить нас. Ведь мы были ее любимый выпускной класс, как она говорила. Вслед за нами она выпустила еще один класс и ушла на пенсию. Еще раз я навещал ее, но когда она ушла из жизни, никто из нас не знал об этом и не проводил ее в последний путь. Нельзя сказать, что и мы все после школы поддерживали между собой тесные связи.
С Мишей Либинштейном мы сблизились в десятом классе, оказавшись рядом на одной парте. Я бывал у него дома на Торжковской улице. Это была комната в старом доме полубарачного типа. Эти дома снесли и Мишина семья, его мама и сестра Рая переехали в квартиру, которую им дали на Новолитовской улице. Там мы встречались во время одного из его отпусков, когда Рая с сыном собирались на ПМЖ в Израиль. Мишина женитьба прошла мимо меня. С Галей, женой я познакомился позже. Учиться Миша пошел в училище оружия. Серебряная медаль и дядя адмирал давали определенные преференции для поступления в столь закрытое заведение. После окончания второго курса института я провел две недели в Сочи в компании его однокурсников.
По окончании училища он служил военпредом в Горьком, потом на севере, в Гремихе и затем в Мурманске. Мы переписывались. Не часто. В одну из своих командировок в Мурманск я останавливался у них дома. В звании Капитана первого ранга Миша демобилизовался, но продолжал работать в НИИ Гидроприбор, а позднее в 1 НИИ МО. С возвращением его в Петербург мы стали видеться чаще у нас дома, на даче, но в последнее время болячки оставляют время в основном для звонков. У Миши две дочки, Юля и Алла. Юля, серьезная девочка, окончила Педиатрический институт, успешно работала врачом-педиатром, вышла замуж, родила и под влиянием тетки уехала в Израиль, но не прижилась там и вернулась домой, в Питер. С Аллой по молодости были проблемы, но сейчас она остепенилась, вышла замуж, счастлива, подарила Мише внуков.
Впервые после окончания школы мы собрались через десять лет, в 1964 году. Было это на квартире у Юры Дробышевского. Второй раз произошло это исключительно стараниями Юры Груздева через двадцать пять лет после окончания школы, в 1979 году. Он взял на себя труд собрать адреса, телефоны, обзвонить всех. В этот раз мы собирались на квартире у Саши Синдеева на Кондратьевском проспекте, и принимала нас его жена, Галчонок, как ласково он называл ее.

Миловидная, хозяйственная женщина, Галя работала Заведующей отделением Боткинской больницы. С ней я впервые познакомился на похоронах ее старшей медсестры, жены моего сотрудника Володи Артеменко.
Последний раз собрать нас удалось Юре Груздеву через тридцать пять лет после окончания школы в 1989 году. Собрал он нас у себя на даче. Сначала мы все, а было нас шесть человек — Юра, я, Дима Лопатин, Лева Надирьянц, Миша Либинштейн и Боря Бобров, отправились в баню на 69 км, которую он предварительно арендовал. Баня эта расположена по другую сторону железнодорожной станции 69 км от наших дач. В бане, а потом у него дома мы славно провели время. В 1992 году Юры не стало и с тех пор мы уже не собираемся.
Нет, собирались. Но это был печальный момент — от сердечного приступа умер Саша Синдеев. Помянули мы его на квартире у Димы Лопатина. У Саши сложно складывалась жизнь. Сначала он потерял младшего брата, Серегу — несчастный случай; отравление газом в ванне. После окончания Горного института, он, как и мечтал, прописался в экспедициях. О своих таежных приключениях и поисках минералов рассказывал с восторгом и упоением. Сложности заключались в том, что там у него была вторая семья, и рос ребенок. Здесь же, в Ленинграде, другой его сын связался с дурной компанией, стал наркоманом и сделать с этим ничего Саша не мог. Очень переживал, отсюда и инфаркт.
Сейчас, спустя много лет, вглядываясь в фотографии лиц близких людей и вспоминая, как складывались порой наши отношения, я удивляюсь тому, как многое мы не замечали и проходили мимо. Я уже писал, что мое знакомство с Сашей Синдеевым состоялось, когда я пришел в первый раз в первый класс 94 школы. Саша всегда был бойким парнем, лидером в любой компании. Так, по крайней мере, было на протяжении всех десяти лет нашего совместного обучения, особенно в последние три года. Это под его руководством в классе возникла «Республика ДПС (Дунь-Плюнь-Стук)», под эгидой которой осуществлялись «все шалости» по отношению к учителям и школьным мероприятиям.
С первого дня нашего знакомства Саша взял меня «под свое крыло». Мы проводили много времени вместе, благо наши дома находились в 150 метрах друг от друга. Тогда же Саша нашел (или где-то достал) неразорвавшийся снаряд. При разборке снаряда произошел несчастный случай: Саша лишился большого пальца на правой руке и частично зрения на левый глаз. Не знаю, как это событие было воспринято у него дома, но в наших глазах он стал выглядеть еще более мужественным.
Наши дружеские отношения продолжались класса до четвертого, пока их семья после рождения младшего брата, Сергея, не переехала на новую квартиру на проспекте Карла Маркса. Это тоже недалеко от школы, но в другом направлении и в другом мальчишеском окружении. Наши отношения были ровные, но в душе я всегда чувствовал его превосходство. И только сейчас, вспоминая наши совершенно случайные встречи в 80—90 годах, начинаю осознавать, какая это была сложная, метущаяся натура, которая искала сочувствия. Мальчишками мы этого не замечали, не придал и я серьезного значения его состоянию при наших встречах. А ему так хотелось выговориться. Он вспомнил и трагическую смерть брата, и несчастье, постигшее семью в связи с наркозависимостью сына, и мою маму, которую он находил очень красивой женщиной. Это меня очень удивило — ведь мы в то время очень мало общались с нашими родителями.
С уходом из жизни Юры Груздева порвалась связующая нас нить. Он держал в руках все контакты, имел много терпенья, чтобы обзванивать, убеждать, собирать друзей. Я периодически перезваниваюсь с Мишей Либинштейном, да встречаю иногда на Лесном проспекте Диму Кутина. Мы с ним по-прежнему проживаем по старым адресам. Попытки навести связи с кем-либо еще через социальные сети, не увенчались успехом. Наверно мы совсем другие — потерянное для компьютера поколение.
Учеба в институте
Ленинградский Электротехнический институт (ЛЭТИ). Этап 1 (1954—1960)
С ЛЭТИ связана почти полувековая история нашей семьи. В 20-х годах здесь учился отец, 50-80-е годы связаны с моей учебой и работой в ЛЭТИ, 80-е годы — время учебы здесь Андрея и Оли. Решил я поступать в Электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) не из-за страстного увлечения электротехникой, а скорее всего — в знакомое по рассказам отца учреждение.
Решил я выбрать факультет электро-приборостроения (ФЭП). Хотелось поближе быть к современному прогрессу, связанному с автоматикой и телемеханикой. Я считал, что подготовка в школе у меня неплохая, но и готовился к предстоящим экзаменам тщательно. Для того, чтобы быть принятым на ФЭП необходимо было набрать минимум 27 баллов, то есть из шести сдаваемых экзаменов необходимо было сдать три на пятерки и три на четверки.
Первым было сочинение (тему его сейчас уже не помню). Оценка по нему выставлялась после сдачи устного экзамена по литературе. Затем была математика. Тут в полной мере сказалась моя подготовка, успешно проведенная в 9—10 классах. На экзамене мне пришлось решить не менее 30 задач. Принимавший экзамен Добротворский (он вел у нас занятия по математике на первых курсах), просто вошел в раж, когда же я дам ему неверный ответ на предложенные задачи. Результат — первая пятерка.
Потом была физика. По физике я чувствовал себя не уверенно, и принимавший Березкин поставил мне «хорошо». Это была первая четверка. Английский прошел без сучка и задоринки. Ванина, которая была у нас преподавателем по английскому на первых трех курсах, оценила мои знания на пятерку. Правда на втором курсе я несколько зазнался, так как в группе был наиболее продвинутым, и на занятиях позволил себе разлениться. Ванина (к сожалению, не помню ее имени и отчества), что бы вернуть меня на правильный путь демонстративно в течение семестра ставила мне только «неуды».
Самая интересная история приключилась на экзамене по химии. Принимал экзамен Заведующий кафедрой. Химию я знал тоже неплохо. С задачами расправился легко, но интересное случилось при ответе на третий вопрос «алюминий». Зинаида Павловна в школе рассказывала нам об, открывателе алюминия Веллере, удивительные истории, которые я и счел нужным изложить на экзамене. Экзаменатор с увлечением прослушал, сказал, что все совсем не так, но это было очень интересно и он ставит мне «отлично».
Наконец наступил самый решающий момент. Экзамен по литературе. На все вопросы я отвечаю, как положено. Учебник по литературе практически знаю наизусть. Последний вопрос: «Что называется поэмой?». Декламирую слово в слово по учебнику, а экзаменатор говорит, что это неверно и все тут. Оценка — «три». Далее она смотрит сочинение. В нем нет ни одной ошибки. Без всяких объяснений ставит за него «четверку». Причина всего этого была очевидна. Экзаменатор была явная антисемитка, и моя фамилия подействовала не нее, как на быка красная тряпка.
Итог плачевный — 26 баллов и я не прохожу не только на ФЭП, но и не поступаю в институт. Настроение не сказать скверное, а просто отчаянное. Ведь в ту пору поступление в институт было единственной целью для всех нас. К другому не готовили. Какая работа? Какой техникум? Ведь ты почти медалист. Было просто стыдно прийти домой и сказать, что ты не поступил в институт. Возвращался домой после экзаменов пешком вдоль Ботанического сада через Гренадерский мост. Настроение такое, что впору броситься с моста.
Спас Борис Иванович Норневский, друг отца по институтским временам и коммуне 133-х. Он, Заведующий кафедрой электрооборудования судов, поспособствовал, чтобы меня зачислили на вечерний факультет. Так я оказался студентом 942 группы факультета Электрификации и автоматизации (ФЭА), в которой кроме нескольких человек старшего возраста, пришедших на учебу с производства, собрались не поступившие по конкурсу в институт представители со злополучным 5-м пунктом: Юрий Гилерович, Эдик Зильберман, Женя Мительман, Таня Жемчужина, Инна Гутина, Алла Вахтина, а также дети ответственных работников — Ира Торопова, Вова Солдатов. Задача у нас была одна — по возможности учится на одни пятерки, чтобы по окончания первого курса перейти на дневное отделение. Для ребят это было очень существенно, так как маячила перспектива загреметь в армию.
В итоге я после сдачи предметов, на которые отличались программы дневного и вечернего отделений, был зачислен на второй курс в 441 группу факультета ФЭА по специальности Электрооборудование и электрификация судов. Таня Жемчужина — в 432 группу факультета ФЭП, Вова Солдатов — 446 группу факультета ФЭА; потом он перевелся в другой институт. Женя Мительман оказался на своем любимом Электрофизическом факультете. Ира Торопова не стала сдавать дополнительные предметы и перевелась на первый курс. С Ирой Тороповой (Сабадашевской) и Аллой Вахтиной (Смирновой) впоследствии мы оказались в ЦНИИ СЭТ (Центральный Научно — исследовательский институт судовой электротехники и связи), где проработали вместе многие годы.
Сложнее сложилась судьба Эдика Зильбермана. Исключительно талантливый парень, он увлекался всем и радиотехникой, и писательством, и режиссурой. Весной 1955 года он подпадал под весенний призыв в армию. Дабы избежать этого уехал в Рязань и поступил в Рязанский радиотехнический институт, где работал его брат. В мои приезды в Рязань к Лене я пытался отыскать его, но все время не успевал. Только разыскал его адрес в Рязани, а он уже в Москве в Московском Энергетическом институте (МЭИ). Нашел его комнату в общежитии МЭИ, но там меня ждали только афиши театра, с которым он уехал на гастроли.
Позднее видел на экране телевизора ссылки на него, как редактора и автора молодежных передач. Далее его следы потерялись.
Для того, чтобы учиться на вечернем факультете необходимо было работать. В первый момент поступления, для получения справки отец договорился об этом в Телефонстрое, а с октября я пошел работать «учеником надсмотрщика» на Петроградский Телефонный узел. На меня возлагалось поддержание безаварийной работы источников электропитания, необходимых для функционирования оборудования телефонной станции. В состав источников питания входили электромашинные агрегаты для зарядки аккумуляторных батарей на 24 и 36 вольт, распределительные щиты с аппаратурой защиты, сигнально-вызывной агрегат на 127 вольт и другое оборудование. Кроме этого обслуживанию подлежала вся электросеть телефонной станции.
Моим наставником и учителем был начальник аккумуляторного отдела Владимир Яковлевич Грассман. Замеры плотности электролита в аккумуляторных банках, долив электролита, контроль работы электромашинных агрегатов оставляли достаточно свободного времени у надсмотрщика. Однако у меня его не было. Мой учитель постоянно тренировал меня во всем, что определяло специальность электрика. Я часами занимался слесарными работами, осваивая такие операции, как выпиливание квадрата по угольнику, работой шлямбуром, прокладкой скрытой электропроводки, осваиванием техники безопасности.
Все эти уроки не прошли даром. Я с успехом применял их в последующие годы при организации электропроводки в домашних условиях. Владимиру Яковлевичу за все это я признателен на всю жизнь. Это был настоящий учитель. Электрик старой формации со специфическим подходом к различным вопросам. Он считал, что в основе должно лежать не только знание предмета по книжному описанию, но и познание его непосредственным ощущением. Помню, когда я уже освоился с составом, назначением и функционированием оборудования, он подвел меня к силовому щиту постоянного тока и предложил, чтобы я взялся руками за разно-полярные электрические шины. Страшно было, а он говорит: «Что чувствуешь?». Первый удар током, а потом жжение. «Теперь ты понял, как ведет себя постоянный ток, а сейчас сравним эти ощущения с переменным током». Подошли к сигнально-вызывному агрегату. «Бери в руки фазные клеммы агрегата». Я расхорохорился: «Подумаешь 36 вольт». Положил руки на фазные клеммы — трясет. «Понял разницу, а теперь смотри на вольтметр». На вольтметре 127 вольт.
1 сентября 1955 года я пришел на учебу на второй курс в 441 группу. Близкое знакомство с однокурсниками произошло не в аудитории или перерывах между лекциями, а в общежитии ЛЭТИ на 2-м Муринском проспекте. Первые годы было принято вечером съезжаться туда на танцы, тем более что там обитала половина нашей группы: Витя Семенов, Витя Гусев, Таня Шорохова, Лиза Искина, Тамара Коржупова (Пирхал), Алла Архиреева, Тамара Ермилова (Курочкина), Валера Ильевский, Саша Куриленко.
Как только я вошел в зал, меня подхватила Рита Пфейф, староста нашей группы. Она была поразительно легка в танце и должен сказать, что стала практически постоянным моим партнером. Рита, Люда Павлова и Надя Сычева образовали ядро группы, вокруг которого вращалась большая часть студентов-ленинградцев и некоторых иногородних, примкнувших к ним. Это были Саша Куриленко, Валера Ильевский, Тамара Коржупова.
Первая моя студенческая вечеринка состоялась на квартире у Риты. Было это по случаю праздников 7 ноября. Любопытно, но для меня это был день, когда я впервые попробовал вкус водки. Наше отношение к алкоголю станет вполне понятным, когда я скажу, что во время одной из загородных поездок, купив бутылку шампанского, мы пытались открыть ее с помощью штопора.

Зимние каникулы мы проводили вместе в нашей студенческой компании выездами в Петродворец и Комарово. Все наши домашние встречи обычно проходили на квартирах у Риты или Нади Сычевой. Обе их мамы, Вера Васильевна и Вера Петровна, были исключительно добродушными и хлебосольными женщинами. Они с удовольствием принимали нашу компанию.
Рита пришла в институт после окончания с красным дипломом Судостроительного техникума. Она не отличалась особенной красотой, но была очень милой и женственной. Ей были присущи хозяйственность, наследованная от мамы, строгость и пунктуальность и то же самое время жизнерадостность и веселость в хорошей компании. Все эти качества и были определяющими при выборе ее как старосты группы. Борис Иванович Норневский, наш заведующий кафедрой, бывая у нас дома, говорил, что лучше Риты жены не найти. По распределению Рита была направлена на «Электросилу», где проработала честно до самой пенсии.
Наши отношения с ней носили исключительно дружественный характер, каковыми являются и сегодня. Зимние каникулы мы проводили вместе в нашей студенческой компании с выездами в Петродворец и Комарово. Я с удовольствием бывал с Ритой в Токсово, помогая обустраивать дачный участок, который выделили ее отцу в дачно-строительном кооперативе. Вместе с Ритой мы организовывали все встречи однокурсников в ресторанах гостиниц «Россия», «Нева», «Ленинград» по случаю 5,10,20-летия окончания института. В 1961 году, когда я оказался в Туберкулезном санатории в Сосновом Бору, в 100 км от города, Рита была одним из немногих, кто навестил меня там.
Постоянные вечеринки, совместные поездки за город, участие в строительстве дачи в Токсово способствовали развитию взаимных симпатий, больших, чем дружественные. Однажды я остался у Риты на ночь. Она мне помогала оформить курсовой проект по электромонтажным работам; до некоторой степени я был лентяем и не делал, того, что мне было «не по душе». Эти отношения могли перерасти в нечто большее, но этого не случилось. Я ушел в «чужой сад, где яблоки кажутся всегда слаще».
Люда Павлова была «тенью» Риты. Они были неразлучны на лекциях, на экзаменах, в лаборатории, на отдыхе. Жила Люда на Кировском проспекте в доме 24/26, где жил в свое время С. М. Киров. Родители — капитан 1 ранга, мать домохозяйка. В квартире у нее я был только один раз. На лето Люда уезжала в Крым, где у них был собственный дом. Внешне это была высокая девушка, производившая впечатление школьницы-переростка, часто реагирующей на возникающие межличностные конфликты надуванием щек и губ, и резкой пронзительной речью. Как правило, эти моменты почти сразу же сменялись на улыбку, создающую впечатление заискивания с уменьшительными словами обращения к собеседнику. Но в целом это была добрая девушка, преданная дружбе. Вместе с Ритой, Люда прошла весь свой трудовой путь до пенсии на заводе «Электросила». Там же она встретила своего мужа. Ныне, после 90-х годов, муж успешно занялся бизнесом, а Люда у нас стала бизнес-леди, которая если и не оторвалась сегодня полностью от группы, но не стремиться к тесному общению.
Надя Сычева, яркая, живая, экспансивная, с несколько грубоватыми чертами лица, всегда была в центре событий, происходивших в группе. В ее квартире на Большом проспекте мы также часто собирались благодаря гостеприимству и доброжелательности мамы, Веры Петровны. После окончания второго курса две недели я провел в Надиной семье вместе с ее мамой и младшей сестрой, Любой, на Кавказе в Гудаутах. Не могу сказать, что Надя привлекала симпатии однокурсников, если не считать Саши Куриленко. Правда, как я понимаю, он получил «отлуп». То ли от безысходности, но к окончанию института она таки решилась выйти замуж за Олега Федорова, который все эти годы совершал попытки робкого ухаживания за ней. Отец Нади, директор завода, организовал им отдельное жилье, но супружеская жизнь не клеилась и продолжалась не долго. Они развелись, и Надежда осталась с сыном. Дальнейшая ее жизнь была связана с ЦКБ 18, где она встретила своего второго мужа. Надя мужественная женщина. Несмотря на все ее болячки и многочисленные операции, она всегда была бодра и весела. В прошлом году Нади не стало.
К нашей компании часто примыкала и Тамара Коржупова (Пирхал). Фамилия по мужу. Он учился в параллельной 444 группе. Работать они уехали на родину в Западную Украину. В поисках друзей на сайте «одноклассники» я обнаружил единственное посещение Тамарой этого сайта. Написал письмо. Ответа от нее не получил и последующих выходов в интернет не обнаружил.
Самой яркой и интересной в группе была Оля Вовулина. Правда держалась она скромно, никогда не выделялась. Из девчат поддерживала отношения с Лизой Искиной. Первые годы с ней пытался заигрывать Толя Батяев, но из этого ничего не вышло. Оля оставалась для всех неприступной. На последнем курсе в нашу группу пришел Саша Шеренос. Он был постарше нас и до этого учился в Высшем мореходном училище. Вот он то и положил глаз на Олю. Оля жила на Невском проспекте в доме 24 с, «общеизвестной мороженницей», на втором этаже, в большой коммунальной квартире с множеством шкафов и закоулков. В этой квартире мы отмечали то ли 25, то ли 30-летие окончания института.
Пытаясь добиться благосклонности Ольги, отказывавшей Саше Шереносу в свидании, он приходил заранее и прятался в шкафу, дожидаясь ее прихода. Не помогло. Вышла Оля замуж после окончания института. Сейчас она носит фамилию Нахимова; дети и внуки растут в Америке.
Алла Архиреева. Ныне ничего не могу вспомнить, чтобы как-то охарактеризовать ее. Признаюсь — общался с девушками нашей группы избирательно. Да и они, как правило, держались своей компании, в которую входили в основном общежитейские ребята. Алла, после распределения вернулась в родной Брянск; там у нее семья. Поддерживает связь с Надеждой Сычевой (Суровенко). Приглашали ее на 50-летие окончания института, но она не смогла вырваться.
Из общежитейских самой запоминающейся была Лиза Искина, очень темпераментная девушка, активистка, комсомолка. Ее симпатии были полностью отданы Жене Иванову, с которым он поддерживала контакт все годы после распределения в Зеленодольск. Самой близкой подругой Лизы была Тамара Ермилова (Курочкина). Худенькая, с косичками, она все годы учебы оставалась какой-то «школьницей». Ее вечно «слюнявый» рот создавал отталкивающее впечатление. Однако Тамара одной из первых вышла замуж. Если мне память не изменяет это был студент Кораблестроительного института. Зато потом она развернулась в полной мере. Последующие замужества, огромный дом в Одессе, яхты, машины не сделали ее счастливой. Результат — чрезмерное употребление алкоголя и какая-то необузданная жизнь.
Света Гарькавая и Галя Королькова жили в Петродворце. С ними я во время учебы совсем не общался и о судьбе после окончания института ничего не знаю. Ходили слухи, что Галю Королькову убили в лихие девяностые. Также ничего не могу сказать и о Тане Шороховой. Знаю только, что родом она была из Северодвинска, куда и распределилась после окончания института.
Ада Геворкян, армяночка, хохотушка, но держалась всегда скромно. В компаниях не выделялась. По распределению пошла работать в ЦКБ-18, стала там ведущим специалистом, вышла замуж, родила сына, которого никак не может женить. По-соседству со мной на 67 км обзавелась дачей, где проводит лето. Один раз и я там был.
Из парней ближе всех мне был Толя Батяев, коренастый, розовощекий, жизнерадостный парень. С самого начала к нему приклеилось прозвище «чиж». Толя неплохо играл на пианино и обычно радовал нас своей игрой. Коронным было «In the mood» (В настроении), которое он исполнял на всех вечерах и вечеринках. Дружба с Толей переросла в дружбу наших семей. Эта дружба продолжается и поныне.
Во время учебы я часто бывал у него на даче в Васкелово, помогал осваивать участок. В городе Толя жил на улице Яблочкова; там, на квартире я познакомился со всей его семьей: отцом Алексеем Григорьевичем, мамой, Ольгой Васильевной, сестрой Людой и братом Женей, каждый из которых отличался своеобразием характеров и не был лишен определенных странностей. Отец и мама были достаточно строгих правил и, хотя ко мне они относились вполне добродушно, я всегда чувствовал некий страх перед ними. Достаточно сказать, что первая женитьба Толи была сорвана в последний момент, когда все гости уже собрались во Дворце Бракосочетания, выяснилось, что мама, Ольга Васильевна, разорвала его паспорт дабы не допустить этого. Случай в России не такой уж редкий, но невразумительный. Интересно и переплетение судеб. Люда работала вместе с моими одноклассниками Петровым и Кутиным, ее дочка Марина вышла замуж за моего ученика Васю Супруна, а муж Люды, Михаил работал начальником отдела в НИИ «Рыбводхоз», которое было приватизировано в 90-е страховой компанией «Прогресс-Нева». Когда мы въехали в это здание я стал расспрашивать завхоза о бывших сотрудниках этого заведения и получил слишком нелестную характеристику Михаила.
Дома я был представлен и его школьным друзьям — Жене Бабенову и Юре Лившицу, Сереже Каплану. Осенью 1956 года ребята познакомились с тремя девушками: Милой, Светой и Олей. Мила училась в Медицинском институте, Света — Текстильном, где Ольга не помню. Симпатии ребят обозначились: Толя ухаживал за Милой, Женя за Светой, Юра пытался «клеить» Ольгу. Через какое-то время после их знакомства и я примкнул к этой компании. Обычно мы встречались на квартире у Светы. Она жила в коммунальной квартире одного из домов «Крестовского жилмассива». Сейчас эти дома снесли, остался один полуразрушенный.
Наличие четырех парней и трех девушек не мешало нам. Из квартиры мы направлялись на прогулку в парке Крестовского острова, где весело проводили белые ночи. Ольга, яркая девушка с большой копной вьющихся волос, отвергала ухаживания Юры Лившица; был ли я тому причиной, не знаю. Света вышла замуж за Женю Бабенова, который сменил свою фамилию на фамилию жены — Антонов. С Милой я встретился при купании на Каме, когда поезд, везший нас на целину, сделал остановку. Мила недвусмысленно дала понять, что хочет меня. Мужская дружба была для меня дороже, и я не поехал до следующего перегона в тамбуре вагона, который вез студентов Медицинского института. После возвращения с целины Толя с Милой расстались.
Сегодня мы дружим семьями. В течение многих лет проводили отпуск вместе на машинах в поездках по Крыму, Кавказу, Прибалтике, Украине, Молдавии. У Толи прелестная дочка Юля и сын Филип, окончил институт холодильной техники внук Саша. Стараемся праздники проводить вместе.
На этот же период пришлось и увлечение «стиляжничеством». Самым большим стилягой в нашей группе был Саша Куриленко. Он с гордостью носил узкие брюки, туфли на толстой микропоре и великолепно начесанный кок, благодаря наличию отличной шевелюры из жестких, вьющихся волос. В моду вошла стрижка «канадка». Но надо было придать голове и соответствующий антураж. Потому стриг себя я сам. Также перешивал самостоятельно брюки, добиваясь необходимой ширины. Ну а шикарные темно-сиреневые ботинки на толстой белой микропоре мне удружила мамочка, достав их где-то по блату. Отличился и в шитье рубашки, начиная с кроя и заканчивая отделкой по заранее выбранному фасону с воротом «апаш».
В институте Толя сошелся также с Витей Николаевым. Витя был достаточно странным парнем на фоне тогдашней молодежи с ее однообразными взглядами. Он никак не вписывался в общую систему, да и, пожалуй, не стремился к этому. После первого курса группа летом была направлена на работу в колхоз. Что там произошло конкретно мне неизвестно. Я тогда с ними не учился. Во всяком случае, он отказался делать что-то, что делала вся группа, но это противоречило его убеждениям. Результатом всего явилось комсомольское собрание, на котором был поставлен вопрос об исключении Вити Николаева из комсомола. Конечно, закончилось это ничем, по-моему, порицанием, но надо было видеть, как толпа пытается расправиться с индивидуумом, отказавшим ей в общности взглядов.
Жил Витя в коммунальной квартире в доме Эмира Бухарского на Кировском (ныне Каменноостровском) проспекте. Родителей у него не было. Воспитывали тетушки, проживавшие в Пушкине. Внешне он был не интересен. Редкие волосы, гладко зачесанные на пробор, большой нос, не красивший его. Одет он был всегда аккуратно, но однообразно, с постоянной белой манишкой. Учился средне. Алкоголь не употреблял. Всегда приветлив, но нелюдим. Доступен он был, пожалуй, только Толе. Среди его увлечений было чтение французской литературы в подлиннике, занятия тяжелой атлетикой и в последние годы — изготовление из газетной бумаги буеров и лодок для использования на Финском заливе.
Наверно надо рассказать и о последующей судьбе Вити после окончания института. По распределению направили его в ЦКБ-57, где он и трудился исправно в должности инженера. Трудно сказать, откуда в его голове зародились мысли об отъезде в США. Год был 1970, время жесткое, «андроповское». Но охота пуще неволи. Выбирает он довольно странный способ решения этой задачи. Так не поступил бы ни один «советский человек», отчетливо понимающий, какая государственная машина ему противостоит. Витя едет в Москву, подходит к охране посольства и требует, чтобы его пропустили к послу, так как у него в Америке дядя, с которым ему надо встретиться. Охрана предлагает обратиться в Красный Крест и навести необходимые справки. Витя вежливо благодарит и при следующей смене караула пытается пробиться силой. Все заканчивается печально — «столыпинский вагон» и психбольница им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.
О том, что Витя, находится в этой больнице, узнал Толя, и мы вдвоем отправляемся навестить его. Любезно принимает лечащий врач, расспрашивает нас о нем, сообщает:

«Странно, у нас такая интеллигентная публика, академики, а он ни с кем не общается. Только с одним бомжом, который поехал требовать пенсию в Верховном Совете, и был доставлен сюда той же оказией. Мы тестировали его на предмет, что же его не устраивает в жизни СССР. Он ответил, что не согласен с учением марксизма-ленинизма, в частности с учением о церкви. Однако никаких вразумительных доводов в поддержку этого привести не смог». Она устроила нам встречу с Виктором. Мы деликатно пожурили его. Сказали, что не прав. Продержали Витю в больнице полгода, чем «накачивали» его не знаю. Выпустили его, и он снова приступил к работе, даже секретность не сказалась.
К работе Витя приступил, но мысли о побеге не оставил. Он продолжал усиленно тренироваться в длительных заплывах в ледяной воде, клеил буера и лодки из газетной бумаги и, наконец, приобрел акваланг. Цель — побег морским путем из Батуми в Турцию. Витя рассчитывал на свои силы, но не знал, что за ним ведется негласный надзор службами КГБ. Естественно, на пути в Батуми его задержали, акваланг конфисковали и посадили на поезд обратно в Петербург под надзором сопровождающего. От сопровождающего он умудряется уйти и пробирается к западной границе СССР, чтобы пересечь ее сухопутным путем.
Витя сумел — таки преодолеть пять полос вспаханной территории и колючки, переплыть Днестр и оказался в Румынии. А здесь опять подвела его натура. Сев в поезд, при проверке билетов он не нашел ничего умнее, чем сказать, что он ищет политического убежища. За него взялась румынская Сигуранца, но поняв, что проку от этого никакого не будет, передала России. Со слов Виктора передача проходила на мосту, как в лучших шпионских детективах. Далее спецприемник для политических в Кишиневе, затем в Казани и потом уже питерские «Кресты», из которых он пытался бежать, но сломал ногу. Навещали мы его снова в больнице им. Скворцова-Степанова. Встречала нас тот же врач. Сказала, что ходить незачем. Диагноз ясный — шизофрения. Все эти злоключения на внешнем виде Виктора никак не отразились. Получив инвалидность, чтобы обеспечить себя, он занялся сбором орехов и грибов, совершая дальние поездки в Украину.
Заводилой мужской части группы почти всегда был Боря Лейкин. Внешне неприметный, лысоватый, острый на язык, любимец группы он чем-то напоминал нынешнего Жванецкого. Я сошелся с ним на втором семестре второго года обучения, когда мы изучали курс «Теплотехники». Курс этот нас мало интересовал, поскольку был не главным в программе специальности, но очень нудным в плане изучения всех этих «циклов Карно» и дизеля, который не работал, а был лишь наглядным пособием. Предполагалась сдача зачета по пройденному материалу.
Вместо того чтобы разбираться во всех тонкостях сей дисциплины мы с Борисом сначала заглянули ко мне домой в поисках чего-нибудь съестного. Так как наши родители были в командировке, то кроме початой бутылки вина ничего путного в буфете обнаружить не удалось. Аналогичная картина повторилась и у него дома. Добавив еще долю спиртного, мы веселые и уверенные в себе отправились сдавать зачет. День был жаркий и нас изрядно развезло. Принимавший зачет Предтеченский был достаточно строгим преподавателем и перед нами уже выгнал несколько человек. Но нам было «море по колено» и мы готовы были отвечать на любой вопрос. Как отвечали, не помню, но факт, что зачет мы получили.
Вообще Борис являл собой исключительную живучесть. Так на экзамене по «Основам электротехники», который принимал В. Т. Терентьев, все задерживались у доски не один час, но Боря Лейкин умудрился отстоять шесть с лишним часов, так и не получив в тот раз удовлетворительной отметки.
Дома он тяготился семейной обстановкой и всегда стремился к самостоятельности. В полной мере он обрел ее после женитьбы, когда отец сумел организовать им комнату в коммунальной квартире на улице Пестеля. Бориного отца я знал достаточно хорошо. Владимир Семенович Лейкин был известен в судостроительных кругах. Он работал начальником отдела в «Невском ПКБ» (в бытность ЦКБ-17). Защитил обе диссертации (кандидатскую и докторскую), написал несколько учебников и закончил трудовую деятельность в качестве проректора Калининградского института рыбного хозяйства. Маму я никогда не видел. С младшим братом познакомился незадолго до Бориной кончины.
Зато я близко сошелся с его школьными друзьями: Пашей Власовым, Борей Овсиевичем; женой Инной, ее мамой Ниной Ивановной, отчимом, братом. В этой компании мы проводили чудесные вечера в маленькой комнатушке на улице Пестеля, а потом в кооперативной квартире на проспекте Науки, куда Борис перебрался всей семьей вместе с родившейся дочкой Юлей.
После окончания института Борис распределился на завод «Электросила». Первой его работой была разработка и испытание приводов для АПЛ 627 проекта, которые легли в основу кандидатской диссертации. Он ее успешно защитил в 1965 году. Потом была поездка в Индию и другие разработки отечественных электроприводов. Как начальник сектора Борис сколотил очень дружный и работоспособный коллектив.
Я много времени проводил вместе с Борисом. Богатый производственный опыт, защищенная диссертация располагали к тому, чтобы советоваться с ним по многим вопросам; порой мне нужно было просто выговориться. Я бы сказал, что в известной мере Борис был моим «духовным наставником». Наша дружба переросла в дружбу наших семей. Ранний уход Бориса из жизни был огромной потерей для всех нас.
Среди мужской части нашей группы выделялись Саша Носков и Виталий Колдаев. Эти ребята были старше, женаты и посему находились как бы вне общего внимания. По окончании института, Саша работал в «Невском ПКБ», Виталий — в последние годы в 10 отделении ЦНИИ «Аврора». Витя Семенов и Витя Гусев, приезжие, не-ленинградцы были по натуре большие трудяги и всегда поддерживали общие мероприятия. После окончания института работали один в Загорском институте автоматики, другой на филиале завода «Электросила» в городе Великие Луки.
Леня Дружинин очаровательный толстяк, дружелюбный и добродушный был всегда и со всеми ровным в отношениях. Сначала его распределили в ЦКБ-55. Но он не захотел трудиться в организации Судпрома и перевелся на свой родной Обуховский завод. С тех пор следы его затерялись.
Сережа Грудзинский чернявый, интересный парень, любивший порассуждать и пофилософствовать. На втором курсе его коронным выступлением было: «Всех баб не переебешь, но стремиться к этому надо». С этим он приставал к каждому из нас. Характерно, что до 30 лет у него не было ни жены, ни девушки. Он пытался «подбивать клинья» к Оле Вовулиной, но неудачно. Правда, в поединке с Шереносом показал себя рыцарем, выступившем за честь Ольги.
Шеренос Александр появился в нашей группе на пятом курсе. По какой причине его отчислили из Высшего мореходного училища, не знаю. Жил он в поселке Рахья. Производил впечатление задиристого, активного парня, демонстрировавшего свои познания в области электродвижения судов, приобретенные при работе под руководством д. т. н. А.Б. Хайкина. Я уже говорил о его странных манерах ухаживания за Олей Вовулиной. Они проявились и позже, достаточно сказать, что его головой была разбита стеклянная входная дверь ресторана «Октябрьский» при выносе тела по завершении прощального вечера в связи с окончанием института. Потом мы работали вместе в ЦНИИ им. Крылова. И там он чудил. Где-то в 70-х годах я встретил его, но он по-прежнему куда-то несся занятый очередной идеей.
Женю Иванова и Валеру Разбитскова «объединяло» заикание. В институте они оба заикались, но потом это прошло, и только сейчас Валера пожаловался, что после осложнений на сердце снова появились проблемы. Разбитсков, как и я, пришел в группу на втором курсе с вечернего факультета. С ним мы проводили каникулы на юге, в Ялте, но он тогда уже сошелся со своей будущей женой, однокурсницей из параллельной 446 группы, Милой Кошелевой. Отработав положенные три года в ЦКБ-55, Валера перешел на «Атоммаш» в родном городе Колпино. Сейчас мы поддерживаем связь друг с другом в основном по интернету. Я делюсь с ним интересными известиями, которые присылает Галя Филипенко из Москвы, а он — информацией из Канады от нашей однокурсницы Тамары Чулковой.
Женя Иванов простой в обращении, отзывчивый на любые просьбы. Его любили всегда и все. Близко меня судьба свела с ним в ЦНИИСЭТ, не по работе, а через нашего главного инженера Г. И. Китаенко. Женя считался учеником Георгия Ивановича, а я всерьез занимался подготовкой и организацией защиты докторской диссертации Китаенко. После защиты Г. И. Китаенко прошел по конкурсу на заведование кафедрой «Охрана труда» в ЛЭТИ. Ему очень нужен был помощник, на которого можно было опереться и которому предстояло разгрести «авгиевые конюшни» и болото, какое являла тогда кафедра. Георгий Иванович предложил это нам обоим, но в конечном итоге выбрал Женю. Думаю, что он поступил правильно. Женя внес здоровый дух на кафедру, сделал ее работоспособной, обеспечив договорными заказами, пользуясь своими связями с ВМФ. Вместе с Китаенко практически изменил направленность кафедры. Он написал ряд пособий, защитил диссертацию, подготовил целую плеяду учеников.
К сожалению не все так просто было в его судьбе. Колоссальная работоспособность требовала «внешних вливаний». Это отражалось и на здоровье и на семье. После смерти Георгия Ивановича, Женя, даже несмотря на членство в КПСС, не стал Заведующим кафедрой. В силу обычных институтских интриг это место занял наш однокурсник из 444 группы, который потом «слинял» в США. Предали его и ученики. До самых последних дней на работе его поддерживала только Таня Маршева, секретарь кафедры ЭАС.
Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю дни, проведенные нами в командировке на Дальний Восток. Моя задача состояла только в том, чтобы убедить руководство отдела в необходимости такой командировки, все остальное Женя взял на себя, так как он бывал там не один раз и имел прекрасные контакты и на Приморской ЭРЕ, и в ДВПИ. Предполагалось, что нас ждет рыбалка на море, поездка на нерест лосося и кедрач в тайгу, купание в море и другие торжественные мероприятия.
В это время во Владивостоке «бархатный сезон». Летели мы на Восток самолетом и, к несчастью, вылет пришелся на 30 число. Время было «советское» и экономия топлива в конце месяца была непременным атрибутом всех видов транспорта. Полет растянулся на трое суток с посадками в Ижевске, Абакане, Уфе, Хабаровске. Женя и тут отыскал знакомых (капитана 3 ранга, который служил на Острове Русский). С приключениями, но в веселой компании мы добрались до Владивостока. К сожалению, намеченный комплекс мероприятий пришлось существенно урезать и по причине получившегося временного сдвига, и по причине внезапно ухудшившейся погоды. Все же в первый день мы умчались на море, поныряли, наловили морских ежей, сварили их в гостиничном чайнике и разложили сушиться на подоконнике. Вонища в номере стояла ужасная. Я не был на Красном море в Израиле и Египте, но по сравнению с морями на Европейской части СССР подводный мир Дальнего Востока исключительно богат и просто зачаровывает.
На рыбалку мы все же сходили на катере с ребятами из Приморской ЭРЫ. Ловили камбалу на «дурака», просто на крючок. Такого удовольствия от рыбалки я никогда не получал. Забрасывай и вытаскивай. Ну а потом свежая камбала, поджаренная на камбузе — объедение, пальчики оближешь. Попасть на Остров Русский не удалось, как и выйти на лодке в море в последний день пребывания. Штормило, 6 баллов и нас отговорили от рискованных мероприятий. Побывать на Дальнем Востоке, и не отовариться красной рыбой в те годы дефицита было бы просто преступлением. Успешно решив этот вопрос на месте, дальше пришлось осуществить провоз ее через таможню.
Помогли спортивные ботинки, ибо таможенники, демонстрируя свои профессионализм, досматривали наши рюкзаки на ощупь.
Надо сказать, что время было «советское», и даже несмотря на появившийся и нарастающий дефицит продуктов, пребывание во Владивостоке было весьма хлебосольным и гостеприимным. Нас везде и в ДВПИ, и в частных домах встречали благожелательно и радостно. Забыты были все старые обиды. Дело в том, что Заведующий кафедрой Кувшинов и его протеже Гуменюк противостояли мне при защите кандидатской диссертации. Объектом исследований у нас обоих был сдвоенный синхронный генератор, методы исследований были разными, но я успел закончить работу и защититься раньше.
Еще одной любопытной троицей в группе была компания в лице Саши Куриленко, Олега Федорова и Саши Синева. Куриленко — типичный южанин (по-моему, он был родом из Крыма), резкий и категоричный в суждениях, выделялся своей активностью.
В противоположность ему Олег Федоров — молчун, представлялся исключительно пассивной фигурой. Оба они ухаживали за Надей Сычевой, но видимо настырность Олега победила, правда ненадолго.
Куриленко женился на однокурснице из 446 группы. Прожили они недолго. Оба рано ушли из жизни. Рак крови.
Синев — колоритная фигура, внешне не очень приметный, с не сходившей с лица ехидной улыбочки, постоянно стремился хоть и незаметно играть направляющую роль. Это мне пришлось испытать на себе, но позже. Саша, сколачивая группу для работы над одним из вариантов автоматики для проекта 705, подбил нас с Игорем Граблевым подать заявление о переходе из ЦНИИ им. А. Н. Крылова в ОКБ 218, гарантируя поддержку на любом уровне.
Мероприятие потерпело фиаско, но имело неприятные последствия, по крайней мере, для меня. Саша тоже рано ушел из жизни. Способствовала этому неудачная женитьба, сложности производственного роста, неумеренное употребление алкоголя. В 90-е годы он занялся коммерцией, работал в овощном, потом мясном магазине. В итоге — убили, причины и обстоятельства неизвестны.
Игоря Граблева распределили после окончания института вместе со мной в ЦНИИ им. А. Н. Крылова. Там мы и работали до моего ухода в аспирантуру ЛЭТИ, а Игоря — в ЦПКБ «Рубин» (бывшее ЦКБ-18). Его жизнь также полна превратностей судьбы. Во время одной из командировок на юг он познакомился с очаровательной черноокой казачкой, женился. Жилищные условия у него не располагали к радостной жизни. Начались трения и разлад в семье. Здесь и проявились наследственные факторы. Обострилось и развилось такое заболевание, как маниакально депрессивный психоз. Не один раз Игорь пытался покончить с собой. В итоге оказался в психиатрической больнице на Пряжке. Оттуда он звонил мне и просил, чтобы навестил его, сославшись на то, что я его брат, оказавшийся проездом из Мурманска. Я поверил всей этой словесной билиберде и настойчиво стал к нему пробиваться. Врачей всем этим там не удивишь, но все же мне разрешили пройти на отделение и встретиться с Игорем. После того, как там подлечили, мне кажется, его не пришлось больше госпитализировать. Все последние годы он работал в ЦПКБ «Рубин», снова женился.
Валеру Ильевского нельзя отнести к какой-либо группе. Он был везде, но главная цель — жениться и осесть в Ленинграде. Это был заводной, общительный парень, старавшийся всегда изображать из себя такого рубаху-парня, хотя и не лишенного трезвых и серьезных рассуждений при принятии решений. Как он познакомился со своей будущей женой Тамарой, не знаю. Она работала секретарем во Всесоюзном Научно-исследовательском институте электроприборов (ВНИИЭП). Там же работали все девушки из 432 группы, в которой я пасся.
Тамара яркая, энергичная женщина остановила свой выбор на Валере, думаю, что по рекомендациям этих девушек. Семья ее интеллигентная, но своеобразная. Отец (в разводе) и старший брат жили в Москве.





Мама с очень тяжелым характером постоянно донимала дочку. Не по душе пришелся ей и зять. Тамара все время была занята бытом, улучшением их жилищных условий.
Со стороны казалось: чего тебе надо, чего не хватает, но независимый характер Валеры не располагал к семейному благополучию. Дочку они родили, вырастили и замуж выдали, но семья разваливалась и развалилась окончательно. Валера ушел из семьи, сошелся с какой-то женщиной. Где он работал, никто из нас не знал, так как он оторвался ото всех и не желал поддерживать контакты. Так и сгинул.
На третьем курсе летние каникулы 1957 года для нашей группы стали годом освоения целины. Для института это был уже второй год пребывания там студентов. В 1956 году целину осваивали студенты старше нас на год, представители 341—346 групп. Многие из них выразили желание поехать снова. Это были Валя Щукин, Слава Кравченко, Борис Рожков и другие. Проводы были бурными. На платформе Московской товарной собрались кроме нас все, кто сумел «откосить» от целины.
Погрузили нас в состав, состоящий из двух десятков товарных вагонов (в поезде были студенты ЛЭТИ, 1 ЛМИ им. Павлова и других ВУЗов) и отправили прямым ходом в Павлодар.
Ехали мы до места назначения две недели. Поезд шел с остановками на всех полустанках. Остановится и все бегом в туалет. При остановках на больших станциях столы для питания были накрыты, но категорически запрещалось приобретать и употреблять спиртное. На руках у нас была «Комсомольская путевка», согласно которой представители власти обязаны были оказывать всяческую поддержку. Ребята, которые ехали по второму разу успешно пользовались этим. Задержавшись на приглянувшейся станции, они дожидались ухода поезда и потом шли к начальнику станции сообщить ему о том, что они отстали от поезда. Начальник сажал их на скорый поезд, такой как Москва-Владивосток», и они жизнерадостные обгоняли нас для встречи на следующей станции.
В Павлодаре нас встретили грузовики, которые повезли практически обратно на север области в зерносовхоз «Западный». Расстояние 300 километров. Кругом степь, да степь. Пылища невообразимая. Пшеница тоже была, но в кино мы привыкли видеть, как она колосится чуть ли не в рост человека, а здесь от земли два вершка. Правда, потом нам объяснили, что это специальные сорта, ветроустойчивые. На полпути проехали районный центр Иртышск, где наглядно могли видеть горы «горящей» прошлогодней пшеницы высотой с четырехэтажный дом. Потом эту пшеницу сбрасывали бульдозерами в Иртыш; сколько погибло рыбы трудно сказать.
Вот мы и на месте. Часть студентов осталась на центральной усадьбе, остальных разбросали по бригадам. Наша была третья, находилась она от центра километрах в десяти. Жилье — саманный дом с двумя окнами; в центре деревянные нары, разделенные полотняной перегородкой. С одной стороны девушки, с другой — парни. Всего в бараке разместилось нас 30 с лишним человек. «Удобства» естественно на улице, там же и цистерна для мытья и питья. Свет организовали сами, соорудив ветряк из автомобильного генератора.
Питались в столовой, в таком же бараке, где размещались механизаторы. Кормили две поварихи из состава бригады механизаторов. Представление об организации питания 40 человек у них были смутные. Конечно, и продуктов никаких не было, но можно и к ним относиться рационально. В первые дни завоза продуктов (раз в 2—3 недели) на стол выставлялись, например, миски с маслом. Естественно такой продукт уничтожался мгновенно. В последующие дни в ход шел «гнусалин» (что это за продукт не знаю, но так было написано на ящиках). Его уже намазывали на хлеб в «три яруса», так как хлеб мало чем отличался и по вкусу и по твердости от самана. Суп, борщ все «в одном флаконе» варились естественно без мяса, с запахом тушенки. На завтрак, на обед, на ужин в качестве «второго» были рожки. Картошку туда не завозили. Ну и в дополнение некая бурда в виде чая. В общем, калорий никаких, а «проклятое пузо» набить чем-то надо. Желудок так растянулся, что по возвращении в Ленинград мама в течение двух недель не могла накормить ребенка. Постоянно требовалась как минимум большущая сковорода жареной картошки.
Отдушиной было посещение центральной усадьбы, где размещались знакомые девчата из 432 группы, которые, не в пример нашим поварихам, могли не только накормить свою студенческую ораву, но и кое-что оставалось. С Игорем Граблевым мы частенько вырывались к ним на кухню и получали полведра нормальной манной каши, да еще и масло перепадало.
После обеда необходим был сон, чтобы как-то переварить и усвоить такое количество пищи. В противном случае работать в наклонку, перебрасывая пяти килограммовые ковши-плицы с зерном было просто нереально.
Вся работа наша делилась на два этапа. Первый, подготовительный, когда зерно еще не готово к жатве, и второй — непосредственно уборочная страда. Первый выглядел таким образом: все вышли на поле, построились в линейку с интервалом 1,5—2 метра и дружно пошли к противоположному концу поля (это километра два) по пути вытаскивая сорняки, которые были с человеческий рост. Так считалось, что поле подготовлено к жатве.
Кроме этого часть людей была занята на подсобных обслуживающих работах, как то: изготовление саманных кирпичей для построек, установка электрических столбов и подвеска провода. Ну а когда началась жатва, все разбрелись: кто на ток сушить зерно, кто его провеивать, кто затесался к механизаторам (Ильевский), кто пристроился к комбайнерам ворошить зерновую массу в бункере комбайна.
Работа в целом протекала достаточно сумбурно. Любой сбор урожая предполагает учет. Автомобиль с поля, загрузившись у комбайна зерном, должен, прежде чем его сдать на ток, пройти взвешивание. Весы в бригаде построили только к нашему отъезду в октябре. Учет велся просто: сколько водитель назовет бункеров — столько и запишут. При этом надо учесть, что поля были грязные с большим количеством камней. При низкорослой пшенице необходимо было постоянно поднимать хедер комбайна во избежание поломки. Оставались большие проплешины, да и зерно было слишком засорено сорняками. Такое зерно требовало непрерывного перелопачивания для просушки, иначе оно начинало гореть.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.