
Бесплатный фрагмент - Соленое детство в зоне
Том II. Жизнь — борьба!
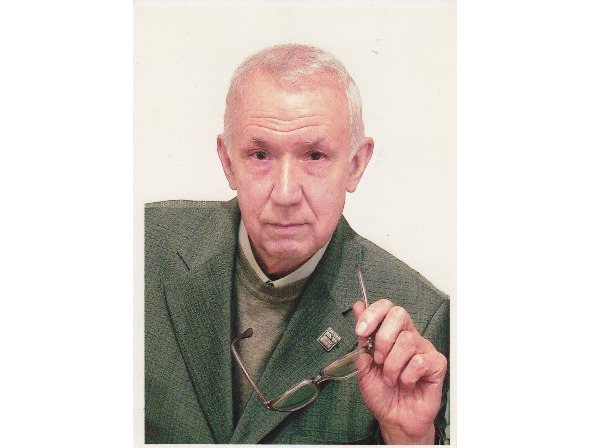
Синопсис романа «Солёное детство в зоне»
События развиваются в довоенном Кисловодске. Началась война. Отец главного героя — офицер советской армии, будучи раненым и обмороженным, попал в плен к немцам. Ему дали 10 лет лагерей в Норильске. Жену с двумя малолетними детьми сослали в Новосибирскую область. Семья терпит неимоверные трудности — голод, холод, побои и унижения от комендантов. В зоне гибнут тысячи людей. Семью спасает первая учительница старшего брата героя Ольга Федосеевна Афанасьева. Она помещает детей в больницу, а затем в детдом — туда же устраивает прачкой их мать. В детдоме главный герой в течение 3–х лет получил все главные и необходимые навыки в предстоящей жизни. Он учится, трудится, участвует в художественной самодеятельности. Но у него и матери не складываются отношения с суровым директором детдома Микрюковым. Итог — мать и сыновей директор выгнал из детдома. Семья опять оказалась на краю гибели. Опять выручает Ольга Федосеевна — на свои деньги она покупает им небольшой домик. Мать выходит замуж за пьяницу и распутника Пастухова. Пьянки, скандалы в семье отражаются на детях. На краю деревни неожиданно приземляется самолёт, и главный герой после этого даёт клятву другу, что станет лётчиком. Он любит читать книги ночами под вой пурги на русской печке и прочитал всю литературу в четырёх близлежащих библиотек соседних посёлков. По натуре он романтик — неистово влюбляется в одноклассницу Нину Суворову. Завёл дневник. В глухой деревне много мистики. Есть необъяснимые случаи встреч с покойниками, чертями, ведьмами, лешими. В деревне много сосланных интеллигентных людей, которых описывает герой. Интересны сцены многочисленных детских игр, охоты на зайцев, лис, куропаток, летней и зимней рыбалки. Происходит несколько смертельных случаев, когда главный герой чуть не утонул в реке, трясине, погиб от холода, обморожений, падений с высоты, пожара в лесу, нападения диких зверей. Неожиданно приехал отец. Сложная семейная сцена оканчивается тем, что мать осталась с Пастуховым. В Пихтовке, где Николай заканчивает восьмой класс, происходит встреча со знаменитой Анастасией Цветаевой — писателем, сестрой поэтессы Марины Цветаевой.
Реабилитация. Семья приехала в Кисловодск. В школе все надсмехаются над главным героем: 16 — летним хилым замухрышкой (вес 40 кг. рост 150см.), одетым в лохмотья. Выручает хороший учитель физкультуры, который советует заняться спортом. Через 12 лет происходит чудо — главный герой становится мастером спорта в беге на длинные и средние дистанции (рост 181см. вес 75 кг.) Участвует в многочисленных соревнованиях. Незабываема встреча с Олимпийским чемпионом Владимиром Куцом. После окончания десятилетки главный герой, в какой уже раз, пришёл в Ессентукский аэроклуб. Начальник отдела кадров встретил его, как знакомого:
— А — а! Углов? 18 лет исполнилось? Ну, давай, давай документы! Так. Аттестат зрелости, паспорт, справка из поликлиники, автобиография, комсомольская характеристика. Так, так. А что это ты написал в автобиографии? Отец был судим? И ты был в ссылке? Ну, братец! Такого я не ожидал! Нет, нет — из тебя лётчика не получится!
— Почему? Ведь нас реабилитировали! Даже дом отдали! У меня есть справка об освобождении! Партия осудила культ личности! Всех, невинно осуждённых, оправдали! Целые народы вернули из ссылки!
— Послушай! Я верю тебе, но… подыщи другую профессию!
— Почему? Я с детства мечтал быть лётчиком!
— Я не хочу на старости лет париться в тюрьме, потому, что пропустил тебя в лётчики! Где гарантия, что ты не затаил злость на власть за отца и себя? Перелетишь за границу, а я в тюрьму?
Главный герой заплакал. Это был крах его мечты! С той поры он стал тщательно скрывать факт судимости отца и своей ссылки. В Сибири трагически погибает его отец и Николай жестоко страдает от потери любимого человека. Приехала из Сибири его первая любовь — Нина Суворова, но встреча окончилась неудачно и они расстались навечно. Три года техникума и столько же армии — много интересных приключений и встреч с людьми. Романтические встречи с несколькими девушками, которых так и не смог поцеловать главный герой из — за своей «проклятой деревенской робости». Поступил в Волгоградский институт физкультуры, но вынужден был бросить его из — за низкой стипендии. Дома те же скандалы, пъянки отчима и нищета. Неудачная женитьба. Заочно окончил Ростовский инженерно — строительный институт. Главный герой неистово трудится, старается, проходит путь от разнорабочего до беспартийного начальника домостроительного комбината (его назначили в обход парткома). Двое сыновей подрастают, но произошёл развод с первой женой.
Вторая половина жизни как бы уравновешивает первую. Успехи в работе, второй счастливый брак, много путешествий по стране. Главный герой с радостью встретил перестройку. Много пишет в независимых СМИ разоблачительных статей о федеральных, краевых и местных бюрократах — чиновниках. Стал членом СПР и СЖ РФ, а также обладателем Международной карточки журналиста. Встречается с великим писателем Александром Солженицыным и Андреем Губиным, министром финансов Борисом Фёдоровым, разработчиком Конституции РФ Виктором Шейнисом, полпредом президента Кулаковским, олигархом Брынцаловым, видной правозащитницей Людмилой Алексеевой, всеми руководителями края, КМВ и города, а также другими лицами. Участвует в ветеранских соревнованиях по лёгкой атлетике в стране и за рубежом. От города Кисловодска предложили нести факел к Олимпийским играм в Сочи. Здоровый образ жизни и любовь жены Нины делают поистине счастливыми дни старости героя.
Глава 46. Возвращение
Мы уже в Кисловодске. На станции Минутка Шурка в последний раз начал канючить:
— Мама! Куда мы приехали? Где будем жить? Кто нас ждёт? Мать решительно пресекла паническое настроение Шурки:
— Приехали на родину! Здесь вы родились. Что, всю жизнь пропадать в Сибири? Ты должен радоваться, что мы уехали из того пекла, а ты хнычешь.
На вокзале начали немного сомневаться, к кому поехать жить? В нашем доме жили какие-то люди. Об этом нам написали бабушки Оля и Фрося, а сами они были в Кабарде. Мать сказала:
— Нечего сомневаться! Едем к моей двоюродной сестре Кате Колпаковой. Я уверена, она приютит нас на время. А мы будем хлопотать, чтобы нам возвратили наш дом по улице Овражной.
Колпаковы жили на улице Почтовой. Это почти рядом с улицей Революции, где был первоначально наш родовой дом.
Нас встретили хорошо. Слёзы, объятия, разговоры. Дали комнату. На следующий день мать начала подавать документы в исполком на возвращение дома. Там волынили, встретив нас в штыки. Мать написала в Москву и одновременно подала в городской суд. Мы были ни в чём не виноваты, теперь реабилитированы и ждали, что дело быстро разрешится. Но не такая наша власть! Знали бы мы, что придётся помытариться по людям и ждать возвращения своего дома ещё более года!
Дом Колпаковых располагался в великолепном саду. Запах спелых яблок, слив, чудесных жёлтых груш, запах вишнёвого варенья, которое варили в медном тазу, стоящем на керогазе — всё это великолепие южной щедроты лета теперь окружало ежедневно нас. Моя одногодка Неля — дочка Кати, уверенно руководила мной в саду. Мы собирали плоды, ягоду, поливали грядки и цветы. Я отъедался дарами юга. Было радостно на душе. Мы быстро привыкали к новым для нас местам. Мы шутили с Нелькой, обливались из шланга тёплой водой, гонялись друг за другом в большом саду, хохотали по любому пустяку. Юность и задор молодости распирали нас беспричин-ным весельем. Отец Нельки был инвалидом войны — он вернулся без ноги. Одноногому дяде Косте не нравились наши игры, шум, крик. Мы явно нарушали его покой и он, вероятно, начал выговаривать Кате за нас неприятные вещи. Сама тётя Катя — крупная, мясистая, добрая, очень жалела нас и дружила с матерью, но не могла устоять против мужа.
Через два месяца мы переселились на улицу Революции к материной куме — Фроловой Нюсе. Мы поселились в подвальном помещении, а наверху жила кума со своим непутёвым сыном, бросившим учёбу. Его звали все почему-то Лобиком.
Помня приземлившийся самолёт на окраине Вдовино и мечту стать лётчиком, сразу же начал расспрашивать об Ессентукском аэроклубе, о котором рассказала мать. Поехал на электричке «зайцем» туда. В отделе кадров, узнав, что мне только исполнилось шестнадцать лет, сказали: — Приезжай через годик! Посмотрим! Предварительно возьмём на учёт, а по окончании десятилетки, пожалуйста!
Я загорелся ещё больше и стал нетерпеливо ждать. Филипп Васильевич устроился работать кочегаром, а мать теперь ежедневно обивала пороги судов — городского, краевого, писала жалобы в Москву. Дом пока не возвращали. Мы жили теперь рядом со своим домом №116, который в войну перекупили у матери Старковы. Рядом находилась школа №7, в девятый класс которой я и пошёл с 1 сентября.
Новая школа, великолепно одетые городские девчонки и мальчишки — рослые, упитанные, высокомерные, произвели на нас неизгладимое впечатление! Это был другой мир, это были другие люди! У нас во Вдовино все были равны, плохо одевались, никто не выделялся, все были скромными, простыми и добрыми. Здесь же мы почувствовали себя «белыми воронами». На переменах мы с Шуркой бежали друг к другу, испуганно озираясь, жались по углам. Наша нищенская одежда и обувь, робость, забитость и неуклюжесть так и выпирали из нас! Мы были подавлены и ошеломлены городом и его людьми, смелостью и даже наглостью мальчишек и девчонок — они нам были не пара! Огромная белокаменная школа была раз в десять больше нашей деревянной. Крикливые и уверенные в себе ученики превосходили нас в развитии и это угнетало нас! Над нами потешались и смеялись во всём! Я самолюбиво переживал временное угнетение и не раз клялся себе:
— «Я ещё докажу всем этим городским выскочкам, что не хуже их!
Если бы я уверенно знал, что так оно и будет! Знаю сложившуюся судьбу всех своих одноклассников — «никто из них не поднялся высоко». Я не виню никого! У каждого свой выбор пути! Если у тебя есть внутренний стержень — можно многого добиться в жизни!
Шурка проучился в школе в десятом классе не более двух недель, затем бросил учёбу бесповоротно! Он не выдержал насмешек, издевательств, всего этого стресса и прекратил ходить в школу. Напрасно мать кричала, била его, плакала, ругалась:
— Что вы обещали отцу и Василию Ивановичу? Забыли? Ты бросаешь учёбу, а потом и Колька? Будете неучи? Для чего все наши мучения? Тогда не надо было учиться в Пихтовке. Здесь же рядом, и нам теперь легче. Подумай, будешь всю жизнь на задворках? Мы с Филиппом горбатимся, а теперь и вы?
Но Шурка был неумолим и наотрез отказывался от школы: — Мама! Я не выдержу насмешек! Ты бы слышала, как они смеются над нашей одеждой, обувью, над нами! Я не клоун, чтобы быть предметом смеха! Вот устроюсь где-нибудь на работу, заработаю денег и куплю себе приличную одежду и обувь, вот тогда и продолжу учёбу! А пока дома сам буду учиться по учебникам.
Так он и просидел эту зиму дома, боясь даже смотреть в сторону школы. Мне же без него стало ещё хуже. Особенно тяжело было пережить перемены. Я не знал, куда себя деть! Кинулся было к Нельке Колпаковой (она тоже училась в параллельном девятом классе), но здесь, в школе, она была куда великолепнее меня, смелее, общительнее. Одета, обута лучше, всегда в окружении подруг, которые хихикали и с интересом разглядывали меня. Да и она, может, конечно, мне показалось, теперь сторонилась меня. Я отшатнулся от неё и замкнулся в себе. На уроках физкультуры становились по ранжиру и я всегда предпоследний, за мной только коротышка Галя Бондаренко. Девчонки Харыбина Лиля, Щедрина Люба и Алла Карак стоят рядом — впереди меня, постоянно подтрунивают надо мной. Мой хилый вид и малый рост (150 см.), деревенские трусы до колен, заставляли меня глубоко страдать, видя, как надо мною потешаются мальчишки и девчонки.
Непрестанный голод в Сибири, холод, непосильный труд (достаточно вспомнить только, как дёргали лён на колхозных полях до самых морозов, косили сено, пилили, кололи дрова, копали, сажали, пололи, окучивали картошку, носили воду на коромыслах за 300 метров и т. д.) — вот и замухрышка! Всё время вспоминаю, как пас свиней, коров. Уже по утрам иней и мелкий снег, а мы всё босиком!
Осень в Кисловодске была тёплая, и физкультуру проводили до самого ноября в трусах и майках на открытой спортплощадке. У всех были настоящие спортивные майки и трусы, а у меня умопомрачающие колхозные исподники и старая большая безрукавка отчима, а на ногах поношенные сандалии вместо тапочек. Физкультуру, столь любимую мной во Вдовино, я здесь возненавидел, а горластого, длинноносого, с медным лицом физрука Кадурина, просто боялся. Ему ничего не стоило громким голосом «выдернуть» меня из строя и попотешаться, заставив десятки раз отжаться, прыгнуть в высоту, взять низкий старт, несколько раз бросить гранату или мяч в корзину.
Всё это я не умел делать, так как во Вдовино на уроках физкультуры этого не было. Особенно невзлюбил баскетбол. Я впервые здесь вообще узнал об этом виде спорта! Долго не мог уяснить правила этой игры, а спросить боялся. Во Вдовино мы хорошо играли в волейбол, городки, лапту, подтягивались на турнике — вот, пожалуй, и всё, что было на уроках физкультуры. Здесь же доминировал баскетбол, теннис, футбол, лёгкая атлетика. Кадурин Валентин Яковлевич был очень старательный физрук. Он всему этому учил на уроках самозабвенно. Видя, что у меня ничего не получается ни с одним из этих видов спорта, он старался мне помочь быстрее овладеть ими, а я думал, что он издевается надо мной.
Как-то он после урока физкультуры отозвал меня в сторонку:
— Вижу, Коля, как ты страдаешь! Помни, только спорт поможет тебе! Бегай, прыгай, подтягивайся, играй в баскетбол, а главное — виси на турнике много раз, используй каждую возможность. Виси расслабленно минуту-две, а затем и до десяти. Уверен, вырастешь!
Я думаю, что Валентин Яковлевич и сам не до конца верил своим словам! Когда через десять лет, уже будучи чемпионом Ставропольского края в беге на длинные дистанции, встретился с ним на Ростовском стадионе, где проводился чемпионат Юга зоны России и где я стал первым в беге на десять тысяч метров, он не скрывал слёз:
— Ты ли это, Углов? Господи! Какой молодец! А рост-то! Вымахал за метр восемьдесят! Чудо, да и только!
И правда, ростом (181) я стал не ниже Кадурина.
— Валентин Яковлевич! А вы здесь как оказались?
— Привёз воспитанников спортшколы. Давай, Николай, как приедешь в Кисловодск, принеси мне свою фотографию. У нас теперь в седьмой школе построили закрытый спортзал. Повешу твоё фото рядом с братьями Криуновыми. Слышал за них? Они мастера спорта по лёгкой атлетике и оба мои ученики!
Кадурин сдержал своё слово, и моя фотография висела в спортзале лет тридцать.
Так вот, в баскетболе всё решает ловкость, быстрота реакции, скорость. В каждом дворе Кисловодска есть корзина и почти все ребята играют хорошо. На уроках физкультуры, разбившись на команды, мы ежедневно играли в баскетбол. Сверстники все высокие, ловкие, так и перебрасывают мяч друг другу, а мне не достаётся, всё не ухвачу его, со мной никто, как с партнёром, не считается. Всё это меня бесит, я злюсь, стараюсь изо всех сил, ношусь по всей площадке, нагло выхватываю мяч у рослого красавца Червякова или ловкого Павлова и бегом с ним к кольцу. Бац — мимо! А сзади хохот, все схватились за животы, катаются. Оказывается, я сделал «пробежку» — т. е. ни разу не ударил мячом об пол. А надо ударять через каждые два шага.
Дома я глубоко страдал от насмешек в школе, от этой одежды в заплатах, от неуклюжести и бедности, из-за отсутствия друзей, из-за маленького роста и плохого питания. Мы по-прежнему голодали и находились «на дне жизни». Была ли хоть ещё одна такая беднейшая семья в Кисловодске? Всю злость и досаду теперь вымещал на матери:
— Зачем родила таких? Лучше бы подохли с голоду в Сибири! Почему я такой маленький, низкорослый, как карлик? Неразвитой и заскорузлый, как тот поросёнок, которому Пастухов отрезал голову! Когда ты оденешь нас, как людей и когда, наконец, в доме будет что-то пожрать? Никогда ничего нет поесть, вечно кастрюли пустые! А Сережу своего поишь сливочками с печеньем! Не можешь прокормить нас, лучше бы не рожала на свет!
Мать бранилась, плакала, била подзатыльника, а Филипп хватался за ремень, но уже стал опасаться меня. Шурка же слабо поддерживал меня. Он голодал молча и всё искал работу в городе, но никто его нигде не брал, так как он был маленький и худой. Наступала зима. Здесь тоже все на зиму, как и в Сибири, заготавливали картошку. Материна кума Фролова Нюська как-то сказала Филиппу Васильевичу: — Наш сосед Васька — муж Елички Хромовой работает трактористом где-то в совхозе. Он распахивает, сажает, обрабатывает поля на горе Кабан. В этом году там, говорит, осталось много картошки после уборки. Сходите туда, может, заготовите картошки на зиму.
Гора Кабан возвышается над Кисловодском на востоке прямо напротив улицы Революции. От нашего дома туда, в довольно крутую гору (метров на шестьсот-семьсот выше города), по прямой километра четыре-пять. За горой Кабан располагались колхозные поля практически на ровной местности. Мы поздними вечерами ходили по полям и ногами разгребали землю, выбивали, вытаскивали целую, полусгнившую, порезанную картошку. Её было полно. Наберём с пол мешка каждый, и домой. Невероятно трудно идти с крутой горы с тяжёлой ношей! Ноги дрожат от напряжения, пот заливает глаза, дыхание, как у загнанной лошади! Если оступишься, то загремел, покатился по камешкам вниз! А мешок развяжется или лопнет при падении, считай, картошки не найдёшь! Раскатится вниз далеко в разные стороны, бесполезно в темноте искать! Приходили в город уже за полночь усталые, мокрые от пота, в глазах круги ходят, а ноги мелкой дрожью бьёт. Утром не поднимешься, тело ломит от усталости. Тяжело доставалась картошечка в этот первый год на Кавказе, но мы всё же натаскали мешков пятнадцать! Картошка есть, считай, с голоду не помрёшь!
Как-то раз пришёл домой поздно вечером — ни матери, ни Шурки не было дома. Тихо зашёл в калитку и вижу следующую картину. На освещённой веранде раскрасневшийся, вероятно, выпивший отчим о чём-то оживлённо беседует с кумой, шутит, хватает за руки. Затем он пытается её свалить и обнимает. Она слабо сопротивляется, но затем сдаётся. Они выключили свет в веранде, а я тихо вышел со двора.
Пастухов и здесь был в своём репертуаре! Я на этот раз ничего не сказал матери, но она, видно, и сама догадывалась о внебрачных связях Пастухова, опять начавшихся на Кавказе.
Через некоторое время мы ушли от кумы. Перешли мы на квартиру опять к соседям — Хромовым. Хозяйка двора дородная бабка весом 120—130 килограммов и не менее полнотелая её дочь Еличка с мужем Васей жили наверху, а нам сдали подвал. Видя нашу бедность, добрая бабка разрешила нам даже держать в катухе сада свинью, которую мы купили на базаре. Не каждая хозяйка пошла бы на это — нюхать во дворе «прелести» кабана! Бабка и дочь нигде не работали, ничего особо не делали, они сидели дома и жирели день ото дня. Сад у них был огромный, но запущенный. Мужа Елички — Васю, мы почти никогда не видели. Он работал даже в выходные дни в пригородном совхозе трактористом. Каждый день одна и та же картина. Часов в одиннадцать вечера приходит с работы Вася. Загремел кирзовыми сапогами по деревянной лестнице наверху над нами, значит, побежал с двумя вёдрами к колонке на углу улицы за водой! Сходит за водой, умоется в рукомойнике, начинает себе жарить картошку, а уже ночь на дворе! Жена и тёща не следили за ним, и ему самому приходилось ещё и стирать себе грязные рубахи! Я всегда жалел его и возмущался терпению и спокойствию:
— Зачем такая ему жена, только деньги ждёт!
Филипп язвил:
— Дурак потому что! Но ты погоди, может, и у тебя ещё почище будет! Не кипятись, рога обломает какая-нибудь! Сейчас они все ушлые! Не такие вприсядку пляшут перед ними!
Если бы я знал, что его слова оправдаются через десять лет и я стану ничуть не лучше того Васи! Но, забегая вперёд, скажу, что впоследствии Вася, как и я, ушёл от своей первой ленивой и неразумной жёны.
Теперь нам надо было заняться топливом для зимы. В то время в Кисловодске не было газа, и все топились углём и дровами. Филипп Васильевич работал кочегаром в санатории «Красный шахтёр». После выгребания из котла печи всегда оставался не совсем сгоревший уголь. Завхоз разрешил Филиппу частично забирать его домой. Надо ли говорить, что в мешки нам отчим насыпал хороший уголь, а сверху чуть присыпал сгоревшими отходами? Уголь мы таскали поздними вечерами в мешках через весь город, таясь от милиционеров. Правда, милиционеров в то время практически не было. Можно было встретить за ночь, и только в центре, одного-двух блюстителей порядка. Принесём с Шуркой, с передышками, по пол мешка угля домой, валимся от усталости. Спина мокрая и чёрная от пыли, а вымыться негде! На весь город было две бани, но и те ночью не работают. Помоемся под рукомойником и спать! Так и таскали уголь на своих плечах всю зиму.
Жили мы все в одной полуподвальной комнате — душно, сыро, полутемно. Серёжке Филипп сделал из досок кроватку — люльку и оплёл бока верёвкой, чтобы не выпадал. Вот он и сидел там целыми днями, только успевай слюни подтирать, да за задницей следи! Рос он сильным мальчиком, но очень уж сильно горлопанил, ночами мешал всем спать. Кушал же всё отменно, только подавай! Неприхотливый, весь в отца! Он и судьбу-то отца повторил. Пил беспробудно лет тридцать пять и только к старости, как и Филипп, угомонился!
Мы росли опять в голоде. Всё время хотелось есть, а дома никогда ничего не было пожрать. Помню, выйду ночью во двор якобы в туалет, а сам заберусь тихо в саду на грушу, чтобы бабка Хромиха не увидела с веранды меня. Зимние жёсткие груши висят до декабря, когда начинаются заморозки. Залезу потихоньку на старую грушу у туалета, в темноте нащупаю не-сколько плодов, принесу и Шурке похрумать.
Сижу на ветке. Внизу огни центра маленького городка. А здесь, на окраине темно, как во Вдовино, и собаки брешут также. И каждодневно вспоминаю родную деревню, Шегарку. Заноет сердце:
— «Как там сейчас отец живёт? Какая погода? Как Афанасий и все остальные друзья? Уехала ли Нинка Суворова? Почему не ответил на письмо Костя Чадаев и Вовка Жигульский? Может, тоже уехали? Сейчас там снега по брюхо и кто-то без меня ловит силками зайцев. Зачем мы уехали оттуда?»
А утром опять постылая школа, постылые учителя и ученики. Всё мне не мило, всё нехорошо. И дома нет покоя. Да и какой это дом? Легко ли жить на квартире? Там не сядь, там не плюнь, условий для учёбы никаких. Полутёмный подвал, бесконечный визг Серёжки, брань пьяного Пастухова с матерью, тяжёлый запах картофельных шкурок, варящихся для кабана. Запах говна и мочи Серёжки, сырых пелёнок, смердящего, коптящего угля. Даже нет нормального стола и стула для приготовления уроков. Какие уж тут условия? Вот и Новый год прошёл, а радости никакой. Даже снега здесь нет настоящего. То пойдёт, то растает, грязь одна, а не зима! А вот во Вдовино зима была, так зима!
Всё больше метался, тосковал, учился на одни тройки, ничего не хотел делать, дерзил матери и Филиппу, уже раза два-три так схватился с Шуркой, что табуретки летели! Такого у нас с ним не было на Шегарке! Я стал упрямым, как бык Борька, настырным. В школе съёжился в тугую пружину, не подходи! Грубил всем, задирал, постоянно кидался в драку. Незаслуженно обзывал Шурку сопляком, и по этому поводу мы стали драться с ним. Он тоже жестоко страдал от этой новой жизни и не знал, куда себя деть, чувствовал себя ненужным. Филипп по пьянке постоянно ругал нас, обзывал халдеями и тунеядцами. Во мне рос протест против всего этого! Мать жаловалась на меня приходившей к нам почти ежедневно куме. Та укоризненно качала головой и тоже бранила меня:
— Если так будешь вести себя, ты превратишься в дурака. Видел — на нашей улице ходит Толик Красильников? Ему уже под сорок, а он всё на губах играет марши и песни разные. Все с него смеются, а ему хоть бы что! Или как мой сын будешь! Тоже дурак не лучше! Бросил учёбу, курит, пьёт, гуляет с девками, не хочет работать! Разве можно так? Вы же из какого пекла вышли? Из какой бедности вылезли, из голода, и не хочешь учиться? А мать почему обижаешь? Ну и характерец у тебя! И в кого ты такой вышел? Володя, твой отец, золотой мужик был! Спокойный, уравновешенный, добрый к семье и людям. Всегда, помню, от него слышишь: «Нюсейчик, Нюсейчик. Ты устала? Я сейчас помогу, принесу, быстро сделаю. Не волнуйся, всё будет хорошо!» Вот как любил мать и вас! Приедет на Кавказ, тебе же стыдно ему будет в глаза смотреть!
При упоминании имени отца мне становилось ещё скучнее, грустнее и ещё больше не хотелось здесь учиться и жить. Я уже всерьёз подумывал о возвращении на Шегарку, но где взять деньги на дорогу?
Глава 47. Смерть отца
От отца получили уже четыре письма. Ему не везло. Попал в аварию (придавил пальцы) и был на больничном несколько месяцев. Мать на него сразу же, по настоянию Пастухова, подала алименты и отец в письме очень возмущался: — «Дети! Я что, вам чужой? Неужели бы вам сам не помогал? Но раз так, и вы следите, сколько денег будет получать мать. Советую вам понемногу покупать одежду и обувь (вы очень плохо одеты, обуты), а то она истратит эти деньги не на вас.»
Отца очень интересовала послевоенная жизнь на Кавказе. Расспрашивал о всех друзьях, знакомых, соседях, интересовался ценами на продукты на базаре, спрашивал, как мы учимся. Помню, очень огорчился, узнав, что Шурка бросил учёбу: — «Александр! Почему бросил? Может, мать с Филиппом заставили работать? Это огромная ошибка! Надо любыми путями продолжать учёбу! Я приглашаю вас переехать ко мне. Если решитесь, сообщите! Деньги на проезд дополнительно вышлю. Здесь есть десятилетка и хорошее ремесленное училище. А летом, возможно, все переедем на Кавказ.»
Последнее письмо отца получили 13 января 1955 года:
— Здравствуйте сыновья Александр и Николай! Поздравляю с Новым Годом! Желаю вам здоровья и хороших успехов в учёбе. От Коли получил одно письмо, где он описывал, что были в Москве и как доехали до места. Вы остановились у Кати Колпаковой, но адрес и номер дома не указали. Больше ни одного письма! Как дела с домом, есть ли надежда на его воз-вращение? Как учёба? Пишите, в каких условиях протекает жизнь в городе. Ходите ли с Александром в кино? Коля, опиши, какие обновления в городе. Живут ли медведь с медведицей в Зимнем саду, как театр на вокзале, Курзал и пр. Напиши адрес своей школы. Учишься напротив «Интуриста» или направо к вокзалу? Кратко о своей второй семье. Михаил учится, мать Дуся дома по хозяйству. Я в августе получил ссуду 1000 руб. и 600 руб. отпускных. Купил стельную тёлку за 1400 руб., кроликов и кур — по семь штук. Мне в жизни продолжает не везти. Накосил сена два стога — один 16 центнеров, а другой — 24. Так вот, второй стог украл объездчик колхоза «Старо-Коноваловка». Теперь для коровы придётся сена покупать. Попал в аварию, ушибся (на бюллетене 3 месяца) и мать на алименты подала, как будто я сбежал! Теперь с меня будут удерживать ссуду 100 руб., алименты — 33%, за квартиру, займ, радио, свет и на руки ничего нет! Но ничего! Николай должен получить по исполнительному листу 401 руб. На эти деньги, Николай, купи себе ботинки и костюм. Если у меня состояние здоровья не нарушится, будет всегда вам поддержка! Александр на будущий год будет взят в ряды Советской армии. Жаль, очень жаль, что мать так и не дала закончить ему десятилетку, заставила работать. На будущий год, Николай, твоя очередь — призыв приписки к военной обязанности. Почему Александр не пишет? Что-то вы мне не сообщили, кого мать родила — мальчика или девочку? У моей мальчик вышел неживой. Сегодня получил письмо от Николая и одновременно от Василия. Вася пишет, что потерпел удар высокого кровяного давления на суставы левой стороны. Отнялась нога, рука левая. Установили на один год инвалидность. Хочет выехать ко мне. Василий обещал сообщить о выезде телеграммой. Очень жду брата и печалюсь за него. Александр, Николай! Будете иметь затруднение, приезжайте ко мне. Александра устрою в Новосибирске в РУ, а Николай может и у меня учиться в посёлке. Ничего, сыновья, жизнь наладится! Мы только начинаем обзаводиться хозяйством. Возможно, и в семье будет прибавление! Переломы в жизни пройдут! Начинаю снова жизнь, лишь бы было только здоровье! Пишите, пишите чаще! Пламенный привет! Ваш отец В. И. Углов.
В ответ на это большое письмо я послал ещё более пространное, смущённое, стыдливое, с извинениями за молчание, но которое так и не получил отец — он был уже мёртв! Первой мне об этом сообщила плачущая мать, когда пришёл из школы:
— Коля! Отец погиб!
5 февраля 1955 года во время ночной выгрузки леса, где он принимал самое активное участие, произошла страшная авария — упал большой кран! Погибло несколько человек, в том числе и отец! Об этом мы узнали из письма тёти Дуси. Она его прислала через месяц после гибели отца. Даже телеграмму она не послала, хотя вряд ли мы смогли бы в то время поехать на похороны. Так и не увидели мы больше отца, так и не исполнилась его мечта о новой жизни!
Часто я думаю об отце, о его нелёгкой и трудной жизни. Ему, действительно, в ней не везло! Как ни плохо, а мать прожила 87 лет, а отец, ещё в гораздо больших мучениях, почти наполовину меньше — всего 45 лет! Отца давно нет, хотя живы ещё некоторые его сверстники!
За смерть отца на производстве, как ни странно, никто не ответил, да и нам, детям, государство не заплатило ни копейки! Был, не был человек — советского государства это не касалось! Но вот подошёл год призыва в армию, сразу вспомнили сыновей этого человека!
Нас, униженных режимом, голодных, запуганных, забитых, сразу призвали в армию! Кому нужно такое государство? Никто не спросил, как мы жили, как мы остались живы, как мы ели, пили, воспитывались, как чудом мать наша спасла нас от
голодной смерти! Если бы не моя учительница Ольга Федосеевна (верю, её сам Бог нам послал!), которая силком и своим авторитетом нас устроила в больницу и детдом, нас бы не было! Чуть подросли и к тому времени, оказывается, мы уже были «должны» и этот «долг» государству надо было отдавать тремя годами службы в суровой, ещё «жуковской» армии! Горько и обидно об этом вспоминать, но государство ничего нам не дало, чтобы потом всю жизнь спрашивать о «долге» с нас! Сегодняшнее время совсем другое! Я тоже не в восторге от него, но, что бы ни говорили, дети сегодняшние, действительно, в долгу у России! И получают они от государства значительно больше, чем дают! За нас, знать!
Мечты мои о поездке к отцу рухнули — его уже нет в живых! С Шуркой плачем безутешно. Ведь только начали привыкать, что у нас есть отец и вот такое горе! Мать тоже ежедневно вспоминала отца и плакала. Филипп Васильевич также на время притих — семьёй овладел траур. Соседи также сочувствовали, кто знал и помнил отца, вечерами приходили проведывать нас. Думаю:
— «Как горько сознавать, что ничего не изменишь, не оживишь отца! Как нелепа и безжалостна судьба! Почему это произошло именно с нашим отцом, когда он вырвался из пекла Норильских лагерей? Ведь ему в жизни из всех знакомых и соседей досталась самая тяжёлая доля! И после всего безумия сталинских лагерей, где он чудом уцелел, так нелепо оборвалась его жизнь. Ну почему? Бедный отец! Как я хотел, чтобы он пожил хотя бы десяток лет, ведь хорошая жизнь только начиналась! Как жаль его!»
Ухожу в горы, рыдаю, молюсь Богу, опять плачу и проклинаю всё на свете. Душа мечется, на сердце оцепенение. — «Жаль отца, жаль себя! Ненавижу всех и вся, ненавижу Филиппа и мать, всё противно мне. Что делать дальше? Как жить и стоит ли жить? Кто я и что стою в этой постылой жизни? Зачем я существую? Примут ли в лётчики? Это последняя надежда.»
Решаюсь умереть. Но как? Хватит ли сил? Может броситься со скалы? Нет, уйду в горы за Кабан и заблужусь, умру от голода. Решение созрело:
«Пойду в Сибирь пешком, навещу могилу отца и потом уже умру. А вдруг не дойду, погибну где-нибудь, и никто не узнает, кто я?»
Решил сделать татуировку, чтобы узнали, когда погибну. Напишу на левой руке — Коля Углов. Не знаю, как делают татуировку. Иголку окунаю в тушь и выкалываю на руке — Коля. Помешал Пастухов, застал меня за этим занятием, начал ругаться и едко высмеивать. Мне стало противно, дурно, стыдно, кинулся смывать. Слово чётко не получилось, но на всю жизнь осталась размытая и еле видимая надпись
По-прежнему нет друзей. Как мне тяжело без них!
Горечь об утере отца сливается с безысходной тоской по Вдовино, Шегарке, по друзьям, которые остались там. Сердце мечется, душа стонет в тоске по родным местам.
— «Нет, только туда, только туда! Надо, надо ехать! Там жизнь, здесь смерть! Как только вырваться из этого ада? Господи! Зачем я не остался с отцом?»
Наколка на руке напухла, и мать боялась заражения, а Филипп всё насмехался. Я готов был наложить на себя руки, ревел:
— Дай, мама, денег на дорогу! Я хочу уехать назад! Мне здесь не нравится! У меня нет друзей! Я не могу жить без них!
И это сработало! Мать, действительно, поняла, что нужно парнишке в 16 лет! Друзья, только друзья поддерживают интерес к жизни в это критическое время взросления!
К матери всё время ходила соседка Беляева — красивая, тихая и незаметная женщина. Они, видно, переговорили, и она как-то привела в гости к нам своих сыновей, близнецов Федьку и Володьку. Они стали моими первыми друзьями здесь на два года и спасли меня от стресса! Но в силу их хулиганского нрава чуть не пошёл за ними по «кривой дорожке». Братья были так похожи, что даже мать их иногда путала! Но я сразу отличил Федьку, у которого был небольшой шрам на шее. Придут, поздороваются. Только после того, как загляну под шею, отвечаю им. Белобрысые, с торчащим ёжиком волос, курносые, хулиганистые ребята тянули меня всё сильнее. Они тоже признали меня, полюбили, стали ежедневно наведываться к нам, как когда-то наш Афанасий во Вдовино. Я тоже посещал их маленький приземистый домишко. Он и сейчас такой же, совсем врос в землю на улице Революции под номером 124, второй от края. Их отчим, отставной офицер Семён Иванович, красивый, грамотный, держал много кроликов. Он как-то сказал мне:
— Эх, Коля, Коля! Связался ты с моими обормотами! Смотри, чтобы они тебя не довели до тюрьмы! У них это на лбу написано!
Как он оказался впоследствии прав! Федька и Володька были младше меня на два года, еле дотянули на тройки седьмой класс в нашей же школе и больше учиться не пошли. Весёлые, хрипатые, вечно рыгочущие, они постоянно были заняты мыслями, как провести день, где что украсть, где нахулиганить.
Запомнился один случай. Как-то с Шуркой нагрузились по пол мешка угля в кочегарке у Филиппа Васильевича. Уже поздно, идти в гору неохота. Шурка говорит:
— У нас есть шестьдесят копеек. Заплатим по тридцать копеек и доедем на автобусе до дома.
— Но ведь до дома шесть остановок. Одна остановка пятнадцать копеек. Надо только одному человеку девяносто копеек!
— Ничего! Может кондукторша не заметит!
Подошёл красно-жёлтый автобус. Толстая тётка кондукторша рявкнула:
— Остановка «Санаторий Горняк!».
В автобус хлынули женщины с сумками, корзинами и узлами. Это домой на Будённовку возвращаются повара, официантки и кухрабочие с ближайших санаториев по проспекту Ленина. И сразу автобус наполнился запахами борща, котлет, макарон. Все эти продукты успешно крадутся местным населением со столов курортников. Проехали две остановки, и кондукторша орёт на нас:
— Ребята! Вы заплатили за две остановки! Вылезайте!
Мы молчим. Она продолжает негодовать:
— Вылезайте, я говорю! Ещё и с мешками!
Я съёжился, а Шурка вдруг взорвался:
— Ну, нет у нас денег!
Какой-то пьяный мужичок поддержал нас:
— Да довези их тётка! Хочешь, я спою тебе за них песню! Кондукторша кричит, смеясь:
— А деньги-то у тебя есть самого? Если есть, заплати за детей! Мужик вытащил пачку денег и сунул её под нос кондукторше:
— Чего лыбишься? На! Возьми, хоть все!
И заорал на весь автобус:
«Ой, мороз, мороз, не морозь меня!»
Все рассмеялись и автобус тронулся. На остановке «школа №7» пьяный мужик начал выходить, качаясь, заорал ещё громче песню:
«А под окном кудрявую рябину, Отец рубил по пьянке на дрова…»
Кондукторша кричит на него:
— Да выходи же скорее! А то отправлю автобус!
Мужик обернулся, запел ещё веселее и, качнувшись, вышел наружу.
Дверь ещё не захлопнулась, а автобус тронулся. Раздался крик, автобус тряхнуло, как на кочке. Люди закричали:
— Мужика раздавили!
Все выскочили из автобуса. Голова мужика попала под заднее колесо и лопнула, как арбуз. Страшное зрелище!
Осенью 55-го года всем десятым классом проходили первый призыв в военкомат. Было отвратительно холодное моросящее утро и муторно на душе. Я испуганно, как бычок перед бойней, жался, съёжившись, у забора военкомата, ожидая вызова. Настроение у меня было «ниже нуля». Ребята все стояли дружно кучкой, рассказывали анекдоты, реготали, а я,
сбычившись, стоял тоскливо один. Мне было всё противно — эта хмурая погода, весёлые одноклассники, мой маленький рост, а, главное, предстоящее насилие над моей личностью. Думаю:
— «Меня призывают в армию? Я не готов ещё к ней! Я ещё ребёнок, полностью не отошёл от унижений, голода и лишений. Когда мы целое десятилетие выживали, государство не знало нас и не протянуло руку помощи. А тут, чуть подросли, сразу вспомнило и призывает его защищать! Кого защищать? Государство убило моего невиновного отца и беспричинно
унижало нас целое десятилетие. Это государство не моё! Оно не для меня, а для кого-то другого! Я чужой здесь!»
Мишка Скворенко отвлёк меня от этих взрослых мыслей и позвал:
— Цока! Иди сюда! Ты чего такой кислый? Иди к нам.
Я не прореагировал. Он, не поняв моего состояния, отошёл, ухмыльнувшись. Я продолжал размышлять:
— «Вот сейчас нас разденут догола и будут заглядывать в задницу. Я что? Овца глупая? Это насилие над человеческой личностью! Кто имеет право делать то, что мне не нравится? Как это противно! А ведь все эти весёлые одноклассники на самом деле притворяются. Они тоже боятся армии, предстоящей муштровщины, насилия. Там не будут считаться с нашим настроением, а будут „ломать через колено“. Об этом теперь всё время всё больше и больше разговоров среди нас.»
Тут, как назло, к нам подошёл какой-то старичок и внимательно всех стал рассматривать. Он был уже с утра навеселе. Остановил свой взор на мне и под взрыв смеха сказал:
— Ой-я-ёй! И тебя, малыш, забирают в армию? Как же ты винтовку донесёшь, малютка такой? Не навоевались, сволочи, если берут в армию даже детей!
От негодования я весь побагровел, но сдержался. Надо было бы ответить этому старичку-шутнику, но ведь он был прав?
Уверенность в своих силах и нерешительность боролись во мне. Уже заканчивая девятый класс, пока не мог преодолеть деревенскую стеснительность, отводя глаза при встрече с соседским девчонками сёстрами Фроловыми — Валькой и Надькой. Но в школе всё более привыкал, смелел и уже не раз хватал за косы девчонок в классе.
В школе у меня не заладились отношения с химичкой Варварой Фёдоровной. Невзлюбив её, я возненавидел и химию, по которой у меня теперь были двойки и тройки. Варвара — худая, чернявая, с едким скрипучим голосом, напоминала мне Елизавету Микрюкову с оттопыренным задом. С Варварой у меня началась настоящая война. Она уже не раз выставляла меня из класса, вызывала мать в школу. Но моё упорство и упрямство в борьбе с ней, как ни странно, укрепляло мои позиции в классе. Теперь уже и городские ребята начали замечать меня. Два эпизода.
Однажды на перемене, когда ко мне пристал и грубо толкнул на виду у всех один здоровенный парень — армянин, я с такой решительностью и смелостью петухом наскочил на него, выставив левое плечо и сжав кулаки, что он, молча, позорно отступил.
Как-то Варвара что-то записывала мелом на доске, обернулась. Кто-то шумел и она, не разобравшись, в очередной раз необоснованно выгнала меня из класса:
— Кто разговаривает? Опять Углов? Вон из класса!
Я в этот раз не был виноват, но не выдавать же мне Варваре виновника? Молча вышел. Чем отомстить? Мелькнула дерзкая мысль. Я забежал в туалет, где обычно втихомолку курили старшеклассники, намочил руки и выскочил во двор школы. Начал карабкаться по водосточной трубе на второй этаж, рискуя слететь. Но, ничего, труба выдержала! И вот уже от угла по выступу хватаюсь за отлив окна и открытую створку. Выглядываю, Варвара отвернулась к доске и пишет формулы. Я подтягиваюсь на руках, меня увидели, зашушукались, захихикали. Все очень довольны. Что будет? Тихо залез, спрыгнул, сел за парту с Мишкой Скворенко. И тут Варвара обернулась, заметила меня, на мгновение окаменела, а затем вспыхнула, всё поняв! Крикнула:
— Идиот!
— и выбежала из класса! Всё! Моя победа! Урок сорван, химичка сбежала! Авторитет мой после этого случая, как и рассчитывал, вырос! У меня и в школе появились друзья. Первый среди них Мишка Скворенко. Высокого роста, сероглазый, с волнистыми волосами, это был хороший парень. У него был свой велосипед, и он теперь часто давал мне покататься. Мы всё больше сходились с ним и становились настоящими друзьями, нигде не расставались. Правда, мне казалось, что он был чуть высокомерен и снисходителен ко мне. Мишка был явный лидер, а я преданно смотрел ему в глаза.
И ещё запомнил два события весны 1955 года. Мы уже закончили девятый класс. В субботу была посадка деревьев вдоль улицы Почтовой (сейчас Гайдара), примыкающей к седьмой школе. Проезжая теперь частенько на машине за родниковой водой в горы по этой улице, с грустью смотрю на огромные клёны, ясени, липы, которые сажал наш класс и вспоминаю тот денёк.
Было очень тихо, тепло, солнце. Мы со смехом, весельем, копали ямки и прикапывали, поливали саженцы. Заигрывали с девчонками, гонялись друг за другом, обливались водой. Самая красивая девчонка в нашем классе Валька Городова. Все были неравнодушны к ней! У колонки в самом конце улицы Почтовой, на пересечении с улицей Кисловодской, я с Червяковым, Павловым, Коротенко и Кулько поймали её и облили с ног до головы тёплой водой. Она вырывалась, визжала, хохотала, но мы ещё больше обливали её водой! Облегавшее платье чётко выделяло стройное девичье тело, бёдра, груди. Курносенькая, синеглазая, со светлыми мокрыми кудряшками волос, она была великолепна! Весь класс любовался ею, а она гонялась за нами и поочерёдно обливала тоже всех водой. Такой и запомнилась мне эта редкой красоты и телосложения девушка!
А через год, едва окончив десятый класс, Валька Городова…. умерла! Она от кого-то забеременела и неудачно сделала аборт на дому. Эта грустная весть поразила нас всех.
В воскресенье весь наш класс пошёл в поход. Мы прошли вдоль речки Белой по ущелью до самых гор. Я впервые был в окрестностях города так далеко, и мне очень всё там понравилось. Сейчас-то там нечего смотреть! Вдоль речки располагается карачаевский посёлок Белореченский, выше — дачи, а в самом верху дорога на Олимпийскую базу. Весь лес вдоль речки вырублен, всё загажено. Мусорные свалки, оползень испортил весь рельеф местности, нелепые строения, скот, грязь. А тогда была красота неописуемая!
Мы встретили несколько небольших, но диких водопадов, над нами нависали скалы, журчала чистейшая вода, которую мы пили ладошками. Сплошные заросли орешника, в которых было много гнёзд сорокопутов. Интересная эта птица! Она чуть больше скворца, но сильная и хищная. На шипах колючего кустарника мы видели наколотых сорокопутами высохших мышей, маленьких птичек и даже горлиц. В настоящее время в окрестностях Кисловодска не встретишь сорокопутов — всё и вся оттеснил и испортил человек.
Все шутили, смеялись, задирали друг друга. Ребята во главе с Юркой Ильиным лазили по кручам и пугали оттуда девчат, сталкивая камни. Мои одноклассницы — рослые, красивые городские девчата тоже «не лезли в карман за словом», не робели перед ребятами, как наши Вдовинские девчонки а, наоборот, задирали их. Кроме Вальки Городовой, выделялись красотой Вера Мозговая, Семенихина Женя и Нина Кузнецова. Симпатичны были также толстушка Галя Бондаренко, Света Пиданова и Галя Жерлицына. Я впервые в этом походе почувствовал себя ровнёй со всеми, хотя многие ещё держали себя со мной надменно и высокомерно.
Готовясь к поступлению в Ессентукский аэроклуб, перечитал в школьной библиотеке все книги о лётчиках. Заново, после Вдовино, проштудировал «Повесть о настоящем человеке». Вот это человек! Как хочется быть похожим на него!
Глава 48. Тоска по шегарке
В Кисловодске уже отцвели алыча и абрикосы. Наступает лето 1955 года. Закончен девятый класс, впервые с тройками. Отца нет в живых, дом наш так и не отдают. Жить на квартире в подвале осточертело. Что делать дальше? От злости и отчаяния выговариваю матери:
— Почему нам не отдают наш дом? Мы же реабилитированы, не виноваты ни в чём? Как ты хлопочешь? Кому писала? Где же справедливость? Давай, сам напишу Ворошилову!
Мать слабо оправдывается, плачет:
— Ты что, не видишь, как я измучилась, таскаясь по судам? Везде проклятые бюрократы! Дом наш по закону должны нам вернуть — так говорит мне знакомый юрист. Здесь в городе просто не исполняют законы! Напиши, напиши Ворошилову — ты умеешь! Может, от ребёнка дойдёт прошение!
Наконец, приходит письмо от Кости Чадаева. Описывает все новости. Много уезжает оттуда людей, но они пока не хотят. Возможно, переедут только в Новосибирск. Нина Суворова ещё там, но, якобы, хочет уехать куда-то к сестре. Она мне почему-то не ответила на письмо, и я обиделся. А может не дошло письмо? Думаю:
— «Нина скоро уедет оттуда? Я так и не узнаю куда? Надо ехать к ней, объясниться. А вдруг не застану уже её там? Тогда поживу у Афанасия или Кости, пока не отдали наш дом, а там видно будет! Найду её! Приедет ко мне на Шегарку и, возможно, останусь с ней там на всю жизнь!»
Эта мысль полностью овладевает мной. Начинаю думать, философствовать — за полчаса сочиняю сумбурное стихотворение:
Любимая
Я приехал на Шегарку к тебе. Ты ж уехала молча к сестре. Мимолётом махнула рукой. Улыбнулася: жди — я вернуся весной! Я тоскую, хожу по тайге. Думы, мысли — все, все о тебе!
Ни письма, ни звонка нету мне. Не зовёшь и не просишь к себе. Вслед старухи ворчат: ты ж мужчина, нельзя так страдать!
Я ж молчу, но ночами не сплю. Без тебя, дорогая, и жить не хочу!
Вот и лето прошло. Плачет осень в окно. А тебя я всё жду, на дорогу гляжу. Как люблю я тебя! Как хочу я тебя! Ты нарочно уехала, бессердечная, от меня. Где же, где же ты есть? Где же ты там живёшь?
Ты, наверное, милая, разлюбила меня. На Шегарке зима очень долгая. Ох, суровая, ох, и лютая! Чует сердце моё — не дождусь я тебя!
Вьюга воет в окне. Сердце плачет в тоске. Жду тебя, дорогая. Без тебя не могу!
Я дождусь ли тебя? Я увижу ль тебя? Моё сердце зовёт. О тебе оно помнит и ждёт!
Скоро, скоро весна! Прилетят к нам скворцы! Я молюсь: лишь вернись на Шегарку, любимая! Ты приедешь ко мне. Мы обнимемся вновь!
И навечно теперь будет наша любовь!
Все мои мысли о нашей деревне. Как там летом хорошо! Расцвела черёмуха, в лесу полно кислицы. На полянах медунки, на кочках жарки и огоньки, а в болотах сейчас там многоголосый хор лягушек. К берегам Шегарки, видно, уже вылезли щуки и стоят в разводьях щучьей травы, греются. Прилетели скворцы, ласточки, чибисы. Под сырыми кочками зайцы вывели уже своё потомство, и смешные зайчата прыгают рядом с бурундуками. По вечерам за околицей беспрерывно кричат перепёлки и бекасы. И десятки раз в сладостном сне вспоминаю, вспоминаю…
…1945-й год. В лохмотьях бредём с матерью в Алексеевку на заработки. Колючий снег забивается за края бурок, когда я проваливаюсь, оступаясь с дороги. Приходиться часто наклоняться, выковыривая его пальцами. Мать, хромая на одну ногу, чуть уходит вперёд. Разгибаюсь, опасливо оглядываясь вправо на чёрный угрюмый лес. Там, должно быть, нас высматривают такие же голодные, как и мы, серые волки. Слева, вдоль занесённой до верха берегов Шегарки, натужно гудят провода. От этого неумолчного, густого, тревожного звука проводов в морозном воздухе на сердце неспокойно и боязливо. Провода подгоняют: — «Скорей уходи отсюда! Скорей в тепло, к людям! Заморозит, занесёт снежная метель, пропадёшь!»
Бегом догоняю мать. Вот, наконец, в предрассветной мгле показались первые низенькие избы, до застрех занесённые снегом. Мать стучится в морозное, в узорах, окошко. Здесь живёт одинокая больная старушка. Она ждёт мать, так как ранее они договорились об этом. Даниловна, кряхтя, долго открывает запор, зажигает коптилку:
— Нюся! Затапливайте! А я полезу на печь, что-то расхворалась! А тут проклятые клопы замучили — всю ночь падали с потолка на лицо! Обезумели совсем, кусают, как собаки!
Мать растапливает печь, отогреваемся сами. Я бегаю в сенцы за дровами, за снегом. В тазиках мать оттаивает его и начинает уборку в доме — стирку белья, мытьё полов. Я достаю из подпола картошку и начинаю её чистить. Смотрю на весёлые блики огня в печке; в избе теплеет. На маленьких окошечках появляются в центре стёкол круглые разводья — они оттаивают. В избе понизу стелется пар. Мать переговаривается с Даниловной — они рассказывают друг другу новости. От общения поднимается настроение, всем становится хорошо и радостно. Садимся завтракать. По столу среди деревянных чашек и ложек носятся тараканы. Их здесь тьма! Едим картошку с простоквашей. Черпая деревянной ложкой простоквашу, успеваю ею же ловко прихлопнуть очередного, выскочившего из щели усача. Мать морщится, бранится, стегает меня по затылку. Но мне очень нравится охота на тараканов. Мы уже доедаем горячую картошку, а я всё никак не могу прихлопнуть огромного, с одним усом, но страшно ловкого таракана. Он уже трижды уходил от меня безнаказанно! Наконец, ловкач появился вновь, и я изо всей силы в азарте треснул его ложкой! Она развалилась пополам к великой горести бабки:
— Эх! Коля, Коля! Какая ложка была! Ей ели не только мои родители, но и дедушка с бабушкой! Вот ты баловный!
Мать трескает меня изо всех сил по затылку — я прячусь под лавку. Через некоторое время Даниловна отходит; они опять разговорились с матерью. Та продолжает убирать, закончив стирку. Затем гладит паровым утюгом бельё. Я играюсь с котёнком. Бабушка просит меня:
— Ну, давай, Колюшок, спой мне свои песни!
Тонким дрожащим голосом жалобно, стараясь растрогать бабку, вывожу своего любимого «Арестанта». Даниловна и впрямь утирает слёзы, жалея умирающего арестанта. Она подходит ко мне, обнимает, прижимая голову к старой кофте. Бабушка одинока и, видать, вспоминает своего мужа, детей или внуков.
К ночи возвращаемся в Носково к голодному Шурке. В котомке несём немного картошки, брюквы и овса. На два-три дня теперь есть чем прокормиться. А там видно будет.
…Детдом. Пришли с Шуркой к матери в прачечную. Тяжёлый смрадный запах. Волны горячего пара, лоснящиеся бруски чёрного мыла, щёлок, синька. На потолке сажа и копоть. Мать, обняв нас, ревёт, раскачивается, причитает:
— За что мы так страдаем? Господи! Когда это кончится? Неужели мне всю жизнь, до конца своих дней так батрачить? Я уже не могу!
Мы тоже плачем, жалея её пальцы, до крови растерзанные стиркой на гребенчатой доске.
Вдруг низенькая дверь открывается. Согнувшись, входит директор детдома Иван Григорьевич Ядовинов. Всматривается белесым, с бельмом глазом, в тусклый свет коптилки и энергично спрашивает:
— Что такое? Ну что же вы, Углова, расплакались? Почему плачете, говорите правду!
Мать жалуется на тяжёлую работу:
— Иван Григорьевич! Я одна обстирываю двести человек! Дайте хоть одну помощницу! У меня в детдоме самый маленький оклад — 20 рублей в месяц. Мне негде спать. Я постоянно голодная.
Иван Григорьевич, потрепав нас по вихрам, весело басит:
— Всё поправимо, Углова! Правда, оклад вам не могу добавить, но помощницу дадим! Летом пристройку к прачечной сделаем — будет, где спать. Я послезавтра буду в Пихтовке, вызывают. Постараюсь для вас добиться пайка. Будете питаться вместе с ребятнёй в столовой!
Мать, плача, благодарит его. На душе у нас посветлело. Иван Григорьевич уходит, оставив у нас всех надежду на лучшее будущее.
А через два дня новым директором детдома стал суровый и безжалостный Микрюков.
…Вот зимним вечером играем в детдомовском зале в перетягивание каната. Валенки скользят по деревянному полу, не во что упереться. Наша команда проигрывает и ползёт за меловую черту. Крик, шум, гвалт! Обидно, неужели поражение? Я на самом краю, как мышка за репку. Уже ничто не может удержать команду наших противников, возглавляемую могучей Ольгой Гуселетовой! Она побеждает. Я крайний, уже у черты! И вдруг, не выдержав, бросается к нам на помощь моя любимая учительница Ольга Федосеевна и, крепко ухватив меня, вытягивает под одобрение и хохот всю цепочку назад! Противная команда протестует, кричит, но поздно! Мы победили!
…1949 год. Школьная библиотека. Мы вместе с интернатскими ребятами. Приглядываемся друг к другу. Заведующий библиотекой Василий Павлович Татаринцев, о котором я уже упоминал, советует нам по очереди, кому прочитать какую книгу. Мы все за глаза зовём его коротко — Васпат! Любим и уважаем его! С вечно нахмуренными бровями, но очень добрый! В полинявшей гимнастёрке с орденами, медалями, звякающими каждый раз, когда он наклоняется к полкам с книгами, он негромко толкует мне:
— Ты что, Углов, книги глотаешь что ли? Ведь позавчера брал её. Неужели прочёл? А ну, расскажи содержание.
Я мнусь, краснею, с беспокойством оглядываюсь на всех, молчу, а затем растерянно шепчу:
— Да я, Василий Павлович, ещё вчера её прочитал, да боялся принести, не поверите, думал. Всю ночь читал «Зимовье на Студёной» — очень интересная книга! Про охоту, тайгу, про зверей.
Я начинаю подробно рассказывать про охотничью собаку Музгарко, оживляясь, но Васпат добродушно перебивает:
— Молодец! Вижу, что читал. Ты прямо с Жигульским соревнуешься, кто больше прочтёт. Обменяйтесь книгами, а я перепишу на карточки.
Я сую Вовке Мамина-Сибиряка (ну и мудрёная фамилия у этого писателя!), а он даёт мне сразу две книги: «Два капитана» и «В окопах Сталинграда». Васпат впервые записывает мне две книги, а Вовке даёт ещё к моей и «Дерсу Узала». Лупоглазый Шабанов просит тоже две книги, но Васпат непреклонен:
— Ты вот не возвращал целый месяц «Разгром» Фадеева. Небось, и её толком не прочёл?
— Василий Павлович! У меня уважительная причина. Брат сломал ногу, и я ухаживал за ним. Полез он зарить сорочье гнездо и упал. Теперь хромой будет всю жизнь!
— Нехорошо это! Бог наказал! Нельзя разорять гнёзда птиц!
…Вспоминается ранняя дружная весна. Половодье. Первые цветы жарки. Марево жарков, сполохи жарков! Красота необыкновенная! Всё красно от них в лесу и на полянах. Девчонки плетут венки, мы рвём их охапками, играем, кидаемся, а их не убывает. Яркое солнце лупит нещадно, лягушки надрываются в болотах, тепло, всё зазеленело. Как хорошо после долгой зимы в лесу! Где это всё теперь? Эх, как жаль, жизнь не повторяется! Всё прошло и не вернётся…
Тоска по Шегарке, друзьям и деревне не давала мне сердечного покоя. Опостылевшие горы, надвинувшиеся на нашу улицу, вызывали глухое раздражение и ярость. Безмерная тоска по мокрым кочкам и болотам, рыхлому белому туману (здесь его никогда не было) и душистым стогам сена, мучила меня ежедневно. Вспоминалось всё то, чего здесь не было. Берёзовый сок, который мы пили взахлёб ранней весной, ушастые мокрые зайчата, разбегающиеся в разные стороны, хмель, чибисы, конопля, дергачи в лугах, снегири, чебаки и лилии, лён и скворцы — всё то, что окружало меня десять лет из моих семнадцати.
А вскоре произошло радостное событие: нам отдали дом! Больше года мать писала, доказывала в судах городских и краевых — ничего не помогало! И вдруг неожиданно пришло это спасительное известие! Может быть, помогло моё детское, наивное, кричащее письмо с надписью на конверте «народному комиссару Климу Ворошилову»!
Судебные исполнители, два дюжих мужика, к нашей неописуемой радости выкинули дряхлые комоды и сундуки каких-то неприветливых людей. Как говорили потом соседи, эта была пьющая и нигде не работающая семейная пара. Справедливость, наконец, восторжествовала! Мы вошли в свой дом, из которого нас грубо выкинули 11 лет назад подлые НКВД-шники! Я ликовал:
— Мама! Неужели это правда? Неужели это наш дом? Наконец-то мы заживём, как люди! Неужели это всё наше: одна, вторая комната, веранда, кладовка, погреб, сад?
Мы с Шуркой радостно кричали, бегали, заглядывали во все уголки долгожданной хаты.
— А какой красивый пол! Крашеный, в яркий красный цвет! Как легко будет теперь его мыть! Не то, что во Вдовино, скоблили ножами. Вот здорово!
В маленьком саду на двух сотках было несколько грядок, великолепная яблоня «Виноградка», алыча, абрикоса, вишня, слива и смородина. В конце сада был туалет, во дворе курятник. Всё это теперь наше! Кончились наши мытарства на квартирах! Мать от радости беспрерывно плакала, а Филипп Васильевич, тоже от радости… пил! От соседей не было отбоя. Со всей короткой улицы Овражной и с Будённовки, где была улица Революции, шли и шли люди! Женщины тоже плакали с матерью, мужчины поздравляли нас.
Я удивлялся и думал:
— «Как много всё-таки хороших людей на свете! А сколько друзей и знакомых у матери! Просто сочувствующих, доброжелательных! Спасибо вам, люди!»
И все люди с подарками! Кто тащит старый стол, стулья, тумбочки. Кто-то дал две кровати, одежду, обувь, простыни, коврики, горы посуды. Вскоре всего было полно! Только не зашла в гости к нам со второго этажа нашего дома бабка Шубиха! Она почему-то невзлюбила нас ещё в войну, когда мать сменяла наш родовой дом на улице Революции на эту хату, на улице Овражной 7, чтобы быть поближе к госпиталю, где она работала. Шубиха постоянно подглядывала сверху за нами, сипела, плевалась. Преотвратительная всё же личность! Что мы ей сделали плохого? Много, много ещё в России завистливых людей!
С переездом в свой дом нам сразу полегчало, проклятая нужда чуть отступила. Со временем купили курей, два поросёнка, стали появляться кое-какие свои вещи.
Филипп Васильевич перешёл работать на стройку плотником. В центре города строилась огромная центральная больница.
Символично! Через пятьдесят пять лет больница придёт в такое дряхлое состояние, что её придётся сносить. Это сделает строительная организация, возглавляемая моим младшим сыном Игорем, и возведёт самый красивый — с колоннами, жилой дом Кисловодска!
Мать управлялась по дому и воспитывала годовалого горластого Серёжку. Шурка той же осенью ушёл в армию. Служил он в авиации, в городе Молодечно (Белоруссия). Прислал этой же зимой фотографию. Стоит в шапке-ушанке, ватнике и пимах, а руками в зимних рукавицах сжимает настоящий автомат! Кругом снежный лес. Вокруг рамки фотографии летят самолёты, внизу дула артиллерии и танков, а сбоку написано вязью:
— И в дальнем краю солдат не дрогнет в бою. Смело и храбро защищая Родину свою!
Да, Шурка уже настоящий солдат! Я горжусь им! Молодчина!
Вскорости, как нам возвратили дом, приехали в Кисловодск на постоянное место жительства наши бабушки Оля и Фрося. Они и до этого много раз приезжали, гостили с нами на квартире по нескольку дней, а потом уезжали опять в Кабарду. Теперь они приехали взволнованные, радостные, счастливые. Разговоров, расспросов, воспоминаний — не счесть! Мать с бабушками рассказывали друг другу о пережитом, о голоде, страхе, лишениях. Они прожили у нас с год, а затем устроились на Минутке (это в двух километрах от нас) в школу на работу уборщицами — сторожами. Там им дали комнату. В ней они проживали до 1967 года, когда скончалась одна из бабушек — Ефросинья Тарасовна. После этого бабушка Оля перешла к нам и жила с нами до своей кончины в 1971 году.
Этим летом к нам приехал дядя Вася. Он после смерти жены покинул Сахалин и теперь жил в Куйбышеве по ул. Бебеля 8. Значительно постаревший, больной, он с трудом передвигался и волочил ногу. Смерть жены и брата сильно подействовали на него. Где-то к нему подвизалась молодая особа с дочкой Ольгой моих лет. Дяде Васе необходима была женщина для ухода за ним. Но она, как показала их дальнейшая жизнь, лишь транжирила его сбережения и не особенно-то беспокоилась о нём. С Василием Ивановичем в этот приезд мы ещё больше подружились — я не расставался с ним! Как будто чувствовал, что это наша последняя встреча! Два эпизода.
Идём с дядей Васей и Ольгой из города под железнодорожным мостом на Кирова. Заходим в нарзанный бювет, пьём нарзан, отдыхаем на скамьях. Он всё время рассказывает о нашем отце, вспоминает его, горюет. Обговариваем с ним и нашу дальнейшую жизнь, вспоминаем Сибирь, делимся планами. Спрашивает меня:
— Коля! Всё-таки решил, кем будешь?
— Лётчиком, только лётчиком хочу быть! Мне так нравится эта профессия!
— Да? Всё-таки лётчиком? Хорошая мечта, но… Уверен, будут препятствия и подвохи на твоём пути. Наше государство, как бы это тебе сказать… недоверчивое и мстительное по отношению к людям. Всё может быть. Но ты не отчаивайся. Если не получится, стань хорошим строителем, каким был твой отец! Вчера смотрели мы с тобой в парке его здание — третий корпус санатория Орджоникидзе. Он был там десятником, т. е. главным строителем. Какая мощь! Какая архитектура! Сотни лет будет стоять это здание в камне! Вечная память твоему отцу в этом здании!
Заходим в магазин на углу улицы Желябова. Дядя Вася даёт мне деньги и говорит:
— Я постою на улице. А ты купи себе, Коля, что хочешь. Икры, сыру, конфет, печенья. Это для меня сказочные яства — я отнекиваюсь. Но Василий Иванович легонько и дружелюбно подталкивает:
— Иди, иди! Не стесняйся!
На прилавках магазина в большом количестве чёрная и красная икра, шоколад, ноздреватый сыр. Эти продукты никто не покупает по причине их дороговизны. И вдруг я?
Растерялся, мнусь и не могу заказать толстой и хмурой продавщице такие дорогие продукты. А вдруг подумает, что я где-то украл деньги? Она уже кричит на меня:
— Чего молчишь? Что тебе надо?
Выручает Ольга. Она смело заказала всё, что ей понравилось. С Олей мы сошлись быстро. Это была контактная, симпатичная, белокурая девчонка.
Вечерами дядя Вася разрисовывал нам с Олей фотографии и картины. А больше рисует нам всякие этюды и портреты — это у него здорово получалось!
В последний день перед отъездом дяди Васи устроили ужин с вином. Нам с Олей дали тоже по стакану лёгкого вина — мы опьянели. Отпросились гулять в парк.
Идём, взявшись с Олей за руки, чуть захмелевшие, гордые. Я в белой рубахе, рукава засучены, беспричинно много говорю и смеюсь, горжусь, что рядом со мной девушка. Кажусь себе теперь очень значительным и важным. Лёгкий тёплый вечер, звёздное небо, запах цветов в парке — всё было значимо и запоминаемо. Мы радовались друг другу: оба были в восторге и смеялись от счастья.
Отношение Жени (матери Оли) к дяде Васе становились всё хуже и хуже по мере убывания его денежных сбережений. Дядя Вася очень грустил по первой жене. Вздыхал, вспоминая нелёгкую судьбу Володи, а его самого подстерегала неотвратимая судьба. Здоровье его с каждым днём
ухудшалось. В значительной степени этому способствовала его новая молодая жена, которая, растранжирив его деньги, начала от него гулять, сначала втихую, затем открыто.
Глава 49. Хулиганский год
По весне в Свиной балке, по соседству с Беляевыми, многие окрестные жители заготавливали саман для строительства. Снимают плодородный чёрный слой земли до глины, затем вскапывают глину, добавляя солому и воду, всё тщательно перемешивают — «тесто» готово! Обычно участвует в замесе вся семья. Ходят бабы босиком, подоткнув подолы, друг за другом по кругу, ходят мужики и дети. Все мешают ногами глину с соломой. Это трудный и тяжёлый процесс! Затем в деревянные ящики размером в 4—6 кирпичей с размаху, чтобы было плотнее, наляпывают тесто, предварительно смочив дно водой, уплотняют, соскребают вровень с бортами и отвозят верёвками сырой кирпич в сторону на просушку. Переворачивают, вытряхивают и складывают пирамидкой (с отверстиями между кирпичами), чтобы саман сох быстрее. Труд тяжёлый, но зато саман обходится очень дёшево, и дома из него стоят по сотне лет.
Так вот, однажды Беляи мне говорят:
— Колька! Пойдём в Свиную балку, мы тебе покажем такое! Понравится, сам попробуешь!
Пошли по горе, где когда-то стояли в войну две зенитки. Почему-то залегли за небольшими кустиками. Выглядывают. Говорят:
— Подождём, уже собираются. Уходят. Не высовывайся!
Я ничего не понимаю, но жду. Внизу, под горой по пыльной дороге проходит несколько человек. Беляевы выждали немного и вдруг сорвались с гигиканьем вниз! Разбежались с горы и прыгнули прямо на пирамидку из сырого самана! Я оторопел! Они вновь и вновь разбегаются и прыгают с хохотом на саман, разрушая пирамиды. Орут:
— Присоединяйся! Знаешь, как здорово! Не бойся, никого нет! Никто не узнает!
Я испугался не на шутку! Это же подлость! Как не жалко труд людей! Кричу им, отзываю! Всё бесполезно! Разметали, расшвыряли, размесили, уничтожили весь саман! Выпачкались в глине до невозможности. Одни шальные глаза блестят! Хохочут до одури!
Кто-то показался на дороге. Я давно наверху в кустах, а Беляи кинулись смываться. Бегут по кустам на речку Белую, отмываться и очищаться. От дури сколько сгубили труда людского! Я больше никогда не ходил с ними туда, сколько они не просили! Удивляет! Ни разу не попались они, а то бы не сносить им головы!
Начав дружить с Беляевыми, я постепенно смелел, обвыкался в новой обстановке, всё более и более укреплял свои позиции и достоинство. Своей дерзостью и наглостью братья Беляевы вселяли и в меня всё больше и больше уверенности! Мысль о том, что теперь не один и у меня есть грозные друзья, которые всегда придут на помощь, вселяла в меня спокойствие. Нет, я никогда не участвовал полностью в их подлых поступках, не был так нагл и смел, но начинал и сам по-настоящему хулиганить!
С химичкой Варварой Фёдоровной опять начались стычки. Мы с Мишкой Скворенко дружно боролись с ней и принципиально не учили химию. Как-то я рассказал об этом друзьям Беляевым. Оказывается, они из-за неё бросили школу. Созрел план мести. У Варвары был великолепный сад, в котором дозревали зимние груши. Поздним октябрьским вечером втроём перелезли через невысокий каменный забор. Тишина. Темно. Жутковато, так как ни один листочек на высоченных грушах не шелохнётся. С хрустом обламываем переспелые ножки крупных тяжёлых плодов, без труда нащупываемых в темноте. Груш великое множество. Они тяжёлыми гроздьями согнули ветки. Быстро набрали в мешки груш столько, что стало тяжело висеть с ними на сучьях. Я спускаюсь, отношу свой мешок, а затем и их мешки перекидываю за забор. Федька и Володька всё время шумят, гогочут, я их еле сдерживаю. Весь дрожу от страха и нетерпения, а им хоть бы что! Я впервые здесь ворую в чужом саду. Зову их, они совсем обнаглели! Благоразумно оттаскиваю все мешки через дорогу и отношу их далеко в лопухи к оврагу. А затем перепрыгиваю опять в сад, зову братьев. А в саду шум стоит неимоверный!
Володька и Федька свесили сверху голые задницы и оправляются, весело регочут друг над другом! Вдруг один из них с шумом и треском летит вниз — сучок обломался! Рёв, хохот! На веранде мгновенно вспыхивает свет и почти одновременно выбегает на крыльцо в одних трусах мужик и из двух стволов громыхает в нашу сторону выстрел! Ужасный в ночи шум от выстрела! Дробь прошелестела рядом. Второй Беляй с криком и ойканьем кулём свалился сверху, ломая сучки и мелькая голой задницей. Изо всех сил бегу к забору, теряя чёрную фуражку, а впереди и сбоку, подбирая штаны, несутся прыжками перепуганные курносые («курнали», так их звали).
Только через полчаса угомонились все окрестные собаки и мы, пересвистываясь, собрались втроём у оврага, хохоча и матюкаясь. В мягком месте задницы у Федьки застряли две крупинки соли и он целый день просидел в тазу с водой — отмокал. Дня через два Володька говорит мне: — Колька! В воскресенье пойдём на базар продавать груши. А потом устроим кутёж, купим «Хересу». Надо отметить твоё первое крещение в чужом саду!
В воскресенье вылезаем из автобуса №2 (он был, кстати, единственный в то время на весь город) с четырьмя вёдрами груш на рынке. А Варвара, видно всё рассчитала! Смотрим, она стоит на остановке и ждёт нас. Резко подходит к нам:
— Что? Груши чужие привезли продавать, субчики?
Я потерял дар речи, а Федька с Володькой, не растерявшись, схватили вёдра и исчезли с ними в толпе.
— На, Углов! Возьми свою фуражку! — как ни в чём не бывало, примирительно сказала Варвара и надела на мою понурую голову чёрную засаленную старую кепку. Она, видно, запомнила меня в ней и обо всём догадалась.
У Беляевых был баян, на котором они играли довольно хорошо, так как закончили курсы баянистов. Но мать и отчим, очень образованный и грамотный мужчина (не в пример Филиппу Васильевичу), теперь не одобряли их увлечение баяном. Почему? Их стали активно приглашать на вечеринки, свадьбы, дни рождения. Оттуда они приходили навеселе.
— Курнали проклятые! Ведь сопьются, как два старших брата! — ворчал Семён Иванович.
Старшие братья уже сидели в тюрьме и мать с отчимом нещадно работали на производстве, чтобы прокормить этих. Да и дома держали семьдесят кроликов. Часто посылали в тюрьму своим непутёвым посылки. Сколько помню, мать Беляевых идёт с гор, согнувшись, и несёт большую вязку травы для кроликов. И так всю жизнь проносила до смерти, а дети по очереди сидели в тюрьмах! Старший Николай просидел в общей сложности 27 лет, Витька 20 лет. А вскоре подошла очередь моим друзьям Федьки и Володьки! Вовремя я откололся от них! И сидят-то по мелочам! То где-то по-пьянке поскандалят, подерутся. То велосипед уведут, то в парке с кого-то сдёрнут шапку и т. д. А мать всю жизнь мучается, мается с ними. Семён Иванович (полковник в отставке), думаю, из любви и жалости жил с ней. Стыдно было ему за таких её детей!
Я очень полюбил баян. Конечно, это не наша деревенская гармошка! Приду к ним, прошу:
— Гармошка деревенская наша всё равно лучше баяна! Куда баяну до неё! Но всё же, сыграй, Федька, «Камаринскую»!
Только скажи им! Федька и Володька сами любят играть! Сядет на кровать Федька, склонит голову к баяну, растянет меха и пошёл жарить! То плясовую, то танго, то вальс, только носом шмыгает всё время и глазами так, по особенному, косит! Сильно увлекается игрой! И неплохо получается у обоих! Молодцы! Ничего не скажешь, таланты!
С Беляевыми не соскучишься. Всё время тянут меня в какие-то переделки. Как-то приходят, говорят:
— Колька! Сегодня идём на дело! Ты не бойся, будешь на атанде! Вон, напротив вас винзавод. За забором склад пустой тары. Мы днём из рогатки уже разбили лампочку на столбе. Наберём пустых бутылок, сдадим и будем пить «Херес» и «Портвейн»! Сторож там, видно, вечно пьяный и спит внутри цеха. Мы уже всё проверили. Два вечера приходили, стучали по забору, никто не отзывается.
И, правда, напротив Овражной улицы был небольшой винзавод «Самтрест». Там готовили разные вина и коньяк. Подходим поздно вечером. Склад тары не освещён — Беляи постарались! Забор из досок не особенно высокий. Федька с Володькой перепрыгивают, складывают из ящиков в мешки пустые бутылки. Я на улице — на атанде! Всё получилось! Начали повторять. На заводе, видно, не было никакого учёта и там не замечали исчезновения бутылок. Становилось весело. Выпивка, друзья, нас тянуло на подвиги. Поначалу выпивал мало, чтобы не заметила мать.
Беляи опять начали наглеть. Они остались верны себе! Наберут бутылок, перекинут через забор мне и опять туда! Начинают реготать, хохотать, шуметь — валят ряды с пустыми ящиками. Грохот, шум поднимается, пока не выскочат соседи на лай собак или сторож ахнет из ружья, просунув ствол через форточку. Бутылки Беляи таскали к себе, но несколько раз принесли и ко мне. Шубиха спала на веранде и заметила нас с пустыми бутылками. Она сказала об этом матери. Что тут началось! Мать расплакалась:
— Что ты делаешь, Колька! Ты что, в тюрьму хочешь? Чтобы я на дух здесь твоих Беляевых не видела!
Филипп Васильевич вторил:
— Если ещё раз полезете на винзавод за бутылками, сам заявлю в милицию!
Это подействовало! Я понял, что мы с Беляевыми заходим слишком далеко и это добром не кончится. Категорически отказался от набегов на винзавод.
Как-то вечером Беляи приходят ко мне, и Вовка говорит:
— Колька! Сегодня пойдём хохмить! Не бойся, будет очень интересно! Пошли в «Медик»! Будем швырять булики и дразнить сторожа!
На краю курортного парка, рядом с городом, располагалось большое здание клуба медработников. Днём там занимались в десятках кружков и секциях сотни человек, взрослые и дети. Это был в то время один из основных источников культуры в Кисловодске. Впоследствии его снесли. Так и не построили больше подобного прекрасного очага культуры в городе! Так вот, большой старинный клуб стоял прямо под горой. Крыша была жестяная. Наверху, на горе были кусты. Очень удобно прятаться. Приходим поздно вечером, когда все уже прекратили занятия и в клубе остался один сторож. Набираем в карманы много буликов (камней) и давай швырять по крыше клуба. Грохот неимоверный! Мы хохочем. Сторож выскочит, поорёт, поорёт, успокоится и назад заходит. Мы опять кидаем камни на крышу и регочем. Сторож в ярости начинает палить из ружья, а нам хоть бы что! Лежим в кустах за бугром в канавке и хохочем. И так много раз повторяли, и всё сходило с рук! Как и на винзаводе!
Однажды поздним вечером возвращались домой, основательно позлив сторожа. Идём напрямую через парк, веселимся, вспоминаем подробности. Подошли к санаторию Орджоникидзе. Он стоит на горе. Дорога к нему вьётся серпантином. Около котельной стоит большая тачка. С тонну груза могла она вместить! Видно, на ней подвозили со склада к топкам котлов уголь. У Беляев созревает решение:
— Колька! Смотри! Серпантин проходит левее. За котельной только небольшие кустики. Давайте все втроём разгоним тачку вниз под гору. Там только целина и крутой уклон. Тачка может долететь до улицы Декабристов или до винзавода! Вот будет хохма!
Схватили тачку. Сначала тихо, а затем всё быстрее покатили под гору. Как понеслась вниз тачка напрямую по целине, ломая кусты! Всё быстрее и быстрее! Шум, грохот такой, что забрехали собаки на всей Будённовке. А тачка так ахнула внизу, врезавшись и проломив деревянный забор винзавода, что зажглись огни в окнах близлежащих домов! Всех разбудили! А нам весело, ржём, катаемся по земле! Долго потом вспоминали:
— Как здорово получилось!
Беляевы в очередной раз придумали этим летом новое:
— Колька! Идём на озеро купаться! Мы взяли две бутылки «Хереса». Выпьем, покатаемся на лодке, попрыгаем с вышки.
В западной части города находилось довольно большое озеро. Говорили, что его сооружали после войны всем городом. Тысячи людей работали безвозмездно, копая и отвозя грунт вручную! Соорудили трибуны на тысячу мест, проводили соревнования пловцов и гребцов. На лодочной станции было более сотни прекрасных лодок. Разбили парк, дорожки, насыпали песочный пляж, соорудили навесы. Работала столовая и буфет. Тысячи горожан с детьми отдыхали там летом! Бардак современных властей прокатился и здесь! Сейчас озеро заросло лесом, всё разрушено!
Так вот, приходим, купаемся в семейных трусах, так как плавок в то время не было. Беляевы прыгают с десятиметровой вышки! Притом, как попало: и вниз головой, и по-всякому! Ничего не боятся! Несколько раз у них слетали трусы. Они только хохочут, ловят их в воде, пока не утонули, одевают. Я же начинаю с пятиметровой, затем семиметровой вышки. Беляи орут:
— Колька! Не бзди! Прыгни с десятиметровой!
Взбираюсь на самый верх! Ужас! Как можно — вниз головой? Ни за что! Долго и нерешительно стою на верхней площадке. Беляевы внизу регочут:
— Давай! Смелей! Прыгай!
Зажмурив глаза, «столбиком» прыгаю вниз! Нормально! Только чуть пятки отбил.
Со временем прыгнул и вниз головой. Беляевы, накупавшись и напрыгавшись, кричат мне:
— А теперь будет самое главное! Пошли заказывать лодку, покажем тебе высший трюк и шик!
Заплыли втроём подальше от трибун в конец озера. Беляи достают две бутылки «портянки» из сумки. Говорят:
— Пить будем так. Становишься на самый нос лодки, откупориваешь бутылку, падаешь медленно в воду как столб, не шевельнувшись и не складываясь. Пьёшь вино до самого вхождения в воду и в момент погружения надо успеть пальцем заткнуть бутылку, чтобы сохранить вино, а самому не захлебнуться!
Что и говорить, рискованный трюк! Беляевы прыгают просто великолепно! Они не впервой, видно. Второй-третий раз повторяют трюк, а затем раскупоривают вторую бутылку:
— Давай, Колька! Твоя очередь! Не бойся! Давай, давай!
У меня ничего не получается! Но вина я успел хлебнуть и сохранил оставшееся. Сколько хохоту! Нам нравится это развлечение! Люди на лодках собрались вокруг нас, смотрят, тоже смеются. Сколько геройства было в этом! Надолго запомнились мне эти оргии на воде! Ещё раза три мы приходили на озеро.
Как-то вечером сидели у Беляевых дома, отдыхали. Они играли мне на баяне по очереди свои любимые мелодии. Матери и отца не было дома. Мы потягивали столь любимый ими «Херес». Закончился, показалось мало. Федька говорит мне:
— Денег у нас всего рубль. На него «Хересу» не купишь, только «Портвейн»! А вот «портянки» в нашем магазине на Революции («Станпо») нет, только на Широкой. Давай, Колян, дуй за вином! Только бегом!
Знал бы я, чем может обернуться эта покупка мне! Я чуть не угодил в тюрьму! Прибежал в магазин на улице Широкой, успел. Уже поздно, в магазине никого нет. Продавец — чёрный, молодой, красивый армянин, посмотрел на меня и протянутую смятую рублёвку, сказал мне:
— Парнишка! Ты уже пьян, я тебе не продам вино! Во-вторых, тебе нет восемнадцати лет! Иди отсюда!
Что-то взыграло во мне! Неожиданно даже для себя непонятная дерзость и смелость вырвались наружу:
— Нет, продашь! Я тебе что говорю — дай бутылку «портянки»! Продавец отвернулся. Я начал приставать. Он резко крикнул:
— Не дам! Уходи!
Тогда, не совладев со своими нервами и не помня себя от ярости, выхватил из кармана перочинный нож, которым только что у Беляевых открывал «Кильку в томатном соусе», яростно закричал:
— Ну, Ашотик, держись! Не быть тебе сегодня живым! Не выйдешь отсюда!
Продавец дёрнулся, побагровел, но сдержался. Я вышел из магазина и начал демонстративно прогуливаться перед освещёнными витринами магазина. Прошло с полчаса. Магазин должен был уже давно закрыться, но продавец почему-то медлил. Он забеспокоился, наблюдая через окна за мной. Это вызвало у меня ещё большую агрессию:
— Ага, гад! Боится меня! Трусит.
Теперь я, засунув руки в карманы, остановился напротив освещённого витража и грозно смотрел на продавца. Непонятное упорство не проходило. Самолюбие ликовало: «продавец, видно, не на шутку струхнул!»
Народу не было, лишь редкие покупатели заходили в магазин. Армянин о чём-то говорил с единственной женщиной, тоже, видно, продавщицей. Это меня начало веселить. Гнев прошёл, выпить давно расхотелось, а к Беляевым домой уже, наверное, со второй смены пришли мать и отчим. Надо было уходить домой. Женщина зашла за прозрачную тюлевую занавеску и о чём-то долго говорила по телефону. Я начал соображать, что «дело пахнет керосином». Отошёл от освещённых окон и потихоньку перешёл на противоположную сторону улицы. Стал в тёмном углу у почтового отделения. Почти сразу же к магазину подъехала милицейская машина. Из неё вышел милиционер с четырьмя дружинниками. Они зашли в магазин. Я быстро перебежал через улицу на территорию парка санатория «Москва» и там вдоль ручья побежал на Овражную.
Как-то мать наварила ленивых вареников. Садимся ужинать. На столе вареники и две маленькие стеклянные баночки со сметаной. Тогда их выпускали в небольшой расфасовке. Приходит пьяный Пастухов. Сразу вызверился на меня:
— Жрать ты мастер, а работать не хочешь! Ишь, сметаной его кормишь! Халдей!
У меня всё вспыхнуло внутри! Как он надоел своими попрёками! Не думая о последствиях, схватил баночку со сметаной и плеснул ей в лицо Филиппа! Сметана залила глаза, покатилась по бровям, щекам и зависла на усах. Отчим не ожидал этого и оторопело заморгал. Мать сначала испугалась, а затем рассмеялась — так был смешон Филипп Васильевич. Я выбежал из комнаты в сад и не стал ужинать. После этого случая отчим перестал попрекать меня едой.
Вся молодёжь города в то время в субботние, воскресные дни собиралась на Пятачке. Довольно широкий спуск от железнодорожного вокзала шёл как бы в тоннеле. По обе стороны ни одного строения (сейчас проход застроен магазинами), только высокие подпорные стенки в зелени, обвитые плющом и диким виноградом. Машины по этой короткой улице не ездили, она существовала только для пешеходов. Улочка шла к центру города и заканчивалась у знаменитой Коллонады. Это и был наш Пятачок. Валом идёт молодёжь туда-сюда. То в гору, то с горы. Все здороваются друг с другом, останавливаются группами, зыркают по сторонам, ища свою симпатию. И так весь вечер: вперёд — назад! Многие «подшофе», мы с Беляевыми в том числе.
На Пятачке была главная группа заводил — банда человек тридцать во главе с молодым красивым армянином с золотыми зубами и первой наркоманкой города — Милкой. Всегда пьяные, весёлые, шумные, они обращали на себя внимание. Да, это слово «Милка — наркоманка» я услышал впервые тогда от Беляевых. Тогда наркоманов ещё не было. Милка была развязной и грубой девчонкой с мальчишескими манерами. Всегда в штанах и мужской клетчатой рубашке, в мужской кепке и кедах на босу ногу. По виду, настоящий парень! Мальчишеская причёска, всегда курит, пьяная, чумная, весёлая, постоянно матерится. Вызывающе громко смеётся на весь Пятачок, не стесняясь никого! Всегда рядом с ней золотозубый чернявый красавец-армянин.
Я очень хотел попасть в их компанию! Как-то здесь же — на Пятачке (в тени пяти сосен за углом гастронома), мы здорово выпили с Беляевыми. Я опьянел, осмелел, подошёл к Милке и её красавцу, что-то весело сказал приятное для них, затем ещё и ещё. На меня обратили внимание! Золотозубый покровительственно похлопал меня по плечу, сказал:
— Как зовут?
— Николай!
— В каком районе живёшь?
— На Будённовке!
— Значит, Будённовский опоимец? Ничего, ничего, там много шпаны. Хороший хлопец! Наш! Будешь в нашей шайке!
И захохотал громко:
— Теперь держись нас!
Я был на седьмом небе! Раза три после этого ещё ходил на Пятачок, и сразу к ним!
Но как-то краем уха услышал, что кто-то из них попался на большой краже, то ли со склада, то ли из магазина. Я понял, что следующего на воровство могут послать меня. Я прекратил походы на Пятачок. А тут вскоре подоспело другое время — поступление в техникум.
Противно и стыдно вспоминать всё это, но… «из песни слова не выкинешь!». Будет у меня ещё в молодости несколько гнусных поступков, но, думаю, что это составляет в итоге гораздо меньший процент от моих других, порядочных дел в этой жизни.
Глава 50. Учителя и соседи
Привыкнув к городской школе, стал в десятом классе учиться значительно лучше. На уроках физкультуры Кадурин нещадно тренировал нас. Я опять полюбил физкультуру, уже с удовольствием гонял «баскет», бегал, прыгал, метал гранату.
Алгебру, геометрию и тригонометрию преподавал медлительный и степенный, с густой волнистой шевелюрой, носатый Лев Яковлевич Гизерский, прозванный Мишкой Скворенко «дер Лёва». Мишка всем давал прозвища. Я у него был «Цока» — от грузинского «Кацо». Люблю спокойных людей! Потому что, видимо, сам не такой. Вкрадчивым голосом, неспешно передвигаясь у доски с неизменной папироской в зубах, «дер Лёва» толково объясняет мудрёные математические науки.
Прошли десятки лет. С густой поседевшей шевелюрой, он медленно прохаживается с женой под руку вечерами по городу и попыхивает также папироской. Меня он не узнаёт, да и я не подхожу к нему. Зачем? Он сейчас, естественно, за плату готовит абитуриентов у себя на дому. И не было случая, чтобы платили ему задаром — все поступают! Толковый математик!
Историю и географию преподаёт Евгений Сергеевич Виноградов. Одновременно является лектором общества «Знание», пишет в местной газете статьи про краеведение, любит политику. Он с пафосом, увлекаясь, говорит об истории мира и Советского союза, много рассуждает на политические темы. Это меня тоже очень волнует. Я люблю, как и литературу, этот предмет, знаю его хорошо и нередко вступаю с ним в диалог. Временами мы с ним, забывшись, громко спорим несколько минут, а весь класс слушает. Виноградов консервативен в мышлении и пытается навязать своё мнение. Иногда он спохватывается и осекает меня:
— Углов! Ты ещё мал и многого не знаешь! Прежде, чем рассуждать на такие темы, надо знать историю! А для этого надо много читать!
Я возражаю:
— Евгений Сергеевич! Я много читаю. Но читать надо разное. Иногда между строк такое узнаёшь. А если читать только «Правду», то…
— А ну, прекрати болтовню! Политик нашёлся!
Я испуганно замолкаю. Виноградов ярый коммунист! Он не терпит никакого инакомыслия.
Уже после февраля 1956 года, когда Хрущёв выступил с осуждением культа личности Сталина и по всей стране стали рушить его памятники, перед самым окончанием школы опять сильно столкнулся с Виноградовым. Как-то он начал восхвалять роль Сталина в истории и, конкретно, в Великой Отечественной войне. А я уже прочитал закрытый доклад Хрущёва на 20-м съезде партии. Его мне дал почитать Семён Иванович, отчим Беляевых. Он был полковником в отставке и работал секретарём парткома в санатории. Но в отличие от Виноградова, это был человек либеральных взглядов. Он знал нашу историю, сочувствовал нам и осуждал при нас Сталина. Так что коммунисты были и в то время разные! Хотя таких, как Семён Иванович, были единицы. Так вот, о «героической роли» Сталина в Великой Отечественной войне. Возражаю Виноградову:
— Евгений Сергеевич! О чём вы говорите! Партия осудила культ личности Сталина! По всей стране идёт переименование городов, улиц, заводов, фабрик, колхозов, носящих его имя. Сносят десятки тысяч его памятников.
— Углов! Ты в какой-то мере прав! Но роль Сталина в жизни нашей страны неоценима! И не тебе его осуждать! Это меня необыкновенно задело:
— Вчера сам видел рано утром, как бульдозером на «Пятачке» рушили гигантскую скульптуру вашего, а не моего, вождя! И в парке уже сломали! А почему не мне его осуждать? Я прочитал закрытый доклад Никиты Сергеевича и узнал такие вещи, что «уши вянут». Вы-то читали, небось! А вот никто ничего не знает об этом докладе! И это плохо!
— Углов! Раздухарился! Помолчал бы лучше! Тебе ещё рано Сталина и его политику критиковать! Года за три до этого тебя бы прямо с урока увезли за такие слова! А войну выиграл Сталин, кто бы что не говорил об этом!
— Да ваш Сталин даже ни разу не был на войне — на передовой! А перед войной уничтожил около двух тысяч высших военноначальников! А людей сгубил миллионы!
Виноградов побагровел, взорвался, затрясся:
— Выйди вон! Недаром, видать, ты побывал там!
Все зашумели, поддерживая Виноградова, а я выбежал из класса, глотая слёзы. Я возненавидел Виноградова, и больше не пришёл на последние его два урока. В отместку он поставил мне тройку в аттестате, хотя до этого случая у меня были только одни пятёрки по его предмету.
В дальнейшем частенько встречал его в городе, но обходил стороной. После смерти Виноградова сделали почётным жителем города Кисловодска.
Что тут скажешь? У нас в городе и сейчас нет среди почётных жителей ни одного беспартийного — одни бывшие коммунисты. Дают это звание не за действительные заслуги, а, в основном тем, кто был «у руля».
Любил я учительницу физики — тихую и незаметную Феодосию Кузьминичну Черепанову. По физике у меня были пятёрки. Она меня всегда хвалила и приводила в пример. Лет через тридцать пять она с удивлением узнает во мне того ученика и расплачется. Ну, а самую любимую дисциплину — литературу, преподавала гордая, «вся из себя» Калерия Михайловна Киселёва. Мы за глаза звали её Калерой. Она, как когда-то Ольга Федосеевна, всегда ставила мне только пятёрки, к великой зависти отличников!
Выпускное сочинение написал на свободную тему «Моя Родина». Никто из отличников, тянувших на медаль, не рискнул взять свободную тему. Сочинение, видать, получилось у меня, так как была поставлена пятёрка. Более того, случилось невероятное! На выпускном вечере толстенький и нарядный директор школы Карзанов выступил с поздравлением перед строем десятиклассников. Затем неожиданно сказал:
— В дальнейшую жизнь мы выпускаем вас не только повзрослевшими, но и грамотными людьми! О том, насколько вырос ваш образовательный уровень, хочу остановиться на одном примере. Зачитаю несколько цитат из выпускного сочинения одного нашего ученика. Он даже не отличник! Это Углов Николай!
Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул. Все посмотрели в мою сторону, а я мгновенно растерялся и стоял весь пунцовый! Карзанов торжественно прочитал:
— Лапотники, лапотники! — трубили советологи на каждом углу. А мы взяли и запустили пятитонный «лапоть» в космос! Получите, господа-империалисты, большевистский подарок!
Сделал паузу. Затем ещё что-то прочитал из моего сочинения. Все одобрительно смотрели на меня. Никогда в жизни ещё не был в таком центре внимания!
Всю эту зиму я продолжал дружить с Мишкой Скворенко. На большой перемене неизменно складывались пополам и покупали в школьном буфете за семьдесят копеек пахучую слойку. Разрезали её пополам и с наслаждением съедали. Какие же вкусные были тогда слойки! После уроков Мишка приезжал почти ежедневно ко мне на Овражную, и мы катались по очереди на его велосипеде. Я безумно полюбил велосипед! Мог часами выглядывать из-за забора, ожидая с нетерпением Миху. И вот он показывается, несётся сверху, с улицы Войкова, где и сейчас живёт. Долговязый, в неизменных серых брюках и серой рубашке — я полюбил его!
Как-то в воскресенье он пригнал ко мне велосипед и говорит:
— Цока! Можешь весь день кататься. Я иду по делам к родственникам. Вечером сам пригонишь ко мне!
На Овражной и соседних улицах кататься было тяжело: уклон, спуски, подъёмы. К тому же в то время все улицы были непокрыты асфальтом. Поэтому поехал к своей школе — там ровно. Гонял вокруг школы по асфальту — довольно большой круг. На одном из поворотов из-за угла школы вдруг выскочил маленький пацан. А я нёсся, дай Боже! Чтобы не сбить его, врезался на всём ходу в стену школы! Переднее колесо было смято в лепёшку, а я головой протаранил стену. Кровь, боль, слёзы, обида, еле поднялся. А малыш, чуя недоброе, уже ускакал. Побежал с исковерканным велосипедом к матери и, плача, попросил:
— Мам! Дай два-три рубля! Я сломал Мишкин велосипед. На Минутке есть хорошая мастерская (мне говорили ранее ребята, у кого были велики), там должны отремонтировать!
— Откуда я возьму такие деньги? Ты вечно куда-нибудь вляпаешься! Нечего кататься на чужих велосипедах!
— Ну, так купите мне! Хоть старый! Сколько прошу об этом! Не дашь денег на ремонт, я не знаю, как везти такой велосипед к Мишке. Посмотри сама! Он не простит мне этого! Рассоримся! Больше никогда он мне не даст покататься!
Мать еле-еле наскребла два рубля пятьдесят копеек:
— Теперь два дня будете без хлеба и молока!
На рынке Минутки быстро нашёл нужную мастерскую. Протянул два рубля пятьдесят копеек:
— Дяденька! Больше нет! Велосипед чужой! Не поможете, меня прибьют! Добрый дядька покачал головой, улыбнулся мне. Наверное, вид у меня был, как у побитой собаки! Бросил сразу все дела и отремонтировал велосипед так, что вечером Мишка ничего не заметил.
В седьмой школе тогда было много хороших спортсменов. Они не знали меня и не догадывались, что когда-нибудь и я буду не последним в спорте края, хотя и не добился впечатляющих результатов. В то время я был незаметный стеснительный деревенский паренёк и не помышлявший о спорте. Гремели братья Криуновы — Борис и Виктор. Правда, когда поступил в девятый класс, они уже покинули школу. Борис стал мастером спорта международного класса и попал в будущем в сборную страны по лёгкой атлетике. С результатом 52,5 сек. стал третьим в забеге на 400 метров с/б на Олимпийских Играх в Риме в 1960 году, но в финал не попал. Закончив выступать, долгое время был директором спортшколы высшего мастерства в Ставрополе, заслуженный тренер РФ. Виктор стал мастером спорта в прыжках в длину и тройном. Впоследствии десятки лет возглавлял спорткомитет края и федерацию лёгкой атлетики. Шагин Володя стал мастером спорта в толкании ядра. Когда я попал в сборную края, он ещё выступал, и мы с ним ездили несколько раз на различные соревнования.
Сашка Харыбин метал диск по первому разряду. Средневик Николай Харечкин тоже когда-то учился в нашей школе. Он был в составе сборной РСФСР и выступал во Франции. Через восемь лет познакомился с ним, подружился, и мы часто тренировались с ним на Туристской тропе нашего парка. Хороший и сердечный был парень, как и Борис Криунов, поддерживавший меня!
Были в школе, но уже в более поздний период, перворазрядник в беге на 800 метров Стас Муравьёв и другие. И всё это заслуга простого учителя физкультуры Кадурина Валентина Яковлевича! Вот такие самоотверженные тренеры нужны России! Низко кланяюсь ему!
Наверху над нами постоянно шипела ненавистная бабка Шубиха, беспрерывно ругаясь с Филиппом Васильевичем и матерью. Её брат, колченогий Протас, напившись, тоже ругался, гремел, катаясь по веранде на деревянной самодельной коляске на подшипниках. С детства он был инвалидом. Маленькие недвижимые ножки-колбаски были уложены на деревянную площадку и прикрыты куском материи. Это создавало впечатление, что перед вами инвалид войны. Поэтому ему охотно подавали деньги отдыхающие в городе, куда он ездил довольно часто. Мощными руками, упираясь в землю через деревянные подручники с резиновыми
набойками, он довольно легко толкал своё тело в гору или ехал с горы. На базаре Протас напивался в стельку и потом долго добирался до дому. Не раз и не два мы с Филиппом Васильевичем вытаскивали пьяного Протаса из оврага, который пересекал нашу улицу. Грязного, его несли на руках, а он пьяно материл нас «на чём свет стоит». Прожил Протас довольно долго. Лет десять вся Овражная улица (а напротив нашего дома находилась водопроводная колонка, к которой ходили со всей улицы) видела в окне веранды второго этажа дома, излюбленного места Протаса, его всклокоченную голову.
Бабка Шубиха не окончила ни одного класса школы, всю жизнь не работала, перебиваясь торговлей фруктами с сада. Нилка Пашкова — её внучка и её мать Нина довольно приветливо относились к нам и рассказывали:
— Бабушка наша — неистовая религиозная фанатичка! Она знает только церковь, базар и дом! Ни разу в жизни никуда не выезжала из города, не ходит в кино, ничего, естественно, никогда не читала, не слушает даже радио! У неё нет подруг и даже знакомых. Всех она ненавидит. С нами постоянно ругается, как и с братом Протасом. В общем, люди каменного века! Ох, и трудно нам с мамой жить с ними!
Нилка училась в восьмом классе нашей школы и после окончания её четыре года подряд поступала в Саратов на юридический факультет. Но поступила! После окончания долго работала в городской милиции.
Как-то Мишка Скворенко пригнал ко мне на Овражную почти новый велосипед. На раме лейб — «ЗИФ». Это был явно не его велик — высокий, покрыт зелёным лаком, с фонарём и звонком. Уж не помню, что он ответил на мой вопрос:
— Откуда он у тебя?
Улыбаясь, сказал:
— Цока! Оставляю у тебя его на два дня! Выпроси у матери двадцать пять рублей и он твой! Грошевая цена! Он стоит вдвое дороже! Покупай, и твоя мечта исполнится! У тебя будет превосходный велас! Таких ни у кого из наших ребят нет!
Два дня велик стоял во дворе, дразня меня. Два дня умолял мать и Филиппа Васильевича купить мне его! Плакал, ругался, обещал исправиться, слушаться их, учиться дальше, не дружить больше с Беляевыми и т. д. Всё бесполезно! Мать и Филипп в один голос твердили:
— Откуда мы возьмём такие деньги? Тебе баловаться, а нам на что жить?
Так и не купили они мне велосипед! Не накатался я на велосипеде досыта ни в детстве, ни в юности! Не баловала нас жизнь, не баловали нас родители. А, может, и правильно делали?
Рядом с нами жили соседи Тучины, Скобликовы, Зайцевы и другие. С Василием Тучиным много лет работал Пастухов на строительстве городской больницы плотником в одной бригаде. Василий был добрый мужик с приглядной внешностью, немногословный, работящий. С Филиппом они любили выпить после работы рюмку, другую. И начинались у них после этого пространные разговоры. Меня Тучин уважал и к мнению всегда прислушивался, особенно после армии. А Филипп Васильевич всегда всё оспаривал, петушился, кричал:
— Вот ты отслужил в армии. Уже мужик, а бегаешь в трусах по улице! Срам один! Люди мне говорят: сын у тебя — не того?
— Филипп Васильевич! Я не бегаю по улице, как вы говорите, а тренируюсь в парке. Не буду же в парк бежать в штанах! Приходится перебегать часть улицы до парка в спортивных трусах. И что тут такого? Просто ваши «люди» не знают, что такое спорт. Они тоже с того века, как и вы!
— Что толку от твоих тренировок? Что они дают? А вот сердце своё загонишь! Ой, Колька, Колька! Не доживёшь ты даже до сорока лет!
Понимаю, что спорить с Пастуховым бесполезно.
Я разменял уже восьмой десяток лет и не мыслю дня, чтобы не пробежать в парке кросс.
Мать дружила с соседкой Скобликовой Лидой. Бабёнка лет тридцати-сорока, полненькая, красивая, голубоглазая. Она ежедневно приходила к нам и тайком от мужа курила у нас, беседуя с Анной Филипповной. Идёт ли в магазин, по воду или мимоходом, обязательно зайдёт к нам. Тары-бары. С час накурится, наговорится, спохватится, уйдёт. Была очень хорошая и добрая тётка — часто приносила нам гостинцы. С мужем, видать, не ладила. Мы к ней привыкли, как к своей родственнице — даже огорчались, когда её долго не было.
Запомнился один вечер. Сидели втроём — она, мать и я. Что-то я «тёте Лиде» долго и увлечённо рассказывал, а мать гладила бельё. Лида, покуривая у печки, внимательно и как-то странно смотрела на меня. Она была чуть навеселе, и её непонятный хмельной взгляд смутил меня. Я замолчал и вышел на веранду и только хотел пойти в сад, как через закрытую дверь услышал:
— Нюська! Колька у тебя как вырос! Какие полные губы у него! Вот какая-то девчонка с ним нацелуется! Смачные губки!
— Да, сын у меня красивый. Да вот хулиганит! Скорей бы школу окончил! Надо его от Беляевых спасать!
Слова Лидки меня поразили! После её ухода долго рассматривал себя в зеркало шифоньера. Оказывается, я не такой уж и плохой, как себя считал! Но с тех пор как-то побаивался оставаться наедине с «тётей Лидой».
Серёжке исполнилось два года. Он рос здоровым и горластым бутузом. Мать не работала, и соседи приносили к ней (разумеется, за плату) своих маленьких детей для присмотра. В то время детских садов ещё не было.
Ну, и последние из соседей — Зайцевы. У них была дочь Лида, которую я вскоре полюбил и чуть не женился. Белокурая, синеглазая, стройная Лидка в цветастом платье с самого начала привлекла моё внимание. Она часто приходила со своей подругой Лидой Задорожко к нашей колонке за водой, и я через занавески на окошках любовался ею. С годами любовь моя к ней усиливалась, но… об этом позже. Я в то время даже и не догадывался, что моё «солнышко» в будущей семейной жизни находится и живёт совсем рядом, в двухстах метрах от нашего дома!
Глава 51. Нина Суворова
Я заканчиваю десятый класс, а впереди начинается новая жизнь, новые интересные события. Вернусь только к двум эпизодам. У матери была двоюродная сестра Анна — добрая тётка, рыжая, с вечно накрашенными губами и неизменной сигаретой. После Колпаковой Кати это была наша ближайшая родственница. Она постоянно приходила к нам, помогала, чем могла. Анна работала контролёром в кинотеатре «Прогресс», который впоследствии снесли. Мы ходили к ней в кино, так как она пускала нас без билетов. Как-то я пригласил в кино Колпакову Нельку, пообещав мороженое и лучшие места. В дощатом, полукруглом, типа ангара, кинотеатре шёл фильм «Бродяга». Все в городе только и говорили о нём. Мы ещё не доели мороженое, как внезапно в зале зажёгся свет — фильм остановили. К нам подошла какая-то крикливая женщина и на глазах всего зала выгнала из кинотеатра. Тёти Ани не было! Я понял, что эта тётка просто «подсидела» её. Мне было очень стыдно! А ещё стыднее было смотреть Нельке в глаза, ведь это была уже взрослая девушка! Мы, не глядя друг на друга, сухо попрощались, а я поклялся больше не ходить в кино без билетов. И это был, действительно, мой последний безбилетный «поход в кино».
Моя учёба в десятилетке подошла к концу. А где-то здесь же, в этой же школе, бегала на переменах моя будущая вторая жена Нина, с которой судьба меня свела только через тридцать лет! Второклассница, она мельтешила, знать, рядом, прыгала через скакалку или играла в классики, мешая нам, степенным десятиклассникам. Часто думаю, вот бы вернуть время и хоть бы глазком посмотреть на себя и маленькую второклашку.
Вот и закончена школа. После торжественной линейки, когда директор зачитал моё сочинение, пропитанное патриотизмом и пафосом, к нам с Мишкой Скворенко подошёл наш товарищ Володя Капустин и спросил:
— Ну, что ребята! Куда дальше? В институт или техникум? Решили?
Мишка Скворенко сразу ответил:
— Что даёт учёба? Я ни в коем случае учиться дальше не буду. Пойду на стройку штукатуром. Цока! Пошли вместе!
Я ответил:
— Тебя в этом же году заберут в армию. А студентам дают отсрочку.
— Ну и что? От армии всё равно не открутишься. Годом позже, годом раньше, какая разница?
Капустин раздумывает:
— Миха! А почему именно в штукатуры?
— У меня есть друг Пепка (это прозвище). Так вот, его отец работает штукатуром-плиточником всю жизнь. Денег у него невпроворот! Шабашек, хоть отбавляй! Очередь к нему! А что учёба? Академиками мы не станем, в начальство не пробьёмся, везде блат и нужна рука! Так что решайте! Цока, что молчишь?
Я ничего не сказал о том, что давно решил для себя стать лётчиком! Постоянно таил эту задумку, так как знал, что Мишка обязательно бы высмеял моё решение: «это недосягаемо для тебя». Только и сказал:
— Подумаю. Ты, наверное, прав!
Всё дело теперь заключалось в аттестате зрелости. Получу его и в аэроклуб! Но нам с Мишкой его не отдавали, так как Варвара Фёдоровна потребовала от нас пересдачи экзамена по химии. Это была явная месть за неуважение к ней, месть за груши и досада за то, что мы заканчивали школу и уходили от неё «непокорёнными». Для гордой, чернявой, властолюбивой учительнице это было очень важно, хотя она сама прекрасно сознавала, что мы со Скворенко знаем химию не хуже остальных. Мишка наставлял меня:
— Цока! Не вздумай покоряться ей! Не ходи на пересдачу! Пусть будет тройка! Куда она денется! Всё равно поставит трайбак!
Но аттестат не отдавали и страсти накалялись. Мать и меня неоднократно вызывали в школу, но я упорствовал. Филипп Васильевич и мать ругались со мной ежедневно, требовали покориться, ходили и к Скворенко, но мы держались. Мать, плача, яростно ругалась:
— Вечно ты связываешься с шалопаями! Во Вдовино — с дурбалаем Афонькой, здесь, с ворами и хулиганами Беляевыми, а теперь этот… штукатур Скворенко! Да разве это профессия? Что тебе говорил отец и Василий Иванович? Ты толковый парень! Учёба тебе даётся легко, не как Шурке. Учись, станешь человеком! Не то, что мы с Филиппом — всю жизнь горбатимся и перед всеми преклоняемся! Сынок, пойми меня, наконец! Я тебе только добра желаю!
И Филипп Васильевич горячился, ругался, умолял, требовал, угрожал. И я, наконец, прозрел! Спасибо огромное вам, родители, за вашу настойчивость в этот переломный момент! Не знаю, какой бы из меня получился штукатур, но, сделав поворот к учёбе, теперь могу гордиться дальнейшей жизнью, дальнейшими моими успехами!
Я пошёл, покорился Варваре! Она на радостях поставила сразу же пятёрку по химии! Аттестат зрелости получил в этот же день.
Итак, у меня в аттестате зрелости была только одна тройка, которую от злости за мои взгляды поставил ярый коммунист Виноградов! Это было только начало! В дальнейшем от таких ортодоксов-большевиков в жизни буду терпеть много несправедливости. Из-за моей биографии и либеральных взглядов они не принимали меня в партию, и даже должность прораба была «не по карману мне», так как в то время любым коллективом, даже в десять человек! должен был руководить коммунист. А уж должность руководителя СМУ с коллективом в пятьсот человек вообще недосягаема.
Секретарь парткома Власенко «зарезал» мне звание заслуженного строителя и орден от министра. А переезд в Москву на должность, возможно, управляющего трестом, куда меня брал один высокий чин, опять не состоялся по причине моей беспартийности (об этом позже). И даже членство в Союзе журналистов получил в довольно почтённом возрасте, хотя печатался более тридцати лет. Долгое время в городе «верховодила» в журналистике ярая коммунистка. На вопрос одного из моих почитателей, почему она не принимает в СЖ Углова Николая, она сказала:
— Это будет бомба в нашем Союзе журналистов! Он, безусловно, талантлив, но как его можно принять, ведь он антисоветчик!
Эти слова сей дамы были сказаны, когда уже двадцать лет не было советской власти! Вот такие они, ортодоксы-большевики!
Опять нашёлся для меня порядочный человек, который нашёл способ, как миновать в этом ярую большевичку, руководившую местным Союзом и строившую мне препоны. Как только получил аттестат зрелости, то даже меньше радовался, чем мать и Филипп Васильевич. Они прямо светились от счастья!
На следующий день я уже был в Ессентукском аэроклубе. Начальник отдела кадров (видно, гебист в отставке) встретил меня, как знакомого:
— А-а! Углов? 18 лет исполнилось? Ну, давай, давай документы! Так. Аттестат зрелости, паспорт, справка из поликлиники, автобиография, комсомольская характеристика. Так, так. А что это ты написал в автобиографии? Отец был судим? И ты был в ссылке? Ну, братец! Такого я не ожидал! Нет, нет — из тебя лётчик не получится. Разве можно такое?
— Так нас же реабилитировали! Даже дом отдали! У меня есть справка об освобождении! Завтра привезу! Партия осудила культ личности! Всех, невинно осуждённых, оправдали! Целые народы вернули из ссылки. Я примерный комсомолец! У меня было самое лучшее сочинение на патриотическую тему!
Но кадровик был неумолим:
— Послушай! Я верю тебе, но… Подыщи другую профессию!
— Почему? Я с детства мечтал быть лётчиком!
— Слушай, мой дорогой! Я не хочу на старости лет париться в тюрьме, потому что пропустил тебя в лётчики! От нас они все идут в войсковые части. Где гарантия, что ты не затаил злость на власть за отца и себя? Перелетишь за границу, а я в тюрьму? Нет, и нет! Могу устроить тебя только на курсы планеристов.
Я отказался, заплакал и забрал документы.
Это был крах моей мечты! С того дня понял, что в автобиографии надо тщательно скрывать факт судимости отца и моей ссылки, иначе никуда не пробьёшься. Дома даже обрадовались моему поражению. Филипп Васильевич радостно сказал:
— Вот что, друг! Я тебе уже говорил за Липецкий горно-металлургический техникум. Там самая большая стипендия. Будешь жить у моей родни первое время, там и прокормишься, а потом переедешь в общежитие, если не понравится. Там его дают иногородним. Получишь самую высокооплачиваемую профессию! Знаешь, какие деньги зарабатывают металлурги?
Я втайне понимал, что Филиппу Васильевичу и матери надо было просто избавляться от лишнего рта и, одновременно, убрать меня от друзей Беляевых и Скворенко, что тоже было немаловажно. Я сдался и послал туда документы. Выбор был сделан — я ждал вызова, смутно сознавая, что же за это профессия техник-металлург литейного производства? Из справочника узнал, что стипендия там на первом курсе 36 рублей и 39 на последующих. Так что размер стипендии оказался решающим при выборе профессии. Грустно это сознавать.
Потерпев фиаско в аэроклубе, я как бы повзрослел и отказался платить членские комсомольские взносы. Мне действительно было обидно на власть. Думаю:
— «Незаслуженные репрессии над нашей семьёй. Испорчена, исковеркана вся жизнь. Теперь вроде реабилитировали, а доверия нет. Дом долго не отдавали, в аэроклуб не приняли, коммуняка Виноградов тройку незаслуженно поставил. На черта мне нужен такой комсомол, который не заступится, не защитит, только взносы им плати? Пошли они все в жопу!»
Вызвали в райком комсомола на улицу Красноармейскую. Вальяжно развалившись в кресле, холеный секретарь спрашивает:
— Товарищ Углов! Почему прекратили платить членские взносы? На вас жалуются в школе — дерзите, хамите!
Я отвечаю:
— Исключайте меня! Всё! Не буду больше платить вам взносы! Толку от вас!
Тот заорал:
— А какой ты толк хотел получить от комсомола? Ты что, на базаре?
Я бросил на стол ему комсомольский билет и молча вышел из кабинета. Вызов на экзамены в техникум получен. Готовлюсь дома по учебникам.
Как-то, уже незадолго перед поездкой на экзамены, в калитку постучали. Выхожу — на пороге стоит красивейшая девушка! Стройная, фигуристая, с такими большими, чёрными глазами, что онемел, потерялся. От счастья был, наверное, смешон, растерян, неловок. Улыбается:
— Что? Не узнаёшь?
Пришёл в себя:
— Нина! Богиня! Как ты повзрослела за эти два года! Ты ли это? Откуда ты? Как ты меня нашла?
— Я прямо из Вдовино! Адрес твой узнала у Кости Чадаева.
— А почему ты не ответила на моё письмо?
— Не получала я от тебя никакого письма! Разозлилась на тебя. Неужели за два года не мог написать? Не хотела ехать к тебе, но всё же решилась..
Зашли в комнату. Сразу почувствовал её преимущество над собой, да и она, мне кажется, ожидала большего от меня. Шутя, засмеялась:
— Я, мне кажется, выше тебя ростом. Почему не растёшь? Здесь же солнце, фрукты.
Это меня ещё больше убило! Лучше бы она не говорила этих слов! Это было самоё больное место для меня! Я за эти два года подрос на 10 сантиметров, но что такое для мужчины метр шестьдесят? Эх! Знала бы Нина, да и я сам в то время, что через три года выросту ещё на двадцать сантиметров!
Мнительность, проклятая нерешительность, неуверенность в себе — всё разом ожило во мне. Разговор не клеился. Выручила пришедшая с магазина мать. Она ахнула, увидев Нину:
— Нина! Ты ли это? Когда приехала? Как мать, жива? Какая красивая ты стала! Вот посмотри, во второй комнате у нас на стене висит картина «Незнакомка». Не ты ли сидишь в карете? Точно — копия!
Они разговорились, мать начала угощать Нину. Я вышел в сад. Стоял прекрасный июльский день. Лихорадочно соображаю:
— «Итак, Нина у меня. Приехала сама, говорит, что письмо моё не получила, да и она сама не написала ни разу. Зачем она приехала? Значит, я ей по-прежнему интересен? Что делать? Через неделю на экзамены, а потом армия! Три года она не будет меня ждать ни за что! Она уже девушка и очень красивая. А я? Такой же замухрышка! Нет, нет! Ничего у нас с ней не получится! Да и отвык от неё. Какая-то новая она, чужая».
Три дня Нина прожила у нас, и только на второй день я почувствовал себя уверенней. Мать поставила в сад вторую раскладушку (этим летом я ночевал в саду) и мы с Ниной говорили чуть не до первых петухов. Два дня гуляли по городу и парку. Вспоминали без конца детство во Вдовино, детдом, друзей, речку Шегарку, наши игры.
В последний день мать накрыла стол. Мы выпили вина, а затем пошли гулять по вечернему парку. Эту ночь помню всю жизнь. Взявшись за руки, мы нежно смотрели друг на друга и пели нашу любимую песню:
В тихом городе мы встретились с тобой, до утра не уходили мы домой. Сколько раз мы всё прощались, и обратно возвращались, чтоб друг другу всё сказать. Мне б забыть — не вспоминать этот день, этот час. Мне бы больше никогда не видать милых глаз. Но опять осенний ветер, в окна рвётся и зовёт. Он летит ко мне навстречу, песню нежную поёт…
В прохладе Кисловодского парка журчала речка Ольховка, пели последние трели многочисленные дрозды, тусклый свет на дорожках, окаймлённых густыми туями, освещал нам путь всё дальше и дальше в глубину парка! Я готов был «выпрыгнуть из себя» от счастья! В голове стучало:
«Какая девушка идёт рядом со мной! Неужели я достоин её? Я ведь сопляк по сравнению с ней! Сколько лет, дней и часов меня с ней связывало в глухой Сибири! И вот мы рядом! Не упустить бы своё счастье, но как это сделать?!»
В белой рубахе с закатанными рукавами, обняв Нину за плечи, шёл рядом с любимой! Мы тихо пели наши Вдовинские нежные песни. Радостные, взволнованные, пришли за полночь. Родители уже спали. Луна то показывалась, то скрывалась за тучей. Ни один листик не шелестел!
Нина, не стесняясь меня, начала раздеваться, медленно вешая бельё на спинку стула. Я ужаснулся, всё поняв:
— «Да! Она уже всё решила для себя сама! Нет, нет! Только не это! Я ещё пацан. Даже ни разу в жизни не поцеловал её! Как она может это? Я не ожидал ничего подобного от неё! Скорее всего, она уже гуляла с кем-то! Вот в чём дело».
Я отупел от страха, нырнул под одеяло. Раскладушки наши стояли рядом. Протяни руку — достанешь. Вот Нина осталась в одной прозрачной рубашке. Выглянувшая луна высветила нежную девичью грудь и всё прелестное тело до мельчайших подробностей. Затаив дыхание, ошалело наблюдал через щёлку в одеяле. Молчали с полчаса. Изменившимся голосом Нина прошептала:
— Неужели спишь? Коля! Мне холодно. Меня начал бить озноб. Какой там сон!
«Да, сплю, сплю» — повторял я, закрыв глаза.
— «Только в этом спасение!»
Нина положила руку на мою кровать — меня бросило в жар! Тихо шепчет:
— Не бойся, Коля! Иди же ко мне! Ничего не будет, только согреемся!
Я окаменело молчал:
— «Нет, нет! Ни за что! Зачем всё это? Я боюсь её! Может, когда-нибудь и поцелую её, но только не сегодня».
У меня лихорадочно стучали зубы, и бешено толкался, рвался пульс. Весь дрожал — дыханье загнанной лошади уже невозможно было скрыть под одеялом. Я находился на грани срыва.
— Иль за что обиделся? Что с тобой? В ответ молчание.
— Ну, ладно! Я пошутила, уже согрелась. Не надо. Ну, говори же что-нибудь! Коля!
Всё, всё! Отступать нельзя — я сплю, сплю, сплю.
— Эх! И дурачок же ты! Ведь знаю, что не спишь! Что с тобой случилось? Как хорошо провели вечер и вдруг такое. Почему молчишь? Бог с тобой. Я не прощу тебе этого!
Отвернулась, заскрипев раскладушкой, тихо заплакала, затем, не скрываясь, всё громче и громче. Всю ночь я не мог спать. Она, видно, тоже. Всю ночь ворочались, скрипели раскладушками. Утром мы не глядели друг на друга. Нина отказалась от завтрака. Еле успел встать и как следует одеться. Было тяжко и неловко на душе за свою тупость.
Соображаю:
— «Я ведь оскорбил её своим поведением. Не стал разговаривать — испугался чего-то. Может мне показалось, что она стала какой-то слишком раскованной. Все это, вероятно, в горячке сам придумал, нафантазировал. Она нормальная девчонка. Давно любит, наверное, меня, поэтому и приехала. Дурак я всё же! Почему я её так боюсь? Даже ни разу не решился поцеловать свою первую любовь! Надо было объясниться, но… сил не хватило. Ни о чём не договорился».
Мы шли с Ниной тихо по нашей земляной, узкой и кривой улице Овражной. Не разговаривали. Я проводил её до большака — широкой гравийной улице (асфальта тогда ещё не было). Она называлась Широкой. На перекрёстке сухо попрощались. Она уходила, а я всё стоял и смотрел — надеялся, что Нина обернётся. Нет — не оглянулась. Я заплакал. Что наделал? Десятки, сотни раз в будущем выходил на тот перекрёсток, где мы расстались в последний раз, втайне надеясь, что вдруг Нина вернётся.
Пронзительная песня Клавдии Шульженко — это всё о нас двоих:
На тот большак, на перекрёсток — уже не надо больше мне ходить.
Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?
Нина уехала, сухо попрощавшись. Уехала навечно от меня! Больше я её ни разу в жизни не видел. Пытался позже неистово её искать! Куда только не посылал запросы! Она, видно, вышла замуж и сменила фамилию. Может и она пыталась искать меня, но наш дом вскоре снесли. Я упустил шанс, упустил судьбу! Надо было тогда крепко «брать вожжи в свои руки»! Женившись, много раз вспоминал Нину Суворову! Прощай, навечно, моя первая ЛЮБОВЬ!.
Днём мать и Филипп Васильевич пытали меня:
— Ты что? Обидел Нинку? Почему она была такой?
Я угрюмо молчал. Что я мог им ответить?
Провожали меня в техникум все родные и знакомые. Даже из армии успел перед этим мне прислать письмо с наставлениями Шурка. Он уже служил в Кривом Роге и как-то их водили на металлургический завод. Ему очень понравилась «могучая огненная стихия металлургии»! Он приветствовал моё решение и писал, что после армии последует моему примеру и, возможно, тоже поступит в этот же техникум. Жить в Кисловодске с Филиппом он не собирался.
Вышли во двор всей компанией весёлые, шумные. Кто-то даже пытался затянуть песню. Вот вспоминаешь то время — бедно жили! Но как-то умели дружить, сообща веселиться! Родственники, друзья, знакомые, соседи — никто не сторонился друг друга, все были рады гостю, были откровеннее, щедрее! А сейчас? Небо и земля! Даже родные не дружат друг с другом! Все сидят у «ящика» и смотрят попсу. Мельчает народ.
Так вот, идём вниз по Овражной. Два старых чемодана с учебниками у меня. Перевязаны верёвкой, чтобы не развалились от тяжёлых книг. Навстречу с пустыми вёдрами на коромыслах поднимается мать Лидки Зайцевой. Филипп Васильевич в сердцах сплюнул:
— Откуда тебя чёрт вынес с пустыми вёдрами? Сын едет поступать, и ты тут!
Та посторонилась, заулыбалась, извиняясь. Да! Это была нехорошая примета! Мы вышли из глухомани, где все верили не только в приметы, но и в более ужасные вещи: домовых, чертей, ведьм, леших и прочую нечисть.
Чуть погоревали мы, но что делать? Думаем, пронесёт! Уехал. Прошло несколько лет. Всё обошлось благополучно. Поступил, отучился два с половиной года.
И всё-таки те пустые вёдра оправдали плохую примету! Диплом техника-металлурга пролежал у меня в сейфе без движения всю жизнь! Я не смог работать по этой специальности! Но об этом позже.
Глава 52. Поступление
Провожая меня на учёбу, мать и Филипп Васильевич дали мне всего шесть! рублей, надеясь на то, что родители Филиппа будут меня кормить. Горькое разочарование ожидало меня там! А эти шесть рублей вспоминаю всю жизнь, сравнивая их с сегодняшними запросами современных детей.
Приехал в Липецк и начал готовиться к экзаменам, живя на шахте в десяти-двенадцати километрах от города. На второй же день понял, что расчёт на родителей Филиппа был неразумный. Во-первых, далеко. Ходить ежедневно туда и сюда на 20 километров — никаких сапог не хватит!
Единственный небольшой ведомственный шахтёрский автобус всегда был настолько «забит под потолок», что я сразу оставил эту затею.
Во-вторых, меня здесь никто не ждал — я был для них чужой человек. Лишний рот им не был нужен. В двух комнатах барачного типа жили четверо взрослых и трое детей. Через два дня с ужасом понял, что до начала экзаменов просто не дотяну. Меня явно преднамеренно не кормили, давая понять, что я здесь не нужен. Сами они тайком от меня собирались на кухне и что-то ели. Меня сажали за стол только раз в сутки, когда приходил с работы поздно вечером Иван. Он работал на шахте. Остальные: дед, мать, сестра Филиппа — Нюрка с тремя детьми, все сидели дома. Жили очень бедно. Вечером неизменная тюря (хлеб с квасом). Вот и весь ужин! Ивана они все очень уважали и побаивались, поэтому и приглашали меня вечером к столу. Хороший был мужик! Красивый, среднего роста, белесый, с голубыми глазами. Только он интересовался мной, расспрашивал, понимал меня. Его дети тоже полюбили меня, но это было уже ближе к окончанию техникума. Когда он с женой Нюрой приехал к нам летом в Кисловодск погостить, мы им оказали настоящий приём! Кормили «от пуза», поили водочкой, водили на экскурсии, гуляли с ними по парку, фотографировались. В общем, не тот «приём», что был оказан тогда мне!
К Ивану до сих пор чувствую симпатию. Жаль его, сильно пил! C сожалением узнал, что умер он в расцвете сил
Надо было выживать, и я на четвёртый день ушёл с шахты пешком с двумя своими старыми чемоданами, в одном из которых лежали учебники, а во втором вещи. С Иваном не успел проститься, а дед, бабка и Нюрка явно обрадовались:
— В город насовсем? А ночевать где будешь?
— Не знаю. Сейчас лето, везде тепло. А может, в техникум пустят.
Пришёл в техникум. Сказал, что иногородний, у меня нет денег и негде жить. Оказывается, в общежитии есть временные места для поступающих. В большой комнате жило человек пятнадцать. Дали койку. Сразу же стал искать работу. Где только не был, где только не умолял принять на временную работу! Сжалился один мастер. Принял разнорабочим на строительство нового моста через реку Воронеж. Я успешно сдавал экзамены, отпрашиваясь у доброго дядьки — десятника и затем отрабатывал эти часы во вторую смену. Донимал голод, покупал только один хлеб. Шесть рублей, как не экономил, кончились! Два дня уже ничего не ел. Работать тяжело, голова кружится. Обед. Рабочие разбредаются, садятся на брёвна, развязывают свои узелки с едой. Отхожу в сторону, лежу на земле с закрытыми глазами. На третий день подходит бригадир:
— Углов! А ты почему не обедаешь?
Что-то невнятно бормочу.
— Всё понятно… Ребята! Давайте немного скинемся, поможем студенту! Работает старательно. Чудной парнишка. Голодный, а не попросит. Гордый? Так и помрёшь с голодухи!
— Мне не привыкать.
— Ну, ну! Не делай больше так! Люди лучше, чем ты думаешь! Всегда помогут.
Бригада накормила меня. Теперь в обед я был сыт. Каждый что-то давал из своих запасов. Даже оставалось немного на вечер. Как я благодарен этим простым русским работягам! Всё-таки щедрый наш народ!
А тут и сдал все экзамены — две пятёрки и две четвёрки. Я поступил в техникум! Вся бригада радовалась:
— Молодец! Толковый парень! Хорошую профессию выбрал! Будет толк из тебя!
Я получил расчёт. За 22 рабочих дня мне полагалось 40 рублей. Радости моей не было предела. Это целое состояние! Никогда ещё в жизни не держал в руках столько денег! Притом, сам заработал!
Нас на целый месяц сразу же направили на уборку картофеля куда-то под город Усмань. Это было очень кстати. Целый месяц не надо было думать о еде — казённые харчи. Там также немного заработал. Приехал, получил стипендию 36 рублей. Сразу купил драповое зимнее пальто за 60 рублей и нанял квартиру с питанием за 30 рублей в месяц. Общежитие пообещали во втором семестре. Квартиру нашёл по объявлению, вывешенному около техникума.
Частный дом по улице Плеханова располагался рядом с техникумом. Хозяин дома — бывший майор советской армии. Спокойный, порядочный человек. Жена, две дочери моих лет. Мне дали отдельную комнату. Майор, оказывается, брал Берлин, но страшно ненавидел советскую власть. Он на многое открыл мне впервые глаза. Познакомившись поближе с ним, стал понимать некоторые вещи, о которых мне никто не говорил — ни отец, ни дядя Вася, ни тем более малограмотные Филипп с матерью. Вечерами майор вместе со мной слушал по громоздкому радиоприёмнику «Голос Америки из Вашингтона». Я с ужасом сознавал, в какой стране мы живём! Я-то думал, что в самой счастливой, а оказалось, в одной из самых угнетаемых! Но после случая с поступлением в Ессентукский аэроклуб, побоялся рассказать майору, где был. Кто его знает? Для меня это теперь было табу! Майор много рассказывал о прошедшей войне, о политике и наших правителях:
— Коля! Мы для них мусор! Нигде в мире так не уважают свой народ! Ты бы видел, как жили немцы! Всё хотя и разбомбили, но видно, какие были у них дома — не наши сараи! Везде виден порядок и чистота. Даже в коровниках плитка! Ты знаешь, что это такое? Мы вот в туалет ходим на улицу, а у них нет такого!
— А куда же? Не в комнате же!
— Ох, Коля! Ничего ты ещё в жизни не видел. Я вот тоже был патриот. А прошёл войну, такую гадость увидел, такое унижение, такие жертвы. Во имя чего? Как мы живём? Хуже всех в Европе! Нашим правителям нужна власть во всём мире. Во имя своей дурацкой идеологии они готовы на всё!
— Да я сам спорил на уроках с одним преподавателем за культ личности Сталина. Так он мне в отместку по истории поставил тройку, хотя я знал её в классе лучше всех.
— Да они все такие, зашоренные! Твердолобые, мстительные! А за Сталина я знал всё и до его развенчания. Сколько у нас в Липецке моих знакомых сгинуло в вечность! Слава Богу, выкинули этот труп из Мавзолея! Да и второго надо тоже на помойку!
От этих слов становилось страшно. Впервые слышал такое! Майор был уже на пенсии. Жена только что бросила учительствовать и занималась вместе с ним подсобным хозяйством. В большом саду у них был огромный полуподвал-полусарай, в котором держали более сотни курей. Постоянно горели шесть мощных электролампочек, чтобы куры лучше неслись. Корм курам они давали хороший, с добавкой рыбьего жира. Куры «отвечали на заботу» и неслись хорошо. Ежедневно хозяйка уносила на рынок по две корзины яиц. Город рабочих, город металлургов — яйца хватали мгновенно! Сад и дом охраняла овчарка, которая сразу приняла меня. Две красивые дочери. Одна училась в десятом классе, а другая куда-то не по-ступила и теперь опять готовилась. Когда впервые пришёл нанимать квартиру и увидел дочерей, сразу смутился и хотел уйти. Но меня успокоили и оставили, видать, я им понравился.
Девчата были довольно наглые и раскованные. Они жили в смежной комнате с моей. Дверей не было и только занавеска отделяла нас. По утрам, когда мать уходила на базар, а майор убирал курятник, дочки вставали, лениво потягивались в одних прозрачных рубашках, поочерёдно подходили к горшку. Бесстыдно журчали, шипели в двух метрах от меня за занавеской, заставляя меня страдать. За завтраком мне было стыдно смотреть им в глаза, а они, как ни в чём не бывало, подшучивали надо мной. Эта их странная манера — всё время подтрунивать надо мной, бесила меня, но я старательно отмалчивался, и старался не связываться с острыми на язык девками. Вероятно, был по деревенски неуклюж, смешон, стеснителен.
Питался с хозяевами за одним столом — это всё входило в плату. Кушали они, как бы сказать, средне! Разносолов не было. Полгода ругал себя за первый завтрак! Когда их мать после каши налила всем в стаканы чай, она спросила меня:
— Коля! Сколько тебе положить кусочков сахара?
Я почему-то смешался, растерялся, допустил оплошность и брякнул:
— Один кусочек! Я сладкое не люблю!
Какой глупыш! Я и так всё детство был без сахара. Теперь его очень полюбил, но сам лишил себя сладкого. С тех пор, кто бы ни разливал чай, всегда, когда дело доходило до сахара, говорил:
— Коля сладкое не любит! Ему клади только один кусочек сахара!
Теперь приходилось «держать марку», терпеть и молча ругать себя за язык. Так и пил в доме хозяев абсолютно несладкий чай весь первый семестр!
В нашей группе были только мужчины. Будущая суровая специальность металлурга не терпела женского труда. Запомнились в группе Быков, Ковалёв, Томашевский, Сидоренко, Семёнов, Камынин, Желтобрюхов, Лушин, Щептев, Герасимов, Широкожухов, Панин, Попов, Огурцов и Ельцов. Вот последний, быстроглазый и юркий Ельцов — хулиган и вор, причинил мне много неприятных дней во время всей учёбы. Он был из соседнего города Ельца. Это был явный бандит и не скрывал этого. Ельцов всё время якшался с городскими хулиганами и все его побаивались. Он часто приходил в техникум в сопровождении сомнительных личностей. Когда мы были на картошке, он начал задираться ко мне, преследовать, заедаться. Я сразу вспомнил Пасёна Кольку из детства! И здесь опять такой! Я начал уклоняться от встреч, от конфронтации с ним, но он всё более наглел. Зная, что он состоит в банде, старался не связываться с ним и молча терпел обиды.
Рослый и плечистый Сидоренко, узнав, что я его земляк (он был из Невинномыска, как и Томашевский), однажды заступился за меня. Прямо на картофельном поле завязалась драка. Длинные руки Сидоренко работали, как кулисы, не давая шустрому Ельцу приблизится — скоро его морда стала красной от крови. Их растащили, но Ельцов не смирился. Не раз и не два он уже в Липецке нападал на Сидоренко, и всякий раз ему доставалось от того. Ельцов всё время угрожал своей кодлой, и мы его, стыдно признаться, боялись. Лишь Сидоренко был независим, но и ему досталось несколько раз, когда его избили несколько «ельцовских». Городские не раз врывались кодлой в общежитие, в которое я перешёл после Нового года, и избивали многих, кто был против них и роптал. Уже на втором году учёбы как-то не сдержался притязаний Ельцова и опрокинул его на кровать. Он озверел:
— А-а-а! Наконец-то тихоня! Показал себя! Ну, держись, кавказский пленник! Сейчас тебя буду убивать!
Он вскочил и в ярости кинулся на меня. Мы начали бороться в комнате так, что полетели тумбочки и стулья. Ельцов опять очутился на полу. И в третий раз повалил его! Теперь я понял, что сильнее его! И тут озверевший Ельцов ударил меня моей гитарой, которую я купил с большим трудом, экономя на еде. Дека гитары переломилась пополам! От обиды я смешался, заплакал, а Елец от радости повалил меня на пол и стал избивать кулаками. Выручил меня мой друг Лёшка Широкожухов, с которым мы жили в одной комнате. Вдвоём мы одолели озверевшего Ельцова, но не били его. Гитару мы потом склеили, но теперь она не раз раскалывалась наискосок в этом месте.
Долгими зимними вечерами мы собирались в общежитии в Красном Уголке. Слушаем патефон, читаем газеты и журналы, играем в шахматы и шашки. Тишина, покой. И тут, всегда к концу вечера, врывается под «хмацом» Ельцов с компанией и громко кричит свою неизменную фразу:
— Елец — всем ворам отец!
Оглядывается весело:
— Привет честной компании! Кто здесь против Ельца?
Никто не хочет с ним связываться и все начинают расходиться. Мы с Лёшкой играем в шахматы. Ельцов с дружками подходят к нам и опрокидывают доску с фигурами. Лёшка молча, глазами, показывает мне на дверь, и мы уходим.
В этом же году они подрезали в драке Сидоренко и ему пришлось оставить учёбу.
Так третировал нас почти два года Ельцов со своей кодлой, пока они где-то не убили человека. Ельцова исключили из техникума и осудили на 8 лет.
Новая жизнь, новые друзья, учёба в техникуме — мне начинало всё нравиться. Но я сильно тосковал по дому. Впервые был оторван от семьи, от дома и это было тягостно. Сколько раз мечтал, как после окончания первого семестра приеду домой:
— Обязательно от вокзала найму такси! На них ездят степенные и состоятельные люди. Не вшивота какая-нибудь! Подъеду на глазах всех соседей. Скажут: «Смотрите, студент приехал!» Может, увидит меня на такси белокурая соседка — красавица Лидка Зайцева! Вот было бы здорово!
Слово «студент» мне очень нравилось — было что-то значительное в нём. Студенты были во всех государствах самыми активными, грамотными, мобильными, они свергали даже свои правительства! Но мой друг Сашка Камынин всегда осекал меня:
— Какие мы студенты? Вот если бы мы учились в институте, тогда это, действительно, студенты! А то так, учащиеся!
И брезгливо кривил губы. Я горячился и доказывал, что мы всё-таки студенты.
— Это тебе так хочется! — в ответ хмыкал он.
И всё равно, поступив в техникум, я теперь казался себе значительным. Вот только денег нет! От стипендии оставалось шесть рублей. Это на мелкие вещи (рукавицы, носки, платки), учебники, карандаши, чернила, и на кино и т. д. Копейки! А кругом столько интересного! Сколько можно купить, но не на что. Особенно хотелось купить гитару и фотоаппарат.
Мать так и не выслала денег на дорогу и после окончания первого семестра мне не пришлось побывать на Новый год дома. Тоска усилилась.
А перед самым Новым годом к нам вечером, когда мы слушали с майором приёмник, а дочки были в кино, вдруг неожиданно со стороны сада ворвался какой-то человек с портфелем. Он, видно, перепрыгнул через забор из соседского сада, и овчарка его не заметила, так как была во дворе на привязи. Человек этот, как оказалось, был контролёром электросети. Он осмотрелся и заученным движением за провода выкинул из-под кроватей прямо на середину зала две раскалённые плитки, из которых при ударе вывалились спирали. Пол начал дымить, обгорая краской, а контролёр, ругаясь, побежал в курятник. Майор с женой побежали за ним, что-то говорили, просили и убеждали. Я ушёл в свою комнату. Контролёр вернулся, сел за стол, вытащил кучу бумаг:
— Ну, на этот раз я составляю протокол! Хватит! Вы мне прошлый раз обещали больше не воровать энергию, а теперь, кроме курятника, ещё и в доме топите!
— Степаныч! Успокойся! Возьми! Мать, побыстрее накрой стол!
И что-то протянул ему в портфель. Контролёр запротестовал:
— Нет, нет! Теперь в два раза больше!
Майор, видимо, смирился, и через некоторое время за столом наступило спокойствие. Контролёр выпил, закусил, встал, значительно подобревший, нахлобучил шляпу, помахал портфелем, сурово брякнул:
— Ну, ладно! Смотрите тут!
Майор побежал загонять собаку, открыл калитку. Вернулся возбуждённым. Сказал жене:
— Вот, гад! Уже сотню берёт! Соседи — завистники проклятые, натравили, а теперь ещё и пропускают через свой сад! Теперь жди через месяц-другой! Вот повадился!
На Новый 1957-й год пошёл на шахту к Пастуховым. Я не был у них уже четыре месяца и мне обрадовались. Дети — Шурка, Верка и Володька не отходили от меня. Я только что купил фотоаппарат «Смена» за 12 рублей. Эти деньги накопил, разгрузив с ребятами студентами на станции несколько вагонов с углём. Начал фотографировать всех в разных ракурсах. Для детей это было впервые и, видно, очень нравилось. Эти первые фотографии сохранились у меня до сих пор!
Затем мы втроём — дед, Иван и я крепко выпили. Я уже с полгода ничего не пил, а здесь неожиданно даже для себя хватанул гранёный стакан первача, настоенный на табаке. Страшно опьянел, так как практически не закусывал. Сразу же пошёл в Липецк, так как уже начало смеркаться. Иван сказал:
— Коля! Сейчас дорогу в город перемело, идти трудно. Лучше иди по железке. Там нет снега, убирают. Во-вторых, напрямую даже ближе!
Иду, пою — страшно весело! Падаю несколько раз под откос, выкарабкиваюсь. Развезло ужасно! Всё время помню о фотоаппарате, боюсь разбить. Для надёжности перебросил ремешок через голову и спрятал фотоаппарат под пальто.
Таким пьяным не был ещё никогда в жизни! Весь в снегу, так увлёкся борьбой с собой, с неверными ногами, так орал песни, что ничего не слышал. А сзади, словно бы во сне, слышен непрерывный гудок паровоза. Потом, когда гудок стал нестерпимым, я полуобернулся и понял, что гудят мне. Какой-то огромный силуэт медленно надвигался на меня. Замахал
рукой и пробормотал рассеянно:
— А-а-а! Паровоз. Ну и что? Подумаешь, паровоз! Пусть только попробует столкнуть! Деятель! Посмотрим ещё, кто кого! Пусть объезжает. Разгуделся!
Паровоз продолжал истерично гудеть, а я отмахивался руками. Очнулся, словно бы ото сна: кто-то толкнул меня в спину и я упал. Затем меня рывком подняли. Качаясь, посмотрел. За шиворот меня держал угрюмый человек в чёрной куртке с петлицами, а рядом стоял ещё один. За нами вплотную пыхтел злосчастный паровоз. Я пьяно засмеялся:
— А-а-а! Испугался! Остановился!
В ответ услышал:
— Вот гадёныш! Он пьяный в стельку! Моли Бога, что живым оставили! А надо было, наверное, как котёнка раздавить! Молодой, а уже пьяница!
Плюнул в сердцах и саданул по лицу так, что я улетел далеко под откос в сугроб. Еле пришёл в себя. Начал выбираться. Товарняк уже ушёл.
Кое-как доплёлся домой. Упал около будки овчарки и заснул. Все ахнули, увидев в таком состоянии меня. Пьяный в стельку, весь в снегу, кровь сочилась из разбитого носа и губ, а на вспухшей щеке огромный синяк.
Конечно, виноваты были в этом в первую очередь взрослые люди, напоившие, но не накормившие пацана. Но и своей вины нисколько не отрицаю. Стыдно и позорно, но «из песни слов не выкинешь».
Всю жизнь помню машиниста паровоза и кочегара, спасших мне жизнь! Славные люди! Ведь им ничего не стоило просто раздавить меня, а они сберегли человека, остановив состав! Я был молод и ещё глуп и, возможно, они это поняли. В моей жизни будет с десяток подобных приключений, когда я чудом спасся от смерти, но этот случай особенный.
Глава 53. Липецк
Закончился первый семестр и мне дали общежитие. На всю жизнь остался осадок от своего непонятного поведения при уходе в общежитие. Майор с семьёй относились ко мне с любовью. Они уважали меня. Я же, когда уходил, даже не поблагодарил их. Почему? Мне просто стыдно было за то, что, как я думал, их предаю. Я как бы сбежал от них, не пробыв год, как договаривались. Ну и что? Надо было просто извиниться перед ними, сказать, что мне хочется к друзьям, что в общежитии мне будет интереснее. Но главное, я становился хозяином своей стипендии, а здесь от неё оставались несчастные шесть рублей. Ушёл от них сопком — тупая деревня! Сколько раз, повзрослев, хотел не раз поехать в Липецк, найти их, и извиниться за свою глупость и грубость.
В общежитии меня поселили с Камыниным Сашкой, с которым мы станем друзьями на ближайшие пять лет, а потом судьба нас разлучит навечно. По окончании техникума мы попадём с ним по распределению на Пензенский компрессорный завод, а потом в армию — сначала в Фергану, а затем в Ейск. И везде вместе, везде вдвоём.
Камынин был родом из Липецкой области — со станции Хитрово. Его родители работали в колхозе «Честный пахарь». Вот название его родного колхоза как нельзя подходило к нему самому. Это был честный, благородный товарищ, не вступающий ни в какие сделки с совестью. У него, в отличие от меня, уже была своя позиция. Он многое понимал в жизни. Небольшого роста крепыш, крупное волевое лицо с голубыми глазами и девичьими бровями, высокий лоб и ёжик русых волос — Сашка был в меру красив. Дома у него осталась одна мать. Тяжкий труд механизатора в колхозе оставил ему след: большой палец одной руки отсутствовал. Сашка страдал, да, страдал, другого слова не подберёшь, из-за своего маленького роста! Я же в этом году начал так интенсивно расти, что замечали даже все окружающие.
Помню, что когда приехал в Кисловодск после окончания первого курса, меня не узнавали. Как я радовался! Наконец-то свершилось! Бог услышал мои молитвы! Это было какое-то чудо! К окончанию техникума мой рост был уже за 170 см. Камынин же больше не рос и страшно завидовал мне:
— Когда поступали, ты был ниже меня. А теперь, к окончанию техникума, вон какой дылда вымахал! Вот везёт людям! Ну почему я такой низенький?
Все свободные минуты Сашка тренировался в комнате. У него были гантели, скакалка, пружины, резина. Для меня это была новость. Я впервые видел тренирующегося человека! Как будто кто его заставлял! Методично он делал упражнения, затем растягивался, отжимался, вращал тело, приседал. Упражнения с гантелями он делал по какому-то пособию. В комнате вечно стоял запах пота. Сколько он меня заставлял заниматься спортом — всё бесполезно! Я пробовал, но быстро остывал. У меня, как понимаю теперь, просто не было мотивации. И всё-таки благодаря общению с Сашкой Камыниным, я постепенно проникся мыслью, что спорт — это хорошо! С Камыниным мы прожили в одной комнате только полгода. Второй и третий год обучения жил с другом — Лёшкой Широкожуховым, а он с Поповым.
Питались в столовой техникума только в обед. Подходим к раздаче:
— Что будете брать?
— Щи б/м (т. е. без мяса), котлету с макаронами, чай.
Жидкие и безвкусные щи, маленькая котлета, в которой больше картошки, чем мяса. Синие безвкусные макароны (это вам не современные итальянские!) и несладкий компот. Утром не завтракали, а вечером — неизменный чай с плавленым сырком «Дружба». И так — два с половиной года! В день на питание у нас уходило семьдесят копеек.
Общежитие в четыре этажа и техникум находились на возвышенности, рядом с древним собором. Его высоченную колокольню фотографировал неоднократно — церковь мне нравилась. Наша часть города находилась как бы на горе. Внизу был центр, парк и река Воронеж. Над нами пролегала трасса, по которой возвращались на аэродром стратегические бомбардировщики. Аэродром тот находился как раз рядом с шахтой, где жили Пастуховы. От гула реактивных гигантских самолётов, повторяющихся каждые полчаса, невозможно было слушать преподавателя и тот обычно, с мелком в руке, замолкал на минуту. Я в такие минуты думал:
— «Вот бы я был лётчиком! Обязательно бы попросился в стратегическую авиацию! Какая мощь! Вот это да! Всё-таки, какой сильный Советский Союз! Прошло-то всего двенадцать лет после окончания войны, а мы стали ещё гораздо мощнее! Какие реактивные бомбардировщики! Теперь даже американцы с англичанами боятся нас! А уж немцев мы бы сейчас одной левой! Вот такие гигантские самолеты везут, наверное, атомные бомбы. Вот будет подарочек американцам! А то они сильно заедаются на Советский Союз. Надо обязательно, как будут призывать в армию, попроситься в авиацию».
Уже намного позднее узнал, что первые стратегические бомбардировщики, какие были в Липецке, могли бы долететь до Америки и сбросить атомные бомбы, но назад бы они не вернулись, так как дальность полёта их была всего около шести тысяч километров.
Я много фотографировал самолёты. И на шахте, бывая у Пастуховых, частенько подходил с фотоаппаратом к самому аэродрому. Мог часами, лёжа в траве, наблюдать и фотографировать при посадке эти невиданные самолёты. Если бы меня застукали, то могли подумать, что я американский шпион. Под горой, ниже нашей улицы, располагался большой парк, выходивший к заливным лугам реки Воронеж, где когда-то Пётр Первый построил первую русскую эскадру, потрепавшую турок. Внизу у входа в парк располагался кинотеатр, в который мы частенько ходили. А дальше самый центр города. За старым и вновь строящимся мостом на другом берегу реки были видны пять новых гигантских доменных печей огромного Новолипецкого металлургического комбината. А слева внизу — старые четыре домны завода «Свободный Сокол». Все домны всегда были в дыму. На противоположной стороне города также всё в дыму от десятков заводов. Трубы тракторного, чугунолитейного, радиаторного, трубного, метизного, сталелитейного фасонного, машиностроительного, цементного и других больших заводов дымили круглые сутки — везде была трёхсменная работа. Мы готовились к ядерной войне с американцами и надо было успеть хорошо вооружиться. Это было для меня потрясающее зрелище! После сибирского таёжного посёлка Вдовино и курортного городка Кисловодска, где не было таких гигантских заводов, здесь было сосредоточено 24 огромных завода! Сердце моё распирала гордость за нашу Россию. Вечерами, стоя на горе, любил наблюдать жизнь заводов. Чёрные шлейфы дымов, сполохи огня металла доменных, мартеновских и бессемеровских печей, вагранок, гудки маневренных паровозов. Я думал:
— «Какая силища сосредоточена в Липецке! Сколько заводов, сколько бомбардировщиков! Да этот город стоит целого государства! Липецк честный город-труженик, город современных заводов, город мощи России! И я теперь, после учёбы вольюсь в ряды строителей коммунизма!»
Это было наивно, но я продолжал быть патриотом страны, несмотря на то, что уже не раз узнавал о ней другую правду от некоторых взрослых людей. За два с половиной года полюбил Липецк. Как ни странно, но воздух здесь, у техникума, был всегда чист. Видно, что ветер всегда относил дым в сторону от города. И зелени там было много, и вода в реке в то время ещё была чистая, не раз рыбачили. Климат сухой, зимой снег и морозы, всё мне нравилось здесь! В свободные дни мы с Камыниным Сашкой излазили заброшенный собор с высоченной колокольней, который находился рядом. С колокольни при хорошей погоде получались отличные обзорные снимки города. Только страшно было карабкаться по полуистлевшим деревянным ступеням лестницы.
Из преподавателей запомнился директор техникума Зеленцов. Он вёл технологию металлов и металловедение. Вечно улыбающийся Барышев преподавал высшую математику, техническую механику и теханализ. Хромой Окутин вёл технологию литейного производства, конструкцию и расчёт печей и сушил, а также мехоборудование литейных цехов.
Все любили Барышева. В потёртом синем костюме, всегда красный и возбуждённый, он с увлечением выводил на доске, не заглядывая в учебник, длиннющие формулы высшей математики и механики. Это был прекрасно знающий своё дело специалист, но у него была слабость: он всегда был «подшофе». Во время урока он исчезал несколько раз куда-то на 2—3 минуты. Приходил опять ещё более возбуждённый, с весёлыми и горящими глазами. Мы уж потом узнали, что он выбегал в рядом находившуюся лабораторию, где его уже ждал друг-лаборант с мензуркой спирта. Зайдёт энергично, пригубив спирта и повеселев, глянет озорно на нас:
— Ну что-с? Продолжим-ссс. На каком интегральчике-ссс мы остано-вились?
И начинал размашисто писать на доске, всё усложнять и усложнять бесконечные ряды цифр:
— Итак-с… двойной интегральчик-ссс. Так, так-ссс. А теперь, тройной. И дальше… фигурный интегральчик-ссс. И вот он, наконец, … голубчик — квадратный интегралец!
Мы все давно уже не записываем, а весело хохочем — разве мысленно такое запомнить! А Барышев шпарит и шпарит, в азарте ломая мел и, наконец, победно ставит точку! Весь класс, не скрывая восхищения, встаёт и аплодирует!
— Ну, ну! — успокаивает он.
— Через месяц вы сами будете так выводить!
И закуривает, смеясь. Барышева так и звали — «интегральчик».
Подшучивали мы и над профессором Окутиным. Он всегда был с тростью в руке, припадающим на одну ногу. Его вихрастая, «тыковкой головка», хромая нога и были предметом насмешек студентов. Ему дали прозвище — «француз с рязанской мордой» и сочинили стих:
Ты постой, погоди! Отец Окутин впереди! Обрати своё вниманье на изгиб его ноги!
В мастерских техникума мы ежедневно слесарничали по два часа. Делали ушки для дверей, навесы, ключи, несложные инструменты. Стоять за верстаком и выделывать кропотливо, выпиливать, швабрить на тисках — мне было тяжело и нудно. Это было не моё. Ничего не получалось, металл мне не давался. А вот рядом стоит белозубый, с вечной улыбкой Ковалёв или спокойный «медведь» Герасимов: у них из рук выходят настоящие, как фабричные, изделия. А у меня какие-то каракатицы!
Все руки у меня содраны, в синяках, ногти обломаны, одежда запачкана. И задерживаюсь в цехе дольше всех, а больше тройки за свои петли для дверей не получаю! Думаю:
— «Обидно! Почему я такой неумелый? Что за чёрт? Ведь всё детство прошло в труде! Правда, там было всё другое. Труд, тяжкий труд в поле, лесу, на огороде, дома. Никогда ничего подобного не мастерил, кроме скворечников».
В соседней комнате через стенку жила самая интересная пара ребят в техникуме: Желтобрюхов (на втором курсе он изменит фамилию, станет Меньшик) и Лушин. Первый — чистый Высоцкий, которого увижу по телевизору через двадцать лет. Как увидел тогда Высоцкого, сразу вздрогнул — не мой ли это товарищ из техникума? Волевая челюсть, короткий ёжик волос, густой бас, он постоянно не расставался с гитарой. Этот человек был невероятно похож на знаменитого певца, поэта, великого гражданина Высоцкого!
Лушин — длинный, нескладный, с крашеными охрой волосами «в стиле». Всю одежду он себе сам изготовил. Шил, перелицовывал, красил. Ярко-синие узкие брюки «дудочкой», жёлтая рубашка, пёстрый длинный галстук, ярко-красный пиджак, красные туфли на толстенной подошве: это был настоящий «стиляга»! Думаю, что даже московские тогдашние стиляги позавидовали бы ему! Но самое главное, он принципиально выделялся из всех! Был невозмутим, спокоен, знал себе цену, ни перед кем не преклонялся! Сколько над ним не смеялись, сколько не разбирали на собраниях и не рисовали в стенгазетах, всё бесполезно! Всех он, видно, в душе презирал и «не терял марку», держался независимо! Для меня это был пример для подражания. Я бы никогда не мог так себя вести, с вызовом всем! И втайне завидовал его силе духа!
До глубокой ночи через стену слышна гитара Желтобрюхова и его низкий бас. А Лушин с приёмником «Турист» в другом углу слушает заграничные джазы. Мы тоже слушаем их концерты до часу, двух ночи. Только благодаря Желтобрюхову решаю тоже купить гитару и научиться на ней играть.
Так прошла эта зима. Курс успешно закончен и я еду в поезде на третьей полке домой. Проскользнул без билета, так как на последние копейки купил десяток виниловых пластинок матери. Она, как и я, очень любила наши русские песни. А перед этим, наконец, купил гитару за 12 рублей. До самго дома пролежал на третьей полке эти полтора суток, голодный, и только раз ночью встал в туалет. Соседи по купе, видно, поняли, что я бедный студент и один раз спасли меня от контролёра. Кто-то сказал:
— Контролёр идёт! Студент, прижмись и подожми ноги! Мы тебя укроем одеялом и закроем сумками!
Я был несказанно благодарен людям.
И вот он мой город! Наконец-то! Как соскучился, истосковался. Сколько мечтал об одном и том же. По приезду в родной город подкатить на такси прямо с вокзала на улицу Овражную и «поразить» всех: студент приехал, да ещё на такси! Замысел не удался — в кармане ни гроша. За эти полтора суток даже ни разу не поел.
Все удивились, увидев меня. Уехал карликом, а приехал высоким, стройным парнем. Особенно радовался Филипп Васильевич. Приходя с работы навеселе, он шутил надо мной и всё пытался дотянуться, поднимаясь на цыпочки:
— Смотри, матр! Какой дылда наш сын стал! Вымахал. Не то, что я, шпентик! Ставь мне бутылку за сына! Это я надоумил его отправить в Липецк! Знать, климат ему пришёлся тот, что в рост пошёл!
Я ходил, как именинник! Родные, соседи, знакомые, кто был в городе из одноклассников — все поздравляли меня со студенчеством, а, главное, поражались моему росту.
Встретившись с Мишкой Скворенко, мы подружились ещё больше. Ростом сравнялся с ним, и он теперь все вечера проводил со мной. К тому же авторитет добавляла моя учёба в техникуме и привезённый фотоаппарат и гитара. Мишка работал штукатуром и у него водились деньги. Он частенько брал бутылку водки за 2 рубля 35 копеек, и мы втроём с Филиппом Васильевичем распивали её. Нам с Мишкой стакан, который мы распивали пополам, как когда-то слойку, а Филиппу остальное. Выпив, начинали бренчать на гитаре и петь блатные песни. Так и осталась с той счастливой поры одна фотография. Автоспуск моей «Смены» зафиксировал нас — молодых, весёлых, счастливых. Сидим в комнате на диване. Я наливаю из бутылки в Мишкин стакан водку, а он с улыбочкой держит гитару.
Подружился в это лето и с Валеркой Омиадзе. Он был внук Кульбинской Дарьи, родной тётки моей матери. Такого же высокого роста, красивый, чернявый, Валерка был тихим, скромным, выдержанным. Он мне понравился сразу же своей простотой, общительностью, щедростью. У него всегда можно было хорошо поесть. Мать его работала шеф-поваром и жили они по тем временам зажиточно. С Валеркой мы играли в шахматы и это объединяло нас. Играл он немного лучше меня, но я был напорист, задирист и не хотел уступать ему ни на йоту. Подружились мы с ним ещё больше после моей службы в армии. Но на этот раз нас объединила любовь к бегу на длинные дистанции. Валеркина бабка Дарья — маленькая, сухая, приветливая старушка, из тех, кого долгие десятки лет после смерти вспоминаешь с теплотой за доброту, простоту, отзывчивость. Меня она любила и уважала, старалась всегда вкусно по-кормить, расспрашивала о матери, о нашей прежней жизни, радовалась нашей дружбе с Валеркой. Как она любила Валерку! Побольше бы таких старушек! Провожая нас купаться на озеро, она всякий раз забавно кричала вслед:
— Валера! Не ходил бы ты на озеро! Смотри, утонешь, не приходи тогда домой!
Мы весело хохочем над заботливой старушкой. Но особенно мне запомнились наши беседы с бабкой Дарьей о политике. Она всякий раз меня просила что-нибудь рассказать о многообразии мира, о разных народах и странах. Особенно любил пугать забавную старушку атомной бомбой, нагоняя на неё страху:
— Бабушка! Вот если американцы долетят до нас и сбросят всего одну атомную бомбу, то Кисловодска не будет! Всё будет разрушено и сожжено! А если сбросят водородную бомбу, то всё будет уничтожено до самых Минвод!
Она смешно крестилась, ахая и охая, испуганно смотрела в небо и приговаривала:
— Дай-то Бог мне помереть спокойно и не видеть такого ада!
Её слова оправдались через восемь лет.
Иногда в это лето я заходил и к Беляевым. Семён Иванович (их отчим) — седой, благородный, интеллигентный человек, увидев меня, всегда радовался. Приветливо встречал, прекращал работу, закуривал, расспрашивал, сокрушался:
— Ну почему наши ребята не такие? Бандитами растут. Не знаю, что с ними делать. Уж и говорить, воспитывать устали с матерью. И битьём ничего не добились! Хоть бы ты, Коля, их вразумил делом настоящим заняться. Мы с матерью день и ночь горбатимся, а им, жеребцам, хоть бы что — не хотят ни учиться, ни работать! Пропадут…
Приходили Федька и Володька и ко мне на Овражную со своим баяном. Сразу становилось шумно и весело. Баян залихватски гремел, заливался на всю улицу. Это-то только и тянуло меня к Беляевым. Ни на какие проделки я уже не соглашался. Дружеские отношения с Беляевыми у меня сохранились ещё лет на пять. Но затем, когда пришёл из армии и всерьёз занялся спортом, я их резко прервал. Начал презирать Беляевых за такую их жизнь: пьянство, тунеядство, воровство, разбой, тюрьмы. Полностью прекратил отношения с ними на всю оставшуюся жизнь.
Глава 54. Техникум
Бабка Шубиха в это лето осточертела нам своими подлостями. Всё время сверху прямо к нам во двор плевалась, ругалась, бурчала, кидала ночью мусор, подло и мстительно вела по отношению к нам. За что? Неизвестно. Вечно пьяный её брат — инвалид Протас, гулко катался по веранде и матерился с ней. В общем, жизнь шла своим чередом.
Произошедшее одно событие окончательно обозлило всех нас по отношению к подлой бабке. Неожиданно в саду засохла «Виноградка» — единственная наша великолепная яблоня, которая всегда была обсыпана крупными, сладкими, красными плодами. Мы страшно огорчились, ведь только один год попользовались ею. Начали выяснять причину. Чуть раскопали грунт около ствола яблони — резко запахло керосином и мочой! И чем глубже, тем больше этой адской смеси! Оказывается, бабка Шубиха, выждав, когда мы все уходили из дома по каким-то делам, перелазила через невысокий забор (всего-то полметра!) в наш сад и, проткнув ломом несколько отверстий в грунте под яблоней, заливала в них эту адскую смесь с кипятком в придачу.
Подлости человеческой нет предела! Клин вышибают клином! Я решил проучить проклятую старуху-ведьму!
Выждав, когда родителей не было дома, так начал грозить бабке, матерился самыми «отборными словами», хватал камни, якобы намереваясь разбить стёкла веранды, показывал ей такие непристойные жесты, что она стала бояться меня.
С тех пор, как только показывалась на веранде бабка, сразу первый начинал грозить ей и материться. Она исчезала в глубине комнат. Филиппу Васильевичу это нравилось:
— Молодец, Николай! Хоть ты нас защитил от этой сучки! Сколько раз этой зимой писали участковому, подавали в товарищеский суд, всё бесполезно! Всю мочу свою, весь мусор бросает к нам во двор ночами!
Мать же говорила:
— Не даст эта злая ведьма нам спокойной жизни! Как уедешь, опять начнёт портить нам жизнь! Надо уговаривать Старкова опять домами меняться! Тем более, он ещё с войны так и не отдал все деньги за родительский дом по Революции.
Чтобы как-то заработать, в это лето подрядился помогать деду Старкову косить сено на горе Кабан. Он был зажиточным: держал лошадь, корову, бычка, пару ослов, или ишаков, как у нас их называли. Эти покосы со Старковым запомнились мне на всю жизнь!
Внизу где-то был город, а здесь всё было дико и красиво. Мы три недели жили в шалаше, готовили еду на костре, вставали чуть свет по росе и работали до изнеможения. Трава выше пояса напоминала мне об Уголках. Вечера холодные, комаров нет, небо всегда чистое и звёздное, только этим и отличались эти места от Вдовинских.
Буйное разнотравье, сотни перепёлок и жаворонков, буйные краски горного лета и пьянящий чистый хрустальный воздух — всё восхищало меня! Забывал всё на свете, любуясь окрестностями. В минуты отдыха любил лежать на свежем сене и слушать бесконечные трели жаворонков в поднебесье. Они весело пели и взлетали, опускались вертикально в траву,
прославляя красоту и чистоту природы. А перепелов сколько было! Сколько гнёзд их встречали! Вылезешь из шалаша раненько, чуть забрезжил рассвет, пойдёшь по мокрой от росы траве. Жирные мокрые перепёлки тяжело взлетают из густой мокрой травы — прямо фуфайками их сбивали! Переворачивая, вороша сено, встречали десятки чёрных кавказских гадюк. Они клубком лежали под сырым холодным сеном и нехотя расползались. Старков надевал кирзовые сапоги и специально гонялся за змеями, давя их сапогами и протыкая вилами. Я как-то спрашиваю:
— Для чего вы это делаете? Противные они, конечно. Я их боюсь, но скоро пригреет и они расползутся. Жалко их всё равно. Они, что? Кусали вас?
— Коля! Я делаю богоугодное дело. Мы много грешим, а каждая змея снимает один грех. Я вот раненько утром, пока ты спал, установил рекорд. Тридцать три греха Господь сегодня с меня снял!
Лежим в недолгие минуты отдыха со Старковым на сене. Прямо над нами в любое время суток парят десятки орлов. Змеи для них — изысканное блюдо!
Идут мимо нас иногда охотники: на связках вокруг пояса и шеи всегда десятки перепелов.
А сейчас? Нет в тех местах ни высокой травы, ни перепелов, жаворонков, не встретишь орла или сорокопута. Редко, редко теперь прошуршит теперь ящерица, а тогда склоны гор просто кишели ими и змеями. Зато развелось масса сорок и ворон — верных признаков замусоренности города и окрестностей!
Куда всё это делось? И прошло-то всего полвека. Всё вымерло, всё исчезло, всё выродилось. Загрязнение воздуха от огромных химкомбинатов и автотранспорта, химизации полей, грубое нашествие человека на беззащитную природу не прошло даром. Это негативно отразилось на всём живом, что было в окрестностях некогда чистого провинциального городка у подножия Главного Кавказского хребта. Да и сам городок, насчитывающий в то время 30 тысяч жителей, стал городом с населением 150 тысяч человек. Это уже не курорт!
Спать в шалаше на сене и дышать хрустально-чистым горным воздухом огромное удовольствие! Сквозь сон ранним утром чувствую — уже встал Старков, так как запахло дымком. Он готовит кашу с тушёнкой и чай — свой любимый завтрак. Будит меня. С трудом просыпаюсь. Эх, беспечная молодость! Иду умываться к холодному ключу. Кстати, родники там в то время были чуть не на каждом шагу. А теперь это большая редкость. И родники перевёл человек!
Садимся завтракать. Старков достаёт из ящика свою ежедневную бутылку с синей жидкостью, на этикетке которой нарисован череп и кости. Крупными буквами написано:
«Денатурат. Пить нельзя — яд»!
Я первое время его спрашивал:
— Что вы делаете? Будете пить эту гадость? Ведь написано же, что это яд! Отравитесь же!
Но Старков весело подмигивает мне:
— Мало ли чего напишут неразумные люди? Ты сам попробуй! Великолепная жидкость! Лучше водки! И стоит-то всего шестьдесят пять копеек!
Он наливает полстакана фиолетовой жидкости, разбавляет её наполовину водой — напиток пенится и становится белым. Выпивает и крякает от удовольствия:
— Хороша дьявольски «Динка» с голубыми глазами!
За завтраком выпивает ещё полстакана «динки». В обед и ужин он уже доканывает бутылку — и так за покос ящик пустеет. Много раз он приглашал меня тоже выпить «динку с голубыми глазами». Один раз я согласился. Ужас! Керосином воняет, язык одеревенел и стал, как намыленный. А крепкая какая! Так шибануло в голову, что я отупел!
Удивительно крепкий был старик! За три недели покоса выпил двадцать бутылок яда — денатурата, и хоть бы что!
В начале августа приехал из армии в отпуск Шурка. Радости нашей не было предела! Шурка возмужал. Много разговоров о службе. Я с интересом его слушаю, скоро и мне идти в армию. Перед отъездом мы все решили сфотографироваться. На Пятачке, в центре города у знаменитого фонтана с лягушками, изрыгающими струи воды, запечатлены мы все навечно. В центре Шурка в гражданской одежде, подпоясанный военным ремнём с медной бляхой. Счастливая молодая мать в пёстром платье и сумочкой в одной руке, и трёхлетним прелестным Серёжкой в другой. Пьяный Пастухов с закрытыми глазами стоит в соломенной шляпе. С недовольным заспанным лицом, в широченных штанах, почему-то расставив ноги, стою и я.
Второй курс у нас начался с полевых работ. На этот раз нам повезло — отправили под город Лебедянь собирать яблоки в совхоз «Агроном». Гигантский совхоз раскинулся более чем на шести тысяч гектар. И все они были засажены яблонями. Такого обилия яблок ещё не видел нигде! Ветви деревьев гнулись от крупных, до полу килограмма, жёлто-зелёных плодов знаменитой Антоновки. С одного дерева собирали пятьсот-шестьсот килограммов вкусных яблок! Ряды антоновки уходят в неизведанную даль, перемежаясь с рядами других сортов яблок. Полыхают «снегирями» ярко-красные продолговатые плоды пепина шафранного. К горизонту уходят ряды золотой китайки, московской грушовки, бельфлёра, гольден делишеса, джонатана и ренета золотого. Этим рядам не видно конца и края. В самом центре России такое обилие яблок! Я не переставал радоваться этой благодатной земле и одновременно сомневаться кое в чём, размышляя:
— «Вот какие люди живут здесь! Война только окончилась, а такие сады! Они что, их сажали до войны? Почему тогда немцы не разрушили все эти гигантские заводы и не уничтожили море яблок? Как это советские люди сберегли всё это? Видать, зениток было уйма и немецкие самолёты здорово сшибали здесь! Но почему здесь такие бедные деревни? Дома маленькие, завалящие, крыши соломенные, дороги никудышные, в магазинах ничего нет. У нас на Кавказе заводов таких нет, но люди живут на порядок лучше. И дома каменные, и дороги лучше, и в магазинах всё есть. Почему такая разница? Государство здесь сильное, а народ „слабый“, терпеливый. Никто о нём не заботится, все живут одним днём, и тому рады»!
Нас поместили в деревянных бараках. Длинные ряды столов, умывальников (труба с сосками), рядом туалет. Кормили неплохо. Особенно мне нравилось, что давали много душистого совхозного хлеба и молока. Лучшей еды для меня и не надо! Всех разбили по парам и дали чёткий план по сбору яблок — довольно большое задание. Кто хочет ещё и заработать, тот должен, выполнив план, во внеурочное время «пахать». Убираем яблоки мы с Сашкой Камыниным. Оба старательные, спешим, почти не отдыхаем, не разговариваем, не болтаемся без дела.
Учёт здесь строгий, не обманешь. Между рядами постоянно ездит на бедарке, запряженной лошадью, учётчик. Он забирает полные ящики и привозит пустые. Дни стоят солнечные и тёплые. Безветренно и тихо. Ароматный запах яблок пьянит душу, радует сердце. В первые же дни объелись сочными вкусными плодами. В саду крики, веселье, шутки, кидаются яблоками — молодость берёт своё! Сашка наставляет меня:
— Колька! Не отвлекайся! Пусть бездельники носятся. Мы должны себя показать! Надо заработать! Хорошо поработаем, купим костюмы и по «лондонке»! Они очень дорогие! Я не видел, чтобы в техникуме у кого-нибудь были такие кепки!
«Лондонка» — модная кепка из немнущейся серой толстой ткани с мягким резиновым козырьком, обтянутым ей же. Они только начали появляться тогда, и молодёжь сходила с ума по ним. Сразу скажу, мы всё таки купили эти блатные кепки, но не успели как следует их поносить. Их с нас сорвала банда сорванцов. Но об этом позже. Мы уже привыкли друг к другу, подружились. Вечерами особенно нечего делать. Здесь бригада, а центральная усадьба в шести-восьми километрах. Многие ходят туда на танцы, а мы с Камыниным не умеем танцевать, да и не хотим учиться. Знал бы я в то время, как полюблю впоследствии быстрые танцы!
Вечерами лежим на койках, отдыхаем. В комнатах человек по двадцать. Читаем, разговариваем, спорим, шутим, хохочем, рассказываем анекдоты. Перед тем, как ложиться спать, надо выключить свет, а никто не хочет покидать тёплую постель. Начинается метание, чем попадя, в выключатель. В ход идут шапки, тапки, а то и сапоги. В темноте долго никак все не могут угомониться. То и дело слышен хохот, крик, визг:
— Спичку!
Соседом услужливо зажигается спичка и подносится к голому заду очередного шутника. Синее пламя сжигает тухлый газ. У некоторых он со звуком, бывает короткий и быстрый, а у других синее пламя распластывается на всю спину и опаляет волосы на затылке. Шутник орёт, а вся комната грохочет от удовольствия.
Все ждут «рекордсмена» Ковалёва. Он долго копит газы и молчит. Все уже выдохлись и кричат ему:
— Ну, давай же! Что-то ты сегодня задержался. Неужели мало пил молока и нет «запасов»?
Вот он откидывает одеяло — несколько спичек мгновенно сразу зажигаются и подносятся к «выходному отверстию». Ковалёв очень экономен и не спешит тратить сразу весь «заряд хлебного душка». Короткими отрывистыми толчками выпускает «запасы»:
— Пук, пук, пук!
— отчётливо слышен звук. Все хором считают:
— Раз, два… десять… двадцать… тридцать!
Это новый «мировой рекорд»! Комната стонет от хохота. Все эти шутки, дурачества как-то скрашивали нашу жизнь в глухом отделении совхоза вдали от людей и цивилизации.
Зарядили дожди. Яблок было ещё видимо-невидимо и нам продлили ещё на месяц помощь совхозу. В нашей комнате дружно. Ребята подобрались не задиристые, любителей выпить нет. У двоих гитары — у Желтобрюхова и Томашевского. Я свою не взял, так как ещё не научился играть. Желтобрюхов (повторяюсь, вскоре сменил фамилию на Меньшик) мне нравился добропорядочностью, спокойствием, уверенностью в себе и надёжностью в дружбе. Но по-настоящему он дружил только со стилягой Лушиным. Ударит по струнам, склонив ёжик волос на крупной голове и, вперив взгляд в одну точку на полу, затянет низким басом:
Где-нибудь под небом Еревана, вас ласкает кто-нибудь другой. Не пишите писем мне, не надо. Я хочу, чтоб ты была со мной…
Его мощный бас и громкие мерные аккорды сразу собирают всех в кучу к нему. Волевое, с большим подбородком лицо, зычный голос, решительные манеры — всё мне нравится. Дьявольски он похож на Высоцкого! И одного года рождения с ним! А он уже выводит потише, потоньше, нежнее:
Как у этой проводницы шелковистые ресницы
Ты мне долго будешь сниться — проводница, проводница.
Мы молча слушаем, думая каждый о своём. Я размышляю:
— «Да! С Нинкой Суворовой у меня не получилось. Я, конечно, виноват. Опростоволосился. Но можно и надо было быть проще! Не усложнять ситуацию! Просто и понятно объяснится, но я испугался. Но всё-таки в ней было что-то не то уже. Нет! После такого позора не имеет смысла её искать! Она раскусила меня и презирает, насмехается, небось! Нет и нет! К старому возврата не будет»!
На том и успокаиваюсь. Думаю теперь о Лидке Зайцевой — соседке по улице Овражной. — Красивая, гибкая! Талия, как у осы! Белокурая, голубоглазая, только на меня не обращает внимания! Надо, как приеду опять в Кисловодск, быть напористей! Самому подойти первому! Вот это девчонка! А какие глаза большие, брови дугой, алые губки, ресницы.
А гитарист, как назло, бередит душу:
Ничего не говорили мы — всё стояли у окна. И вина с тобой не пили мы — были пьяны без вина. Ах, если б знал, что так получится — я б не дал тебе уйти. Где же ты — моя попутчица? Разошлись с тобой пути…
Желтобрюхов поёт только любовные, нежные песни, берущие за душу. Сколько не проси спеть его другие песни, в первую очередь блатные, которые мы все любили тогда, он ни за что петь не будет!
Вот он устал, отдыхает. Гитару берёт Томашевский — задорный, худой и высокий, вихрастый земляк мой из Невинномыска. Он раздольно, всегда стоя и с колена, ударяет по струнам и, скалясь, задорно баритоном начинает:
Эх, загулял, загулял, парень да молодой. В красной рубашоночке, хорошенький такой!
Особенно хорошо у него получается «Цыганочка». Играет он, пожалуй, лучше Желтобрюхова, но поёт похуже. Я всё время кручусь около Томашевского: он учит меня брать аккорды, играть на гитаре. Многие подсмеиваются надо мной, но я упорно учусь и не обращаю внимания на шутки. А как хочется научиться играть так, как Томашевский!
В один из долгих тёмных вечеров в комнату ворвался в разодранной одежде окровавленный Ельцов. Истерически закричал:
— Наших бьют!
Все вскочили, загудели, расспрашивая. Подошли ещё четверо избитых дружков Ельцова. Заматерились, засобирались, выкрикивая воинственные призывы:
— Ребята! Все идём в совхоз на центральную усадьбу! Защитим себя от деревенских! Все до одного драться!
Идти в ночь куда-то, да ещё драться страшно не хочется. Кое-кто не реагирует. Начинаются угрозы:
— А ты чего лежишь? Долой предателей! Попробуй, не пойди! Приедем в Липецк, с тобой там ребята наши быстро поговорят, научат уму-разуму!
Все подчиняются забиякам. Идём толпой, меся грязь, падая, ругаясь и проклиная темноту, деревенских и в душе — ельцовских! У крайних домов центральной усадьбы по команде «ельцовской дружины» начинаем вооружаться. Выламываем колья, подбираем палки, камни. Камынин чуть отстаёт и даёт знак мне и Широкожухову:
— Ребята! Мы все трое тоже деревенские. За что их бить? Давайте договоримся, не драться ни с кем! Надо бы давно всем объединиться и дать отпор этой компании, а мы пляшем под их дудку! Хрен им! Не дадим им втянуть нас в свои дела! Они везде заедаются, вот кто-то им и накостылял по шее. И правильно сделали деревенские!
Потихоньку отстаём — в темноте не видно. Где-то впереди отчаянно забрехали собаки.
Кто-то закричал, донёсся звон разбитого стекла, истошно заголосила баба:
— Убивают!
Деревня вмиг проснулась — кто-то тревожно застучал по рельсу. Отовсюду бежали, перекликаясь, люди. Невдалеке грохнул выстрел. А мы были уже далеко.
Через час, другой к нам в отделение приехали две машины с милиционерами. Всех построили и включили свет. Началось разбирательство. Практически всю ночь не спали. Несколько человек увезли и впоследствии исключили из техникума. Ельцов и на этот раз «вышел сухим из воды». Но ненадолго.
Глава 55. Тракторный завод
Уезжая из совхоза «Агроном», нам как-то было грустно. Успели привыкнуть и полюбить эти места. Нам с Сашкой Камыниным вынесли в приказе благодарность. Мы единственные, кто заработал больше всех — по четыре ящика крупной Антоновки! Все заработанные группой яблоки вёз в город специально выделенный грузовик. Семь ящиков яблок мы с Сашкой завезли на рынок и продали оптом какой-то торговке, а один ящик завезли в общежитие и спрятали под кровать. Долго в нашей комнате стоял вкусный запах, напоминая нам о совхозе «Агроном»! Да ещё осталась память о щедром совхозе в виде двух любительских фотографий, сделанных моей «Сменой». На одной стою среди гроздьев яблок (как виноград!) в кепочке — молодой, улыбающийся. На другой, сделанной в пасмурный день, стоим с Сашкой в телогрейках и сапогах среди рядов яблонь — усталые, угрюмые.
Учёба на втором курсе пошла теперь веселее. Всё тот же любимый Барышев с шуточками «крутил» длиннющие формулы, но теперь по теоретической механике. Также «угнетала» практика по слесарному делу в цехах. Радовали ежедневные спевки после занятий в актовом зале техникума, так как я любил песни.
Помню, преподаватель разучивает песню, объясняет нам, как петь. Был у нас один дотошный студент Быков — лысеющий, отслуживший в армии. Он вечно ходил в галифе и гимнастёрке. На уроках, бывало, Быков больше всех расспрашивал, требовал повторить, уточнить и т. д. И на спевке Быков обязательно поднимет руку, встанет:
— Вы знаете? А вот здесь по-моему, надо так петь.
И невозмутимо, сам себе дирижируя, затягивал дребезжащим «козлиным» голосом:
А рассвет уже всё заметнее. Так, пожалуйста, будь добра…
Мы хихикаем, подшучиваем. А меня всегда поражало. Как это, вот так — встать посреди зала и, никого не стесняясь, петь песню без баяна и без голоса.
Иногда по вечерам мы ходили с повязками дружинника по городу — хулиганья здесь было много. Парк рядом, ежедневно танцы. Подходишь, издали всегда слышна тогда очень популярная «Маленькая Мари»:
Мари не может стряпать и стирать — зато умеет петь и танцевать! Любой костюм на ней хорош — пусть он стоит всего грош!
Сотни глупостей больших — ради неё ты совершишь!
На танцплощадке постоянно вспыхивали драки, хотя всегда находились рядом два милиционера. На танцы мы с Сашкой и Лёшкой не ходили, хотя и надо было уже приобщаться. Где же больше познакомиться с девушкой? Почти все ребята из группы уже встречались, только у нас троих не было девчонок. Более того! Красавчик Самохин, Щептев, Герасимов, Панин, Семёнов уже хвалились «мужскими победами». Нам же было далеко до этого! Камынин принципиально не хотел этого, Широкожухов был прост по-деревенски и не стремился к этому. Я же всего этого хотел, но боялся неизведанного.
Зато мы втроём много гуляли по парку и фотографировались среди старых, ещё Петровских пушек. Часто ходили в кино, по городу, на реку, полюбили футбол и болели за местную команду «Металлург», пролезая через забор без билетов на её матчи. Денег не хватало, жили впроголодь. На стипендию надо было кормиться, учиться, одеваться и проводить досуг. За все три года мать с Филиппом ни разу мне не помогли, не прислали ни рубля, ни посылки! Приходилось полагаться только на себя! Больше того, приезжая на каникулы домой, всегда привозил немудрящие подарки им, высылал кучи фотографий (а это всё надо купить — фотобумагу, проявитель, закрепитель), покупал для нашего патефона пластинки.
И без того всегда копейки экономишь, а тут ещё и обокрали меня! Как-то стоял в очереди за пластинками. Только подошла очередь, полез в задний карман спортивных трикотажных брюк — пусто! Кто-то вытащил огромную для меня сумму — сто рублей одной бумажкой (10 руб. по-новому). Я, как ошпаренный, выскочил из очереди, ошалело оглядывал всех:
— «Какой-то мерзавец стоит здесь же. Что делать? Заорать? Милицию позвать? Но они не будут же всех обыскивать. Бесполезно всё это. Пусть подавится моей нищей копейкой этот негодяй»!
Ушёл молча. На душе противно:
— «Как жить дальше? До стипендии ещё далеко. Что-то надо делать»,
А жил я на семь рублей в сутки (70 коп.). Утром чай с одним кусочком сахара и хлеба, обед — щи б/м и макароны, вечером чай с сырком плавленым «Дружба».
Пошёл сдавать кровь. Говорили, что хорошо платят, кормят и два дня отдыха положено. У меня вторая группа крови. Операция сдачи крови несложная. На месте сгиба локтевого сустава прокалывают вену и тоненькой трубочкой — шприцом откачивают кровь. Лежишь, только пальцы рук сжимаешь, разжимаешь. Немножко неприятно — концы пальцев слегка покалывает и голова чуть кружится. Медсестра, увидев меня, сказала:
— Зачем тебе это? Худющий какой. В тебя надо вливать кровь, а не выливать. Бедолага ты. Неужели тебе так нужны для безделья эти два дня?
Я промолчал. Да и что было отвечать и к чему? Деньги мне нужны! Не с голоду же помирать! Я и сам был против этого донорства, так как ходил вечно голодный. Понимал, что при таком питании, да ещё отдавать кровь? Часто раздумывал:
— «Что за жизнь? Для чего мы живём? Вот мне уже двадцать лет, а я всё голодаю. Всё практически детство прошло в голоде и сейчас. Когда это кончится? Когда наемся до отвала»?
В первый раз сдал всего двести граммов крови. Заплатили сто рублей (10 руб.), вволю наелся хлеба и напился сладкого чая. За время учёбы в техникуме было несколько таких критических моментов, когда выручала сдача крови. Всего сдал два килограмма шестьсот граммов своей кровушки. Ходили мы чуть не ежедневно и на железнодорожную станцию разгружать вагоны по ночам. Но там таких… сотни! Огромная очередь студентов из всех институтов и техникумов. У большинства знакомые, блат и нам очень редко доставалась работа. Разгружали вагоны в основном с углём, огнеупорной глиной, кирпичом, песком, щебнем. Расплачивались на месте. В основном перепадали крохи.
Как-то втроём забрели на кондитерскую фабрику. Нам повезло — дали разгрузить полную машину с мукой. Мы быстро перетаскали мешки и нам дали по одному рублю на брата, насыпали полную шапку сырых яиц и какой-то засранец поднес бутылку с мутной жидкостью, сказав, что это не крепкий спирт. Мы хватанули по три-четыре больших глотка обжигающей жидкости! Глаза налились слезами, перехватило дыхание, помутилось сознание. Крепость необычайная! Начали спешно разбивать и есть сырые яйца. Что это было, не знаю, но, пожалуй, даже крепче Старковской «динки с голубыми глазами»!
Мы отупели, не могли даже двигаться и валялись на земле около какого-то цеха. Подходившие рабочие смеялись над нами. Только через два-три часа чуть отошли и еле добрались до трамвайной остановки.
Я получил письмо с фотографией от дяди Васи. На фото он сидит с приёмной дочерью за столом и раскрашивает картинки. Наполовину облысевший, усталый, но выражение лица весёлое, настроение приподнятое. Ольга тоже улыбается. Но, видно, фотография была сделана ранее, за год-два до этого, так как содержание письма меня очень встревожило:
«22. 11 — 57 г. 4 ч. дня.
— «Дорогой Коля! Сообщаю, что сегодня день чудесный, мороз и солнце… как у Пушкина в стихах. Сам я расчёт получил, выплатили мне на билет 165 р. и зарплату 340 р., а куда ехать, не знаю. Выехать отсюда мне одному — это равносильно умереть. Женя в последние дни устроилась на работу зав. клубом. Оля сошлась с молодым человеком. Отсюда меня выталкивают. Сегодня разругался. Собираюсь выезжать, хотя очень болен — еле передвигаюсь после паралича. Где буду, сообщу»
Таких писем дядя Вася никогда не писал! Что-то случилось у него в новой семье! Я разволновался. Любимый дядя Вася в опасности. Как ему помочь? Лихорадочно соображаю:
— «Ах, это молодая жена Женя! Всё, видно, высосала из бедного дяди Васи, а теперь… И эта вертихвостка Оля! Уже замуж вышла! Она же младше меня. Недаром она в прошлые каникулы там, в Кисловодске, так бессовестно лезла ко мне, когда мы гуляли по вечерам в парке. Ну, сволочи, что делают с моим дядей! Как же ему помочь»?
Сел и написал сразу два письма на один адрес — г. Куйбышев ул. Бебеля 8. Одно дяде Васе, а другое его жене. Ей написал злое и сумбурное письмо с угрозами:
— Если вытолкните дядю Васю из квартиры и с ним что-нибудь случится, то знайте, я не прощу вам этого! Приеду в Куйбышев и убью обоих — и тебя, и твою дочь!
Дяде Васе написал:
— Дорогой дядя Вася! Прошу вас, умоляю, потерпите немного, не уезжайте оттуда! Я скоро закончу техникум, и мы вместе будем жить. В Кисловодск Вам тоже не имеет смысла ехать. Там Вас тоже вытолкают. У матери с отчимом «ежедневные концерты», а Вы спокойный, уравновешенный человек. Подождите! Когда мне дадут какой-нибудь город назначения после окончания техникума, там и будем вместе жить! Я буду всю жизнь помогать Вам, как Вы когда-то спасали нас от голодной смерти!
Не знаю, получил ли дядя Вася это письмо, так как связь с ним прервалась навечно.
В ноябре у нас была первая трёхнедельная практика на Липецком тракторном заводе. Завод оглушил меня своей мощью, размахом, громом и гарью, бешенным темпом конвейерной системы в гигантских километровых цехах. Издали, когда смотришь на завод, вроде благостная картинка. А наяву завод подавляет своими огромными пространствами, оглушает и уничтожает неподготовленного маленького человека. Многочисленные заводские проходные ежесуточно «выплёвывали» до шестидесяти тысяч рабочих. Отдельная человеческая личность в этом море была песчинкой. Только здесь мы начали по-настоящему понимать, на кого учимся. Какое огромное производство и что такое один человек со своими ничтожными мыслями перед этой махиной? Завод заставил себя уважать, а собственное «я» убежало куда-то в тёмный угол перед этим величием.
Мы ознакомились со всеми цехами. Сталь варили, разливали в основном в мартеновских печах, но уже были первые «бессемеровские», «томасовские» и электрические скоростные печи. Гигантские цеха — механические, заготовок и сборочные были ещё не столь грязны и шумны, как чугунолитейный, куда нас поставили прямо на рабочее место. Небольшие печи вагранки (высотой всё равно приличной — с четырёхэтажный дом!), изрыгали расплавленный чугун в десятитонные ковши. Мостовые краны разливали его в непрерывно двигающиеся по конвейеру опоки.
Мы практиковались несколько дней в стержневом отделении чугунолитейного цеха, в обрубочном, в формовочном и землеприготовительном — самом грязном, пыльном, шумном, с десятками транспортёров.
Неизгладимое впечатление оставил на всю жизнь участок очистки литья, где мы еле выдержали на рабочем месте неделю! Нас, троих друзей, поставили на небольшую площадку, сваренную из толстых металлических стержней «решёткой», над которой ходил по изогнутому швеллеру тельфер — небольшой кран с крючком, управляемый переносной, в руках, кнопкой. Снизу по длинному подземному тоннелю-коридору двигался грохочущий конвейер, на котором находились огнедышащие, только что залитые расплавленным чугуном, опоки. Они были жёстко прикреплены к металлической ленте конвейера на расстоянии четырёх-пяти метров.
Опоки представляют собой две металлические ёмкости, одна над другой жёстко скрепленные скобками. По размеру опоки раз в пять больше ящика для бутылок. В них формуются будущие детали трактора — отливки. В двух половинках опоки, по так называемой «модели» (из дерева, алюминия), т. е. копии будущей детали, формуются (утрамбовываются на специальных стан-ках) в особой земле (смесь песка, глины, огнеупорных добавок и масел) две половинки будущей детали трактора или танка, как было в основном тогда. После того, как модели в формовочном отделении утрамбовали, их вынимают из обеих половинок и накрывают нижнюю половинку верхней. По центру скрепляют специальными тяжёлыми (чтобы не прорвался металл) чугунными скобами. Внутрь образовавшейся пустоты — контура будущей детали, через специальное отверстие — литник, заливается из ковша расплавленный чугун или сталь. Металл заполняет в опоках пустоту и, остывая, образует будущую деталь.
Из всех щелей по контуру и верху опоки вырываются языки пламени, клубами валит чёрный дым (выгорает масло из смеси формовочной земли). Довольно страшное зрелище, когда из тоннеля на вас медленно надвигается бесконечный ряд «танков Гудериана», как мы прозвали это явление! Наша задача состояла в том, чтобы достойно встретить эти огнедышащие «танковые колонны». Быстренько сбить скобы (а их четыре, по две с обеих сторон конвейера). Затем ухватить тельфером обе половинки опоки (т. е. распалубить) и кинуть на постоянно грохочущую подвижную решётку (это самое страшное — тучи пыли, грязи огня и дыма). И, наконец, подхватить, отбросить пустые опоки на один конвейер, а отливку на другой. Это напоминало поле сражения! Конвейер никогда не останавливался! Из длинного тоннеля методично ползли по грохочущему конвейеру изрыгающие пламя и дым тяжёлые, угрюмые квадратные «тигры немцев» и ничем их нельзя остановить!
Без рубашек, грязные, чёрные, потные — мы яростно кидались с криками под танки, то бишь… опоки. Надо было успеть быстро распалубить, бегом подхватить крючком раскалённую докрасна отливку, сбросить на сито — вибратор. После выбивки из неё земли и стержней, образующих в отливке отверстия, откинуть её на противоположный конвейер, по которому она шла в термообрубное отделение. Там у неё обрубался литник и она шла на обработку — пескоструйную очистку, механическую обработку, термозакаливание, старение и шлифовку. На этой площадке, как перед Ильёй Муромцем, сходились три дороги, три конвейера и надо было шустрить. А внизу, прямо под нами, была ещё одна дорога-конвейер, по которому уносилась раскалённая земля для нового цикла в землеприготовительном отделении. Там её очищали магнитообработкой от застывших капель металла, добавляли свежей присадочной земли, огнеупорные добавки и масла, увлажняли. Всё повторялось сначала. Это была адская работа!
В первый же день в перерыв к нам подошёл один рабочий и говорит:
— Вы студенты-практиканты? Сволочи всё-таки наши! Ведь эта площадка является «штрафным местом»! Сюда по очереди направляют заключённых, пьяниц и прогульщиков! Больше трёх-четырёх дней здесь никто не выдерживает. Вас то за что сюда поставили? Разве можно таких молоденьких сюда, в этот ад ставить? Ведь погубят вас! Откажитесь немедленно, пока не заболели. В этом цехе мало кто доживает до сорока лет! Зачем губить себя вам»?
А как отказаться? Ведь могут и из техникума выгнать. Мы решили терпеть. Пот заливал глаза, от раскалённых отливок чуть не лопались глаза, теперь они постоянно слезились. От горячей пыли и едких раскалённых газов сразу же нас стал непрерывно бить кашель до рвоты! К концу третьей смены от обезвоживания организма и усталости мы все трое упали в обморок. Придя в общежитие, мы по 30—40 минут стояли над умывальником — плевались, харкались. Лёгкие всё это время отторгали чёрную сажу, плевки!
Только теперь мы поняли, как тяжела профессия металлурга, как хрупок и не защищён человеческий организм в этих адских условиях работы.
В субботу, к концу этой бешеной недели, мы особенно долго стояли над рукомойниками. Харкались непрерывно чёрными ошмётками. Сашка Камынин, плюнув в сердцах, сказал:
— Нет! Я себе не враг! Куда я попал? Зачем мне эта проклятая профессия? Живём-то на свете один раз. Почему я должен жертвовать своим здоровьем? Для кого и для чего? Кто это оценит? Кремлёвские правители? Хрена два. Никому это не нужно. Всё! Закончу техникум, работать по этой профессии не буду! Лучше коров пойду пасти в свой колхоз! Баста!
Я тоже задумался над своим будущим. Ведь Сашка прав! В этот техникум пошёл по совету отчима. А ему…. лишь бы от нас избавиться.
Во время практики произошёл случай, надолго запомнившийся в жизни. Как-то поздней ночью мы возвращались со второй смены. Нас шестеро студентов. Смена заканчивалась в одиннадцать вечера. Пока принимали душ, чуть отдохнули, оделись, уже первый час ночи. Трамваи не ходят. Через весь город Ново-Липецк, где располагался тракторный завод, идём к мосту через реку. Прошли благополучно. И вот уже идём, переговариваемся, по тихим безлюдным улицам старой части города. Вдруг из тёмного провала подворотни раздался властный крик:
— Стойте!
Сразу же появился коренастый мужик, ставший посередине дороги. Мы было замолкли и приостановились, но видя, что он один, начали проходить мимо. Он неожиданно резко отпрыгнул — в руке тускло блеснул пистолет. Зарычал хрипло и яростно:
— Стоять, мать вашу так! Перестреляю, как котят!
От такого оборота событий все онемели и остановились. Мужик медленно обошёл всех, подсвечивая наши лица маленьким фонариком и внимательно заглядывая в лица. От наведённого в лицо пистолета было страшно — он заставлял дрожать и холодеть всё тело. Обойдя всех, бандит, видно, не нашёл в нас чего-то или кого-то. Обмяк:
— Ладно, идите!
Сколько же на свете сволочных людей! Долго мы потом обсуждали это событие.
Глава 56. Первые встречи
Во втором полугодии четвёртого курса всю нашу группу переселили на самый комфортный — второй этаж общежития. На этаже была кухня, где по вечерам мы теперь жарили картошку, которую Лёшке Широкожухову привозила из деревни сестра Маша. Жили мы теперь в комнатах по двое. Мы с Лёшкой, рядом Камынин Сашка с Поповым — белесым, балоболистым парнем с бельмом на глазу. По другую сторону перегородки жили стиляга Лушин и Меньшик, так что мы «имели возможность» до двух, трёх часов ночи слушать джазы и «Голос Америки». Периодически приглушался звук приёмника и начинались песни Меньшика под гитару — это были вкусы и увлечения этих друзей. Здесь же жили Герасимов, Огурцов, Семёнов, Щептев, Самохин, Панин, Быков, Ковалёв, Озеров и Томашевский.
По вечерам все любили собираться в Красном уголке. До хрипоты многократно прокручивали на проигрывателе популярный в то время «Цветущий май». Ежедневно звучала песня Владимира Трошина «Тишина» и Марка Бернеса — «Три года ты мне снилась».
Вообще, песни в то время были незабвенные: лирические, нежные, заставляющие грустить, страдать, переживать, думать. В настоящее время ничего подобного нет. Молодёжь не знает русских песен, а увлекается какой-то белибердой — иностранщиной, зачастую не понимая ни одного слова в этих бездумных и пустых песнях. А современная пошлая эстрада? Полуголые, в экзотических нарядах, длинноволосые (где парень, где девица?), кривляются, носятся по сцене, бессмысленно орут, чуть не проглатывая микрофон. Тьфу, пропасть! Дурачьё безмозглое! Только что: шум, визг, дым, свет мелькает — ни голосов, ни музыки, ни смысла! А ещё и хлопают им такие же олухи!
По вечерам у нас в Красном уголке сразу несколько гитар. В то время на гитарах играл, наверное, каждый третий-четвёртый студент. Красивый, чернявый Панин, помню, хорошо исполнял под гитару песню на манер итальянского танго:
Вечер, шумит у ног морской прибой. Грустный, иду один я к морю. Здесь мы, встречались каждый день с тобой. Ясен был простор голубой. Вернись — тебя любовь зовёт, вернись!
Одно твоё лишь слово, вернёт нам снова любовь и жизнь!
Ещё у него очень хорошо получалась песня-скороговорка «Мы на лыжах мчались рядом».
Все ждут Меньшика:
— Давай, «Голубое такси»!
Он начинает нашу любимую и все подхватывают:
Помню двор занесённый, снегом белым пушистым Ты стояла у дверцы голубого такси…
Пропев эту крайне лирическую и нежную песню, все замолкали. Сделав паузу, Меньшик склоняет ёжик волос к гитаре и зычно начинал:
Есть в Индийском океане остров. Название его Мадагаскар.
Мы дружно подхватываем хором:
Мадагаскар — страна моя.
Здесь, как и всюду, цветёт весна. Мы тоже люди. Мы тоже любим.
Хоть кожа чёрная у нас, но кровь чиста!
Пропев гордую песню о свободе, мужестве людей, отстаивающих её, не сразу успокаиваемся. Начинаются политические споры. Одобряем нашего руководителя государства Хрущёва, свергнувшего тирана Сталина. Почти у всех есть пострадавшие родственники. Устаём от серьёзных споров и, перед тем, как разойтись по комнатам, упрашиваем озорного Томашевского пропеть свои блатные песни «на закуску». Прищурившись, закурив сигарету, он начинает:
И вспоминая девичью красу,
Мне стыдно было ковырять себе в носу!
Все повеселели, хохочут, а он задорно бренчит на гитаре уже другую:
От чего-то плакала японка. Почему-то весел был моряк!
Теперь все хором упрашиваем:
— Давай свою «коронку»!
Томашевский не спеша закуривает следующую папиросу, стряхивает пепел, улыбается, трясёт своими кудрявыми вихрами и начинает озорно:
Ты подошла ко мне танцующей походкой. И тихо, тихо шепнула: «Ну, пойдём»!
А поздно вечером поила меня водкой. И овладела моим сердцем, как рублём.
Вообще, блатных песен в то время было не счесть и, скажу откровенно, молодёжь их любила. Многие просто бравировали ими. Ни одной компании не обходилось и без лагерных песен, которые мы тоже любили и пели. Время было, видно, такое: полстраны побывало в тюрьмах и лагерях! Почти в каждой семье были репрессированы по уголовным или политическим статьям деды, бабушки, отцы, матери, родственники. Сажали за каждую малость.
Я вспоминаю опять Вдовино… Женщины там отрабатывали бесплатно «барщину» на колхозных полях, не разгибаясь по шестнадцать часов. И вот, помню, на моих глазах был такой случай. Возвращались женщины с льняного поля. Уже в посёлке встречает их Калякин. Орёт:
— Расстегните фуфайки и кофты!
Подскочил к худющей Верке Маслаковой и выхватывает между сохлых грудей узелок со льном, несла она его голодным детям. Орёт, к коменданту повёл. Дали за два килограмма льна четыре года тюрьмы бедной женщине!
Вот такая была подлая власть «главного фашиста века» — Сталина!
Закончен четвёртый курс, и я еду к Лёшке Широкожухову в деревню — это недалеко от Липецка. Неделю живём в глухой деревушке. Лето. Тепло. Лопухи и крапива в их усадьбе напоминают мне о Вдовино. Вечера тихие; на дальней улице слышна постоянно гармошка — там танцы. Мы не ходим. Влюбляюсь в Лёшкину сестру Машу. Полноватая, простая, в ситцевом цветастом платье, немного косит одним глазом. Гуляем в тени огромных ив на берегу пруда. Фотографируемся в поле, лесу, в огороде. Отъедаемся молодой картошкой с молоком. Ходим под руку вечерами по тёмным улицам села втроём. Разговариваем, спорим, поём песни и частушки, читаем стихи. Мне кажется, что я тоже нравлюсь Маше. Остались на всю жизнь любительские фотографии с ней! Как она устроилась в жизни? Тоже пытался искать, но не было ответа. Через неделю уезжаем с Лёшкой теперь ко мне на Кавказ. Там напрочь забываю о Маше. Теперь не так истосковался по матери, друзьям и своему городу. Но всё равно приятно приехать в свой дом, где не был почти год.
Мать ежедневно готовит нам на завтрак молочную пшённую кашу. Лёшка каждое утро говорит, садясь за стол:
— Люблю кулеш!
Я передразниваю:
— Кулеш, кулеш! Какой кулеш? Это пшённая каша!
Но Лёшка стоит на своём. Мы с ним ещё больше сдружились и теперь не расстаёмся. Хороший парень! Душевный, простой, бесхитростный. Неделю показываю город, парк, горы; ходим на озеро купаться. После отъезда Лёшки включаюсь в домашние дела.
Произошёл случай, когда я, как никогда, был на грани жизни и смерти, но Бог опять меня спас. За городом, километрах в тридцати, есть посёлок Терезе. За ним далеко в горах кисловодчанам выделялась земля под посадку картофеля. У нас было десять соток. Филипп Васильевич объяснил мне, как найти наш участок. Поехал рано утром на автобусе. Тяпку обернул тряпкой. Затем пешком несколько километров в горы. Нашёл участки и бирку с надписью «Пастухов». У всех картошка давно подбита, а у нас заросла сорняками. Надо было прополоть, а затем окучить все десять соток. Для меня это мелочь! Я привык в Сибири к такому труду. Работаю, как одержимый. Прополол, и тут только дошло, что могу не справиться с заданием: не взял с собой ни воды, ни еды! И мать прохлопала! Жара. Пить и есть страшно хочется, но терплю. Изо всех сил работаю тяпкой. Уже невмоготу, падаю от усталости. Ободряю себя:
— «Ну, ещё чуть-чуть! Меньше двух соток окучивать осталось! Ну, потерпи! Выдержи! В Сибири бывало гораздо хуже! Давай, не распускай нюни»!
Голова кружится от голода. Солёный пот разъедает глаза. Наконец, уже вечером, закончил. Бегу с горы — успел на последний автобус. Мест нет. Стоять придётся все тридцать километров. Асфальта ещё не было, и автобус подпрыгивает на ухабах — мне плохо. Остановок много, едем медленно. Людей, как назло, много. Так и не удаётся присесть. Мне всё хуже и хуже. Думаю:
— «Когда это кончится? Только бы дотерпеть! Что со мной творится, не пойму»!
Показался, наконец, город. Перед глазами плывут круги. Сознание временами покидает меня, но я изо всех сил держусь за поручни, стараясь не завалиться на людей. На меня косятся. Наконец, как в полу тумане первая остановка — проспект Победы. Иду к выходу, теряя сознание. Последнее помню: из автобуса шагнул, выронив тяпку. Упал ничком в траву обочины. Откуда-то издалека донёсся злорадный женский голос:
— Ишь, как нализался, молодой сучок!
Пришёл в себя. На остановке равнодушно стояли, не обращая внимание на меня, несколько человек. Кое-как доплёлся домой. Три недели не вставал с постели. Сильнейшая ангина прихватила меня. Горло было красным — шла кровь. Сознание то приходило, то я проваливался куда-то. Стонал, метался. Иногда, как сквозь сон, слышал голос матери:
— Филипп! Что делать? Он умирает. Господи! За что мне такое наказание? В Сибири спасла детей, а здесь…
Надо мной постоянно бешено крутился потолок. То падал на меня, то взмывал вверх. На потолке были разноцветные звёздочки — красные, жёлтые, оранжевые. Они быстро крутились, превращаясь в один сплошной круг, который, бешено вращаясь, падал на меня. Я орал, приподнимаясь. Кровь шла горлом. Ничто не помогало. Спасла меня Фролова Анна — родственница матери. Пришла. Встревоженно осмотрела меня. Говорит:
— Аня! Почему раньше мне не сказала? Попробую вылечить. Есть керосин?
— Конечно. Но причём керосин?
— А притом! Ангину лечат керосином!
Она несколько дней жила у нас. Ежечасным полосканием горла керосином она буквально вырвала меня из лап смерти. Должен сказать, что больше в жизни меня никогда не беспокоила ангина.
Июнь кончился, а вместе с ним и моя неожиданная болезнь. Оставалось два месяца до занятий, и я вновь начал радоваться жизни. Ежедневно к нашей колонке приходила Лидка Зайцева с подругой Лидкой Задорожко. Обе были очень красивые девчонки! Я уже изучил их график похода за водой и заранее открывал два окна на улицу, заводил патефон и ставил пластинку. Набрав воды, они не спешили уйти, разговаривая по десять-пятнадцать минут. Одновременно, как бы невзначай, они слушали «Цветущий май», «Три года ты мне снилась», «Тишина» и другие нежные песни, которые привёз из Липецка. Я через тюлевую занавеску наблюдал за ними. Как-то не выдержал и вышел из калитки. Лидка обрадовалась:
— Сосед! Приехал и не показываешься. Какие хорошие песни у тебя! У нас ещё таких пластинок нет. Ну, подойди поближе, расскажи, где учишься.
Мы разговорились. Лиха беда — начало! Почему раньше не заводил с такими симпатичными девчонками разговор? Как интересно с ними! Какие красивые девчонки!
Я побежал за фотоаппаратом и сделал первые снимки. Обе Лидки были явно заинтересованы мной. Они уже работали в санаториях и, как выяснилось впоследствии из разговора с Зайцевой, у Задорожко уже кто-то был. Я решил целиком сосредоточиться на Лидке Зайцевой.
Летними долгими вечерами сидел с гитарой в саду и разучивал песни. Больше всех любил очень популярное тогда «Бессаме мучо». Я мог десятки раз пропеть её за вечер:
— Целуй меня! Целуй меня жадно!
Сосед, молодой чернявый парень Эдик Шкоденко, как-то сказал:
— Ну и поёшь ты в саду! Так басишь «Бессаме», что в конце улицы слышно! Твои концерты слушаем мы все, в том числе и мои соседки — Зайцева и Задорожко! Они часто приходят к моей сестре по вечерам.
А мне только этого и надо! Лидка Зайцева слушает — для неё и пою!
Как-то днём также сидел в саду, подбирал аккорды. Через невысокий забор Шубихи меня «задирают» три девчонки: моя бывшая одноклассница Нинка Кузнецова, Нилка Пашкова (внучка Шубихи) и её подруга Сигачёва Райка:
— Сосед! Сыграй что-нибудь для души!
Я не обращаю на них внимание. Они не успокаиваются:
— Вы посмотрите на него! Какие мы сердитые! Какие мы озабоченные! Нинка! И это твой одноклассник? Он что? Глухой? А может слепой? Не видит нас? Вот это мальчик!
Я ухожу из сада. Вдогонку слышу раздосадованный голос Райки Сигачёвой:
— Гордый козлик!
Мне двадцать лет и я уже понял, что многие девчонки уже обращают на меня внимание.
С Лидкой Зайцевой мы уже начали по-настоящему встречаться. Все вечера этих двух месяцев только с ней! Ходим по городу и парку. Перед сном долго стоим у её калитки, тесно прижавшись друг к другу. Всем телом чувствую её трепетную девичью фигурку, да и она, двигая тазом, отстраняется от меня. Но до поцелуев не доходит, у меня не хватает смелости.
Как-то за водой пришла Лидкина мать. Вышел к ней Филипп, смеётся:
— Ну что? Скоро сватами будем? Наши-то задружили как! Колька глаз не отводит от твоей дочки. Только и разговоров о ней!
— А что? Я не против! Хороший парень! Дай им Бог разума!
Эти разговоры подтолкнули меня к более решительному шагу! В последний вечер перед отъездом мы стояли с Лидкой у её калитки до полуночи. Расставаясь, пообещал на ней жениться после окончания техникума. Она дала слово ждать меня. Счастливый, уезжал в Липецк.
Итак, пошли последние полгода учёбы в техникуме! После Нового года предполагалась двухмесячная преддипломная практика, а затем защита диплома и распределение на работу.
Мне начало везти на девчонок! Только приехал в Липецк, как сразу же познакомился с прелестной девушкой. Звали её… Ева! Это была высокая (в мой рост), красивая, с обаятельной улыбкой на круглом лице, с ямочками, студентка мединститута. Мы начали с ней серьёзно встречаться. Я рассуждал так:
— «Лидка Зайцева теперь никуда не уйдёт! Она обещала меня ждать. А мне что здесь скучать? Буду встречаться с Евой, а там посмотрим. Я ведь, по сути, ещё не дружил, не ходил с девчонками. А здесь буду опыта набираться. Может, и до поцелуев дойдёт! Ева очень даже видная девчонка! Вон как стали мне все ребята завидовать! Обзывают Адамом. Не верят, что такая дивчина обратила на меня внимание! Буду по-хорошему встречаться с ней. А Лидка не узнает. Может, она и сама так делает»!
Весь сентябрь был увлечён так Евой, что запустил учёбу. Встречались мы с ней ежедневно. По контрольной в начале октября по сопромату я, единственный в группе, получил двойку. Это меня шокировало:
— Неужели я такой тупой? Я же всегда учился без особых усилий лучше всех! Всё! Буду зубрить день и ночь этот предмет, пока не пойму его и не исправлю двойку!
Засел за учебник, начал изучать его с самого начала! К концу семестра по сопромату у меня были четвёрки и пятёрки.
Как-то мы с Лёшкой Широкожуховым возвращались из кинотеатра. Шли по тротуару, кругом полно людей. Вдруг сзади налетела шпана. Неожиданно грубо сорвали с головы наши знаменитые «лондонки». Мы кинулись вдогонку. Те бежали в глубину парка. Погоня продолжалась с километр. И вот эти два пацана с нашими «лондонками» выбежали на поляну. На ней находилось человек двадцать парней. Они подскочили к ним, смеясь, а затем обернулись к нам:
— Ну что? Съели? Давай, подходи!
Ворьё двинулось на нас. Мы с Лёшкой, не раздумывая, убежали. Было противно на душе — грабят среди белого дня!
Уже перед Новым годом всех студентов техникума днём освободили от занятий и повели бесплатно в кинотеатр. Мы недоумевали, к чему бы это? Нам велели держаться в кинотеатре скромно. Там уже сидела большая группа финнов — гостей Липецка. Показывали цветной, широкоэкранный, стереофонический фильм «Илья Муромец». Фильм очень интересный, фантастический. В то время таких фильмов мы ещё не видели! Я украдкой наблюдал за финнами — им он тоже очень нравился. Это было видно по их лицам, и по реакции на события на экране. Я очень гордился нашей Родиной!
Нам есть, что показать загранице: эти гигантские заводы, эти огромные бомбардировщики, беспрестанно гудящие над нами, а теперь вот ещё такой сногсшибательный фильм!
С Евой мы уже встречаемся полгода. Через неделю, в марте будет двухмесячная преддипломная практика где-то на Украине. Надо что-то делать. Я так и не решился до сих пор её поцеловать. Она уже, мне кажется, смотрит на меня с ожиданием и недоумением. На свиданиях при расставании всё ближе и ближе жмётся ко мне, а я всё не решаюсь поцеловать её. Назначаю последнее, решительное свидание на субботу. Иду на шахту к Пастуховым — опять выпиваю для решительности почти полный стакан самогона. Прихожу, чуть запаздывая, на встречу с ней. Она ахает:
— Коля! Что с тобой? Ты пьяный? Что случилось? Ты же никогда не пил!
Я что-то говорю. Голова кружится. На душе противно. Мне уже не до свидания. Чувствую — и на этот раз не смогу поцеловать её! Нет желания, да и смелости, хоть и сильно пьяный. Ненавижу себя! Какой же я дурак! Для чего полгода встречался, если даже не смог поцеловать девчонку! Этот комплекс неполноценности будет продолжаться у меня ещё два года!
Прощаюсь с Евой, зная, что больше не приду на следующее свидание! На всю жизнь остаётся у меня память об этой удивительной девушке в виде фотографии, где мы стоим в осеннем парке Липецка. Прощай и прости меня, Ева!
Глава 57. Пенза
Мы едем на преддипломную практику на Украину. Огромные цеха Дебальцевского машиностроительного завода производят неизгладимое впечатление. Мы то раньше и не знали, что есть такой городок, а здесь завод-гигант! В городе в то время насчитывалось 30—40 тыс. человек. Завод выпускал затворы для доменных печей, сталеразливочные ковши, чугуновозы и шлаковозы. Живём в общежитии, работаем иногда на рабочих местах, а в основном свободный график посещения собираем материалы для диплома. В заводских столовых готовят великолепные шницеля — только мясо! Ничего подобного не было в Липецких столовых. Мы с Лёшкой и Сашкой старательно работаем, стараемся не пропускать ни одной смены.
Но не все студенты так делают. Многие прогуливают, ходят на танцы, знакомятся с местными красивыми дивчинами. Вечерами собираемся в общежитии. В комнате стоят штук пятнадцать коек. Был у нас в группе один красавчик — Самохин. Один раз приходим — он лежит на своей койке под одеялом, укрытый с головой, и с ним какая-то девушка. Мы поразились! Начали перешёптываться, переговариваться, а ей хоть бы что! Лежит молча в обнимку с ним — только угадываются под одеялом контуры тела. После одиннадцати вечера тихонько ушла. Мы так и не заметили её лица. Утром подсмеиваемся над ним. А он стал ходить на завод через день. Приходим вечером в общагу, а девка опять с ним под одеялом! Целый день без нас так и лежат. Утром умываемся. Сашке говорю:
— Слушай, какая бессовестная! Что за девка? Ты хоть видел её лицо?
— Нет, и видеть не хочу! Проститутка она! Разве нормальная девушка придёт в мужское общежитие? Отмороженная шлюха!
— Саша! А может у них любовь! И лежат они под одеялом тихо, даже не шевелятся. Может, между ними ничего и не было?
— Наивный ты! Пролежать весь день в постели с голой женщиной и ничего нет? Это только ты можешь ходить впустую по полгода и даже не поцеловать девушку.
Так весь месяц нашу комнату в общежитии посещала эта таинственная незнакомка. Самохин от всех вопросов просто отмахивался. Да и мы не особенно досаждали ему этим.
Второй месяц преддипломной практики проводим в Енакиево. Этот город гораздо больше — население тысяч сто. От Дебальцево находится в пятидесяти километрах. Да и Енакиевский металлургический завод гораздо больше Дебальцевского. Четыре огромные доменные печи,
коксохимический завод, прокатный стан: огромнейшее предприятие, не уступающее Ново-Липецкому комбинату! Здесь уже не было свободного посещения, и мы находились в цехах целую смену. Всем выдали временные пропуска. Особенно я любил смотреть за работой огромного прокатного стана — метров пятьсот его длина! Раскалённый металл гоняют, режут, прессуют, вальцуют, обрабатывают, как хорошая хозяйка раскатывает и нарезает тесто на пирожки, пельмени и вареники. Прокатный стан выпускает как заготовки, так и сортовые профиля — швеллера, балки, уголки, арматуру и проволоку. В общежитии не открываем даже форточку — в городе ужасный воздух. Доменные печи коптят круглые сутки, но особенно донимает коксохимический завод. От его гари першит в горле, все кашляют.
Лёшка как-то говорит:
— У нас в Липецке заводов побольше, а воздух чище! Почему? Сашка Камынин (тот всё знает!) отвечает:
— А потому что везде надо варить башкой! Когда эти заводы строили, не учли розу ветров!
— Это что такое?
— Направление господствующих ветров! Вот теперь потомки и отдуваются.
Вечерами практически все сидим в общежитии. Только чернявый, небольшого роста, симпатичный Семёнов успел познакомиться с девушкой и пропадает вечерами на свиданиях. У них романтическая любовь и он, захлёбываясь от восторга, рассказывает, как они любят друг друга. Ещё один любитель девушек — Щептев каждый вечер «на свободной охоте» — таскается по танцам. Он брезгливо говорит:
— Мне романтика «до шапки»! Важен результат! Что там сюсюкать! Вали их, и всё!
Я искренне ненавижу его и абсолютно стараюсь не общаться с ним. Противный и тщеславный парень! Маленький, щуплый и некрасивый. И всё-таки однажды вечером, уже перед отъездом, он заходит в общежитие и радостно орёт:
— Есть жертва! Завалил одну хохлушку! Прямо в подъезде её дома обработал!
Мы не реагируем. Мне кажется, что он просто хвастается. А сердце тревожится за Лидку Зайцеву и Еву. Как бы они не наскочили на такого проходимца.
И вот мы уезжаем из Енакиево. Сидим в зале ожидания на вокзале. Людей не особенно много — человек пятьдесят. Уютный зал, кафельные полы, длинные деревянные скамьи. На дальней скамье в углу целуется Семёнов с провожающей его девушкой. Она и впрямь красивая. Мы немного завидуем ему. Про себя думаю:
— Вот надо же! Здесь, вдалеке от дома он нашёл свою любовь! Молодец! И не стесняется никого, целуются напропалую! Я бы никогда так не смог! Счастливый человек!
Мои мысли прерывает голос подошедшего пьяного мужика:
— Ну чего сидишь? Гитара для чего у тебя? Скучно. Сыграй что-нибудь! Я отнекиваюсь. Он настаивает:
— Для чего тогда таскаешь гитару? Совсем не умеешь?
— Я учусь только.
— Давай, как умеешь. Не стесняйся! Давай, давай!
Я исполняю довольно хорошо «Весенний вальс», затем, похуже «Колокол». Пою с сопровождением «Бессаме мучо». Разыгрался, собралась толпа. Оказывается, гитара чертовски хорошо звучит в высоком здании вокзала! Мужик рядом:
— А «Цыганочку» можешь?
Я с ошибками, но дважды повторяю её. Мужик вовсю выплясывает! Этот случай запомнил на всю жизнь! Больше у меня не было такого успеха никогда.
Подходит поезд — мы уже в вагонах. На наших глазах разыгрывается настоящая трагедия. Семёнов с девушкой, не стесняясь, и не обращая ни на кого внимания, плачут, обнимаются. Поезд трогается. Она не отпускает его, плачет навзрыд. Он запрыгивает в вагон — она кричит не своим голосом! Он опять спрыгивает к ней. Все люди смотрят на них, женщины тоже все плачут. Проводница кричит изо всех сил на Семёнова. Всё! Он отстаёт!
Из последних сил догоняет другой вагон. Его девушка падает на перрон и истерически воет!
Мы все потрясены! Вот это любовь! Долго все успокаиваемся. Приходит весь в слезах Семёнов. Сразу забирается на полку, отворачивается. Мы молчим.
Перед самой защитой диплома, в апреле 1959 года в техникуме состоялся кросс выпускников. Бежали ровно один километр. Всю дистанцию мне было легко. Рядом тяжело пыхтели могучий Герасимов, Огурцов, Панин и все остальные. Но особенно меня поразил Быков — ему также было тяжело. Но ведь он отслужил в армии! А там же, говорили, кроссами замучают! За сто метров до финиша я бежал внутри большой толпы. Все были бледные, потные и еле переставляли ноги. Мне же было необычайно легко, и я мог бы оторваться от всех, но испугался, боясь прослыть выскочкой. Но этот случай впервые показал мне, что бегать мне приятно и я сильнее многих, хотя никогда не тренировался и был далёк от спорта. Я начал задумываться над этим.
Перед защитой диплома страшно волновались. Мы решили с Лёшкой для смелости выпить по стакану портвейна. Купили на двоих бутылку. Сашка Камынин разозлился:
— Вы что, с ума сошли? Да вы же опьянеете, и вас просто не допустят к защите! Тем более в списках на защиту ты, Колька, один из первых! Даже не вздумайте!
Утром, не позавтракав, мы всё-таки хватанули по неполному стакану вина. Когда вызвали для защиты диплома четвёртым меня, то состояние ещё было неважнецкое. Я развесил на досках чертежи термообрубного отделения литейного цеха и невнятно начал докладывать. Директор техникума недоумённо смотрел на меня. Он, видно, догадывался о моём состоянии. Записка и чертежи у меня были на отлично, но всё испортил мой доклад. В итоге мне поставили «хорошо». Я с облегчением вздохнул и через три дня с новеньким дипломом поехал в Кисловодск на две недели отпуска. В дипломе было написано:
— Решением Государственной квалификационной комиссии от 29 марта 1959 года Углову Николаю Владимировичу присвоена квалификация техник-металлург по специальности литейное производство.
А направление на работу нам с Камыниным дали в Пензу на компрессорный завод. Две недели в родном городе пролетели, как один день. Ежедневно встречались с Лидкой Зайцевой. Расставаясь, обещал по приезду в Пензу сообщить ей письмом все подробности. Она обещала меня ждать и отвечать на мои письма.
Пенза встретила нас хорошей погодой и первой зеленью. Был конец апреля. Мне сразу понравился этот русский город, расположившийся по обе стороны реки Суры. Город был больше Кисловодска раза в четыре. Людей там было, думаю, около трёхсот тысяч человек. Компрессорный завод располагался далеко на окраине города. Нас с Сашкой разместили в рабочем общежитии. Выдали пропуска и первые трудовые книжки с надписью:
— Принят на работу в литейный цех Пензенского компрессорного завода, как молодой специалист, с окладом 60 рублей в месяц.
Чугунно-сталелитейный цех был огромен. В цехе трудилось более 400 человек и его площадь составляла около 16000 квадратных метров. Мы еле нашли главного металлурга Будаева. Он бегло ознакомился с направлением и буркнул:
— Скоро придёт с планёрки начальник цеха Попов. Он скажет вам, где практиковаться. Ждите в том кабинете.
И показал на пристроенное к цеху здание управления. Мы полдня прождали Попова, но он не показывался. Какой-то инженер сказал нам:
— Попов носится по цеху, как угорелый. Он здесь может и не показаться. Ищите сами его!
В цехе стоял невообразимый шум. Гремели мостовые краны, четыре мощных вагранки изрыгали чугун в заливочное отделение, конвейеры из смесеприготовительного отделения доставляли землю в формовочное отделение, дробь барабанов раздавалась из отделения выбивки и обрубки литья. Нас всё это просто ошеломило. Я казал Сашке:
— Ну, вот мы и специалисты! А что толку? Как можно разобраться в этом хаосе? Как можно управлять такой громадой? Я лично ничего не понимаю.
Сашка произносит сакраментальную фразу:
— Москва ведь тоже не сразу строилась!
Находим озабоченного Попова. Он вскользь посмотрел на нас, спросил:
— В армии служили? Нет? На хрена мне таких специалистов присылают? В этом году вас забреют, а я должен с вами нянчиться? Ладно. Ходите по цеху — изучайте, смотрите, только не мешайте мне! Для начала ознакомьтесь с модельным отделением. Там руководитель Борис Гец.
Я спросил:
— Владимир Фёдорович! А сколько вы на сегодняшний день выпускаете литья?
Он рассмеялся:
— Ну, даёт! А для чего тебе это надо? Интересуешься? Значит, после армии к нам? Ну, ладно, отвечу. В этом году планируем семь тысяч тонн литья. Ладно, идите!
Недели две мы исправно показывались на работе. Ходили, присматривались, слонялись по цеху. Понравились коксовые вагранки производительностью семь тонн литья в час. В заливочном отделении производились отливки цилиндров, станин и рам для компрессоров среднего класса. Очень неприятно было находиться в отделении очистки литья. Всё производилось вручную, притом всё это было в одном корпусе с формовочными и стержневыми участками. Ужасный шум, пыль, грязь, дым. В цехе впервые робко внедряли кокильное литьё в металлические формы. Нам очень понравилась передовая технология. Литьё получалось тонкостенным и точным по размерам.
За мной начала просто гоняться одна молодая белокурая крановщица. Где бы я ни был в цехе, она подъедет на своём огромном мостовом кране, сигналит и, весело смеясь, высовывается из кабинки, кричит:
— Эй! Кудрявый практикант! Берегись! Рот не разевай, а то из ковша чугуночком плесну!
Я её сторонюсь — боюсь бойких девушек. Но в столовой она «приклеивается» ко мне. Обедаем за одним столиком. Вблизи рассматриваю — очень даже симпатичная девушка. Зовут её Лена, работает крановщицей третий год. Спрашиваю:
— Тяжело управлять такой махиной? Как ты не боишься? Жарко бывает в кабине, когда несёшь десятитонный ковш? А газов, дыма, гари сколько наверху! Ты не угораешь?
Она смеётся и жеманно кривляется:
— Вопросов-то сколько! Ты лучше о любви спроси. Далась тебе эта работа.
Я теряюсь. Она продолжает «играть глазами»:
— Ты ещё ни с кем здесь не встречаешься? Приходи на танцы вечером, девушек уйма! А насчёт работы… Конечно, боюсь. С жидким металлом всегда надо держать «ухо востро». Очень страшно нести полный ковш через весь цех в заливочное. У меня подруга в прошлом году уволилась, не смогла работать после дикого случая. Я вот тоже подумываю, не женская эта специальность.
— А что случилось у подруги?
— На фермах, под самым потолком, работала бригада электриков и вентиляционщиков. Вот один из них сорвался и плюхнулся прямо в ковш с чугуном. Только столб дыма вырвался из ковша! Не успел даже закричать, бедолага! Мгновенно сгорел!
— Ужас! А металл? Работу остановили?
— Какой там! Сбежалось начальство. Поговорили, обсудили. Приняли решение: тем чугуном с человеком залили какую-то не очень ответственную большую деталь.
Этот рассказ Лены производит на меня неизгладимое впечатление. Вечером прихожу на танцы. За оградой толкутся практически одни девушки — танцуют танго «Аленький цветочек». Затем радиола исполняет «Мишку», «Пчёлку», «Тиха вода — шевелье» и другие. Я всё не решаюсь зайти, прячусь за деревьями и оградой. Лена танцует с какой-то девушкой. Вытягивает шею, оглядывается, ищет, видимо, меня. А песня и музыка прямо «разрывает у меня душу»:
В шумном городе мы встретились с тобой. До утра не уходили мы домой. Сколько раз мы всё прощались, и обратно возвращались, чтоб друг другу все сказать. Мне б забыть, не вспоминать этот день, этот час. Мне бы больше никогда не видать милых глаз. Но опять весенний ветер, в окна рвется и зовет. Он летит ко мне навстречу, песню нежную поет. Может, нового и нет в словах моих, в этой песни, как и в тысячи других. Пусть летит она по свету, Я дарю вам песню эту — у меня ж она одна.
Нежная мелодия сменяется какими-то западными песнями, которые мы тоже полюбили:
— Тони, так порой бывает… Тони, ты мне тоже нужен! — А мама, Кери! А мама, Кери!.. Ташике…
Затем из громкоговорителя звучат песни Жана Татляна и Ларисы Мондрус. В этот вечер я так и не осмелился зайти на танцплощадку. А утром Сашка Камынин неожиданно мне предлагает:
— Знаешь что? Мы в цехе никому не нужны. Две недели проболтались, только мешаем всем. Вчера нам принесли повестки в военкомат. Сейчас сходим туда. Уверен, осенью в армию. Поэтому не будем даром терять время. Предлагаю следующее. Проходим утром на завод, сдаём пропуска,
показываемся в цехе, а затем через забор на реку. Будем загорать, купаться и одновременно готовиться к поступлению в Пензенский политехнический институт. В заборе есть несколько дыр, через которые рабочие таскают какие-то детали. Я видел. Согласен?
Я всегда верил Сашке. С этого дня мы так и делаем. Всё проходит гладко. Все три летних месяца мы купаемся в речке, загораем, учим по учебникам, готовясь к поступлению в институт. А вечером опять показываемся в цехе, берём пропуска — свои шестьдесят рублей тоже исправно получаем в заводской кассе. И впрямь, мы никому не нужны!
Ну, а вечером у меня теперь новые друзья и почти ежедневные пьянки! Сашка Камынин даже из-за них ушёл в другую комнату. Рабочие литейного цеха Генка Ивашов, Витька Мурашкин и Вовка Захаров — просто замечательные ребята! Приходя с работы вечером, они покупали три бутылки водки, три батона и два килограмма колбасы. Начиналась пьянка. С меня они не брали ни копейки, так как получал я втрое меньше их. Мне стал нравиться этот ежедневный праздник! Сидим весёлые, довольные собой и жизнью, в голове приятная расслабленность. Осталось несколько фотографий от тех встреч. Спасибо армии, что спасла меня от «зелёного змия»!
Рабочие полюбили меня, а я их. Иногда ходим на танцы. Больше тусуемся, чем танцуем.
Как-то объявили «Белый танец». Ко мне подошла рослая кареглазая девушка. Видно, что опытная, так как сама начала водить меня, когда я несколько раз наступил ей на ноги. Благо, что танцевали тогда парни только в светлых тапочках, которые перед танцами старательно натирали мелом. Девушка была тоже, как и я, «под хмельком». По окончании танца вдруг говорит мне:
— Пойдём отсюда!
А мне только этого и надо. Пошли по аллее вглубь парка. Уже темно. О чём-то разговариваем. Кончились последние фонари. Вдруг девушка (а я даже не спросил её имени) садится на траву. Шепчет:
— Иди ко мне!
Я присаживаюсь, она валится на траву:
— Ну, давай же! Ты чего?
Я обалдел, хмель сразу выскочил из меня. Не ожидал такого оборота! Вскочил и… убежал.
А мои друзья, как узнал впоследствии из письма Сашки Камынина, все умерли от пьянства через несколько лет. Особенно ужасная смерть была у Генки Ивашова. Его только утром обнаружили. Лежал вверх ногами, весь чёрный, на лестнице общежития.
Глава 58. Армия
Кто в армии не был — тот ада не знает. Кто ада не знает — тот рай не поймёт!
На берегу реки Суры мы готовились к экзаменам. Я, правда, нехотя, т.к. до конца ещё не решил, что если даже поступлю в Пензенский политехнический институт, буду там учиться. Мне нравился Кавказ, мой родной город Кисловодск. Там была родина отца и матери, моего деда, бабушки, там были друзья, там была Лидка Зайцева. Для чего мне было оттуда уезжать? Смущала только профессия — на Кавминводах не было металлургических заводов. Ладно, решил, там видно будет!
Экзамены сдал с одной тройкой по математике письменно. Конкурс был очень большой и меня не приняли. Я не горевал и даже обрадовался, значит, это судьба! Жить мне на Родине! Сашка же Камынин поступил. Он был несказанно рад:
— Вот теперь-то я настоящий студент! А ты не горюй! На следующий год поступишь! Я уверен в этом! Знания у тебя есть. Просто какая-то случайность, что тебе поставили тройку. У нас же был один вариант, и я же видел, что мы одинаково решили! Пойди в деканат и потребуй проверки твоего решения! Тут что-то не то!
— Саша! Поступил, не поступил, всё равно призовут в армию. Отсрочки на этот раз не будет. И никуда я не пойду. Этот институт мне не нужен. Хочу после армии быть поближе к дому!
— Ну, как знаешь! Зря!
Наступила осень 1959 года. Прошли последнюю медкомиссию в военкомате. За столом сидели человек пять. Пожилой полковник спросил:
— Ну, что, Углов? Здоров! В каких войсках желаешь служить?
— Только в авиации! Всю жизнь мечтал о профессии лётчика, да не получилось. Очень прошу, направьте меня в авиацию!
— Хорошо! Быть по твоему!
Я выскочил радостный, но Сашка меня быстро охладил:
— Да они всех в авиацию направляют! Этот набор весь идёт туда! Меня даже не спрашивали. Да и всех, кого не спроси, в авиацию направляют.
— А что тут плохого?
Сашка скривился:
— Авиация — это такая херация. Рано встают. Много бегают. И ни хрена ничего не делают!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.