
Бесплатный фрагмент - Скитальцы
Эта книга посвящается скитальцам, волею судеб и по собственной воле оказавшихся на дальней далекой чужбине, в Америке. Все они достойны биографических романов — и многие из них получили их. Здесь — лишь попытка реконструкции их судеб, которые нам интересней, чем биографии…
Предисловие
Скита́ла или сцита́ла (от греч. σκυτάλη «жезл») — инструмент, используемый для перестановочного шифрования, в криптографии известный также как шифр Древней Спарты. Представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента, на которой писалось сообщение, обматывавшуюся вокруг него по спирали. Античные греки и спартанцы, предположительно, использовали этот шифр для обмена сообщениями во время военных кампаний.
Википедия
Руководитель военного похода, марша, маршал, отправлял скиталу царю или правителю с секретным донесением и получал от него тайные приказы, распоряжения, инструкции и наставления, при этом гонец, даже попав в плен к врагу, не мог знать содержания, так как инструмент дешифрирования был только у маршала и царя\правителя. Скиталец, следовательно, в отличие от странника, всегда — носитель тайной вести с родины и на родину. Однажды Владимир Александрович Лефевр, профессор Ирвайнского Университета (Калифорния, США), попросил меня написать книгу о Собачьей Площадке в Москве, где прошло его детство — это и было его скитало. «Рапсодия Собачьей Площадки» написана, но нигде не опубликована, она ждёт своего часа в недрах моих компьютеров уже более двадцати лет.
Рукопись «Скитальцев» хранится там же — уже четверть века. Я не знаю, что заставило меня найти её и подготовить к печати (=немного отредактировать), но эта работа заняла всего дня три.
Я и сам скиталец, 9 лет прожил в Калифорнии и написал эту книгу исключительно о русских в Америке. Русские потому и прилагательные, что прилагаемы к любой стране, лишь сама их родина для них подлинная чужбина, злая мачеха, от которой бегут — принудительно, добровольно или случайно: в Европу, в Америку, в Израиль, на край света и даже за этот край.
Здесь собраны судьбы русских в Америке, имена известные, малоизвестные, неизвестные. Строго говоря, это — судьбы, а не биографии, к тому же окрашенные моим отношением и пониманием этих людей. Я люблю их, своих сотоварищей и коллег по скитанию, и надеюсь, что вы их тоже полюбите или проявите к ним сочувствие.
СВЯТЫЕ
Смерть иеромонаха Ювеналия
На остров Кадияк я прибыл в лето 1795 года. После Сибири Русская Америка показалась мне сразу тоскливой и изнеженной — все дожди, дожди, дожди, а то — туманы да туманы, тоскливей и заунывней тех дождей. И даже зимой не столько морозно, сколько холодно от сырой промозглой погоды. И нет успокоения воздуху и вечно в нем крутят ветры и порывы.
Она, Сибирь, конечно, край заброшенный и Богом забытый, но этот — Им даже и не вспоминаемый. Забросило сюда, за тридевять земель, самого шалого люду: беглых каторжан, что сорвались со своих цепей в копях, но были пойманы на дорогах, беспощадно биты кнутом и отправлены сюда, в окрестности преисподней, а еще угрюмых раскольников-нетовцев, для которых весь мир — Антихристов, весь мир — геенна, а они, насупленные и молчаливые, сосредоточены на собственном спасении и уворачивании от этого мира. Эти упорствующие, хоть и хозяйствуют, а пострашней любой каторги: ты в воду упади — багра не подаст, ты в огне гори — валежину подбросит.
Правит здесь всем — и от имени государя, и от имени епископа, и хоть от самого Господа горький сатрап Александр Андреевич Баранов, директор Российско-Американской Компании, погрязший в блуде, пьянстве, разврате и мошенничестве, охальник, каких и по Сибири-то — поискать. Все работники компании — что русские, что алеуты, что другие, разделены им на три разряда: усердные и покорные в день получают по стакану водки, беспокойные и нерадивые — по полстакана, крикуны и пьяницы — малую рюмку. Эти-то потом докупают по немилосердным ценам и тайным ходом зелье у комендатовой жены. Те же из русских, кто вырывался из тенет Российско-Американской Компании, промышляли большей частью извозом — на лошадях, на собаках, на оленях или по воде.
Через год, 19 июня, я, скромный иеромонах, открыл первую на Кадияке и вообще в Русской Америке школу. В первый день ко мне пришло 11 отроков и несколько взрослых мужчин. в окна лился редкий в здешних местах свет, и нам казалось — то свет просвещения льется на нас. Я читал ученикам Священное писание, а они сидели, затаив дыхание и не шелохнувшись, весь урок, и я, не сомневаясь в выражении их лиц, видел, что они понимали говоримое им на незнаемом им языке — и в силу собственного старания и милостью и попустительством Божиим. Я жаждал утвердиться в том, что Богу угодны наши занятия и потому после урока пошел с учениками к реке. Смиренно попросив у Господа, чтоб он напхал мне рыб побольше да покрупнее не прожору для, а во свидетельство, я забросил свою сетчонку и выгреб с первого же раза 103 огромные рыбины. Мы все дивились, как они могли войти в столь малую сеть.
Свет просвещения и огнь разума, разливавшиеся по умам и душам туземцев, этих прилежных детей сумрачной природы, был противен и чужд всесильному самодуру нашему Баранову, который именем Иркутского епископа послал меня через четыре недели в страну Илиамн, где жили непокорные племена. Я не мог ослушаться своего иерарха и взошел вместе с Барановым на бот «Екатерина».
В пути нас застала страшная буря. Казалось, утлый и немощный бот наш будет разбит волной вдребезги. Пьяней пьяного и мало уже что соображающий Баранов велел мне освятить судно, потому как на берегу, при окончании его постройки, по вечному похмелью забыли это сделать. Бог попустил освящение, хотя устоять на ногах не было никакой возможности и нас катало и швыряло от борта к борту и обливало студеными струями, как бичами, в наказание за нерадение и былое упущение обряда.
На другой день буря утихла, не в пример нраву Баранова. Видя, как огромные киты резвятся в море и пускают шумные фонтаны, богохульник решил сделать из меня нового Иону и даже рукоприкладствовал, хватал за грудки, пытаясь вышвырнуть меня за борт этим левиафанам.
В виду земли Илиамн, невдалеке от порта, которым командовал офицер Лебедев, я сел в плоскодонную бедерку, обшитую шкурами морского зверя, и достиг берега. Порт, расположенный в устье при реке Кенай, был слабо укреплен и держался против воинственных дикарей лишь отчаянной пальбой нетрезвой команды.
Отрядив в сопровождение двух проводников, Лебедев направил меня к людоедам вещать слово Божие.
В стране племени Илиамн меня встретил брат вождя по имени Катлев.
— Водка есть?
— Нет.
— А ружье есть?
— И ружья нет.
— А ткань?
— И ткани нет.
— А сахар?
— Нету.
— Что же у тебя есть?
— Бог.
— Ну, этого у нас — перед каждым вигвамом.
— У меня Бог — один на всех.
И меня повели к вождю. Вождь встретил меня дружелюбно, и я стал проповедывать меж них Слово Божие. Как мог, потому что ни я почти ни слова не понимал из их речи, ни они — меня. Однако сила Священного Писания сама по себе такова, что дикари слушали его и, медленно, шаг за шагом, один за другим, обращались в православие. Крещен был и наречен был Александром и сам вождь.
Жили же они в мерзости и грехе, не видя в том ничего ужасного.
У вождя было десять жен, и он скотствовал с ними со всеми одновременно и в любое время, не чуя сраму. Я увещевал его оставить одну жену, прилепиться к ней и тем подать пример христианского образа жизни своим соплеменникам. Но он и помыслить себе не мог заставить жить с одной.
Однажды ночью, сморенный усталостью и утомленный, я был в тяжком сне позорно соблазнен одной из дикарок. Очнувшись, я с гневом прогнал дьявольское отродье от себя, мучимый стыдом и сладостным грехом.
Многие индейцы отвернулись от меня и от Слова Божия после этой шкоды, подстроенной злокозненным Катлевом, мелким бесом юлившим всегда подле меня. В его хитрой и предприимчивой ко всякому злу голове роились смутные надежды стать через христианство вождем вместо своего брата. И когда он с несомненностью понял, что ни Христос, ни я, раб Его, никак не будем способствовать ему в его интригах и начинаниях, он составил, вкупе с другими злоумышленниками, заговор и, когда все племя собралось вокруг вигвама вождя, открыто обвинил Иисуса и меня в слабости и неспособности помочь племени. Это случилось аккурат в канун дня святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, великого праздника всей России, всего через два с небольшим месяца моего пребывания меж этими дикарями.
И они убили меня. И я встал и пошел им навстречу, умоляя обратить свои сердца к Богу. И они вновь убили меня, но я вновь встал, уже давно и совсем неживой, и пошел вслед за ними, и вновь призвал их к вере в Спасителя. И тогда они в третий раз убили меня и разрезали мое тело на куски и мелкие клочья и побросали в разные стороны, чтобы я не смог встать. И тогда над всей поляной встал столб огня и дыма, и этот столб воззвал к ним на их языке со словами Иисуса об искуплении. И они пали ниц, и поверили, и приобщились к истине, а Катлев, один изо всех не павший, пошел, гонимый бесами, на реку и в ней утоп.
О. Иннокентий
В Ситке, бывшем Ново-Архангельске, бывшей столице бывшей Русской Америки, стоит, превращенный в музей, митрополичий дом. Дом этот охотно и благоговейно посещают туристы. Смотрители-экскурсоводы и ведомые ими экскурсанты с почтением рассматривают, как хитро и умно строили русские свои дома, сколько здесь мелких уловок по сохранению тепла, света и безопасности. Еще большее почтение вызывают у них кропотливые и непрерывные в течение многих лет и десятилетий труды и занятия православного митрополита, не только несшего службу и руководившего батюшками многочисленных приходов, но открывшего здесь школу, написавшего русско-алеутский словарь, переведшего для алеутов Священное Писание, ведшего постоянные метеорологические, синоптические, фенологические, ботанические, этнографические наблюдения, скрупулезно внося все эти сведения по рубрикам с такой дотошностью и тщательностью, что этими записями и наблюдениями и по сю пору пользуются многочисленные исследователи.
Индейский народ, которому проповедовал христианство св. Ювеналий, с тех пор остается верен православию. Когда в Джуно, нынешнюю столицу Аляски, в 1893 и 1894 годах сюда хлынули тысячи золотоискателей, за которыми последовали и протестантские священники, старавшиеся обратить местное индейское племя тлингитов (по-русски, колошей) в свою веру. При этом американцы запрещали индейцам говорить на своем языке, недостойном быть христианским литургическим языком. Однако св. Иннокентий (Вениаминов), первый епископ Аляскинский, построил семинарию, собор и тлингитскую часовню в Ситке. Индейцам в Джуно было известно, что прихожане русской православной миссии молятся по-тлингитски. Св. Иннокентий к тому времени уже хорошо владел этим языком и переводил на него Писания и молитвы.
Колоши Джуно, новой столицы Аляски, обратились к нему с просьбой прибыть к ним из Ситки для катехизации и крещения. Он приехал в июле 1894 года и окрестил около 200 индейцев.
Когда индейцы еще спорили, стоит ли им принимать святое крещение, нескольким из их вождей был ниспослан один и тот же сон. Седой старичок с бородой призывал их всех креститься.
Когда из Ситки прибыл образ св. угодника Николая, вожди узнали старца из своего сна. «Кто этот человек?» — спросили они, и, узнав его имя, пожелали принять православие и посвятить свой новый храм этому святому.
Великого трудолюбца и радетеля края выдернули отсюда в Петербург, затем в Москву где он в почете и завершил свои дни, вдали и тоске от покинутого им сумрачного и сиротского края, святителем и апостолом которого он был.
И из-за этого жестокого призыва потеряла Аляска, православная и туземная, лучшего своего пастыря и поводыря.
Первый советский святой и патриарх (Василий Беланов, патриарх Тихон)
Прежде, чем рассказывать о нем, стоит, по-видимому, вспомнить немного историю патриаршества, не всю, конечно, но существенно важную для этого рассказа часть.
Династия Романовых началась в 1612 году, строго говоря, не с Михаила, а с его отца, патриарха Филарета. Престарелый и изможденный тюрьмой, напастями и испытаниями духа и плоти, Филарет принял патриарший престол после Иова, первого патриарха всея Руси, и возвел ошую себя сына своего Михаила на царский, и был ему отцом и наставником, советчиком и духовником. И это вызывало умиление в русских, исстрадавшихся Смутой и всеми предыдущими историческими дрязгами, сердцах. И всякая душа оттаивала: вот, и кончились тяжелейшие времена Грозного и опричнины, кончилось время преступного Бориса и ушли в небытие смутные времена лже-Димитриев и лже-истории. И вот, она начинается, вновь и как с самого начала история страны-великомученицы, вечной, но истерзанной девки.
Но уже сын Михаила, богобоязненный и смиреннейший Алексей надругался и над верой, и над русским народом, и над русской историей. И над патриаршеством, так надругался и изголился, что его сыну, заполошному сынку Петру, пало подгнившее яблоко рокового для страны решения — и не стало больше патриархов, и не стало более патриаршего наставления над царями — и потекли самоправие-самодурство, деспотия и диктатура, чем дальше, тем все менее русское, немецкое, иноземное, глубоко чуждое стране, народу и истории.
И тянулась эта нелепица не год и не два — до долгожданного и освободительного 1917 года, когда, наконец, кончилось нелепое, преступное и гнусное иго мелкой германской сволочи, прикрывавшейся русской фамилией Романовых. Последний, постыднейший акт этого подлейшего правления — истошная бесовская скверна Гришки Распутина, сатаноида почище любого Гришки Отрепьева, позорища сана и христианства, в сутанах которого таился этот черт.
И когда не стало Романовых с их прихвостнями, решено было избалованной, оскверненной, но все еще церковью вернуться к собственной обезглавленной иерархии и выбрать себе патриарха.
Выбор пал на 52-летнего В. И. Белавина, ставшего патриархом Тихоном.
Василий Белавин, псковитянин, получил высшее религиозное образование в Петербурге и с юношеских лет в добрую шутку прозываемый «патриархом», прошел довольно быстро и успешно по многочисленным ступеням православной иерархии и уже в 27 лет становится Архимандритом и ректором Холмской духовной семинарии, а в 33 года (ранее никак нельзя по уставу) хиротонисован во Епископа Люблинского, Викария Холмско-Варшавской Епархии.
Доказав на этом поприще, что с католиками и униатами можно вполне уживаться без угроз и кар, а мирным образом, Тихон был переведен через год в Америку и назначен епископом Алеутским и Аляскинским — вослед за прославившим себя подвигами служения епископа Николая. Тихон значительно расширяет и укрупняет свою епархию: Лишенная государственных ассигнований из России, американская миссия при Тихоне буквально процветает: открываются два новых викарианства, на Аляске и в Бруклине, духовная семинария в Миннеаполисе, Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании, бурса в Кливленде, женский монастырь на Кодияке. Число приходов возрастает с 15 до 75, в том числе несколько в Канаде, кафедра переносится из Сан-Франциско в Нью-Йорк, а сам Тихон получает сан Архиепископа Североамериканского.
9 лет служения в Америке заканчиваются вызовом на служение на Ярославской кафедре, затем, спустя шесть лет — Литовской.
19 июня 1917 года Тихон становится Митрополитом Московским, а 5 ноября того же года — Патриархом, первым советским патриархом.
Отныне его голос не смолкает: он выступает против реформы времени и введения Григорианского календаря, против позорного Брестского мира, против изъятий церковных имуществ. Вот, что он пишет в СНК в письме от 13 октября 1918 года: «Реками пролита кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Вы дали народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью, вместо мира вы искусственно разожгли классовую вражду… Бесчеловечная жизнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения — напутствия Св. Тайн, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Это ли свобода ваша, если никто не смеет высказать открыто своего мнения без опасности попасть под обвинение в контрреволюции. Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Мы переживаем ужасное время вашего владычества, долго оно не изгладится из души народной, омрачивши в ней образ Божий и запечатлевши в ней образ зверя. Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода к обвинению нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься столп злобы вашей, тем вернее будет это свидетельствовать справедливость наших обличений».
Когда большевики начинают массовое ограбление церквей якобы в помощь голодающим Поволжья (до голодающих не только не дошло ни капли награбленного, но еще и много пограбили они из помощи, организованной Гувером, будущим президентом США), патриарх объявляет им анафему. Спустя почти 70 лет прихвостни ЦК и КГБ в рясах забудут эту анафему, благославляя последнего советского царя Михаила Горбачева.
Оплеванный большевиками, преданный Сергием Владимирским, Филиппом Смоленским, Антонином, Евдокимом и другими иерархами, патриарх, пройдя Лубянку, оседает в глубинах Донского монастыря. Он еще успевает сказать, узнав, что гроб с трупом Ленина во временном мавзолее попадает в канализационную систему: «По попу и елей», но голос его живой утихает навеки. Он гибнет, убитый подло и втихаря, а вослед потянулись на Соловки священнослужители, не пожелавшие служить совдепии. Подонки, придонная нечисть священников создают рабски послушную большевикам и чекистам новую, советскую православную церковь. Славословиями и предательством своей паствы они восстанавливают в 1943 году патриаршество как отдел КГБ. Они с собачьей преданностью сдают на Лубянку списки молящихся, венчающихся, крестящих младенцев и отпевающих, они предают опасной гласности тайны исповеди, они стучат на свою паству и друг на друга.
Высока судьба патриарха Тихона и светел его последний путь.
И, возможно, он был бы сломлен и затих в бессловесности, если б не было в его жизненном и духовном опыте Америки, тогдашней, еще небюрократизированной и осовковавшейся Америки, где, в отличие от России, свобода слова — не слова из конституции, а свобода, где он ощутил масштаб большой страны и ответственность за нее, где люди научились бороться за свое духовное пристанище.
МУЗЫКАНТЫ И КОМПОЗИТОРЫ
Рахманинов
У нас на Монтерейском полуострове иногда зимой такие ливни бывают — землю из-под ног уносит. Мы, развозчики пиццы, любим такие кромешные вечера: народ из дому высовываться боится, а есть все равно хочется. Вот нас и вызывают. И мы едем, воодушевленные ажиотажным спросом. И, чтоб совсем уж свет клином не сходился прямо перед машиной, потому как никакие фары, никакие дворники не помогают видеть в этом воющем чертоломе ни зги, я обычно включаю радио канал 95.5, «Классическая музыка». Едешь себе какой-нибудь дебрей, по горному серпантину, объезжаешь рухнувшие ветви или деревья и слушаешь что-нибудь нескоростное и не призывающее к ускорению.
Так было и в тот раз: машина форсирует какой-то только что образовавшийся поток, где-то оборвало электропровода, поэтому даже света домов нет, а по автомобильному радио бодрый диктор дает вступление: «Многие еще, наверно, помнят этого выдающегося музыканта, писавшего музыку для многих известных фильмов Голливуда между двумя мировыми войнами. Оказывается, однако, он писал не только для кино. Вот послушайте его Первый концерт для фортепьяно с оркестром».
И зазвучал Рахманинов.
В школьной юности я заиграл эту пластинку до того, что мог, наверно, исполнять весь концерт. Знакома каждая нота, каждый аккорд, каждый переход. Первая часть, панорама морского прибоя во время шторма, особенно впечатляет. Откуда он, житель балтийского севера, мог узнать эту мощь стихии? Где он, восемнадцатилетний музыкант, мог увидеть и услышать такое? С каких утесов и круч ему открылся голос Моря?
Мне самому тогда было еще меньше лет — всего 16. И мы были почти ровесники, и он, мой старший товарищ, вел меня в этот яростный мир, который мы реально познаем много-много позже: он в сорок пять, я — в пятьдесят один. Мы оба, опять почти ровесники, оказались на калифорнийских берегах Тихого океана, где его Первый концерт — лейтмотив даже тихого утра.
Он умер в Беверли-Хиллз, соседствующем с Голливудом, районе наипрестижнейшем и дорогущем, где издревле (по американским понятиям, то есть более пятидесяти лет тому назад) обосновались супер-звезды Голливуда. Умер сразу после своего семидесятилетия, с надеждой, что родина его устоит и выстоит. Он был один из тех многочисленных русских, которые, забыв обиды и позор быть русским, бросились на помощь стране, исторгнувшей их и обливавшей их грязью долгие и тягостные годы изгнания.
Впрочем, Рахманинова никто не изгонял. Он даже толком и не эмигрировал. В декабре 1917-го года Сергей Васильевич, признанный европейский, даже мировой пианист, дирижер и композитор, давал концерты в Хельсинки. В коридоре Смольного, даже не в кабинете, самозванный премьер-министр самозванного правительства, Совета Народных Коммисаров, Н. Ленин, он же В. И. Ульянов, подписал, не согласовав с товарищами по шайке, акт о предоставлении независимости Финляндии — и дорога назад для Рахманинова неожиданно оказалась закрытой. Нечто подобное пережили многие, когда три пахана подписали спьяну в Беловежской Пуще договор о расторжении союзного договора, не согласовав этого с другими товарищами по шайке. Миллионы людей оказались неожиданно для себя заграницей, иностранцами в собственной стране.
Рахманинов, Скрябин, Калинников — плеяда русских композиторов Серебряного века, связующее звено между гигантами века Девятнадцатого (Чайковский, Танеев, Рубинштейн) и гигантами века Двадцатого (Шостакович, Прокофьев). Звено, а не перевал. И трудно сказать, какая из этих трех вершин выше. Да и надо ли делать эти измерения?
Подобно Листу, Рахманинов был замечательным, гениальным, виртуознейшим пианистом. Я слышал множество исполнений Второй соль-минорной сонаты Шопена. Они все были более или менее схожи. Все, кроме Рахманиновского. Как все исполняют Похоронный марш из этой сонаты? — Скорбно, размеренно, в ритме марша похоронной процессии. И только Рахманинов услышал в этой музыке не пеший ход, а вихрь скорбной мысли, смерч отчаяния, под его Похоронный марш не гроб с телом несут — горе. Он сорвал скорбную вальяжность с пышных похорон и предъявил нам, сытым поминками и важным величием траурного момента, многозначительными речами и мокрыми платочками, скороговорку подлинного отчаяния и потери себя при потере близкого, потому что, оказывается, этот ушедший и был нами, а мы теперь без него — что? Пыль на ветру? Что мы теперь и как мы теперь? И зачем все эти лица, залпы и речи, топот толпы и ропот равнодушья?
Что такое Америка 20-х годов? — Еще не наступила Великая Депрессия, не введен Сухой Закон, еще не сказано о прошедших по Первой мировой, что они — потерянное поколение. Америка строит индустрию грез, самую мощную свою индустрию, по сравнению с которой даже НАСА и Билл Гейтс — сопляки. В мареве лос-анджелесской сковородки создается для всего мира вторая реальность, еще более иллюзорная, зыбкая и призрачная, чем первая.
И, хотя кино еще немо, в нем уже есть музыка. Музыка — единственный звук немого кинематографа, его первое слово.
И мастер живописной музыки Сергей Рахманинов ангажируем в кинематограф.
И срывает хорошие гонорары, и может позволить себе жить на Беверли-Хиллз и быть похороненным в Нью-Йорке. Он безотказно помогает всем своим соотечественникам, обращающимся к нему за помощью. Он богат и настолько популярен, что две известнейшие фирмы по производству роялей дерутся между собой за право погрузить на борт океанского круизера белоснежный концертный рояль для путешествующего копмозитора.
А дождь продолжает лить как из ведра, я выбираюсь из дебрей на пустое, но хоть как-то освещенное шоссе, уже совсем на другом конце нашего города. «Вы слушали Первый концерт для фортепьяно с оркестром Сергея Рахманинова. Неплохо, не правда ли?»
Гражданин культуры (Игорь Стравинский)
На печальном и низком острове св. Михаила, в серых брызгах вечного покоя и мрачных кудрях кипарисов, на старинном венецианском кладбище, воспетом еще Ч. Диккенсом, в русском квартале лежат — почти бок о бок — Игорь Стравинский и Сергей Дягилев, два великих возмутителя спокойствия музыкального и балетного мира.
Он родился в Ораниенбауме в 1882 году — как человек. Он родился в 1903—1905 году — как музыкант. Его повивальной бабкой был Римский-Корсаков, потрясенный силой таланта самоучки. Как личность он никогда не рождался — он пришел из культуры и ушел в нее. Его музыка — из славянского язычества («Весна Священная») и античного эпоса («Царь Эдип»), из Библии и православного христианства, из Средневековья, Двадцатого века и 2184 года.
Россию он оставил накануне Первой мировой — и стал для нее мертв, перестал существовать для нее на несколько десятилетий. В Европе он прожил четверть века и даже стал в 1934 году гражданином Франции, а перед Бубуром в Париже ходит ходуном пестрый, как балаганный Петрушка, фонтан Стравинского. В Америку он бежал от Второй мировой и принял в конце ее, в 1945 году, американское гражданство. Умер в Нью-Йорке в 1971 году, в 89-летнем возрасте.
Его пронзительная, серебряная музыка — верх аскетизма, как и он сам, аскет и драматург, с презрением смотрящий на современность, куда он попал и заглянул совершенно некстати и не вовремя.
Принято считать, что русским композитором он был только в самом начале своего пути, но считать так — значит совершенно не понимать, что значит русский композитор, или русский писатель, или русский художник. «Русский» означает прежде всего быть в изгнании, оппозиции и рефлексии к стране со странным, нерусским названием «Россия». И совершенно неважно, где протекает это изгнание: в Михайловском, Париже, Италии, Нью-Йорке или дворницкой литинститута на Тверском бульваре (Платонов). «Русский» означает полную открытость, окрыленность мировой и вселенской культурой, «русский» прорывается сквозь брустверы, окопы, заграждения и минные поля уже достигнутого человечеством фронта культуры — и рвется дальше, в незнаемое и неведомое, непознанное. «Русский» означает космический, как космичны Василий Кандинский и Владимир Лефевр. «Русскому» дела нет до границ и условностей — государственных и культурных, потому что он одинокий один, настолько одинокий один, что даже Бог становится за его пюпитром и мольбертом, и стоит, Спокойный, чтобы не мешать.
Он прожил примерно поровну, по трети жизни — в России, Европе и Америке. Кем его считать? — мне кажется, совершенно неважно, кем его считать, потому что его зовут Игорь Стравинский и потому что он примерно столько же времени уже лежит на низком печальном острове св. Михаила в Венеции и, разумеется, еще долго там будет лежать привлекательной знаменитостью, но место его совсем не там и нигде, говоря географически, ибо место его — в культуре..
Афро-еврейский гений (Гершвин)
Все евреи — музыканты на генетическом уровне. У них все их нутро обращено в слух: даже первая заповедь у них так и звучит: «Слушай, Израиль!». Вот они и слушают, если считать с Моисея, почти четыре тысячи лет — поневоле будешь обладать абсолютным слухом, если так долго вслушиваться, да еще не куда-нибудь, а к Самому. Евреи очевидному не привыкли верить — им привычней доверять внутреннему голосу, голосам свыше, пророческим глаголам.
А еще это у них потому, что изображать Бога или что-нибудь живое запрещено, а потому они все обращены не во взор, затуманенный слезливостью и многовековой катарактой с глаукомой, а в слух. Ведь вот даже, если всмотреться в картины Марка Шагала, слышится мюзикл «Скрипач на крыше», а в мюзикле — сплошной Шагал. Такой парой еще были Врубель и Рубинштейн — и не только общим «Демоном»: у них цвето-музыкальная палитра очень схожа. Как по сонатным картинам Левитана звучат тончайшие фортепьянные переборы Дворкина и Горовца.
А еще это у них потому, что они полтысячи лет прислушивались к ночным стукам и погромам, начиная с испанской Реконкисты и кончая советско-германским Холокостом. Если ждешь погрома, стараешься угадать его как можно раньше, даже еще до того, как начнется, примешивая к пугливой тишине внутренние страхи и стуки сердца, и стоны загнанной души.
В семье Гершовичей 26 сентября 1898 года родился очередной мальчик.
Семья рванула из России в первую волну эмиграции, еще до первых серьезных погромов. Судя по всему, они уже были доведены до крайности, понуждающей к эмиграции. Хотя, с другой стороны, впервой, что ли, евреям, собрав свои скудные и громоздкие бебехи, пускаться в очередной Исход. Не сомневаюсь, что на пароход, отходящий то ли из Риги, то ли из Данцига в Нью-Йорк, они взошли, таща на себе матрасы и подушки, вся ценность которых — в желтых разводах несданных анализов и багровых трассах раздавленных клопов. Тащили в Америку все: целлулоидные манжеты, одноухие очки, нитки с иголками, угольный утюг и стиральную доску, вставную челюсть дедушки (а вдруг кому из детей, когда подрастут, придется впору), шлепанцы и необходимые для синагоги причиндалы.
В Нью-Йорке, в тесноте и толкотне уличной неразберихи, в семье денег не прибавлялось, только дети неизвестно откуда и для чего появлялись, удивляя родителей аппетитом и смышленостью, где бы чего пожрать.
Они прижились к Америке, как и их клопы. Прижились — вновь зажили между бедностью и нищетой. А потому появление еще одного, Джорджа, говоря по-местному, не было чересчур уж неожиданным сюрпризом — одним шлимазлом больше, одним меньше — какая разница?
Мальчик оказался музыкальным, но это никого не могло удивить и заставить всплескивать руками — а что вы хотите от еврейского мальчика? Чтоб он был глухим? Так зря хотите.
Он нигде не учился и осваивал музыку самой примитивной имитацией: притоптыванием, прихлопыванием, насвистыванием, напеванием. Он шастал по нью-йоркским салунам и барам, балдея от сногсшибательной во всех отношениях музыки губастых и улыбчивых негров, которым — плевать на все, лишь бы попеть, потанцевать и оттянуться в полный рост блаженства. В их музыке, такой чуждой и непривычной тонким струнам еврейской души, жила такая же тоска по несуществующей и утраченной неизвестно в каком поколении родине, искреннее презрение к удаче.
И этот еврейский мальчик-подросток-юноша взошел совсем на ином, совсем нееврейском небосклоне.
Он стал негритянским композитором.
Его первые выступления вызвали резонное недоумение. Представьте себе: вместо привычного черномазого выходит этот горбоносый и выдает нечто сугубо африканское, но с еврейским юмором и прочими выкрутасами. Публика с белокаменными лицами поначалу сухо восприняла эту эпатажную эклектику, не зная, как к этому отнестись: как к гротеску? Пародии? Или это и вправду всерьез?
Но уже в двадцать с небольшим он взлетел в самый зенит своей славы.
Блюз и спиричуэл, симфо-джаз и мюзиклы, регтаймы и серьезная симфоническая музыка — его почерку было доступно все. И в ком из нас не качалась хотя бы раз, хотя бы в один сизый понедельник «Рапсодия в блюзовых тонах»? Кто из нас не шептал колыбельную из «Порги и Бесс», представляя себя пыльным и седеющим от нищеты гарлемским негром?
Имя Джорджа Гершвина начало греметь еще при жизни композитора: в его музыке люди услышали свою, несдерживаемую природу, она — и природа и музыка — оказались свободными до разнузданности, когда все нипочем — ни депрессия, ни сухой закон, ни мафиози и копы вместе взятые, потому что все это — лишь декорации на сцене, на сцене, на которой поет, плачет и ликует освобожденная душа вечного раба и изгоя, названного почему-то маленьким человеком. «Мы все — маленькие люди с огромными душами» — поет музыка Гершвина, поет, раскачивая нас и колокола по нашим душам. На эту музыку писал слова Хемингуэй, и под эту музыку мы вспоминали о своем несостоявшемся прошлом, о своих мечтах иметь такое прошлое, о нашем трофейном прошлом, подернутом сладкой дымкой чужих иллюзий.
Джордж Гершвин, Джордж Гершвин! Что ж так рано ушел ты от нас, басовый соловей? Что ж ты не допел все свои потаенные песни и чувства?
Американская сказка сбылась. Еврейский мальчик прославился на всю Америку и прославил собой Америку. Он стал сказочно богат и фантастически удачлив. Голливуд, Бродвей, толпы поклонников, последователей, подражателей, визг фанатов и дорогих тормозов, роскошный особняк в Беверли Хиллз. Вот оно, еврейское и американское счастье, вместе взятые… он умер, не дожив даже до сорока.
Большинство людей уверено: Гершвин — негр. И это даже немного верно. Потому что еврею совершенно бывает безразлично, какой он еврей, армянский, африканский или русский, потому что, ко всем своим несчастьям и талантам, только еврей, заполняя очередную анкету, может написать в пункте о предыдущих местопребываниях «планета Земля» и «живот мамы».
Великий патриот приёмной страны (Ирвинг Берлин)
Он умер на 102-ом году жизни, умер во сне, получив от Бога смерть как награду. Его могила на кладбище Вудлон в Бронксе, Нью-Йорк, также скромна как и он сам:

Умер, обласканный славой, автор полутора тысяч песен и 1200 текстов к ним. И среди них — один из гимнов США, God bless America, «Боже, благослови Америку». Вот его награды:
— Премия Оскар за лучшую оригинальную песню в 1943 году для «Белое Рождество» в Holiday Inn.
— Медаль за заслуги армии США от генерала Джорджа Маршалла по указанию президента Гарри С. Трумэна.
— Премия Тони в 1951 году за лучший саундтрек к мюзиклу Зови меня мадам.
— Золотая медаль Конгресса в 1954 году от президента Дуайта Д. Эйзенхауэра за множество патриотических песен, включая «Боже, благослови Америку».
— Специальная премия Тони в 1963 году.
— Пожизненное Достижение Премии «Грэмми»в 1968 году.
— Зал славы авторов песен в 1970 году, который «отпраздновал свое первое ежегодное вступление и церемонию награждения в Нью-Йорке».
— Президентская медаль Свободы в 1977 году от президента США. Цитата, в частности, гласит: «Музыкант, композитор, гуманист и патриот, Ирвинг Берлин Воплотил Самые заветные мечты и глубочайшие эмоции американского народа в форме популярной музыки».
— Лоуренс Лангнер Премия Тони в 1978 году.
— Медаль Свободы во время празднование столетия Статуи Свободы в 1986 году.
— концерт в честь празднования 100-летия был организован в пользу Карнеги-Холла и ASCAP 11 мая 1988 года.
— Еврейско–американский зал славы 1988 года.
— Звезда на Голливудской аллее славы 1 февраля 1994 года.
— Зал славы Американского театра.
Он, ночной трудоголик, был богат, но он был бы сказочно богат, если бы не жертвовал постоянно огромные деньги, миллионы и сотни миллионов долларов — государственным и общественным организациям, отдельным людям, группам людей: он делал это из благодарности к Америке и людям Америки, для которых и писал свои хиты, от еврейских шуточных песенок до национального гимна.
Его настоящее имя — Израиль Моисеевич Бейлин, он родился у бродячего кантора Мозеса Бейлина и Леи Липкиной, уроженцев белорусского Толочина, что в Витебской губернии. Его отец — как персонаж романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звёзды», поэтому Изя родился в 1888 году не то в Тобольске, не то в Тюмени, не то в том самом Толочине. Последним — после старшего брата и шести сестёр. В Америку они приплыли из Антверпена на пассажирском судне «Rhynland» осенью 1893 года, когда будущему королю Бродвея было 5 лет.
Отец умер рано, в 1901 году — вся семья принуждена была работать и подрабатывать. Вечером, собираясь вместе, они складывали в общую кучку заработанные монеты. Меньше всех зарабатывал Изя — и это стало причиной его ухода из семьи, он чувствовал себя нахлебником и не желал сидеть на шее своих родных.
В школе он отучился всего два года — надо работать. Сменив несколько занятий, то разносчиком газет, то посыльным, он осел в кафе в Чайнатауне поющим официантом. По ночам, когда кафе закрывалось, осваивал пианино и научился играть, правда, только по чёрным клавишам — нотную грамоту он освоит много позже, но так и сохранит привычку держать при себе «музыкального секретаря», записывающего его мелодии. Как-то хозяин кафе попросил его написать песню и даже заплатил за неё 37 центов — это была популярная и в наши дни «Мэри из солнечной Италии». Когда он решил издать эту песню, наборщик в типографии ошибся в его фамилии — так в 1907 году появился Ирвинг Бéрлин.
Он участвовал в двух мировых войнах, в военной форме, но его оружием были песни, патриотические песни, вдохновлявшие солдат и гражданских. «Боже, благослови Америку» он написал в 1918 году, но славу эта песня приобрела лишь через 20 лет. Вообще, его песням была суждена долгая жизнь: слова проникали в души людей, а мелодии в них приживались и закреплялись — на всю жизнь.
Я приехал в США через 5 лет после его смерти и потому не мог спросить его о главном достоинстве Америки, да я и не стал бы спрашивать, потому что и сам догадался: Америка даёт свободу — свободу жить и работать, быть самим собой и быть тем, кем ты хочешь быть.
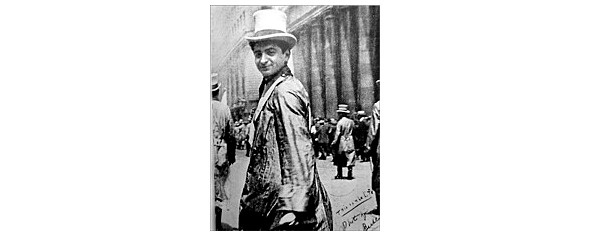
Возвращение рода (Алексей Шиповальников)
Его сиятельство князь Дмитрий Петрович Максудов был, волею судеб, последним российским губернатором Камчатки и Аляски. Молодой администратор (ему едва минуло 33 года, роковой в жизни каждого возраст) был полон энергии и прожектов по преобразованию сумрачного края, хранящего несметные и неслыханные богатства своих недр, глубин и потаенных кладовых.
Печальное известие о продаже Русской Америки ушлым и ловким янки привело князя в неистовую ярость. Он видел и понимал историческую, неисправимую ошибку, совершаемую нерадетельным правительством и, очевидно, в обход истинной воли Его Императорского Величества, самим Богом поставленного не попускать разора великой страны.
И кн. Дмитрий Максудов пишет гневное, яростное письмо Государю, где излагает ясные и неопровержимые резоны отказа от глупой и порочащей Отчизну сделки с вашингтонским беспородным отребьем.
Письмо губернатора было оставлено втуне и, не обремененное верной и важной рукой при дворе, не было пущено в ход. С досады и в горечи губернатор пишет прошение об отставке, получает высочайшую резолюцию, освобождающую его от служения окороченному краю. В 1869 году он покидает отдаленнейшую окраину и отныне наслаждается свободой опалы. Его сын, кн. Константин Дмитриевич Максудов, с годами становится адмиралом Черноморского флота. Древний род, связанный с Урусовыми, Раевскими, Горчаковыми, медленно, но неуклонно гаснет и разоряется, владения сужаются до летней резиденции на 16-ой Линии в Одессе. Последняя из рода Максудовых, дочь адмирала, заканчивает Одесскую консерваторию (Одесса тогда была третьим городом России и фактической столицей всего Юга, Новороссии) и становится регентом кафедрального собора. Она выходит замуж за Шиповальникова (вот они, гримасы новорусского инояза с его большевисткими выкрутасами имен и фамилий).
Их сын, Алексей Шиповальников, встретил нас в своей сан-францисской квартире, подкатив на своем раздолбанном автомобиле, и тут же повел в какой-то шалман за углом. Мы скромно выпили, даже, кажется, нечто безалкогольное, он барственно расплатился одной из своих многочисленных кредиток, на правах хозяина и старожила. Внушительный и громогласный, он выпадал из любой ситуации и компании.
Приехали-то мы, собственно, не к нему, а к его жене Татьяне, московской полулегендарной личности, еще девчонкой-выпускницей участвовавшей в демонстрации протеста на Красной площади против оккупации Чехословакии летом 1968 года. Она избежала ареста и положенного срока только благодаря тем восьми протестантам, буквально выпихнувшим ее из воронка, за что и получила прозвище 8 1\2. Татьяна была дочкой репрессированного академика Баева и хорошей знакомой моего приятеля Гены Копылова и его отца, дубнинского физика-лирика-диссидента Герцена Копылова, автора «Евгения Стромынкина» и «Четырехмерной поэмы».
Мы с Алексеем как-то быстро сошлись и подружились. Алеша руководил хором «Славянка», был регентом православного храма, писал музыку, по преимуществу духовную, читал курс композиции в католическом колледже аж за 3000 баксов в год (этих денег хватало на содержание роскошной темно-дымчатой кошки, кумира, идола и деспота дома), не более. А потому приходилось подрабатывать — грузчиком, компьютерщиком, клерком. Это не мешало ему быть вальяжным и небрежным жизнелюбом, большим любителем хорошо и всласть погудеть до утра или немного далее того.
В его доме я познакомился с Рапопортами: через две недели после нашего знакомства Алек Рапопорт умер. На печальной литургии в православной церкви где-то не то в Тибуроне, не то в Сау Салито, Алексей высоким голосом отпел великого художника, потрясая нас, собравшихся, искренностью этого пения-плача.
А потом они поднялись и снялись с тихоокеанского побережья: какая-то церковная община дала им дом и положила небольшую зарплату в Нью-Джерси, на южном берегу Гудзона, аккурат напротив несуществующего теперь Центра Всемирной Торговли. Мы провели у них, в маленьком двухэтажном домике, всего одни сутки, на полпути из Монтерея в Торонто. Все также неспешно, но неустанно текли водовка и разговоры: за жизнь, о музыке и про Россию. Мы плавно перебирали закуски и темы, не насыщаясь и не хмелея: не в наших это привычках и комплекциях.
Балансируя между бедностью и нищетой, на грани и за гранью здоровья, Алеша не покидал музыку и Татьяну, оставаясь верным обеим и получая взамен неизъяснимое упокоение души. Теперь он читал лекции где-то в Пенсильвании, за пределами транспортной доступности (150 миль в один конец), получая по 850 долларов за 22-часовую рабочую неделю. Ненормальная жизнь и гнилые аристократические корни сильно подтачивали его здоровье, и наши телефонные разговоры все более сворачивались на медико-больничные темы, хотя гораздо интересней было слушать его пассажи и проходы по истории отечественной духовной музыки, несомненным знатоком которой он был.
В августе 2003 года он отправился с огромным хором на гастроли по Аляске, все еще хранящей некоторые черты Русской Америки. Номадный цикл в полторы сотни лет замкнулся, как это и положено любому номадному циклу: гуны вращаются в гунах и «идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя». (Экклезиаст, 1.6).
Вот черновик нашей совместной статьи, не помню, опубликованной где-нибудь или так и оставшейся лежать под сукном.
Алексей Шиповальников
Александр Левинтов
Гармонии небесных сфер из преисподней
Рельеф духовной музыкальной жизни советской истории только-только начинает прорисовываться и то, что изложено здесь, скорее всего напоминает первые географические карты России, на которых истоки Волги изображались высоченными горами, а не низменным озерным краем. Скудость, разрозненность и недостоверность информации, отсутствие публикаций и библиографии один из авторов попытался возместить личными знаниями: собственными, полученными в ходе многолетнего опыта работы с церковным хором в Москве, знаниями матери, в течение почти пятидесяти лет проработавшей хормейстером и церковным регентом, ученицы проф. К. К. Пигрова (Одесская консерватория), выпускника Синодального музыкального училища. Кроме того, к данной статье привлечены воспоминания многочисленных старших коллег, лично знавших композиторов, скорее тайно, чем явно писавших духовную и религиозную музыку, а также рукописные материалы. Личные знания всегда окрашены субъективностью их носителя, а потому составляют конкорданс не на уровне фактов, а в общем тоне и окраске всего явления в целом.
Предыстория
Серебряный век России. Мы смотрим на него, как на небывалый взлет духовной жизни, философской мысли, науки, культуры, искусств, литературы, промышленного и сельскохозяйственного производства, предпринимательства. Но те, кто наблюдал этот короткий период изнутри, чаще называл его декадансом.
Так яблоня перед своей гибелью плодоносит в последний раз небывалым урожаем, так рыба, попавшая в сети, исходит в предсмертьи молокой.
Серебряный век России — одновременно и взлет и падение, бессмертная предсмертная лебединая песня.
В музыке, как самом тонком проявлении духа, в том числе национального духа, это переживалось наиболее остро и высоко трагично.
Синодальная реформа церковной музыки в России, начатая в 80-х годах в Синодальном музыкальном училище, явление не только духовное, не только музыкальное, она прошла живительным всплеском по культуре и обществу. За неполные двадцать лет реформы церковная музыка вернулась к своим историческим и духовным истокам, к возвращенному крюковому музыкальному языку, что породило новую семантику, новую семиотику и символику церковных песнопений. Блестящая плеяда этой эпохи — Кастальский, Рахманинов, Танеев, Скрябин, Чесноков, Черепнин, Стравинский — что ни имя, то звезда и эпоха… Рахманинов, лишь формально принадлежавший синодальной школе, создал свой, уникальный и неповторимый стиль, monolingua. Его «Всенощное бдение» (1915 г.) — апогей всего этого периода и всей школы.
Российская церковная музыка доказала свой великий взлет не только себе: блестящие гастроли Синодального хора потрясли Европу.
Тогда же были созданы научные основы медиевистики, резко поднялась культура и профессионализм церковных хоровых дирижеров и композиторов. Новая церковная музыка заставила многих из числа охладевших к религии и Богу интеллигентов задуматься и вернуться. Отец С. Булгаков и Николай Бердяев в разное время вспоминали, что именно пение церковного хора в Успенском Соборе московского Кремля (это и был Синодальный хор) глубоко потрясли их еще до поворота к вере.
Наконец, благодаря успехам школы, сама церковная иерархия вынуждена была признать древние знаменитые распевы, убедившись в их практической и эстетической красоте, духовной убедительности.
К великому сожалению, реформа, как и все российские реформы, оставила глубокий, но крайне узкий след. Церковная иерархия и регенты провинциальных хоров предпочитали проверенный стиль петербургской придворной капеллы, бахметьевско-львовские разработки с автентической каденциальной ориентацией — так проще, привычней и больше напоминает консерваторские упражнения начальных классов…
Синодальная реформа церковной музыки больше затронула музыку, чем церковь, все более усиливавшую, на собственную погибель, секуляризацию и подчинение себя интересам гибнущего государства и монархизма.
1918—1930 годы
Еще Христос публично не осмеян и не унижен, еще ни один крест не сорван с церковной маковки и ни один колокол не пал с колокольни, еще не расстрелян ни один священнослужитель и не осквернена ни одна икона. Большевики только-только захватили власть в стране (реально это произошло после разгона Учредительного Собрания 8 января 1918 года) и развязали красный террор. Одной из первых жертв стала церковная музыка.
Синодальное музыкальное училище, имевшее право присуждения магистерских и докторских научных званий, было закрыто особым декретом Ленина к весне 1918 года, когда еще даже политические партии-противники большевизма не были разогнаны.
Этот шоковый период дал, в сравнении с дореволюционным порывом, вялые, бледные произведения, подобные проросшей подвальной картошке — дело не только в терроре и кровавых притеснениях: церковные композиторы переживают и внутренний духовный кризис, глубочайшее недоумение и непонимание происходящего. Внутренний мир христианина рушится на фоне социальных потрясений: ограбление церквей под наглым предлогом помощи голодающим Поволжья, анафема большевикам патриарха Тихона, его убийство, появление «обновленцев» и нескончаемый поток ссылаемых на Соловки и дальше, в горний мир, священников, упорствующих в христианстве. Россия переживает времена Нерона. Закрыто московское Синодальное училище, преобразована ленинградская Капелла. То, что создается в это время — чаще всего, поскребыши и остатки прежнего, все более покрывающиеся пеплом и забвением. П. Чесноков, А. Кастальский, А. Архангельский перестают писать духовную музыку (лишь перед смертью П. Чесноков возвращается к ней). Другие, тайно и подспудно, продолжают — к их числу следует отнести такие яркие имена как А. Никольский, Н. Голованов, А. Александров, А. Чесноков, В. Самсоненко, Н. Фатеев, Я. Чмелев и др.
А. Александров (1883—1946) — выпускник Синодального училища, позже — основатель и руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии, народный артист СССР, лауреат Сталинских премий, генерал-майор, автор «Вставай, страна огромная» и государственного гимна СССР. Именно в этот период А. Александров создает Херувимскую песнь, две Ехтении: Сугубую и Заупокойную, Разбойника Благоразумного (1931 г.), Милость Мира (все произведения — для небольшого смешанного хора). В творчестве А. Александрова церковно-духовная музыка мимикрировала в военно-патриотическую, не утеряв своего сакрального пафоса. Еще в дореволюционный период церковная музыка А. Александрова отличалась мелодичностью и искренностью, но чересчур свободной манерой. На творчестве А. Александрова лежит ощутимый отпечаток влияния Кастальского.
А. Никольский (1874—1943) — один из самых ярких и оригинальных композиторов-синодалов. Профессор Синодального училища, после революции — профессор Консерватории. Одно из лучших и, возможно, далеко не единственное произведение конца 20-х-начала 30-х годов — Совет Превечный.
Н. Голованов (1891—1953) — выпускник Синодального училища, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, главный дирижер Большого театра, муж великой русской певицы А. Неждановой. Основные произведения данного периода: Херувимская песнь, Ангел вопияше, Великая Ектения (все произведения — для небольшого смешанного хора). Именно в этот период велико влияние на музыку Н. Голованова Н. А. Римского-Корсакова. Сама музыка может быть оценена, в отличие от дореволюционного периода творчества, как довольно сухая, с преобладанием гармонической, аккордовой структуры.
А. Чесноков (1880—1941) — брат П. Чеснокова. Наиболее заметное произведение — Свете Тихий для большого смешанного хора (ориентировочно, середина 20-х годов). Неизменный стиль А. Чеснокова — в вязкой многоголосой и многонотной структуре, что скорее напоминает концертную пьесу на канонический текст, чем церковное песнопение.
В. Самсоненко (1878? — погиб в лагере в середине 30-х годов). Представитель петербургской школы, выпускник Придворной певческой Капеллы. Необыкновенно талантлив. Музыкальная ткань произведений этого мастера подчинена слову, что в то время было большой редкостью. До ареста в 1927 году был регентом несохранившейся церкви Знамения у Московского вокзала в Ленинграде. Весь архив погиб после ареста. Биографические сведения о В. Самсоненко более чем скудны и разрознены. Самые знаменитые произведения — Великое Славословие, Величит Душа. К рассматриваемому периоду относится Светилен Пасхи Плотию уснув.
Н. Фатеев (? — умер в Ленинграде во время блокады в 1942 году) — также выпускник Капеллы. Регент Казанского собора вплоть до его закрытия в 1932 году. После А. Архангельского — один из самых ярких церковных композиторов и дирижеров Петербурга-Ленинграда. Универсально сочетал в своем творчестве традиции Синодальной и Петербургской школ. Богатое творческое наследие, весь архив и библиотека — все сгорело в блокадной печке. К послереволюционному периоду может быть отнесено переложение Блажен муж напева Киево-Печерской Лавры (опубликовано в Лондонском Сборнике Осоргина в 1962 году).
Я. Чмелев (1877—1944) — московский церковный композитор и регент, управлял хором церкви «Троицы во Грязех» у Покровских ворот вплоть до закрытия храма. Талантливейший самородок. При скудности биографических сведений сохранилось довольно много его произведений, в частности, знамениты Малые Славословия №1 и 2. По стилю близок к Архангельскому. В 30-е годы основал Украинскую Капеллу. В 20-е годы создал Антифон Великой Пятницы Одеяйся светом, яко ризою.
Достойны упоминания также В. Антонов (? — арестован в 1943, погиб в лагере), предположительно в конце 20-х годов написал Верую с альтовым соло, и Д. Зорин (? –?), регент смешанного хора Донского монастыря, отпевал патриарха Тихона (Беланова), автор Светильна Пасха Плотию уснув.
1933—1941
Сведений нет…
1941—1953
Сведений нет…
Говорить о каких-то сочинениях в церковной сфере невозможно, потому что, если они и были, то в глубочайшем подполье и подспуде. Пока ничего не обнаружено (некоторые сочинения, относимые к этому периоду, при проверке, оказывались либо более ранними, либо более поздними). Поистине, то было время разбрасывать камни, имена, творения. Двадцать самых страшных лет в истории России этого века, а, может, и всех времен. В 1941 году, накануне войны, в Москве оставалось лишь 8 православных храмов, где продолжалась служба.
1954—1961
После долголетья сталинского террора, после двадцатилетнего провала, глухого и страшного, на выжженом и вытоптанном грунте культурной и духовной жизни несчастной страны наступает короткое оживление, довольно жалкое и мрачное подобие весны. В катакомбах советской официальной музыки затеплились робкие свечи церковной музыки.
Этот короткий период оказался плодовитым, но, с творческой точки зрения, неинтересным. Начатая при Сталине политика легализации церкви (установление патриаршества в 1943 году, открытие церквей, монастырей и церковных школ сразу после войны) сопровождалась чудовищными гонениями и репрессиями. Особенно это касалось представителей других христианских конфессий и нехристианских вероучений.
Во вновь открываемые храмы пришли новые регенты, зачастую не имевшие специального образования ни в музыке, ни в теологии. В советское время не только не издавалась духовная литература, но и церковно-музыкальная. Более того, имевшиеся дореволюционные или зарубежные издания тщательно уничтожались. Хронический голод на нотные церковно-хоровые и богослужебные книги сохранялся почти до конца 80-х годов, когда, к 1000-летию крещения Руси, открылись шлюзы для зарубежной литературы, и началось интенсивное книгопечатание в стране.
Культурный вакуум заполнялся каждым регентом в одиночку — либо восстановление музыки знаменитых авторов по памяти, с «улучшениями», «украшениями» и другими вольными или невольными нарушениями и искажениями (наиболее распространенный способ) либо — оригинальная авторская работа, как правило, весьма низкого качества.
Но были и тогда яркие и колоритные личности:
А. Свешников (1890—1979) — директор Московской консерватории, профессор, народный артист СССР, главный дирижер Государственного хора СССР и Академического детского хора. Выпустил первую в СССР запись «Всенощной» Рахманинова. Автор Стихира Пасхи для смешанного хора (1952 г.!)
П. Богданов (? –?) — выпускник Петербургской певческой Капеллы, где много лет потом преподавал, впоследствии –профессор Ленинградской консерватории, несомненно, что многие годы писал церковную музыку, немного, но талантливо. Стилистически близок с А. Архангельским.
Н. Озеров (1892—1972) — регент левого хора Елоховского кафедрального собора в Москве. Одна из самых ярких личностей данного периода. Оставил после себя много хорошей музыки, в частности и особенно написанные в свободной манере Херувимская g-minor, Степенны 8 гласов, кондаки и тропари. Стилистически примыкает к П. Чеснокову.
А. Третьяков (1905—1978) — выдающийся церковный композитор советского периода. Ученик Никольского и Шапорина в Московской консерватории, он единственный продолжатель синодалов. Его собственный оригинальный стиль глубоко духовен и вместе с тем совершенно свободен по письму. Обширное композиторское наследие А. Третьякова еще ждет своего исследования и издания. Здесь уместно привести его Догматики 8-ми гласов, Великое Славословие, Херувимскую Es-dur, Свете Тихий.
1961-90-е годы
Хрущевская антирелигиозная кампания привела к закрытию храмов всех основных вероисповеданий (в РПЦ было закрыто 2\3 всех действовавших тогда храмов) и введение строжайших уголовных наказаний (вплоть до смертной казни) за «изуверское» сектантство в христианстве и других религиях, попрание свободы совести и мысли — все это никак не способствовало композиторской деятельности в церковной жизни. Зато в светской музыке возникает относительно новый жанр — духовная хоровая и даже инструментальная музыка. В первую очередь это относится к Г. Свиридову (1915—1998) и его Три хора к трагедии А. Толстого «Царь Федор Иоанович» (1969). Он первый, кто дал образец постоянной неканонической молитвы в русской хоровой музыке. Композитор исключительно духовного начала, пассионарий, он вертикально просканировал душу своего народа. Все последующие работы Свиридова в этом жанре — тому подтверждение.
Здесь также необходимо отметить исключительное значение А. Юрлова (1927—1973) — главного дирижера Республиканской хоровой Капеллы (ныне Юрловская). Он — выпускник Ленинградской Капеллы и Московской консерватории, не только был первым исполнителем хоровой музыки Свиридова, но и осуществил первую запись альбома русской церковной музыки в советское время.
А. Караманов (1934) — уникальный художник, создатель собственного музыкального симфонического мира, неоцененный, к сожалению, по достоинству. Среди лучших его произведений — Requem, симфония Совершишеся. Следует отметить большую популярность композитора и его произведений в Крыму, где прошла основная часть его жизни.
А. Шнитке (1934—1998) — Requem, Духовный концерт на покаянные стихи Нарекаши для смешанного хора. При всех различиях между собой это — два выдающихся произведения.
Э. Денисов (1927—1997) — Requem — одно из лучших и совершенных по духу и сути произведений недавно умершего мастера.
А. Рыбников совершил первые попытки рок-прочтения духовных сюжетов, автор первой советской рок-оперы «Юнона и Авось», пронизанной духовными и церковными хорами.
Конец 1980-х годов
Эта, еще непонятная эпоха перемен, очередной тайм взлета-падения церкви и церковной музыки, новый виток секуляризации и теперь, к тому же, еще и политизации церкви, пока не поддается ни описанию, ни прогнозированию: что ждет постсоветское общество и его духовные основы — возрождение? декаданс? нравственная мимикрия под мировые стандарты?
Несомненно — это взлет новых имен и талантов: В. Артемьев (1935-) Requem памяти жертв сталинизма, М. Ермолаев (1953-) трио-квинтет Похвала Пресвятой Богородице, Н. Каретников (1930-) — хоровая и церковная музыка, М. Зайгер (1949-) Благочестивые вирши 17-го века Е. Коншина (1953-) — духовная хоровая музыка, Н. Губайдулина () — Профундес.
Возвышенные голоса духовной музыки из недр преисподней империи зла были еле слышны, это были скорее диалоги одиночек с Богом, чем социо-культурный хор. Во имя чего и зачем были приняты эти страдания и совершены эти духовные подвиги? — ответ получим не мы: история благосклонна только к потомкам…
Давид Финко
— С Вами говорит дорогой Леонид Ильич, — так обычно, с до боли знакомыми интонациями косноязычия и шепелявости начинает Давид Финко разговор по телефону.
— Привет, Давид Ильич! Как дела? Как генсекуется тебе в Филадельфии? Чего генсечешь?
Он очень сжато интересуется моей литературной жизнью: не знаю, как к нему попала моя «Метанойя», но именно благодаря ей мы и подружились.
Далее следует короткий отчет, почти исключительно матом. Парадоксальным образом Давид Финко, виртуозно владея матом, доказывает себе и миру, что этот мат несовместим с музыкальным творчеством и глубоко еврейской интеллигентностью. Жизнь художника — его картины, жизнь композитора — музыка, выступления, все остальное настолько несущественно, что в отчет не поступает, и потому вся личная, но не музыкальная жизнь Давида для меня зашита в темноту.
Что такое абстрактная живопись, мы знаем благодаря Казимиру Малевичу и Василию Кандинскому — это выражение мысли художественными средствами. Что такое театр абсурда, мы знаем благодаря Чехову и Ионеску — это драма тотального взаимонепонимания людей. Абстрактная поэзия представлена Бодлером и Иосифом Бродским, где мысль оголена, стриптизирована от финтифлюшек красивостей и хорошестей буржуазно-слащавого мировосприятия. Предельно абстрактная литература — это Достоевский с его живописанием поползновений души, а не ее телесных оболочек, а за Достоевским — сонм последователей и подражателей: Кафка, Леонид Андреев, Камю, Сартр, Фолкнер. Что такое абстрактная музыка? — Мы знаем Малера, Шнитке, Губайдуллину, Давида Финко. От чего абстрактна их музыка?
По поводу всякой действительности существует создаваемая нами знаковая система, способная существовать самостоятельно. Эта самостоятельность знаковых систем (по поводу каждой знаковой системы, как состоявшейся действительности, может быть сформирована еще одна, и т.д.) и их независимость друг от друга и подстилающей поверхности первой, реальной действительности порождает несколько проблем.
Первая из них очевидна: а существует ли в реальности сама реальность? Не является ли она одним из мифов одной из знаковых систем? Иными словами «В начале было слово» — метафора или так оно и есть на самом деле?
Вторая — путь от конкретного к абстрактному понятен и возможен, а назад? Можем ли мы восстановить по знаковой системе подстилающую ее действительность? Можем ли мы «в начале было слово», а потом, в конце сотворить мир, или это только может Творец, а мы все — проектировщики-неудачники? Можно ли по музыке Давида Финко восстановить его биографию и его мир, или это только в одну сторону, от жизни к музыке?
Тут есть еще куча проблем, но остановимся на второй.
Я, повторяю, никогда не видел Давида Финко, а по телефону ни разу не говорил с ним за жизнь, потому что, знаете ли, это как-то слишком вычурно — говорить за жизнь через три часовых пояса с человеком явно незнакомым.
Но однажды он прислал мне кассету со своей музыкой. Это получилось потому, что он попросил меня написать либретто одноактной оперы по рассказу Андрея Платонова «Юшка» — надо ж было хотя бы немного ознакомиться с особенностями и стилем его музыкального языка. Потом я писал по его просьбе либретто о художнице Маше Башкирцевой, о православном миссионере о. Ювеналии, о «Красной Жизель» Ольге Спесивцевой — все безнадежно не то, какой из меня либреттист? Тут надо быть профессионалом.
И вот теперь я решил «влезть в его душу», пользуясь этой кассетой и весьма отрывочными биографическими данными… кстати, кассету эту я подарил библиотеке ЦМШ, центральной Музыкальной Школы, где несколько лет преподавал по классу географии.
Жизнемузыка Давида Финко чрезвычайно неровна, она, то взлетая, то затихая и замирая, вся — на нервах. Если искать ей более точное определение, то она, прежде всего, виртуозна, скорее виртуозна, чем шедевральна: Давида легко не признавать, но трудно отказать ему в мастерстве. Я даже так думаю, что он несносен и невыносим в своих причудах, капризах и упертости на некоторые жизненные и творческие принципы. Вот уж кто никогда не будет развозить пиццу и газеты, мыть машины, окна и посуду. Для него мир не таков, каков он есть, а каким должен быть для Давида. И если мир не соответствует, то его следует сделать таким. И Давид делает. Пусть не весь, пусть только на расстоянии вытянутой руки, но мир вокруг Давида таков, каким он должен быть. На этом настаивают рваные гармонии, рвущиеся из него. И, как бы космополитичен ни был Давид Финко, он — еврейский композитор, синагогально еврейский композитор, композитор, через которого проходит Тора в современном и, вместе с тем, извечном изложении. У Финко есть вещи, написанные во время Исхода, но вырвавшиеся на свет только сейчас, через его музыку.
Давид Финко необычайно продуктивен: более десятка опер, симфонии, концерты для самых необычных инструментов, камерные прпоизведения — все в изобилии.
З.к №1661 — так проходит по статье за эмиграцию «зарубежный композитор» Союза композиторов России №1661 ленинградец Давид Финко, без которого и Россия — не совсем Россия, и он без России — не совсем Давид Финко. А точнее, совсем не Давид Финко, а так, житель Филадельфии.
Пейзаж для слепых
Валерию Гаврилину и Давиду Финко
посвящается
Первая дорога идет серпантином, то взлетая, то падая вниз, не то вдоль, не то мимо Тихого океана. Океан не видно и не слышно — он, как, впрочем, и весь остальной мир, утонул в тумане, и, если не знать, что он рядом и так близко, всего несколько сот метров свободного падения, то можно и не узнать, как все-таки ты погиб и разбился.
Иногда эта сплошная серая белизна превращается в клочковатую вату, вдруг где-то далеко наверху появится праздничный прогал голубого неба и крутой, ершистый лесом склон горы — невероятная и радостная красота существующего, оказывается, мира, но потом вновь попадаешь в самое бельмо, и на поворотах видно, как пурга тумана, сильные струи и заряды его несутся вверх по склону, клубятся и извиваются непроглядным бураном.
Мы уже час петляем по извивам дороги и нам кажется, что мы крутимся на месте, ничего не происходит, спидометр безбожно врет, а часы вот-вот встанут от потери смысла вот так тикать в пустое время.
— Приехали, — говорю я и сворачиваю с шоссе налево, поперек отсутствующего встречного движения.
Мы спускаемся к парковке, мимо влажных эвкалиптов, зарослей крапивы, аниса и еще чего-то отчасти знакомого, достигаем коротенького темного туннеля, проходим и его, еще полсотни шагов по деревянным помостям, прилепившимся к отвесному каменистому склону — и сквозь поземку тумана начинаем различать небольшую причудливую бухту, окруженную вычурными скалами, в белом ажуре прибоя, серый влажный пляж, бьющий из скалы в море водопад, потаенную и малодоступную красоту природы…
— Слушай, меня, кажется, решили гнать. Четвертый курс, бляха муха, дали б доучиться.
— Меня тоже решили гнать. Бесперспективные мы.
— Ты-то, Валера, еще молодой, а мне уже 28. Жена, ети ее… так ведь и ее понять можно. Сначала кораблестроительный, теперь консерватория — все специальности какие-то нееврейские. Тебе хорошо — холостой еще.
— Как же.
— Да, забыл. Извини. Как тебя угораздило?
Ленинградская консерватория — не место для подобного рода разговоров, даже в коридоре. Откуда-то все время прорывается какое-нибудь пиликание, дистиллят постанавливаемого голоса, шуршание.
— может, ну его это все? Пойдем — вмажем? У меня трояк есть.
Не в моих это правилах, но на душе так хреново кто-то скребется, как на виолончели, и так все тоскливо и так все по хрену пень — а, пошли!
По старой памяти я зарулил с Валерой в «Нептун», что недалеко от порта, здесь я когда-то учился и бражничал, что, собственно, было одно и то же, потому что Питер без пивных и рюмочных — не Питер, а так, болото стоячее. Далековато, конечно, но тут зато спокойно, и менты не мешают.
Мы прихватили за два восемьдесят семь — я посмотрел на эту перспективу на двоих с небольшим ужасом, а Валере, кажется, такая доза в привычную норму. Вологодские, они все, наверно, без нее пиво пить не могут.
Мы — консерваторские вечерники, в общем-то, безнадеги: никому мы не нужны, балласт поганый, необходимая сноска в советском образовании, а на дневное поступать я, например, по закону не могу: уже один диплом есть, надо пять лет оттрубить, а потом получить рекомендацию — это какой Адмиралтейский завод может дать рекомендацию на поступление в консерваторию, да еще жиденку? Так вот и мыкаюсь по спецрасписанию: на лекции, понятное дело, на Театральную езжу, а на занятия — к профессуре на дом или вечером, когда уже ничего не хочется, особенно зимой, когда вечер в Питере наступает прямо с утра. Я этот вечерний зимний скрип Питера, когда идешь из консерватории домой, мы почти у самого Почтамта, тут и идти-то минут пятнадцать, а за эти пятнадцать минут все проклянешь — и этот снег липучий, и корабелку свою непутевую, и своего профессора-татарина, и себя, грешного обрезанца.
У Валеры — свои заморочки. Таким как он, талантам от Бога, на Руси везти не должно и нормально учиться в консерваториях не положено.
После второй (Валера быстро слетал, хотя это и не его места), плюнули мы с ним, наконец, обсуждать, с чего начинается музыка, потому что всю первую только об этом и говорили.
А что это обсуждать, и так ведь ясно, что не с потолка и не из подражания природе. Это художники — им натуру подавай, морду чью-нибудь блядскую или пейзаж вонючий, с разными цветочками. И не поэты мы, которым сверху, как пыльным мешком из-за угла, «я помню чудное мгновенье» сваливается. Музыка, она изнутри рождается, из самых наболевших печенок, понять бы вот только, как это из печенок доставать и где эти печенки расположены. Музыка — это пейзаж для слепых.
Валера все на свои какие-то корни напирает, мол, народ в нем говорит. Какой, на хрен, народ — пьянь сплошная! В свиристелки всю жизнь дули, дальше домбры не прошли, в бубны да рожки, мать их, самовыражались. Фольклор называется — я б от такого в себе давно б жилы перерезал. А меня Валера все беспородностью да безродностью костерил. Валера, Валера, какая тут беспородность, если все остальные в сравнении с нами, космополитами хреновыми, — пацаны по жизни и истории?
Когда вторую оприходовали, уже так, под пиво без всякой закуси, под мануфактуру и Урицкого разговор пошел.
У Валеры отца, считай, не было: ему два года было, когда тот ушел на фронт. И, не вернулся, как у нас водится. А в 50-м мать забрали. По уму, путь у него прямой выстраивался: детдом, ремеслуха, родной завод, родная зона. А в нем музыка прорезалась. И ведь случайно, совсем случайно в музшколу попал, и окончил ее, и женился на своей училке, точней, она его на себе женила, чтоб не пропал, сиротина, по армиям и подворотням. И ведь из этой своей Вологодской, я даже не знаю, где она находится, наверно, где-нибудь на северах, поближе к родным зонам, чтоб на перевозки очень не тратиться и сроки не проводить в столыпиных, когда гонят и перегоняют, прямо в Питер попал, не куда-нибудь — в Консерваторию.
— погонят нас из консервки, гадом буду, погонят — не было б таланта, не погнали бы. Писали бы стенгазеты, участвовали б в субботниках, как порядочные. Отчетность собой бы не портили: я — несоюзная молодежь, ты уже по возрасту вышел, а в партию — кто тебя пустит с таким шнобелем?
— Валер, да пошли они! Прорвемся! Ты на своем фольклоре и русской душе, сейчас это опять, говорят, пойдет, я на своей жидовской ноте — мы прорвемся! Мы еще прославим гребаное наше Отечество, союз наш нерушимый, ты знаешь, я на третьем написал «Песню о Соколе» — ни хрена никто не понял, зарубили, а мы давай, но только по последней — и по домам. Ты к своей тетеньке, я к себе, на Якубовича.
— смотрю я на вас: откуда у вас столько оптимизма?
— Между нами, это не оптимизм, а трусость. Я на третьем курсе написал увертюру «Восстание в гетто». Мне мой Салманов говорит, кончай, мол, еврействовать, хочешь еще не начавшуюся карьеру погубить? Переименовывай!
— Это, что ли «Героическая баллада»? Слышал, ничего, сильная вещь, современная. Не моя, но сильная.
Мы выгребаемся в качающийся мир вечерних фонарей, потому что в Питере даже самая глухая ночь — все-таки еще вечер, раз мерзлой зыбью зыбится и мелкой тлею тлеется хоть одна живая душа-распашонка.
И мы ползем, растекаясь ногами на скользких и продувных как карточная бестия углах беспроглядных питерских проспектов, а трамваи дребезжат заиндевелым скрипом на поворотах, вышибая из себя колючие искры — и это тоже музыка, музыка моего города, отрывистая, непротяжная, сильно подмороженная и рвущая душу. Я пытаюсь ухватить хотя бы немного этой мелодии, как-то запомнить ее, чтоб потом воспроизвести и развернуть в искрящее и визжащее полотно, потому что этот визг и есть настоящая музыка, а не Валерины во саду ли хули гули, околачивали дули.
На том и расстаемся, не договорив, недоругавшись, недонасострадавшись, так и не поняв, откуда и зачем в нас музыка и что это вообще такое — музыка.
Я все-таки добрел до дому, а потом написал свою сонату, за которую наш прославленный и именитый Чишко, автор оперы «Броненосец „Потемкин“», за которую, а также за огромное пузо прозванный «Брюхоносец в потемках», между нами, антисемит еще тот, ратовал на всех углах, чтобы мне дали первую премию — и мне ее дали, а потом они же говорили про нас двоих, мол, «прорвались к музыке», а мы ни к какой музыке не прорывались, она и так в нас всегда была, мы к себе прорвались и нам немножко повезло, особенно Валере, на которого положили глаз маститые славянофилы, Свиридов со Щедриным, и он пошел-пошел-пошел в гору, нахватал и премий и званий, и спился почти в славе и почете, а мне, пархатому, все это еще предстоит, если, конечно, доживу, потому что Валера-то не дожил до окончательного признания, а ведь на три года моложе меня будет… Впрочем, что это я? Мне уже под семьдесят, я вновь восстановлен в правах композитора на своей немудрящей отчизне, признан в Америке, по крайней мере, среди профессионалов и ценителей, но мне еще есть что прокричать уходящему из-под ног миру и той непутевой далекой стране.
Мы стоим, зачарованные расползающимся в тумане пейзажем, и во мне зарождается новая, еще никому, даже мне, неведомая и незнакомая мелодия, тема рвущегося ввысь, чтобы там и умереть, тумана.
Музыкальный нонконформист (Николай Корндорф)
Нонконформизм возник в СССР в конце 50-х-начале 60-х годов. Течение охватило практически одновременно все сферы творческой и интеллектуальной деятельности. В литературе нонконформизм был представлен Гладилиным, Некрасовым, Аксёновым, Солженицыным, в поэзии — Высоцким, Коржавиным, Бродским, в музыке — Губайдулиной, Пяртом, Шнитке и Денисовым, в живописи — Рапопортом, Арефьевым, Соханевич, Дышленко, в скульптуре — Шемякиным и Неизвестным, в кинематографе — Тарковским, в философии — Зиновьевым, Лефевром, Щедровицким, в живописи — «будьдозеристами», в частности, Аликом Рапопортом. Здесь названы только некоторые, очень немногие имена.
Нонконформизм сразу заявил себя не только и даже не столько политическим протестом против суконного соцреализма, принципа партийности литературы, науки и философии (в наше время нонконформизм направлен против коммерческого искусства, на потребу кредитоспособной публики) — он претендует на художественную самостоятельность и место в истории искусств, а не политической борьбы.
При всем несходстве названных выше деятелей, так нежно опекавшихся КГБ (интеллектуальную: научную и философскую элиту с не меньшей нежностью душило ГРУ), при всей контрастности их художественных средств, подходов, кредо, можно выделить основополагающие, типологические критерии нонконформизма как художественного стиля.
Прежде всего, это — поиски новых форм, ибо искусство — это, конечно же, форма и поиск эстетизирования мира.
Кроме того, это — вдохновение нового содержания, от экстравагантного индивидуализма Тарковского, до античных и библейских исканий Бродского и Рапопорта.
Сюда же следует отнести освоение иных, новых сфер приложения: логика науки Зиновьева, организационно-деятельностные игры Щедровицкого, философская скульптура Неизвестного, интерпретации Евангелия Губайдулиной.
Наконец, как и все синтетические стили, будь то Возрождение, импрессионизм, абстракционизм или соцреализм, нонконформизм заставил пересмотреть всю предыдущую историю искусств, введя новую обойму художественных норм, новую парадигму, позволяющую говорить «до нонконформизма» и «нонконформизм».
Эта первая волна нонконформистов, как и всегда бывает в начале любого нового стиля, была чрезвычайно трудолюбива и плодовита — им некогда было расслабляться, ибо слишком силен был гнет противостояния и давления устаревших форм и течений, а также скверных форм в штатском.
Принципиально нонконформизм отличается от всех предыдущих стилистических течений предельной философской насыщенностью — не размышлениями, столь свойственными абстракционистам, концептуалистам и иным, а именно философствованием — в строгих и четких философских системах. Нонконформизм, даже самый индивидуалистический — это законченное и полное мировоззрение, система взглядов, выстраданная до убеждений и учений.
Любой нонконформист обречен на одиночество, горькое, гордое, а потому плодотворное. Даже объединяясь в борьбе с режимом, они, нонконформисты, остаются прежде всего наедине с собой, не растрачивая свое время и энергию на склоки, интриги, возню за заказы и место в президиуме. Да, они солидарны между собой — но это и все. Каждый избирает свой путь и идет по нему, здесь невозможны ни толпы, ни группы, ни ансамбли.
В начале прошлого века русские художники дали свободу цвету — и благодаря этому, благодаря отсутствию сюжетного изображения живопись Малевича и Кандинского наполнилась мыслью. Цвет, освобожденный от рисунка, оказался поводом для размышления.
В конце века русские композиторы вырвали звуки из пут мелодий: и их музыка заполнилась движением. Свободный звук оказался более выразительным, ведь мелодия — жестокая логика гармонии, а разве движение, физические движения, движения души, движения чувств, эмоций, страха, любви, опасности, все жизненные движения логичны? Звук как звук, свободный звук оказался онтологичен, а потому — кинематографичен и живописен.
К нонконформизму в музыке, несомненно, принадлежит и Николай Корндорф.
Он сам так характеризовал себя и нонконформизм в одном из интервью по поводу возрождения им в 1990 году после шестидесятилетнего молчания Ассоциации современной музыки: «Ассоциация не умерла в 1931 году. Я полагаю, что Ассоциация современной музыки в России продолжала существовать со своего начала в 1923 году и до нашего времени. Для меня она представляла и продолжает представлять художников, стремящихся к правдивому выражению своей точки зрения посредством музыки. Что это означает? Коротко говоря, это значит не быть конформистом. В нашей стране это означает антиконформизм по отношению к коммунистической идеологии».
Клан под названием «Союз композиторов» — самый консервативный и замкнутый творческий союз. Но даже жесточайшая диктатура партийного пахана Тихона Хренникова не смогла удержать кинорежиссеров от привлечения в кино авангардистов — слишком очевидна была эта «кинематографичность» их музыки, ее способность передавать действие и движение. Корндорфу «повезло»: на съезде композиторов Тихон Хренников разгромил Шнитке, Губайдулину и Денисова, Корндорфа трогать не стал, вероятно, по молодости лет последнего. После разгрома эти композиторы сразу получили мировое признание, и больше Хренников уже никого не громил именно по этой причине.
Он рано начал учиться музыке. Его соучениками еще до консерватории были Геннадий Гладков, Сергей Томин (Колмановский), Максим Дунаевский. Весь период его становления как музыканта — счастливое время отечественной музыки, насыщенное именами яркими и безусловно талантливыми. Корндорф блестяще учился в Московской консерватории на дирижерском отделении по классу Гинзбурга, инструментовки — у Фортунатова, и на композиторском — по классу Баласаняна. Когда в консерваторию приглашали Шостаковича, ему готовили в ученики двоих, в том числе Корндорфа. По мнению Николая хорошо, что этого не случилось — он бы стал маленьким Шостаковичем, всего лишь. Среди однокурсников-композиторов были: Мартынов, Дунаевский, Галахов. Несколько старше учились Артемов, Рабинович, Рыбников. Очень большое влияние на Корндорфа оказал Юрий Буцко, бывший на 4 курса старше. На исполнительских факультетах на одном курсе либо на год-два старше с Корндорфом учились такие звезды, как Н. Гутман, О. Каган, В. Спиваков, Г. Кремер, В. Третьяков и др. В классе Гинзбурга он занимался одновременно с Дм. Китаенко, В. Федосеевым, М. Юровским, А. Левиным, С. Скрипкой. Именно в классе Гинзбурга он познакомился с Александром Лазаревым, ставшим впоследствии близким другом и первым исполнителем многих сочинений. По окончании учебы Корндорф работал в консерватории. Преподавал скромный курс чтения партитур — авангардист вряд ли мог рассчитывать на нечто более солидное. В СК возглавлял секцию молодых композиторов. Трудности и трения начались, когда отказался вступать в партию и в консерватории, и в СК.
Лучший его соученик, друг и соратник — дирижер Александр Лазарев ныне входит в мировую элиту, гастролирует по миру и включает в свой репертуар произведения учителя. Пока тот был жив, они с жаром обсуждали дирижерскую интерпретацию и понимание произведения. Николай Корндорф, будучи предельно требовательным к исполнителям, был беспредельно и беспощадно требователен и строг к самому себе. По сути, первое исполнение каждого произведения означало возвращение к партитуре, ее совершенствование, улучшение, как правило, благодаря сокращениям.
Одиночка. Труженик. Профессионал. Экспериментатор.
Он не только экспериментировал в собственно музыке, но и в исполнении ее, превращая симфоническое произведение в театр инструментов. Помимо партитуры он даже писал траектории движения оркестрантов по сцене и залу. Так, например, «Примитивная музыка» исполняется 12 саксофонами, свободно передвигающимися не только по сцене, но и по залу, среди слушателей. Это — типичный для Корндорфа инструментальный театр, так же, как и яркое «Да!!». Апофеозом этого театра является «…она вертится!» — самое оригинальное и необычное сочинение, целый спектакль, многоуровневый и многослойный, с цитатами и из Галилея, и из Баха, и из Малера и еще много откуда.
Он терпеть не мог любительщину и дилетантов. Не без содрогания он, например, вспоминал свою работу в университетском театре Марка Розовского (но не самого Марка) «Наш дом», где выросло много подлинных мастеров сцены и экрана, но было и много людей случайных, будущих геологов и физиков, а не актеров.
Корндорф первым ввел в симфонический язык народные голоса. Вообще, при сложнейшей технике, он не чурался ни откровенно попсовых или фольклора, или церковно-колокольных мотивов. Он вообще не ставил никаких границ для музыкального материала, превращая в музыку все, что может звучать. «Ярило», наверно, самое исполняемое сочинение, музыка глубоко русская, дохристианская, по настроению перекликающаяся со многими работами и поисками Стравинского: здесь сам музыкальный строй — глубинно народный.
Его музыка, необычная и одновременно предельно органичная действию, помнится по фильмам «Десять негритят» С. Говорухина, «Морской волк» И. Апасяна и другим.
Меня потряс Гимн №2, который я сходу прослушал несколько раз. Это — манифестация отсутствующей мелодии, драматургия звука. По своему воздействию Гимн №2 сравним с «Болеро» Равеля и «Караваном» Дюка Эллингтона. И одновременно — это своеобразнейшее, необычное произведение, симфоническое по исполнению и хоровое — по природе.
С 1988 года он, наконец, стал «выездным», когда уже все стали выездными, а некоторые даже и въездными. Вместе с Губайдулиной, Шнитке, Щедриным и другими он совершил поездку в Бостон (США) на фестиваль «Making Music Together», где выступал также в качестве дирижера Ансамбля солистов ГАБТа. Вслед за тем, в 1990 году — поездка в Германию, в качестве члена жюри Второго Мюнхенского Биеннале. 16 мая следующего года он уезжает в Канаду. Германия, США, Мексика… В 1992 году участвует во Франкфуртском фестивале в качестве композитора и дирижера. Исполнение оркестром Большого театра под управлением А. Лазарева 3-ей симфонии стало, по его признанию, самым значительным событием его музыкальной жизни.
Он уехал в Канаду, когда его старшие товарищи по нонконформизму стали шаг за шагом признаваться за классиков, когда ярлыки «отщепенцы» на них обветшали и сильно полиняли. Неистовый и бескомпромиссный, Корндорф ушел от соблазнительной столбовой признания. Он уехал в Канаду, где продолжал напряженно работать, дирижировать, исполняя свои и чужие произведения, выступать с концертами, статьями по музыковедению и лекциями, на музыкальных фестивалях, и писать, писать, писать, совершенствуя и оттачивая свое незаурядное мастерство.
Его хватило на десять лет… Он умер в Канаде, в Ванкувере, в 2001 году в возрасте 54 лет. Приняв канадское гражданство, он остался — по внутреннему убеждению и признанию других, русским композитором. Сердце не выдержало и надорвалось…
— Эй, там, внизу! Пора!
— Подожди, подожди… это место надо переделать… и сократить…
— Твое время истекло. И я неумолима.
— Ты ничего не понимаешь. Ведь это совсем новая для меня манера. Это — тональная, диатоническая, подчас даже без случайных знаков, музыка, я использую репетитивную технику и некоторые черты минимализма. Вот, послушай-ка это место…
— Мороз по коже. Что ж так безнадежно? Неужели тебе не преподавали оптимизм?
— Именно потому, что преподавали. И даже, помнится, был госэкзамен… А это — сразу на двух роялях… Тебе не кажется, что тут, для большей вокальности музыкального текста, стоит немного растянуть? А это — колокола… Набатные…
— Увы, нам пора…
— Прошу тебя, не спеши. Осталось совсем немного.
— Ты ошибаешься. Теперь ты будешь сочинять свою музыку вечно…
…Кассету с записью произведений Николая Корндорфа я передал в библиотеку ЦМШ, вдоволь наслушавшись этими звуками…
ХУДОЖНИКИ
Алек Рапопорт
Тихий гений взволнованного мира
(Requem — Мы помним)
Умер Алек Рапопорт
После минутного молчания речь о нем возвращается сдавленным косноязычием. В серой мути короткого питерского дня, под роскошными калифорнийскими небесами и в вышних прошелестело «умер Алек Рапопорт», большой и настоящий художник.
Он умер достойной смертью художника — в горькой нужде, в мастерской, за работой, лишь начав «Троицу».
О его картинах сказано и будет сказано много, сейчас мы прощаемся с ним, художником совести.
Сквозь предельную простоту и лаконичность его полотен очень трудно прорваться к закрытому, израненному и беспощадному к себе художнику, с тихой яростью отстаивающему совесть и веру. За удлиненным, искореженным и взволнованным миром стоит со-весть как диалог трепетной и робкой души с Духом («Смерть Симеона Столпника»). Совесть — самое дорогое, что есть на свете, но стремительно теряющее цену при продаже или попытке торговать. Он ни разу не предпринял этой попытки. Но нет укоризны в его суровом, хорошо проветренном и искаженном волнением мире («Образы Сан-Франциско»).
Пока живы и колки в нас угрызения совести, пока мы можем терзаться муками сомнений и идти неисповедимым путем вослед призванию — нам будет что увидеть в полотнах Алека Рапопорта.
К таким людям жизнь и люди особенно беспощадны. Покидая в 1976 году страну, он оставил на произвол судьбы и совести других людей 300 своих картин, прося и надеясь, что их со временем удастся перевезти через «священную и нерушимую». Его уверяли и ему обещали… К хозяину не вернулась ни одна. «А на этой стене — Алек Рапопорт, подарено нам самим художником» — теперь вы можете смело это говорить, он никогда не ловил вас за руку, а теперь и вовсе умер. У художника нет адвоката, только прокурор и стража — он сам и его творчество.
Большой художник, он был обречен на одиночество, даже в кругу любящих и понимающих, он — вечно сомневающийся в собственном бытии, а не Бытии Бога («Неверие Фомы») и только в картинах утверждающий свое присутствие в мире. Одиночество оглашенного, на пороге Храма («Плач у стен Храма») — одиночество того, кто, видя Храм, еще не видит себя в нем — что может быть горше?
Секрет его одиночества: он, как кукушонок из гнезда малой птахи, выпал из времени и истории. Он с нами, да. Но он и античен, как трагическая маска («Автопортрет в виде маски Мардохея»), он сверстник, собеседник и современник Рембрандта («Автопортрет»), Шагала («Вечеря»), Гойи («Талмудисты»), Андрея Рублева («Образ», «Из жития Св. Николая»), его картинами можно иллюстрировать Рабле и Экклезиаста. Он — из колыбели и у гроба евро-еврейской культуры, на прекрасных и наивных окраинах которой — Россия и Америка, низменный Питер и гористый Сан-Франциско. Он еще и там, где нас еще нет и где другие, неведомые нам генерации будут с удивлением говорить «он наш»..
Коротка и невыразительна жизнь, тише злобной критики героическое сопротивление — совесть не криклива и не терпит трам-тарарама, но ярок и бесконечен путь его картин, наш разговор с ними.
С ним невозможно и неуместно было говорить о сейлах, способах похудания, политической обстановке в России и на международной арене, вообще о всяких мелочах. Что ж мы так и не узнали от него секрета потаенной мудрости чистой совести и веры? И теперь мы будем смотреть в его картины, ища ответы на незаданные при жизни мудреца вопросы.
Памяти Алека Рапапорта
Я буду взят, когда совсем отмаюсь,
когда смогу сказать, чего никто не слышал,
когда прошелестит по чердакам и крышам,
по кабакам, пивным, блядям — моя усталость.
И я взлечу, рассеянный до пепла,
отпущен от грехов, соблазнов и вожжей,
и тишина мне, призраку, милей,
чем оставляемый на скорбный путь молебен.
И в путь пущусь, в далекий, в дальний путь,
в конец Вселенной, в тупики межзвездья,
туда, где и беззимье и безлетье,
где встречу только истину и суть.
И припаду, и пропаду навеки,
не вспоминайте больше никогда,
я был для вас истома и беда,
простите, что не так, и опустите веки.
Плач Петра в жанре пешарим («Плач у стены Храма» Алека Рапопорта)
Этот жанр возник в кумранских пещерах. В отличие от нас, победителей и пожирателей пространств, отчего время для нас летит с сумасшедшей скоростью, кумранские ессеи были добровольными пленниками своей узкой пещеры и потому в полной мере владели длиннотами и безднами времени. Они комментировали книги пророков Аввакука и Даниила не как отстоящие на три-четыре сотни лет от них, а как актуально написанные и переживаемые ими самими.
Картина Алека Рапопорта «Плач у стены Храма» — в том же жанре пешарим. Ее можно смотреть и как плач апостола Петра, и как автобиографию.
«Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько» (Мтф. 26.74—75.)
Он плачет, как может плакать только проникновенная скрипка в дрожащих крючьях старого старинного еврея, он плачет, простой рыбак, Симон Петр, надрываясь и давясь своим горем. Вот только что Учитель попрощался с ними в этой земной жизни и невнятно обещал встретиться в несуществующем еще Своем Царстве, а Петр, как и сказал Учитель, в ту же ночь, еще до крика петуха, отрекся от Учителя и без того мучимого зловещими ожиданиями. А ведь кто-то еще должен и предать Его (Петр еще не знает. что предательство уже свершилось), может быть, даже он, маловерный и слабый, будущий глава Церкви, распятый навзничь три десятилетия спустя в другом великом городе, на другом холме, со странным для арамейского слуха названием Ватикан.
Он плачет, трепетно предчувствуя смерть Его, гибель города и Храма, у стены которого так безутешен плач, все рушится — мир, город, Храм, этот невероятный Человек, и сам Петр.
Он плачет, еще не веря, что он — первый наместник Бога на земле, апостол, что на месте казни будет воздвигнут величайший Дом Бога, христианский храм — его, Петра имени.
Он плачет, большой неуклюжий человек, такой маленький у стен Храма. Он плачет, вступая в новую веру, в грядущее для себя и мира христианство, прощаясь с собой дохристианским, он плачет — и плачет художник, рисующий плачущего апостола, потому что художник тоже прощается со своим вековечным еврейством, с предрушащимся Храмом во имя строящегося в своей душе очага вероисповедания и художественного откровения.
Тернисты и печальны пути на небо и в бессмертие. Сколько камней еще попадает, чтоб на одном Камне, на Петре воздвигся новый храм.
И каждая часовенка и всякая молитва пред крохотной свечечкой и лампадкой — что огромный храм Петра на Ватиканском холме, ибо каждая церковь — дом Бога и все церкви — дом Бога.
Теперь вот они встретились — картины Алека Рапопорта в Ватикане. Два иудаистких отщепенца вместе. Долговязый Петр и щуплый Алек.
Они встретились и на небе, и ключник Петр распахнул своему живописцу калитку.
«Плач у стены Храма» — рухнут эти стены и этот Храм, но неуязвима и вечна Стена Плача, и Холокост ХХ века — все тот же плач, плач отчаяния и молитвы, плач позванного, но еще не пошедшего, гонимого, но еще неизгнанного. Плачь, великий народ Израиля и плачь, маленький человек Христа. Плачь, кисть, смычок, резец, плачь, слово, сквозь слезы мы услышим величественное и кроткое: «И Я говорю вам, будьте мирообильны», сквозь слезы и нам откроется новое небо и новая земля. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21.4)
Анастасис
Эта картина Алека Рапопорта, одна из последних его работ, была продана в июне 1997 года за 15 тысяч долларов богатому сан-францисскому коллекционеру и теперь ее судьба начала свои бесконечные странствия по бессмертию.
На ярко-красном фоне, алом, как иконы староверов, как огонь Страшного Суда, как пасхальные яйца-символ вечной жизни, на этом ликующем фоне Христос в белых одеждах, с огромным белым нимбом (а, может, то просто солнце?) выводит из ада в рай человечество, ступая по собственному кресту как по мосточку. Разверзт и разомкнут праздничный мир. И кто-то уже спасен и тянет руки к еще пребывающим, а внизу, в геене почти невидимые нам толпятся истомленные, и вот кого-то Христос поддерживает за скелетную руку и человек начинает оживать — лицом, бородой, ногами, упирающимися в край бездны. И теплая плоть Христа возвращает холодной плоти Ветхого Человека вечную жизнь под алыми небесами. Он уже почти спасен и восстановлен из праха — по-гречески Анастасис означает «Восстановление», так греки понимают Вознесение…
Еврейский Пейсах связан с исходом народа из египетского ада в рай земли обетованной. Трагичен, долог и тяжек сей путь. Христианская Пасха — не только календарно близка и событийно связана с Пейсах. Это — также исход, но уже всего человечества. Избранный народ свершил собственный исход и дал исход всем остальным, без исключения и без жертв.
Это очень важный пункт — исход и спасение даны каждому и всем. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.» (Лк. 23.43) И, следовательно, первым в рай вошел распятый вместе с Христом разбойник Гестас. Никому и никогда не поздно сказать: «помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие твое!» (Лк. 23.42). И. следовательно, среди спасенных — предавший и прощенный Иуда Искариот, а вместе с ним прощены на кресте и все евреи. В наше время, когда антисемит — не только национальность, но призвание и специальность, мы знаем и помним — тогда были прощены все живые и в рай вошли все мертвые.
Все-таки, совсем по разному верим мы в Христа, в Бога. И хотя это приводило всю историю к религиозным распрям и войнам, к сожжению и осуждению еретиков, веривших и видевших по-своему, к заблуждениям и в тупики, но таков, видимо, наш путь, тернистый путь множества пониманий и вер, единственная форма великого исхода из звериного состояния в Божественное, в приобщение к Духу.
Для русского языка Воскресение Христово — прежде всего вокрещение Его в крест, на котором Он был распят, крест из райского Древа Жизни. Для греческого языка Анастасис — это восстание из мертвых, восстановление к новой и вечной жизни, ведь недаром же распят был Христос как Новый Человек над могилой Адама, Ветхого Человека, и оба — сыновья Божии.
И вот они встретились, плоть к плоти и дух с духом. На кресте, бывшем только что орудием пытки и смерти, но ставшим теперь их опорой и великим символом единства Бога как вертикали креста и Человека как горизонтали.
Горизонталь человека — в его растекании и освоении земли и мира, горизонта и ойкумены, в его простирании по просторам, вертикаль же нам нужна, чтоб не забывалось нам наше предназначение, чтоб не упирался взгляд — хозяйственный (Каинов) в землю, бесхозный и блудный (Авелев) — в горизонт, чтоб мы могли видеть небо и звезды, Космос и Бога, для того и храмы все — возвышенные и вознесенные к небу круги. Вертикаль нам нужна для противостояния физическим законам воплощения и тварности.
Когда небо станет алым, вновь впишутся друг в друга и воссоединятся воедино восьмиконечная Вифлеемская звезда, восьмиконечный крест и цветущее райское Древо Жизни: «Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого…» (Апок. 22.2—3).
Наверно, мне боле не видать и не читать «Анастасис» Алека Рапопорта. Что мог — понял, как мог — рассказал. Теперь и мне в путь. И вам.
Мона Лиза Чайнатауна («Chinatowns girl» Алека Рапопорта)
Памяти любви посвящается
Вот картина «Мона Лиза», известная также как «Джоконда», она принадлежит кисти Леонарда да Винчи. Она также — собственность Лувра и входит в достояние Франции. Ее знают все. Ее присвоили себе двадцать пять генераций и миллиарды зевак, экскурсоводов, копиистов, искусствоведов и интерпретаторов. Поэтому ее можно считать принадлежащей всему человечеству.
Но давайте отвлечемся от этого и попытаемся осуществить только — взгляд на мир. Посмотрим на это как на картину мира, онтологию и, погружаясь в эту картину, мы вынуждены будем примолкнуть в созерцании — нам нечего сказать в добавление к этой картине и к этому миру, как нечего добавить к распускающейся в цвету сакуре.
И только после молчаливого созерцания мы сможем вернуться к словам и рассуждениям, например, к такому, что эта картина обращена из человека в растворяюшийся покойный космос, подернутый дымкой печального времени — а что есть печальней времени? — Только улыбка Джоконды. Но в этой печали — зарождающийся гуманизм Ренессанса, когда человечество своими гениями осознало равновеликость идеи человека и идеи Бога, а потому и ответственность человека за своего Бога. Мир «Джоконды» — расширяющийся мир от человека к открытому универсуму. При таком взгляде человечество и каждый смотрящий «Джоконду» принадлежит ей. Подобно тому, как всякий смотрящий «Троицу» Рублева приобщается к Богу в Его христианской интерпретации.
Художник никогда не расставался со своей картиной и сразу заключил ее в тройную рамку — переплет окна, нарисованная рамка картины и материальная рамка. Этот калейдоскоп реальностей есть отражение дифференцированности жизни, в которой возможно и допустимо все, где множество частных смыслов не сводимо к одному. Мир разный — говорят нам рамки картины. Весь спектр реальности предстает перед нами: идеальная реальность — рамка нарисованного окна в мир, на которую опирается Мона Лиза, виртуальная реальность нарисованной рамки картины, закрепляющая за Леонардо права собственности на Мону Лизу, и, наконец, действительная реальность картинной рамы, витиевато сколоченная луврским плотником. В этих трех обводах — платоновское троичное единство и тройственная полнота мира и потому их три. Мир — реален, действителен и выдуман, мним одновременно и неразрывно. В этом — драматургия нашего бытия и существования.
И мы вращаемся в этих трех мирах, порой не замечая переходов из одного в другой, проваливаясь в трагедии, мелодрамы и водевильные мюзиклы жизни. Как часто наши слезы вызывают хохот окружающих или нашего внутреннего голоса. И лишь улыбка Джоконды или нечто подобное заставляют нас останавливать свои кувыркания и начать сомневаться в своем существовании, в мнимости (вымышленности), реальности или действительности происходящего внутри и меж нас.
А теперь, пронесясь сквозь полтысячи лет, посмотрим другую онтологию. Онтологию свернутого мира.
Космический по масштабам пространства и времени взгляд удивленного художника проникает в жалкую скорлупку, монаду одинокого человеческого существования, в мир китайской девочки, обрамленный чайнатауном Сан-Франциско, тесным двором, загроможденным бочками, буквально выпирающими из холста, нишей в стене, похожей на хистеру, на материнскую утробу — шелуха за шелухой, матрешка в матрешке.
Этот образ пришел к нам от доскифских времен и мифов. Затейливая сувенирная матрешка когда-то была тотемом рода и символом его бесконечности — от женщины к женщине, от амазонки к амазонке, что жили в незапамятные времена от Северного Причерноморья до Волги и Каспия. Подобно австралийским аборигенам, никак не связывавшим физическую близость мужчин и женщин с деторождением, амазонки не видели связи между использованием мужчин в межменструальное время и беременностью, своей матрешечностью. Они знали только, что каждый второй плод — не скотский, не мужской. Честна амазонка, рожающая лишь себе подобных, и горе рожающей другое. Это — не матриархат в классическом его понимании, это — как знать? — начало современной и будущей истории, оборванное на время случайностями эволюции.
Девочка показывает жест, который вряд ли понимает сама, который (совершенно уж точно!) неизвестен и непонятен художнику — неприличный жест «fuck you». Она в общем-то уже понимает, что ей когда-нибудь, то есть очень скоро придется скрепя сердце и койкой лечь под китайских и других мужиков, а потому, сидя в своей замусоренной утробе, защищается своей маленькой ручкой с китайскими пальчиками от всякого, заглянувшего в эту помойку: пестрого от грязи и вони бродяги, художника или Ангела Господня.
Она еще ничья принадлежность и не является ничьей вещью. Даже запечатленная на картине, она все еще относительно свободна в своем узилище: картина зажата меж других в тесных стеллажах подвала, соседствующего со студией уже умершего художника, редкие взгляды касаются и присваивают ее себе, как и в реальности.
Некоторым кажется, что они знают, что такое чайнатаун. Они указывают пальцами на желтые раскосые лица, во множестве расплодившиеся окрест, на китайские иероглифы, уличную грязь и специфический смрад высушенных растений и гадостей китайских лавочек.
Чайнатаун — тесный и ютящийся мир условностей, церемоний и символики, вроде того неприличного жеста, условностей затоваренной и пустопорожней бочкотары или того, что мы с непонятной гордостью называем цивилизацией, недоговоренных договоренностей человеческих отношений и ежесекундного риска существования. Дело вовсе не только в уличной давке, неразберихе движений и случайности попадания ножа меж наших ребер. Куда круче риск обнаружить собственное существование и, стало быть, принятие на себя ответственности за чье-то еще существование — любимого человека, человечества, Бога.
Пока мы живем растительной жизнью службы, здоровья, семьи, гражданского долга и прочих ненужностей, пока мы не задумываемся о своем существовании, пребывании по сути, а не в силу некогда несделанного аборта или чьих-то далеких потуг продолжения рода, мы и не существуем, мы функционируем, исполняя роль в биологической и социальной физиологии.
Чайнатаун — место, где мы начинаем догадываться о причинах своего прибытия и пребывания на Земле. И в этом смысле чайнатаун — на только часть Сан-Франциско, но весь Сан-Франциско — чайнатаун, вся Калифорния — чайнатаун, а, если зажмуриться от политических и географических предрассудков, весь мир — чайнатаун, и даже Китай — зыбкий в своей тесноте и толчее чайнатаун, всего лишь. А мы — заядлые китайцы.
И вот в этом тесном чайнатауне, в последней матрешке ниши-утробы девочка с условным лицом посылает нам знак, неприличный и отталкивающий, так как и пока она не вызрела.
И всяк волен читать этот знак по-своему.
«И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3.20). Мне никак не давался смысл этой странной фразы. Жизнь — и при чем здесь жена? И чего это мы без нее не можем жить — да мы с кем угодно можем жить, даже с собственной тенью, в одиночестве.
И надо сильное потрясение, чтобы ощутить и осознать обезжизненность потери жены. Жены по понятию. Можно ведь и не разводиться и не вдоветь, но потерять жену, обнаружив вместо нее подколодного паразита вокруг и около себя.
Подлинная Ева соблазнительна как жена и как жизнь. В этой соблазнительности — не только радость и восторг первородного греха; соблазн манит и притягивает нас, не давая возможности уклониться от него, уйти от Евы, жены и жизни. Суицид и измена становятся тягчайшими преступлениями — жена и жизнь не взяты, а даны, а потому и не могут быть отброшены и отринуты от себя добровольно. Соблазн есть преткновение на жизненном, супружеском в своей зрелости пути.
Жена становится содержанием жизни, смысл которой — в нашем предназначении. Жены великих художников, поэтов, музыкантов, писателей, мыслителей, артистов — их верные рабыни и спутницы, терпящие все тяготы характеров и судеб талантов, не требующие за то взамен ничего, посвятившие себя этому таланту как исполняющемуся предназначению человека.
Жены людей, не нашедших своих талантов и предназначения, при всей сытости и благополучности своего существования, всегда испытывают сожаление по поводу бессмысленности содержания чьей-то серой и бесплодной жизни, и еще сильней этого сожаления — зависть к мученическим судьбам жен реализовавшихся талантов.
Но ты, китайская девочка, чья ты жена? Почему и ты — жизнь? Что значит твое кроткое «fuck you»?
Твоя беспомощность, беззащитность, незрелость, твоя вечная незрелость — и есть твоя сущность? Ну, да, конечно, и не может быть иначе, ибо ты, маленькое существо, ничейное, заброшенное судьбой на произвол чужих воль, ты вечно, по принципу, незрела, а, значит — неисчерпаема жизнью, ты, подобно матрешке, несешь в себе свое продолжение, еще боле хрупкое и беззащитное, висящее в небытии предзародыша.
И сострадание к тебе и есть любовь, с нежностью и робостью изливаемая на тебя страдающим творцом, художником, Творцом. И даже тот подлец и мерзавец, который, наконец, взломает тебя, прольет хотя бы одну миллиардную атома нежности и грусти на тебя, истерзанную, и душа его на чуть-чуть сдвинется к спасению, потому что мельчайшая доля любви — сильней и весомей самой тяжелой гнусности.
Я не вижу тебя, причудливый и робкий китайский цветок, я видел тебя только раз и не хочу владеть тобой. Мы не принадлежим друг другу — ты мне, а я тебе. Мы ничьи. И по-ничейному, честно и ясно любим, каждый свое и в каждом. Мы шепчем мягкими руками «fuck you» всему вторгающемуся к нам и в нас.
Моя китайская Джоконда, унесенная в сворачивающемся и завертывающемся мире, в вихрях чайнатаунского циклона, — и нет исчезающему границ и рамок.
Но нет и конца исчезающему.
Просто меняется масштаб человека и на смену человеку Возрождения, распрямляющему плечи и горизонты мироздания, приходит человек в размер человека и своей любви к жене и жизни по имени Ева.
P.S. Эта картина со мной уже тридцать лет и всегда висит слева от меня, печатающего свои тексты указательным пальцем правой руки — чуть отвернулся от экрана — и вот мы опять вместе. Гости смотрят на неё с изумлением и восторгом, а я, принадлежащий ей, даже не пытаюсь рассказать, так что же здесь изображено.
Путь
(с выставки Алека Рапопорта)
Никто не знает, что видит художник в своей натуре: жизнь — это всего лишь прозрачная тень, но на чем? Поэтому важно понять — кто он, художник?
Иудейская война между маленьким великим народом и многонациональным сбродом римлян, «киттиев», как звали их иудеи, растянулась более, чем на два столетия, то утихая, то вновь взрываясь трагическими протуберанцами отчаяния, веры, насилия, надежды. Тупая римская государственность зрела в этом тигле истории, переплавляя иные культуры и способы существования, мерно преодолевая неведомый ей Ветхий Завет и вспахивая ниву Христианства. Отчаявшись, иудейский человек перестал взывать «Шма, Исроел!» и тихо и твердо сказал себе «Я есмь», а «тот кто не с нами, тот не за нас», всего лишь. Собственно, более ничего и не случилось в эту войну и в этой вере, по большому счету. Только это — смена первой заповеди. Все остальное — следствия.
Двадцатый век для России — агония. Пять революций, две гражданские войны, непрерывные войны с соседями и половиной мира, ни дня без потрясений и «всемирно-исторических» событий. И никто не знает, сколько еще это будет длиться и когда же, наконец, этот чудовищный монстр сдохнет, и что он породит в своей кончине. И опять, тот, у кого рухнул его Ветхий Завет (пусть он даже называется Новым), встал на путь поиска новой первой заповеди.
Между Исходом народа при Моисее и литургическими поисками тела Христова — несомненная мистическая, духовная связь. Грозно и страшно шествует во главе со священником крестный ход вокруг храма в поисках плоти и, не найдя, хор восклицает: «Иисус Христос воскресе, смертию смерть поправ!». И столь же грозно и страшно шли сквозь пустыни, соблазны и тернии двенадцать колен, во главе с Моисеем и Аароном, чтобы через сорок лет, в третьем поколении, сказать себе — вот она, Обетованная, вот наш завет с Богом, «Шма, Исроэл!»
Незаметно для многих из нас возникла странная порода людей, евреев и полуевреев, назовем их новыми космополитами, вынужденных не по своей воле оторваться от иудаизма, вокрестившихся, ставших христианами и пошедших дальше в анабасисе (восхождении), своим, еще никому неведомым путем — а кто знал путь Моисея и народа в тогдашнем Египте? Кто знал крестный путь Христа во время Иудейской войны?
Эта новая порода — не живет, но существует — в искривленном, с обыденной точки зрения стоящих на месте, пространстве. Их смещение непонятно, как непонятны были Евангелия и необразованный лепет первохристиан Иосифу Флавию и тем, кто застыл в иудаизме или римстве на стыке эр.
Из этой точки зрения ни черта не поймешь и не надо пытаться понять. Надо смириться с историей или своим выпадением из нее. Все дальнейшее — разговор о пути и тех, кто в пути. Потому что путь не имеет координат пространства и времени, это ведь не дорога, в конце концов, и не трамвайный маршрут. Путь — это взятая под собственную ответственность судьба. Его можно обсуждать только как решение — в начале и как следствие — в конце. Путь не хроникален, но историчен: нельзя встать на путь только своей биографии. «Каждая история — всемирная» (Новалис). И история каждого, вставшего на путь, есть всемирная история человечества.
Если вы внутри потока истории, если вам обжигает лицо и сердце знойный ветер пути, неведомо куда, но в будущее, если вам нестрашно покинуть насиженный Египет, привычную Иудею, вросший под кожу Совок, вы начнете понимать другого, того, кто успел встать на этот путь и даже успел сказать что-то по пути. Смотрите картины Алека Рапопорта. Ведь русская культура в Америке — это не только бармицве по пятницам.
Пейсах и исход иудеев, Пасха и крестный ход христиан, спасение и путь еврея, христианина и еще неведомо кого — все это впаялось в одну судьбу, в одну жизнь художника.
«Адам и Ева» (1994, 48Х54, $8000)
Яростное, как калифорнийское небо, начало картины.
Они предвкушают от плода Древа познания, Древа Добра и зла, извечно зеленого и незрелого плода — где вы, совершенные знания, совершенное Добро и зло?.
Они покинули крестообразное Древо жизни, превращенного в уличную пожарную колонку. Мир нарочито современен, потому что первородный грех становится неизбежным уделом каждого. Потому что каждый в мире картин Рапапорта либо уже встали на путь, либо вот-вот тронутся, как эти двое. Мы живем в трогательном мире начала нового пути. «Вагончик тронется? Вагончик тронется? Вагончик тронется? — перрон останется…». Впереди — и «в поте лица» и «в муках рожать будешь» и насильственная смерть первенца, а пока они, так похожие на довоенных физкультурников, еще счастливы неведением своего пути, пути без конца. Картина, несмотря на свою завершенность, также не имеет конца: она лучиста, а луч не иссякает
«Склады к югу от Маркет» (1995, 60Х71, $8000)
«Ты был на землетрясении?» — быть несущественно, как несущественно «быть или не быть». Нас здесь, на Земле, начиная с неолита, побывало уже более 80 миллиардов. Нет, не ради простого бытия являемся мы такой огромной толпой.
Загнанная стайка машин, похожих на беспризорников или пэтэушниц, только что давших, прижавшись к кирпичной стенке. Клочки объявлений на той же кирпичной стене цвета запекшейся крови, что сорванные трусики. Как их, однако, достали! Наверно, хором. И по-ка-чи-ва-ю-щи-е-ся вокруг дома, по-ка-чи-ва-ю-щий-ся мир, по-ка-чи-ва-ю-ще-е-ся от потрясения насилием небо. Многих, вероятно, шокировала эта картина. «Так не бывает», «этого нет, не было и не будет» –кричим мы со всех сторон и как только до нас доходит смысл этого небытия картины, мы начинаем говорить о событии: «да! Это и со мной! И во мне! И надо мной!» Событие есть рефлексия бытия, начало пути и воспринимается нами только как небытие, а если оно, увиденное нами — простое бытие, то что в нем событийного?
Это не нас покачивает по миру и бросает то в эмиграцию, то в христианство, то еще куда — это покачиваются мы и мир одновременно. Событие — это огромный маятник мира и легкий зигзаг нашей жизни.
Красная юбка (1994, 48Х54, $8000)
Кто только и как только не рисовал мадонн — от Рафаэля до Петрова-Водкина.
Материнство — это всегда вызов. Вызов разьяренному Минотавру времени, свирепому быку социального хаоса. Мать — хилый и беспомощный тореадор, и неясен исход ее поединка. Это неважно, что ее бедра безобразно широки, нога вздернута как для пинка всякому, кто тронет ее завернутое в красную тряпку, а лицо — в замоте дел. Она — одна против всех и всего. И защищает она не только жалкий комочек жизни. Она защищает, замотанная и развинченная, еще одну попытку воплощения идеи. Верит ли она в Бога или нет, но из ее лона вышел и на ее руках — Сын Божий, ибо мы все Его дети, прежде всего и помимо всего.
В мир вошла еще одна душа, и мать бросает вызов прошлому, настоящему и особенно будущему: смотрите, оно, лежащее у моей груди, может перевернуть весь этот ваш мир и все это ваше будущее, о котором вы так печетесь!
Латиноамериканцы на Мишен стрит (1994, 48Х60, $8000)
Наши тени пишут нам письмена, которые мы не успеваем прочесть. Мы вообще очень малограмотны и умеем читать только написанное. Мы не читаем облака и деревья, звуки падающей воды и цветы, мы не читаем людей, а все ждем от них каких-то искусственных текстов.
Но книги открыты! Читайте! Читайте асфальт и ароматы раскаленных улиц, Читайте жесты и позы людей, читайте танец их пребывания рядом с вами. Не бывает случайных прохожих, вглядитесь — и вы прочтете по толпе и каждому из нас удивительное. Вы прочтете и поймете, что этот рассказ, прочитанный вами сегодня на улице, составлен специально для вас и только один раз — завтра вы будете читать уже нечто иное.
Мир — шелестящая перед нами книга, и эта картина — одна лишь страница волшебной книги. Читайте!
Семья на Мишен стрит или тайная жизнь Марка П. (1994, 50Х61, $8000)
Что может быть тайной жизнью неведомого нам Марка П. и кто такой Марк П.? Не является ли тайной жизнью Марка П. эта миловидная женщина, в которой художник узнал вдруг ту, давнюю и далекую, что обожгла и чуть не расклеила его только начавшуюся семейную жизнь?
И вот теперь он рисует ее, казавшуюся тогда такой роковой красавицей, а теперь — с неряшливо расползшейся после родов задницей, вульгарную, животнотворящую. Он рисует ее и в работе топит и растворяет давнюю вину перед своей спутницей на пути жизни и работы, постаревший стыд и умиротворяет свою совесть — все прошло, прошло безвозвратно, и нет тому возврата, и пусть другой, неведомый и невидимый с лица, цацкается с ее чадом, пусть теперь она тому, чужому и другому, калечит жизнь истериками и припадками любви, ревности, измены, а он, художник, давно встал и пошел вон, и ушел вовне.
И теперь эти яркие фигуры — лишь слабые призраки его памяти и совести.
У кого из нас за плечами нет подобной истории из тайной жизни? И что мы сделали, чтобы избавиться от этой тяжести, чтобы превратить ее в легкое привидение?
Никто не знает, что делает художник, когда рисует: говорит сам с собой? С нами? С Богом? молчит? «Мазня» — скажет любая обезьяна или новый русский, и будут правы, потому что это нельзя жрать, утилизировать, использовать. Картина появляется не только из-под кисти художника, но и при взгляде зрителя. В этом смысле она может появляться бесконечно долго. И тогда мы говорим о бессмертии произведения…
Фомина Пасха (картина Алека Рапопорта «Фома Неверующий»)
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.
Ин. 20.25
Мучительна и страшна картина. Коротышка Фома по прозвищу Близнец аж на цыпочки привстал, чтоб вложить свои пальцы в теперь навсегда непросыхающие раны Христа, а изумленные апостолы обступили Учителя и Фому, чтоб через этого неверующего и сомневающегося еще раз убедиться в несомненном — Христос Воскрес!
Эта картина — еще один автопортрет художника, точнее, его размышлений о характере и значении опыта в познании.
Неопровержимость опыта в том, что, пусть последним, но апостол Фома уверовал в Воскресение.
Ограниченность опыта — в том, что Фома поверил, но последним. И на целых восемь дней опоздал со своей верой. А это всегда опасно — оказаться последним и опоздать с прозрением.
Но не может Фома, а, стало быть, и Алек Рапопорт, принять просто так веру на веру, не проверив ее своей жизнью и жизненным опытом. И сколько же им пришлось испытать, чтобы сказать себе «верую!».
Фома как образ противоположен Алексею. Оба по имени — «Божьи люди». Но один — через сомнения и испытания, другой — с наивной и счастливой легкостью.
От Фомы пошли мыслители и ученые, естествоиспытатели и экспериментаторы. От Фомы — Эль Греко и Достоевский, Галилей и Николай Кузанский — великие мученики и пытатели веры.
На прожженном солнцепеке сидят двое: Альбрехт Великий и Фома Аквинат. Учитель и ученик ведут ученый спор: имеет ли принципиальный крот принципиальное зрение? И час и другой, и весь день идет спор. Уже к вечеру, на закате, грубый садовник, копавшийся вокруг ученых, не выдерживает:
— ученые мужи, простите мне мою невежественную наглость, но вот на лопате — живой крот: чем спорить, посмотрите, есть ли у него глаза или нет.
— пошел вон, дурак, со своим живым дерьмом на лопате — нас интересует не эта конкретность, а «принципиальный крот имеет принципиальное зрение или не имеет?».
А вы говорите: «опыт — это так просто, сунул руки в раны и убедился!» нет! Непросто это — отчаяться и решиться на сомнение в Воскресении Христовом…
Возвращение блудного сына («Бродяга и желтый автомобиль» Алека Рапопорта)
Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.
Лк. 15.18—19 Притча о блудном сыне
Сколько их было, интерпретаций притчи о блудном сыне…
Рембрандт — картина ориентирует нас не на коленопреклоненном сыне, а на отце. Мы не видим отеческий взгляд, опущенный на вернувшегося к порогу, мы лишь угадываем этот взгляд печального прощения. Нам запоминаются руки, принимающие блудного сына, натруженные тем, чего не сделал в доме отца молодой бродяга, усталые руки перетрудившегося. Прощают и они, но не мы…
Илья Глазунов, не жалея полотна и красок, дает нам православного комсомольца Павлика Матросова в джинсах, истово просящего прощения у ортодоксального Бога. Одесную и выше — хрестоматия по «Родной речи» для четвертого класса, ошую и ниже — тлетворное влияние Запада в животноводческом аспекте. Отец и сын — ничтожная условность идеологических декораций и обстоятельств крутой траектории художника.
Алек Рапопорт — скромное полотно, потому что денег на материалы хватало не всегда. Это — геометрия возвращения: хорошо проветриваемый и продуваемый мир, сосредоточенное незамечание цивилизации и женщины, горькая судьба на босу ногу. Картина полностью посвящена самому блудному сыну в акте, противоположном Исходу. Строго говоря, эта картина — легко угадываемый автопортрет художника, возвращающегося из исканий и блужданий к своему Отцу и Отечеству — библейско-христианскому Богу и Средиземноморской культуре.
И, как и на многих религиозных картинах Рапопорта, в «Бродяге» читается сложный и упорный диалог ветхозаветных и евангельских персонажей Библии и самого художника. Фома Неверующий, Блудный Сын, Иов и Алек Рапопорт — все пытаются решить проблему постижения Бога: опытным испытанием и чувственным восприятием — апостол, через бегство, рабство и отчуждение — герой Евангелия, судом и отрицанием Бога — отчаявшийся пророк, муками, терзаниями и дерзаниями творчества — художник.
Бродяга Алек медленно, но движется, идет к нам и к Богу. Его путь только начат и неизвестно, когда же он припадет к порогу. И мы слегка завидуем ему.
Право слова
(«Нонконформизм остается. Алек Рапопорт», Санкт-Петербург, ДЕАН, 2003)
Художник редко говорит и еще реже имеет право голоса: его дело рисовать. Слова, как правило, возникают у плохих художников, рука которых не договаривает то, что рвется из художника и точно также писатели и поэты стараются не иллюстрировать самих себя. Но что-то заставляло Пушкина и Лермонтова дорисовывать к стихам небрежные наброски — и что-то заставляло Алека Рапопорта писать словами. И мы не можем назвать их неумелыми, а раз так, то следует прислушаться и вглядеться в то, что является дополнением их гениев. Они имеют право слова, поскольку им есть что сказать.
Если бы мы не знали творчества Алека Рапопорта, мы, прочитав его книгу, сказали бы: вся история этого лидера ленинградских нонконформистов и по сути все творчество художника умещаются в короткий промежуток времени между 1974 и 1977 годами, а все остальное — либо предыстория, либо постистория его жизни и его творений. Но, вопреки себе, пишущему, Алек Рапопорт рисующий и в эмиграции продолжал не просто творить — это был крутой взлет над собой, траектория непрерывного творческого подъема и совершенствования. И в этой устремленности ввысь он и умер, прекратил свое земное существование, но не пал, а продолжил свою траекторию к верхним людям, к Престолу.
А в книге… в книге перед нами предстает пронзительно честный и наивный человек, безгранично доверяющий людям, включая проходимцев и прохвостов, верящий, что творчество — это путь к Богу и Его постижению, а потому творящий никому не мешает в своем уединенном пути. Еще как мешает! Мешает тем, что идет не в ногу со всеми и не в ту сторону, куда указывает генеральная линия партии либо рынка.
Алек Рапопорт, подобно другому изгнаннику, Андрею Тарковскому, — образец протестантской этики. Он, раз встав на путь призвания (немецкое понятие Beruf, разработанное М. Лютером, имеет, как и в русском языке, два значения: «призвание Богу» и «профессиональное призвание»), он движется по нему и только по нему, равнодушно проходя мимо всего остального. Но зато профессионал он — высшей категории. Он не просто мастер кисти со своим собственным, неповторимым и неподражаемым почерком, он — теоретик и историограф мировой живописи и иконописи, включая его собственную живопись. Он убедителен, когда простраивает эту историческую линию от античных и иудейских картин, от византийских икон, сквозь Возрождение, Сезанна, Фалька, Филонова, Нестерова к ленинградским нонконформистам-семидесятникам, к себе.
С умилением он пишет о своих товарищах и соратниках: Владимире Шагине, Александре Арефьеве, Владимире Некрасове, Олеге Целкове, Соханевиче, Юрии Дышленко. Исполняя реквием им и другим жертвам зла мира сего, он называет их «уснувшими гениями» — вероятно, уже догадываясь, что и его ждет высочайшая горечь смерти перед мольбертом с начатой «Троицей».
Еврей-христианин — это редкий и странный феномен, резко контрастный шелудивому сыну юриста и примитивным до язычества и шаманизма «евреям за Христа». Алек Рапопорт, Давид Финко, Александр Мень — при всей несхожести судеб, характера и способа творческого самовыражения, они и им подобные: не выходцы из иудаизма, не ренегаты, а потому им присуще благоговение перед древней верой отцов. Их приход к христианству доброволен и осознан. Они уязвимы для непонимания, гонений, непризнания, неприятия с обеих сторон и это обрекает их на одиночество, на невхождение ни в какую общину, и такая социо-культурная и духовная позиция, как учит нас опыт, обрекает их на творчество и уединение.
Добро беспощадно.
Оно беспощадно ко злу в любом его проявлении: будь то кагэбешник с глазами в штатском, фигляры Комар и Меламед или американский истэблишмент, заменяющий отсутствующую культуру предпринимательством и саморекламой. Вот послушайте Алека: «Funk & Junk Art (мусорное искусство) — это следствие перепроизводства вещей в США. Например, один из „мусорных художников“ Брюс Коннер, живя в Мексике, сетовал, что не может делать свои ассамбляжи, т.к. там ничего не выбрасывается. „Сладкой землей Фанка — солнечной страной ужасов“ назвал Калифорнию Харолд Парис. Художник Волли Хедрик шел дальше. Нет принципиальной разницы, говорил он, между Боттичелли и Bottom Jelly (вазелином для задницы), между Шопенгауэром и Shopping Hour (деланием покупок). Эти слова он вводил в свои работы в виде надписей или в виде звукозаписи. Хенрик был рабочим по починке домов и лозунг его творчества был: „To paint out what doesn’t count“ („изображать то, что не заслуживает внимания“). Постепенно и с трудом представление о том, что можно быть художником, не будучи им, вошло, понравилось и прижилось в США.» Очередному дельцу и предпринимателю может понадобиться художник со знанием С++ или Джавы, умеющий водить грузовик, блондин и, наконец, художник, не умеющий рисовать.
Находясь в Марракотовой глубинке американской «культуры», Алек Рапопорт, на свое счастье, еще не знал, что картины продаются на квадратные дюймы, как мясо в супермаркете. Я знал одного русского художника-абстракциониста, который как-то пожаловался мне, специалисту по маркетингу, что его композиции плохо идут на рынке. Я посмотрел его запасы.
— У вас преобладают темно-синие и фиолетовые тона. Как по-Вашему, к какого цвета обоям или стенам это подходит?
Маэстро задумался.
— Смените палитру на бежевые, охряные и кирпичные тона: американцы обожают стены цвета слоновой кости.
После этой рекомендации дела выразителя космических настроений пошли сильно в гору.
Алек Рапопорт: «Я полагаю, каждый третий калифорниец считает себя художником или поэтом». Я знаком с одним из них. Он ровно сорок минут учился мастерству у приезжего питерского художника и вставил в свое резюме этот факт как учебный курс. Порисовав четверть часа чем-то по холсту, он садится за рояль, брякает полторы ноты Шопена, пересаживается к индийским барабанам, отбивает на них дробь, подсаживается к столу и, почесывая яйца, сочиняет поэтическую нетленку на пол-страницы. Эти антиподы Рапопорта и кончают свою жизнь антиподно: художник Гуч, преподаватель колледжа в Окланде, ушел как-то с занятий в туалет, откуда уже никогда не вернулся.
На вершине пирамиды армии американских художников располагается 400 счастливчиков, сумевших втюхать публике своих «Голубых псов» или прибой с подсветкой, меняющейся согласно реле времени. Ниже — 400 тысяч тех, кому не повезло. И это не только в живописи. Такова иерархия практически по всем номинациям искусства, литературы и культуры вообще.
Рапопорт бежал из огня политических преследований в СССР в полымя коммерциализации живописи до полнейшей слепоты и глухоты публики в США. Строго говоря, ему повезло: он умер, не узнав, что и в России ему делать нечего — тут возник смурной советско-американский мафиозный и монструозный кентавр, где отпетые кагэбешники со столь же отпетыми уголовниками приватизировали и захапали все. Возвращаться некуда…
Ему, как художнику и как мыслителю, одинаково современны античные мастера, пророки, Христос, художники Ренессанса и наветренные мулатки Сан-Франциско. И чем более он во времени, чем шире рамки его исторического существования, тем, с коммунальной точки зрения, он больше выпадает из злобы дня, американского и советского, тем более он не от мира сего. И для него становится нормой: несовпадение с официальной линией художественного поведения и непродажность себя на рынке изобретений художественной продукции есть признание творческого успеха и правильности избранного пути «Нонконформизм продолжается!». И эта принципиальность и предельная честность перед самим собой оправдывают себя: лучшие музеи России, Европы и Америки (Эрмитаж, Ватикан и многие другие) владеют картинами Алека Рапопорта, ими иллюстрируют престижнейшие издания Библии, репродукции печатаются в шикарных и солидных художественных журналах.
Книга, если не считать текстовых оболочек и завершающего аккорда иллюстраций, состоит из следующих разделов:
Воспоминания
Статьи
Рассказы
Размышления
В памяти друзей
Каждый из разделов по своему интересен и захватывающ. И я горжусь, что мой скромный рассказ «Воскрешение Лазаря», посвященный Алеку Рапопорту, завершает эту прекрасную книгу.
И тишайшее спасибо и низкий поклон Ирине и Володе (тому самому «мальчику с несоветским взглядом») Рапопорт, совершившим подвиг издания этой книги.
Побиение камнями
Любая работа любого художника — автобиография, автопортрет. «Страсти по Андрею» в такой степени фильм об Андрее Рублеве, в какой и об Андрее Тарковском, и «Война и мир» — эпопея России и личности Льва Толстого. «Побиение камнями» Алека Рапопорта — о св. Стефане и Алеке Рапопорте.
Удивительна была речь св. Стефана в Малом Синедрионе. Он не стал подражать Христу с его сжатым до кредо «Я есмь». Речь Стефана — яркий пример пешарима, столь любимого кумранскими ессеями. Он изложил Священную историю от Авраама до Соломона, изложил то, что знакомо и известно любому иудею, тем паче — члену Синедриона, и, когда дошел до строительства Храма («Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо престол мой…» (Деян. 7. 48—49)), неожиданно вплел своих судей в эту историю: «Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». (Деян. 7.51) Невыносимо было служителям Храма услышать, что служат они пустому месту, Стефана сволокли за пределы города и немедленно подвергли избиению камнями. Последними словами первого святого великомученика было: «Господи! Не вмени им греха сего» (Деян.7.60)
Побиваемый камнями — страшное, отвратительное зрелище: изуродованное, будто вывороченное лицо, ведь каждый стремится попасть именно в голову, мешанина кровоподтеков, клочья тела и одежд, грязь, смешанная с кровью и кровь, облизывающая грязь.
Что увидел в этой сцене художник?
Неприкосновенность святого.
Камни летят в него, но не достигают. Рапопорт увидел то, что происходило не в исторической, человеческой действительности, а «на самом деле», в духовном универсуме, невидимом обычными глазами, но всеприсутствующем и пронизывающем этот видимый нами мир. И этот духовный универсум и есть тот свет истины, что пронизывает нас, но достигает только святых, действующих не от мира сего, но в реальности духовной субстанции, духовного света. Беззащитные и нелогичные здесь, они здраво и уверенно действуют там, они видят и наш мир, но сквозь тот мир, а потому они, даже истекая под градом неправедных камней, не видят эти камни. И они не умирают — умирает лишь плоть — они же просто уходят от мира сего и пребывают только там, в другом месте, хотя и остаются с нами, рядом с нами, как хранители и судия наши.
А что есть проекция тех побивающих в духовном мире? — жухлая и немощная трава, высохшая и умершая, ей лишь плестись под ногами, мешая идти, ни скотине, ни людям, ни земле ненужный терн. Они составляют собой трение духовного универсума о социальную действительность, некую фиктивную силу соприкосновения двух миров, существенную для видимого и невзрачную для невидимого.
Фигура св. Стефана, благословляющего своих палачей, совершенна в своей незыблимости, целостности, неповрежденности и вместе с тем — в динамике Исхода из этого мира в иной. Впрочем, нет, это — не исход в край неведомый и незнаемый, это — возвращение. Св. Стефан уходит от нас туда, откуда он родом, в Дух, никак не обозначенный на картине и оставленный потому ярким пустым местом.
А что же побивающие?
Как изобразить антисвятых?
Их головы подобны камням в руках их.
И в этом месте Алек Рапопорт сам начинает рисовать в жанре пешарим.
Побивающие его камнями — это не только органы и власти изгнавшей его страны, это — иудеи, осуждающие его христианство, это — коммерсанты, делающие деньги на житие и творчестве, это — христиане, не признающие его христианства и бросающие свой антисемитский камень.
Побиение камнями — изуверская казнь, существующая до сих пор в ряде стран. Каким тинейджером душевным надо быть, чтобы поднять камень на пригвожденного и беззащитного, не могущего даже руками прикрыть свою голову от жестокого града. А что, если бросающий увидит взгляд побиваемого? Не взорвется ли в нем от этого взгляда совесть? Или кидать надо, прищурясь и видя только цель головы, но не глаза? Или надо потерять голову, рассудок и сердце, чтобы взять в руку из услужливо приготовленной кучи камень? Насколько надо убить себя, чтобы убивать другого? Или — с одного камня не убьешь, а, если мы вместе, если мы — большинство, если мы народ, то, значит, мы правы?
Главное — быть большинством.
А ведь кто-то, еще в далекой античной древности сказал: «Большинство — это зло». Демократия с булыжником наотмашь. А она, между прочим, всегда с булыжником, называемым теперь правом голоса: услужливый пиар только тем и занят, что подкладывает демократическому обществу свои камни для голосования. Но это — уже мой пешарим… Но, пусть бросающий камнем в беззащитного, пусть он лучше бросит свой камень в меня.
Холодное и горькое смирение святого к побивающим его камнями и Алека Рапопорта — к побивающим его выражено столь четко, с такой виртуозной простотой, что художник понял — ему никогда не нарисовать ничего такого же, в такой же простой, ниццолиевской манере. И он никогда больше не возвращался к этой технике письма. Почти двадцать лет плодотворнейшего творчества — и ни разу он не вернулся к этим линиям-взмахам.
Теперь эта графика висит у меня на стене. Стоит лишь оторвать взгляд от клавиатуры, чтобы посмотреть вправо — и злобный камень сейчас полетит в Стефана и в меня, и Стефан смотрит на них и на меня — и нам становится жгуче стыдно за поднятый на него камень.
Воскрешение Лазаря
Памяти Алека Рапопорта,
художника
— Иосиф!
— Здесь я, Господи!
— Ты уж чаю напился? Что ж, ты, никак, вчера опять усугубил?
— Слаб, грешен, Господи, не удержался маленько.
— Да ты хоть видел себя в зеркале? Краше в гроб кладут.
— И мне туда пора.
— Хоть бы пробрился по этому случаю.
— В морге добреют, им за это платят.
— Ну, пора.
— Пора, Господи.
И он отдернул ветошную занавеску с картины. Эта старомодная манера прикрывать картину тряпкой немного смешила и удивляла окружающих и заезжих, но вслух мастеру об этом никто не говорил, а он действовал, как его учили в Петербургской академии художеств те, кто и сам учился у знаменитых мастеров, бравших в Италии блестящие призы на биеннале.
— Сегодня кончишь?
Он не ответил, тщательно разминая кисти и выбирая из них ту, которой работать. Картина была готова. Только он знал, где и чего тут было некстати или не хватало или лежало не так. Эта, последняя работа над картиной — самая мучительная, словно ловля блох в стоге сена. И непонятная. Потому что и самый придирчивый, но посторонний взгляд не улавливал этих блох, а ему казалось, при обнаружении, что картина не удалась, что надо все переписывать заново и тут уж ничего не исправишь. Эта последняя работа над картиной шла на скрипучих и визжащих тормозах третью неделю и измотала его донельзя.
Он нашел искомое и стал продираться по давно уже застывшему слою почти сухой кистью, вмазывая более четко блик на стволе смоковницы.
Картина называлась «Воскрешение Лазаря». Он начал ее в такую же слякотную и мерзостную ноябрьскую непогоду год тому назад. Он очень тосковал по будущей весне, которая могла быть для него и не предстоящей: он знал, что долго не протянет и потому взялся за этот тревожно радостный весенний сюжет. Почему-то ему вспоминались при пустом еще загрунтованном холсте далекие детские весенние ручейки и громадные лужи родного Ленинграда, черный ажур подгоревших на солнце сугробов, первые шустрые жучки на солнцепеке и девочка Люся на бойком велосипедике гонявшая по шипящим лужам так, что мелькали на разворотах ее большие черные, в сеточке дырок, трусы. И он, только что выписанный из больницы, но не в морг, а сюда, в распускающуюся весну, думал тогда, глядя на соседскую Люську, что всего двумя годами была его старше: как хорошо, что он опять не умер и может жить и видеть все это, а ведь мог же и умереть и так и не узнать, что такое настоящая весна и это странное щемящее чувство к Люське, наверно, любовь.
От той стартовой тоски по весне и родился фон картины — бледно-голубой, как доверчивый взгляд блокадной сироты.
Лазарь, лежащий на носилках под белым покрывалом, совсем мертв. Синюшное, продрогшее от смерти лицо пусто и неподвижно, а во всем тщедушном теле разлита трупная тяжесть и безжизненная двумерная плоскость. Но левая рука его приподнята. На блеклом плече — стылость, однако чуть дальше начинает брезжить возрождение жизни. Волна побежалости цветов жизни струится по предплечью, чуть согнутому локтевому суставу и вот, сквозь и поверх холста выдвигается из плоскости картины, объемная, скульптурная, выпуклая и полная жизни кисть, с бьющимися жилками и подрагиваниями живой расслабленности. На самом краю картины, как бы поддерживая сверху эту трепетно оживающую руку — продолговатое золотисто-голубое свечение, в котором угадывается аура животворного перста Иисуса, но сам Спаситель — за рамой картины, Его нет, Он присутствует лишь Своим чудом и этим крохотным светящимся пятном. Но это присутствие — самое важное и первое из угадываемых и ощущаемых явлений картины.
На заднем плане видна бесплодная и унылая палестинская пустыня, посредине которой стоит изломанная смоковница. По пустыни пробегает еле заметная тень, волна тени: правая сторона пустыни еще мертва и сумрачна, а слева, от того края, где вне холста стоит Иисус, движется судорога света и оживления, и этот беглый поток первым своим бликом уже достиг смоковницы и на мельчайший миг коснулся и упал на корявый ствол.
— Ума не приложу, что мне с тобой делать.
— На Тебя уповаю. Что скажешь, то и будет. Все приму с благодарностью.
— Я ведь вам, иудеям, запретил живое изображать.
— Какой из меня иудей? А Спасителя я, как видишь, не осмелился.
— И на том спасибо.
— Скажи мне, как Тебя на всех нас хватает? Вот Ты такой космический и заоблачный, а сейчас вот со мной, в моем ничтожестве пребываешь. И с Авраамом по поводу Содома препинался и торговался. Ходишь меж людей. На что мы Тебе?
— Понимаю. Это, конечно, твоя проблема: ты привык иметь меру и масштаб. Мне ж все это ни к чему. Что с тобой, что с космосом, что сегодня, что миллиарды лет. Не суть это.
— А в чем суть?
— Ну, ты, прям как Пилат. Я ж тогда ему ответил.
— Ты запамятовал. Ты не ему — Малому Синедриону ответил.
— Какая разница? Но ведь ответил!
— Да, прости, Господи, это я запамятовал.
— Скоро ли?
— Погоди, вот здесь еще.
— Ну, не буду стоять у тебя над душой.
— Да, ничего. Ты мне не мешаешь. С Тобой хорошо.
И он углубился в рассматривание и вглядывание в тени над веками Лазаря, потом выбрал тончайшую кисть и, даже не краской, а просто водою, набросал по этим теням легкую дрожь: они вот-вот откроются, и Лазарь вновь увидит свет и Учителя. Душа его, только начинающая удаляться из тела, вновь впорхнет в эту расслабленную немощь и укрепит ее и восстановит среди живых, а теперь вот трепещет над входом в погасшую плоть в тревожном ожидании чуда своего воплощения.
— Господи, прими душу раба твоего Иосифа!
— Кончил «Лазаря»? Ну, что ж, с Богом. Прииди.
По завещанию покойного картина предназначалась в дар православной церкви. Вдова написала о том митрополиту с приглашением посетить студию. Из канцелярии был получен ответ, что картину принять не могут, потому как не по канону. На словах же ей донесли, что митрополит евреев не любит и принять дар от потомка жидов, распявших Христа, не желает.
Некоторое время огромный, во всю стену, холст простоял в сан-францисской мастерской, но, после того, как был выпущен каталог и особенно после турне по выставочным залам, спрос был очень оживлен.
«Несть более ни еллина, ни иудея» — сказал очень богатый нефтяной малаец и купил «Лазаря» по самой высокой цене, специально для него отстроил церковь в ставшем родным ему Эдмонтоне, и, ко всем прочим своим бизнесам присоединил еще и этот, дающий не баснословный, но устойчивый и Богоприятный доход.
От лукавого (Комар и Меламед)
Это случилось на Крымском валу, в ЦДХ, в самом начале 90-х.
Очередная выставка. Внизу — дорогое, но изысканное кафе, где можно оттянуться до восприятия живописи, а можно после — двухсотметровая очередь позади и за польты получены надежные и увесистые номерки.
По залам, где пустоты больше всего, больше, чем всего остального, включая публику и публикуемые картины, ходят в высоких сапогах любительницы живописи, они подолгу стоят перед картинами в ожидании, когда хоть кто-нибудь подойдет к ним. В зависимости от первых слов («Какая экспрессия!» — «Меня зовут Лена», но «Телефончик?» — «А не пошел бы ты, дядя, в Бородино?»), они — стóят от нуля и выше, порой до невероятия, за пределами отечественного человеколюбия.
Мы движемся из зала в зал, где-то задерживаясь, мимо чего-то скользя в утомлении непонятного и неинтересного.
Вот зал. Стоит непривычный для ЦДХ сдержанный хохот. На картинах — пионеры клянутся Сталину, мавзолейные дети мавзолейно рукоплещут нетленке в томатной красноте.
Рядом с картинами стоит дядя в бороде и, довольный, вещает: «А ведь когда-то за эти картины я страдал».
Это — Комар. Черная кожа, натянутая на него, кричит: «врет дядя, никогда он не страдал!»
Странна судьба людей без биографии. Как Кукрыниксы, три безбиографные личности, слитые в одну судьбу, вполне партийную. А тут — Комар и Меламед, антипартийная судьба. Судьба, не отягощенная биографией: когда-то Виталий Комар и Александр Меламед по-разному родились, но оба уже давно умерли, еще при жизни.
Их было довольно много, посткоммунистических карикатуристов — в живописи, литературе, кино, журналистике — в искусствах и квазиискусствах. Они строили карьеру на безопасном ерничестве и лягании сдохшего режима. Они, конечно, пережили коммунизм — но всего на пару мгновений. Их запоздалый протест смог продержаться очень недолго.
Но деньги они успели сделать и, главное, полюбили делать деньги. Они поняли главное: скандал — двигатель коммерческого успеха. И теперь скандалировать для них стало основным и единственным способом заработка куска хлеба, желательно намазанного густым слоем рыбного холестерола, икорки.
Эта жажда полноценного бутерброда с икрой — от комплекса художественной неполноценности, как, впрочем, и весь позднесоветский концептуализм. Это чисто формальный протест, скорее не протест, а просто пародия на уже имеющееся. В этом смысле Комар и Меламед — живописная версия Дмитрия Пригова:
Вот я курочку зажарю,
жаловаться грех,
да ведь я же и не жалюсь:
что я, лучше всех?
А задуматься — нет силы,
ведь поди ж ты, на
целу курицу сгубила
на меня страна.
Они осели в Нью-Йорке. Американцы с шершавыми от когда-то и кем-то заработанных денег кошельками еще время от времени покупают их карикатурные полотна — краски яркие, очень хорошо идут под пластиковые обои цвета сырокопченой. Нормальные люди отворачиваются, новые нормальные тоже отворачиваются в непонимании и недоумении. Теперь эта живопись требует объяснений и обоснований, чем дальше от прошедшей эпохи, тем более пространных. Эта живопись все более переходит от карикатурного жанра к фельетонному.
Авангардизм быстро выродился в постарьергардизм и потому основным его содержанием стала коммерсализация.
Вот что по этому поводу пишет Алек Рапопорт:
«„Концептуализм“ 80-х годов, как следствие рейгановского буржуазного консерватизма, течение более литературное нежели изобразительное, а значит, и более доступное, приняло на себя понятие „революции и прогресса“. Художники обратились к всеохватывающему эклектизму, соединившему все стили, идеи, все источники. Могущественный институт художественных дельцов, кураторов и коллекционеров создал мощную мафиозную систему, абсолютно регулирующую деятельность художников и стимулирующую лишь торговлю. Вопросы качества игнорируются и понимаются как нечто неприсущее произведению искусства, в лучшем случае, как некий внешний блеск, вроде блестящих паркетов в галереях Сохо. Появляется фаланга „художественных консультантов“, которые направляют богатых клиентов и корпорации на приобретение произведений, имеющих видимость высокого качества и современности, а также имеющих достаточно нейтральный вид, чтобы украшать вестибюли, офисы и кулуары. „Чтобы быть настоящим коллекционером, — говорит собиратель Вейнберг, — вам не нужны глаза — вам нужны уши, то есть хороший источник информации. Также нужны деньги и немного времени“».
Прямой конфликт между Комаром и Меламедом с одной стороны и Алеком Рапопортом — с другой, кончился, как и положено кончаться любому конфликту с бесами — ничем.
Такова типичная судьба любых бесов — ведь Достоевских на всех на них не хватит.
Трамваем номер пять (Михаил Иофин)
Жилье — это внутренний мир человека, немного вывернутый наизнанку. В доме поэта, например, все зарифмовано, даже если изо всей мебели — только письменный стол да вид из окна. Посмотрите: пустые бутылки у поэта стоят анапестом или дактилем, а не абы как. Совсем не то — в доме художника. Здесь всегда царит неприкаянный, неуютный и бесприютный хаос. Если это, конечно, хороший художник, а не мазила типа Вани Шилова или, не к ночи будь помянут, Илья Глазунов. Этот хаос, беспорядок и бездомность жилья нужны художнику для гармонизации его инобытия на холсте, орголите и любом другом мертвом и оживляемом им материале.
Я взбираюсь на третий этаж одного из монотонно обшарпанных домов 21-ой Авеню в Сан-Франциско. Несмотря на архитектурные особенности американских лестниц (до сих пор не понимаю, как они выносят по этим узостям гробы с покойниками, неужели спускают на веревках из окон?), по затхлости атмосферы и спертости воздуха они ничем не отличаются от питерских или арбатско-чистопрудненских.
Здесь живет Михаил Иофин.
Признание — вещь лотерейная.
Свой невыигрышный билетик он вытянул в самом начале своего творческого пути. Он — из числа нонконформистов, участников подпольных и полуподвальных выставок. Раз встав на путь скандального непризнания официального искусства, он уже никогда не сможет стать ни придворным, ни признанным, ни, тем более, «сотрудником». Нигде — ни в России, ни в Америке, ни в этом веке, ни в прошлом. Потому что культура некалендарна. Потому что нонконформисту гораздо легче и проще дать пощечину, чем пожать руку, потную от рыночных отношений или партийности, хотя сам по себе Михаил — человек компанейский, достаточно мирного нрава и на баррикады не рвется.
М. Бахтин, обсуждая творчество Ф. Рабле, утверждает, что человек — незаконченное самопроизведение, что человек только тогда человек, когда незавершен и несовершенен, когда находится в процессе очеловечивания себя. В доме Иофина висят, лежат, стоят законченные и незаконченные картины — он работает, нередко годами — над всеми: тут не хватает совсем немногого («Саш, неужели ты не видишь? Это ж нелепая пустота, пусть и миллимитровая, тут непременно надо вмазать немного охрой»), на этом полотне во всех деталях и тонкостях расписан правый верхний угол — угадать, что это будет пока невозможно, да и Михаил, кажется, сам не знает, чем будет заполнять пространство.
В мире, где ни черта не продается, но все покупается, он — недоуменное исключение. Он не работает на рынок и совершенно не готов к продажности («нет, нет, это еще все в работе, это все пока незакончено, приходите завтра, а лучше через год, а того лучше — прощайте»). Впрочем: услугами художника Иофина охотно пользуются такие монстры масс медиа как «Нью-Йорк Таймс», «Лос-Анджелес-Таймс», «Плейбой» и т. п. Я уже давно заметил — ориентированные на рынок всякие там комары и меламеды работают маховой кистью в три прокраса либо по трафарету: они не картины рисуют, а деньги делают, а потому вечно спешат, небрежны с фактурой и на неразрешенной скорости проскакивают мимо духовной субстанции подаренного им мира и мастерства. Они рисуют, не тужа и не тужась — от того их картины так полезно и приятно наблюдать, сидя на унитазе.
Михаил Иофин — труженник, трудяга, предельно сконцентрированный на своей работе. Его техника письма не допускает ошибок и переделок. Шаг в сторону — и безнадежный холст можно выбрасывать. Мольберт, за которым он работает, напоминает боксерский ринг в Лас Вегасе: со всех сторон, но особенно сверху по нему бьет сильнейший свет. Эта сверхясность и сверхяркость условий работы отражается и в картинах — необычайная четкость цветов, линий, лиц, деталей.
Начинающие и неудачные художники, нарисовав нечто, потом дают написанному длиннющее название. Я даже читал многостраничные концепции картин: если ты, блин, не смог красками и кистью выразить свои мысли, то выйди из художников и поступай в писатели, там все сплошные концептуалисты и многословы. Картины Иофина называются очень коротко и просто, но могли бы и не называться вовсе — они хорошо читаются и сами, без подсказок, представляют собой достаточно развернутые тексты.
В каком жанре рисует Иофин? — собственно, всякий, решающийся писать о художнике, рискует напороться на этот вопрос.
При всей ясности рисунка и фантастичности сюжета, это нельзя назвать сюрреализмом: тут нет ничего сумасшедшего. На реализм, даже на гиперреализм это тоже непохоже: здесь нет отражения или гиперотражения действительности. Картины Иофина — это гиперотражение сознания. Постмодернизм? — но для этого нужна некоторая размытость, размазанность сознания, а у Иофина все так ясно и чисто. Концептуализм? — но тут ведь нет никакой карикатурности, никаких искажений. Сложность в определении стилистической принадлежности Иофина усугубляется еще двумя факторами: он совершенно свободно, в легкую, может повторять и Рембрандта и Шагала и вообще любого классика; а, кроме того, он — из числа пионеров, технически он делает то, что умеют очень немногие. Согласитесь, что сравнивать лидера с пелетоном, даже если в пелетоне полно олимпийских чемпионов живописи, невозможно.
И надо ждать финиша, чтобы найти ему место в ряду мировой живописи и культуры. Как грустно утверждать такое!
Михаил Иофин успешно не закончил Муху (художественное училище имени Мухиной — для непитерских). Прошли уже десятилетия, а он до сих пор никак не может понять: то ли его отчислили оттуда за академическую неуспеваемость, то ли он сам устал заниматься художественными прописями, с наклоном и нажимом, перышком номер восемьдесят шесть и прикусив от усердия язык. Тем, кто любит бытовые особенности жизни не от мира сего: Михаил Иофин — питерский еврей (это значит — еврей лишь на треть: еврей, русский и питерский в одном флаконе — любит водку и острую пищу, космат до библейности и немного невнятен в речи). Судя по состоянию его дома, из рук его все, кроме стакана и кисти, валится, а точнее — даже не берется: некогда.
Но его мясная солянка и борщ — шедевры. Они изготавливаются им в горшках крупного калибра. Как и положено, ложка в них стоит, одолеть этот горшок можно только, если принят как минимум литр на двоих. Перед моим возвращением в Москву он мастерски упаковал мою скромную коллекцию картин, правильно отправил их на почте — и мы напились на прощание по полной программе.
Многие картины Иофина многофигурны.
В детстве, помню, очень любил книжку «Сорок четыре веселых чижа» Ю. Тувима. Там на одной картинке были изображены все сорок четыре — и каждый за своим веселым занятием: кто поломойка, кто судомойка, а кто — музыкант. Иофин часто возвращается и возвращает нас в этот многоликий мир коммуналок. Теперь, по прошествии стольких десятилетий, отделяющих нас этого мира, мы можем говорить о них не только как о социальном явлении, этом дурном сне сумасшедшей Веры Павловны Чернышевской. Коммуналка — не только светлое прошлое нашего человечества. Это — падший и павший Иерусалим. Зря старался Тит Флавий, разрушавший стены Великого города и Храм: Христос уже успел родиться, умереть и создать новую веру, Ямнийский университет уже подпольно взращивал древнее и великое Учение. Тут не катапультами и другими осадными машинами надо было действовать. Коммуналка — это раеад человеческих отношений, это феномен духовности, рожденный не жилищной политикой Людоеда, а самопорожденный.
И смиренный иконописец этого феномена — Михаил Иофин. Его автобиографическое «Жизнеописание коммунальных святых» выполнено в лучших и светлых традициях иконописи: центральное пятно занимает несвежепокрашенная деревянная дверь в окружении купоросных и трескающихся от интенсивной эксплуатации стен, со множеством звонков с именами постояльцев Этого Света. По периметру картины идут мелкие изображения внутреннего жизнепроведения, от въезда до выноса покойника (как все-таки вытаскивают гробы с покойниками из американских квартир?). Тут и общекоммунальный обзор праздничного салюта, и «Банный день» в коммунальной ванной, от которого родятся дети, так похожие на соседа, и «Последние новости» с «Известиями» наперевес, в долгосрочном уюте на утреннем толчке, и еще множество другого узнаваемого до сладостной боли и рези в глазах.
На многих картинах Иофина — фонарь, освещающий пятно одиночества, отчаяния, горя, любви, умирания. Беспощадный свет — свет памяти, свет воспоминаний, совести, свет, демонстрирующий нам всю боль нашей единственности, единичности: мы никому не нужны, только себе, а все остальное — сумерки и мрак архитектурного безразличия к нам. Рожденные в ночи, под ярким освещением, направленным на мольберт, эти картины — автопортрет художника и его творчества.
И есть еще один автобиографический символ на многих картинах питерской тематики: трамвай номер пять. Миша и сам не заметил, что у него все трамваи на картинах под этим номером. Это — фрейдисткая штуковина.
Мне помнится, пятый трамвай тянется по унылой и бесповоротной Садовой, не помню, откуда и куда, мимо Апраксина Двора, где до сих пор стоит истошный крик Башмачкина «Караул! Грабят!». Ведь мы все так всю советскую, а теперь и постсоветскую жизнь кричим «Караул! Грабят!», а с нас вместе с шинелью сдирают хваткие руки семь шкур, особенно с тех, у кого не все в порядке в пятой графе.
Пятый трамвай упорно ползет по ночному Питеру, по ночной жизни — так, вопреки всему, корпит и трудится Михаил Иофин, невольник и раб собственного таланта, собственных мыслей, чувств, мастерства и творческого обаяния.
Николай Фешин
Он уехал в Америку в 23-ем. Тогда бежали все, кто мог и хотел. Кто не мог и не хотел — тех высылали. Хорошо, если из страны. Чаще — на Соловки, еще чаще — на тот свет, безразмерный по причине объявления его несуществующим.
За границу отправляли почти в легкую: на горизонте полыхали зарницы и канонады мировой революции — через несколько лет предполагалось, что бежать будет уже некуда, потому что не только на Земле — на Марсе ихние Аэлиты станут наложницами шариковых. Их выпускали из рук, как кошка выпускает из своих мягких, но когтистых лап утомленную странной игрой с ее жизнью мышь. Их выпускали, параллельно продавая за бесценок, раздаривая и расшвыривая картины, ювелирные изделия, иконы, шедевры и раритеты: берите! Не жалко! Завтра мы это же отнимем у вас!
Он уехал в Америку с женой и девятилетней дочкой Ией, единственным человеком, кто не предаст его ни при жизни, ни после смерти. Он бежал из Казани, бросив учеников, холсты, работы, мастерскую и собственное имя.
Ему было уже 42. Экватор.
По Америке его помотало и побросало. После нескольких лет нью-йоркской жизни, сумасшедшей, как любая жизнь в Нью-Йорке, он бежит в Нью-Мехико, в Таос, заброшенную точку на карте Америки, где почти все точки — заброшенные.
Видимая причина бегства сюда — туберкулез.
Русских в Нью-Мехико до сих пор негусто. Наверно, из-за обилия НЛО: русские сами привыкли быть гуманоидами, а тут летают всякие, народ собой смущают. И Николай отправляется дальше, в Лос- Анджелес, в Санта-Монику, прилегающую к океану и пляжам часть еще одного сумасшедшего американского города. Если вы ткнете в карту пальцем и промахнетесь, не попадете в заброшенную точку, то окажется, что вы наткнулись своим указательным на сумасшедший город.
Русские густо заселили Западный Голливуд, Студио-Сити и Санта-Монику, места пляжные и припляжные, умагазиненные, криминально спокойные и сексуально развинченные, с нестандартной ориентацией. Это американцы все норовят побегать по пляжу, поиграть в подвижные игры, прямо дети, честное слово. Мы больше жмемся к мангалам и прибою:
— Моня! Ты почему не смотришь за Сарочкой? Ведь она сейчас упадет в океан! — слышится русская речь с Привоза или Бессарабки.
Фешин купил себе здесь студию. Это значит — дело его было небезнадежно и заказы продолжали поступать, даже в ревущие войной сороковые. Для того, чтобы загнуться в Америке и кануть в безвестность, особых усилий от эмигранта не требуется. Чтобы сохранять продажность своих картин, надо продолжать быть талантом и трудягой. Николай Фешин пришел в Америку сначала своими полотнами, потом сам. Это его спасло и спасало. Имя работало на него, хотя и спустя рукава. И он продолжал работать, сосредоточенно и непрестанно. На финише он еще успевает организовать две свои выставки — в Сан-Диего и фешенебельном пригороде этого самого фешенебельного города Калифорнии и Америки, в Ла Хойе. Немного не дотянув до своего семидесятипятилетия, Николай умирает, предоставив свою дальнейшую судьбу дочери Ие.
Так начался и все еще продолжается его долгий путь на родину.
В 2005 году его картины впервые экспонируются в Третьяковке…
Если взять за точку отсчета и начало размышлений о творчестве Николая Фешина (а что еще можно взять за такую точку, кроме самого художника?), то мы увидим резкий контраст между его фотографиями и его автопортретом.
На фото — человек слегка восточного вида, не то татарин, не то мордвин, не то сибирский сильно обрусевший чалдон. Взгляд — неприятный, колющий, угрюмый взгляд, испытующий, из позиции глухой защиты. Он хоть и умный, а лучше под него не попадайся. А на автопортрете — напряженная, но открытость, распахнутость и беззащитность голубых до иссини глаз, взгляд, рвущийся к познанию мира, удивленный этим миром и очарованный.
А теперь — два взмаха в разные стороны. Один взмах — портрет отца. Образ тяжеленный, сильный. Глаз и вовсе не видно, они в тени, но под этим невидимым взглядом все притихает и замирает. Написанный в 1914 году, портрет является пророческим образом Отечества, сурового, нелюдимого и неутомимого в своей жестокости, русской и азиатской. То, что отец Николая — художник и иконописец — несущественно, оказывается. Потому что не в этом его суть. Опять с той же прозорливостью Николай изображает отца-Отечество в одежде мастерового, почти пролетарской одежде, в которую вырядится скоро вся Россия.
Второй взмах — детские портреты. С таким же, как автопортрете удивленным и открытым миру взглядом, сквозь который светится и ясно видна душа. Тут Фешин очень близок с Марией Башкирцевой, с ее незащищенными душами, смотрящими на нас через глаза детей и девушек. Ну, проникновенность и искренность Башкирцевой понятна — она стала художницей в канун своей сверхранней смерти. Но Фешин? Откуда у него столько веры в светлое прошлое души человеческой?
Самый яркий шедевр Фешина — портрет Вари Адаратской, написанный в том же 1914 году, когда дочка Ия только появилась на свет.
Кстати, к какому жанру отнести эту картину? Ведь это вовсе не портрет или не только портрет: пяти-шестилетняя девочка в нарядном полупрозрачном (как у Башкирцевой) платьице сидит на столе в композиции с вазой фруктов, чайничком на горелке, пустым стаканом, куклой. Ведь это натюрморт, чистый натюрморт. И присутствие человека, как положено жанру натюрморта, очень чувствуется: кто-то посадил девочку на стол, а сам отошел. — Да какой же это натюрморт? В натюрморте присутствует смерть, а тут девочка — настоящая, живая, не мертвая девочка, и кукла разбросала руки, как умеет делать только настоящая, только живая кукла, и это надгрызанное яблоко в руках, и этот взгляд огромных и чистых глаз… А по стене — детские бирюльки пришпиленные болтаются, а на подоконнике маленького оконца — цветы в горшках и банках, чахлые, как и все городские цветы. Все это — бедно и прилично, все это богато только своей чистотой. И так радостно и ярко в мире Вари Адаратской, в ее чистом и покойном детстве.
И еще одна картина, пожалуй объясняющая все, по крайней мере, эти два крыла творчества Николая — «В бондарной мастерской».
В полумраке тяжелого и скудного на радости труда — яркий свет курчавых стружек и такой же радостный свет, льющийся сквозь окна мастерской.
Тяжел труд и темны потемки души каждого, но светел проникающий в нас Божий свет и светлы завитушки и кудряшки нашего труда.
Вот и весь секрет раздвоенности мира Николая Фешина.
Все просто.
Встречайте его.
Эрнест Неизвестный
В художественной среде принято считать, что скульпторы, в силу постоянного махания кайлом по камню или металлу, самые тупые и необразованные. Возможно, это так и есть на самом деле, но совершенно не касается Эрнста Неизвестного.
В отличие от большинства своих коллег, он, уже после художественного образования, получил философское. Собственно, этим и выделяются его работы из общего ряда: в них непременно участвуют мысль, символ, концепция — субстанции интернациональные и требующие от зрителей определенной квалификации и огромных усилий извилистых мускулов: а много ли таких на улицах городов, где стоят обычно скульптуры?
Судьба всех возвращенцев однообразна: изгнанные, уехавшие добровольно или на добровольно-принудильных условиях, они лишались права голоса и присутствия в своей стране, их вычеркивали из культуры и истории страны, их старательно забывали — на официальном, государственном уровне, но они становились светочами и властителями дум той, сравнительно небольшой и скромной части населения, которую можно назвать народом. И они, отщепенцы и очернители, позарившиеся на посулы разведслужб, предатели партожиданий, ветераны, инвалиды и жертвы идеологического фронта, в конце 80-х-начале 90-х стали возвращаться: сначала своими работами, потом и сами. Они возвращались, как вышедшие из могил, перед ними приносили свои извинения, как правило, те же люди, что и выгоняли их, но теперь уже беспартийные, с крестами на демократических грудях, им предоставляли прекрасное жилье и широкие объятья заказов.
Но они становились чужды вымирающему меньшинству населения, которое можно назвать народом. Когда разведенные и разошедшиеся, они, эти герои сопротивления и само сопротивление, уже не могли до конца понять друг друга, несмотря на мучительные попытки.
И потому, чувствуя эту глухую и невыразимую рознь, многие из возвращенцев оставляли за собой запасные аэродромы: в Штатах, Европе, на загадочных островах горького, но спокойного одиночества, к которому они уже успели привыкнуть.
В 1990 году (кажется) «Вопросы философии» опубликовали статью Э. Неизвестного, этот жест возвращения и примирения. Статья — не совсем философская, но, безусловно, весьма любопытная. В ней, впервые в истории этого академического издания, прозвучал откровенный и недвусмысленный мат — знамение времени решительных перемен.
Э. Неизвестный весьма схож и судьбой и строем мыслей с А. А. Зиновьевым. Дело, разумеется, не только в том, что оба могли непомерно пить, не теряя работоспособности — этим даром обладают многие персонажи читаемой вами книги. Оба, Зиновьев и Неизвестный, обладают неподкупностью мысли, бескомпромиссностью суждения, предельной, обнаженной честностью размышления. Эта героичность позволила им удачней многих других вписаться в новую Россию, найти здесь свою среду обитания и творчества.
Признанный мэтр, Э. Неизвестный не чурается работать в Москве, Тбилиси, Угличе, то воздвигая монументальные композиции «Возрождение», то ставя скромные памятники Мерабу Мамардашвили или водке.
А все началось с Никиты Хрущева, разгромившего как-то в Манеже абстракционистов и главного, но неизвестного скульптурного абстракциониста Э. Неизвестного. Семья опального шута горохового на посту генсека и коммуниста №1 планеты, извиняясь за неуклюжий каламбур Никиты, заказала у скульптора надгробие на могиле Хрущева на Новодевичьем кладбище.
Эта небольшая композиция, символизирующая асимметрию позиции Хрущева между Добром и злом, стала визитной карточкой Э. Неизвестного и вместе с тем стала вызовом эпохе: сопротивление достигло и прорвалось даже на верхнем уровне власти.
Идею противостояния Добра и зла Э. Неизвестный еще много раз будет эксплуатировать и использовать в своих композициях, за счет чего все они порой кажутся схожими между собой, как схожи между собой многочисленные тексты В. Лефевра о великой асимметрии Добра и зла.
Э. Неизвестный живет и в Америке, и в России, и еще во всем остальном мире. Он уже не так круто пьет — годы, знаете ли, но продолжает работать, потому что скульпторы, они, как самые тупые и упорные, работают до конца.
Михаил Шемякин
Ему под шестьдесят, но это незаметно — кавказская внешность обманчива. Он из породы ревущих сороковых — так называются сороковые широты в южном полушарии, неистовые штормами и разгулом стихий, «конские широты». В этом жилистом и сухом теле, которое не берут ни оргии, ни пьянки, — заряд энергии на пару Чернобылей, вулкан идей, прорва иронии и изящества.
Современный Панург, он раблезианен до иллюстраций к «Гаргантюа и Пантагрюэлю». С него можно писать портрет Казановы и Коровьева в свите Воланда, покидающего Москву. Но — зачем же писать его, если он сам в состоянии написать или отлить, вылепить любого и любое. Его скульптурные композиции украшают многие города мира. Обычно они многофигурны и необычны по композиции. И всегда изящны, как кавказская чеканка посуды и оружия. Ему хватает — не смелости, но отваги — водрузить в Петропавловке вместо Петра Первого злобное Тараканище: а чем этот деспот и самодур не Тараканище? Его венецианский Казанова — Казанова, такой же необычный, как и Казанова Феллини, но совсем другой, развратно-несчастный и несчастно-развратный.
Михаил Шемякин проносится по этому миру настоящим Летучим Голландцем — и за ним тянется такой же смутный шлейф легенд, мифов, сплетен, охо-ахов, восторгов и скрежета зубовного. За ним тянутся длиннущие плети древних и знатных родословий. Он породист в несколько десятков генераций и в окружении знаменитой родни: Пьер Карден, Джероламо Кардано, Валерий Коков, Юрий Темирканов — дальняя и близкая родня. Только тот, кому глубоко безразличны государства, правительства, страны, да, пожалуй, и весь мир в целом, может быть настоящим и подлинным, искренним товарищем, что и доказали друг другу полу-русский кавказец Михаил Шемякин и полу-русский еврей Владимир Высоцкий.
Вот уж кто скиталец!
Он — представитель народа-скитальца. Когда-то его народ жил в низовьях Камы, был силен, крепок и мирен. 27 лет Золотая Орда не могла одолеть города и страну волжских булгар. И лишь спустя эти годы, темная монгольская сила одолела булгарский народ. Монголы гнали перед собой безоружных, обезумевших от боли и страха людей на стены европейских городов, и у защитников упадало сердце, стыла в жилах кровь и опускались руки. Монголы брали города не силой, но ужасом. И этих несчастных, что бежали впереди монгольской конницы, назвали людьми из ада, из Тартара, татарами. Они потом и сами забыли свое прежнее имя и стали татарами.
От монгольской напасти спаслись лишь немногие. Они бежали на юг и нашли приют в Крымском ханстве, у северо-западных отрогов Кавказа. Они сохранили свое имя, балкарцы, но навек утеряли свою старую родину.
В Америке Михаил Шемякин «осел» как может оседать только он — его все также носит по белу свету, он то в Лондоне, то в Париже, то в России — в Москве его последняя композиция напротив Третьяковки и в тылах площади Репина резко контрастирует с сантехнической и канализационной арматурой Церетели и философски затейливыми констралябиями Эрнеста Неизвестного. Шемякин не любит гигантские формы: он вполне человечен, его композиции сомасштабны, более того, доступны зрителю или просто прохожему. Тем ядовитей его ирония, тем очевидней его изящное издевательство, его необычная фантазия.
Современная скульптура порой трудно отличима от бреда. Шемякин противопоставляет этому витиеватому пустомыслию, оригинальничанию, суемыслию отточенные и явные формы, реалистичные, но гротесковые.
Он, как и положено скитальцу, всему чужой — чужбинам и родинам, людям и стилям, течениям и знамениям. Он сам по себе, он в состоянии противостоять и культурным авторитетам и толпе миллионеров. В нашей общей камере, где все мы тянем свой срок, он — один из немногих, кто так и не расстался со свободой.
Меркуловы, Томские, Шадры по сути умерли одновременно со своими скульптурами. Поскольку это были не скульптуры, а идолы эфемерных вождей. Пушкин-с-томиком-Сталина, Сталин-с-томиком-Пушкина, Сталин-на-коне, Сталин-с-веслом — эти шедевры лизоблюдства, как и замелькавшие изваяния-изображения питерского полковника КГБ, оскорбляют собой понятие искусства, у которого осталось так мало рыцарей.
Саша Зимин
В Питере существовала группа молодых художников «Белая гостиная» (а, может, голубая). Лидер — Блохин, действительно замечательный и оригинальный живописец, картины же его должны идти на рынке нарасхват. Владелица картинной галереи в Кармел ленинградка Ольга Султанова, моя коллега и приятельница, списалась с ними и даже оплатила дорогу одному из них, Саше Зимину. Он с ходу принял участие в местном конкурсе художников: надо самому выбрать местный пейзаж и в течение светового дня нарисовать его. Сашина работа «Устье реки Кармел» (хорошая копия висит у меня на кухне, я также украсил ею обложку своей монографии «Человечность») завоевала третью премию, а сам Саша за день сделал себе прочное имя. Он — ровесник моей дочки, мы быстро сошлись и подружились. В галерее был крошечный закуток, где мы варили кофе и распивали примитивные белые сухие вина за разговорами обо всём. В оправдание этого лёгкого пьянства и безделья я наплёл Ольге, что это — маркетинговый ход: в Кармел практически на небольшом пятачке 150 картинных галерей, чтобы привлечь внимание, надо, чтобы из Ольгиной явственно шёл кофейный аромат, любого зашедшего и застрявшего хотя бы на 5 минут надо угостить чашечкой кофе, только после этого проводить экспресс-экскурсию по выставленным картинам; если клиент разогрет для покупки, ему надо налить стаканчик вина и показать содержимое заказника — именно это, не демонстрируемое, он обычно и покупает, растопленный кофе, вином и вкрадчивым разговором о современной русской живописи.
Рисовал Саша пейзажи и натюрморты, легко и быстро, выручка от продаж они делили между собой поровну. Ещё он затеял курсы живописи для пенсионеров — 25 долларов за один урок, 200 — за весь курс. На эти занятия набегало по 20—30 человек, вполне достойный приработок. Приезжал он раз в год, на месяц-два.
Всякому шалопайству, увы, приходит конец: Ольга продала свою галерею, Саша переключился на российский рынок, я вернулся в Москву, и мы потеряли друг друга.
Натюрморт
Саше Зимину
Вот натюрморт: в холодном хрустале
израненная роза, ей не выжить,
восторг жеманный ей невыносим,
зачем ты здесь? — я истекаю кровью
и совестью — ведь я убийца твой.
Чем выше красота, тем беззащитней,
ей нет спасенья в этом мире. Ты
так побледнела, аромат предсмертный
угаснет скоро в хаосе зловоний,
и мертвый, мертвый фон, безжизненный,
белесый, он лепрой обступил
несчастное созданье. И молча ждет…
Отточенный хрусталь своим кинжальным
блеском невинные колючки преломляет,
густеет мятая, в багровых жилах
зелень, и вяло опадают лепестки.
Картина кончена… и розу на продажу,
и мой талант, и душу отнесут.
Белые розы
— Уважаемые коллеги, дамы и господа! — передо мной сидит дюжина человек предпенсионного, пенсионного и постпенсионного возраста. Неделю назад самые нерешительные из них заплатили по сто баксов за каждый день семинара, который продлится четыре дня. Теперь они сидят, напряженные и неловкие в ожидании скорее разочарования, чем чуда. Кое-кто из них в сердце своем уже смирился с горечью утраты четырехсот долларов, не самых последних в этой жизни, но все равно ведь жалко, — прежде всего, расслабьтесь. Сначала мы немножко поговорим о поэзии, просто, чтоб как-то начать и размяться.
— Поэзия без Музы — не поэзия, поэтому у нас будет Муза, всего одна на всех, но какая! Ольга, покажись, пожалуйста!
Ольга, высокая стройная блондинка в элегантном черном костюме и на высоченных каблуках, вышла из своего закутка в глубине нашего небольшого зала, оттуда, где обычно варится аппетитнейший кофе, настоящий турецкий кофе, смесь арабики с мокко, на маленькой жаровне, наполненной драгоценным песком Фонтенбло, в двух джезвах. Туда сначала кладется хорошая ложка только что помолотого кофе, немного сахара, затем лед, сделанный из воды, набираемой мною в одном небольшом лесном водопаде. Такой кофе варится не менее пятнадцати минут, при непрерывном перемещении джезв по раскаленному песку. В конце, когда начинает сгущаться и закипать пенка, надо бросить две-три крупинки соли, чтобы эта пенка совсем загустела, а кофе отдал и выплеснул последний залп своего аромата.
Она приветливо улыбнулась всем и низким, тяжелым голосом произнесла: «Здравствуйте! Меня зовут Ольга и всегда рада помочь вам: стакан воды, чашечка кофе, свежая рифма, тартальетка, глоток вина или мятная лепешка. Я буду стараться, чтобы вам понравилось у нас, даже если у вас получится чуть хуже, чем вам хотелось бы».
— Получится, как надо, непременно получится, — сказал я. — то, что вы пришли сюда, является залогом того, что у вас все получится, ведь другие же побоялись! И потом — мне присутствие Ольги действительно помогает.
Стулья сочувственно и солидарно заскрипели, первая неловкость недоверия сошла с лиц.
— Как по-вашему, какой натюрморт легче писать: белые розы в хрустальной вазе на белом фоне или красные розы в зеленой вазе на синем фоне? — Правильно, совершенно верно, второй натюрморт гораздо проще, ведь в первом вы практически используете только одну краску, но должны все время играть этим цветом и светом. Поэзия — это рисование белых роз в хрустальной вазе на белом фоне. Это — очень простые слова и ясные мысли, но в таком трепетном сочетании, какого вы никогда не найдете ни в прозе, ни в жизни. Поэзия — это скорее связь слов, чем сами слова.
И самое сложное — о чем писать, потому что писать можно о чем угодно. У нас с вами целых четыре дня. Давайте будем писать каждый день по стихотворению, чтобы получился некоторый тематически законченный цикл. Ваши предложения!
— Четыре времени года!
— Четыре стороны света!
— Четыре угла дома1
— Четыре времени суток1
— Четыре евангелиста!
— Четыре океана!
— Четыре мировых религии!
— Четыре времени жизни!
— Четыре конца креста!
— Достаточно! На чем остановимся? Голосовать можно хоть все десять раз. Кто за четыре времени года, поднимите руки… так, шесть голосов… кто за четыре стороны света? — всего двое… кто…
Большинство голосов получили четыре времени суток.
— Отлично! Располагайтесь в ваших креслах поудобней. Обратите внимание: Вы, если сидите прямо и смотрите прямо перед собой, никого из соседей не видите, только огонь в камине и меня. Впрочем, на меня можете не смотреть — это я должен смотреть на вас и видеть, кому нужна помощь. Вам достаточно только поднять руку, и либо я, либо ваша муза будут с вами. Старайтесь не мешать друг другу и не обращать внимание на других.
Если вы устанете, можете тихо встать, не мешая другим, выйти и немного погулять, только не выходите из завоеванного состояния: выйдя, вы уже никогда не вернетесь назад.
Конечно, вы любите поэзию, иначе не пришли бы сюда. Но постарайтесь забыть все и любые стихи, где описывается или просто мелькает утро, особенно, свои стихи. Забудьте обо всех теориях и правилах стихосложения. И не задавайтесь формой стиха. Не говорите себе: «это будет сонет» или «это будет верлибр», или «это будут насмешливые стихи» — пусть все это придет к вам само, без вашей воли.
Пишите ясно и крупно, с большими полями и расстояниями между строк. Через три часа мы заканчиваем черновую работу, и до обеда вам надо переписать начисто сделанное за полчаса. После обеда мы два часа будем работать над текстом индивидуально, а затем каждый прочтет свое произведение, потому что совершенство достигается только при прочтении вслух. Поверьте, к этому моменту у каждого из вас будет уже нечто, чего можно не стесняться.
Не спешите писать «Утро». Сначала надо сосредоточиться на идее утра. Неважно, это будет пасмурное утро или солнечное, из вашего детского сна или из вчерашнего фильма, удачное или неудачное. Постарайтесь вспомнить все утро в целом, без деталей. Если вы вздремнете, это нестрашно, это даже очень хорошо и это очень помогает. Медитация во сне — самая чуткая на гул мира.
Постарайтесь подобрать или найти мелодию под образ утра, помычите или помурлыкайте себе этот мотив, пока не появится первое слово или первая фраза.
И даже когда напишите это слово или фразу, продолжайте напевать, тихо-тихо, про себя, пока не поймаете первую мысль, потому что первое слово или фраза — еще не мысль, еще не чувство, а лишь первый вздох.
Стулья, бумаги и одежды дружно зашуршали, чтобы постепенно стихнуть, сойти на нет. Я сосредоточился и через несколько минут пришло:
Стылых чаек серое тряпье.
А еще через несколько минут — продолжение:
Океан выплескивает солнце.
Мыслей горьких ядовитый стронций
Сердце раненое безмятежно пьет.
Через полчаса работа вчерне была закончена, но получилось нечто, как из готовальни, и я все выбросил, оставив лишь первую строфу. Я обвел аудиторию взглядом: трое спокойно спали. Пусть. То, что им сейчас снится — прекрасно и стоит потраченных денег, они это уже радостно отметили на полях своего сознания. Остальные пишут. Некоторые даже заканчивают первую страницу. С ними потом накувыркаешься. Ага, вот и рука.
Я тихо подхожу к поднявшей руку:
— не могу найти рифму к слову «слезами»: «росою залит, как слезами»
— нами, вами, к раме, драме — старайтесь избегать повторения грамматической формы
— спасибо
— не за что
А вот еще рука:
— выйти можно? Где тут туалет?
Ольга повела опрятную старушку в поэтический отстой.
Еще рука:
— можно сказать «и солнце машет нам руками»?
— можно все. Давайте посмотрим контекст.
В контексте это явно не смотрелось. Мы перебрали десяток вариантов, пока не нашли «На цыпочки! Оно взбежало к рампе»: у стихотворения уже было название «Дебют». Может получиться неплохо, мысль, во всяком случае, интересная — дебют мироздания.
Блуждая меж кресел, я продолжал сочинять свое, как всегда на таких семинарах, урывками и половину забывая, теряя по дороге к своему месту:
«никуда!» — мне стонет в спину ветер
из бегущей прочь рванины ночи
чаек крики резче и короче
я озяб, а день, налит и светел,
как шабли, который мы с тобою —
помнишь, яснозвездная моя? —
Что-то здесь не то. «Яснозвездная» — это какой-то девятнадцатый век или Люфтваффе. Выкинуть яснозвездную. А что старичку понадобилось?
— Вот здесь не получается. Не хватает двух слогов.
— Вы знаете, мы их найдем, это не страшно. Попробуйте самые важные для вас слова ставить последними в строке — они ведь должны стать самыми важными и для читателя или слушателя. И к ним легче подбирать рифму. А на порядок слов не обращайте внимание: плевать — неправильный порядок только усиливает вечность мимолетности, которую вы ищете и, кажется, уже находите. Поняли?
помнишь, незабытая моя? —
на Лидо: туман, восход, маяк
и прощанье с позднею звездою.
Я поманил Ольгу:
— сухого, белого, холодного.
— совиньон?
— разумеется. И пару маслин, потемней и помордастей.
— Кофе будешь?
— А давление? Плевать. Давай. Спасибо, дорогая.
Сами собой родилась еще пара строф, раньше, чем поднялась хотя бы еще одна рука и кончился совиньон. Теперь я ходил между кресел с чашечкой кофе, подправляя строки и рифмы, советуя, переставляя строфы, иногда переписывая целые куски.
— а здесь? — капризно и строго спросила дама из числа врожденных училок, показывая мне на явно неудачное, выпадающее место в ее стихах, пропущенное мною.
— Это очень интимное место. Попробуйте сами.
— Но я не могу!
Я исправил это место.
Справились все.
На обед, в соседний ресторанчик, мы отправились в превосходном настроении. Шумно, весело, славно — я люблю этот эпизод первого дня работы: люди окончательно раскрепощаются и уже не косятся друг на друга: мы все с одной полянки, мы все — просветленные одной идеей, идеей утра. Никто даже не заметил отсутствия Ольги: у нее сегодня во второй половине дня поход к зубному, и я отпустил ее на свой страх и риск.
В зале — легкий ералаш, но это ничего, теперь богемность даже нужна. Идут подчистки и бесконечные переписывания, многие уже про себя читают свои стихи.
В подбирающихся сумерках я зажигаю оба канделябра.
— Послушайте! — и начинаю читать свои стихи, нараспев, ровным спокойным голосом, диссонирующим с драматургией стиха: это всегда производит гораздо более сильное впечатление, чем театральное декламирование.
Потом читают остальные, стараясь придерживаться той же манеры. У всех, в конце концов, получились неплохие стихи. Такое вполне могут напечатать в рубрике «Творчество наших читателей». Мелкие огрехи и шероховатости сразу стали слышны и авторам и слушателям. После каждого прочтения — легкая волна вежливых и искренних аплодисментов. За окнами — совсем темно, мы пьем — кто бокал вина, кто просто воду из бутылочки — поздравляем друг друга, знакомимся, показываем семейные фотографии, которые принес почти каждый, обмениваемся телефонами и адресами.
— просьба завтра без опозданий, ровно в восемь! Спокойной ночи и не думайте о дневном!
Назавтра мы пишем «День», в том же режиме и с тем же успехом, потом — «Вечер» и «Ночь».
В пятницу, опять в сумерках, мы сидим, каждый на привычном для себя месте, Ольга разносит чашки с хорошо заваренным чаем, какие-то сладости, коньяк. Перед каждым креслом — высокий подсвечник, так, что пламя свечей освещает лица, оставляя в глубине тени наши не очень молодые тела.
Мы больше не читаем свои стихи. Мы тихо рассказываем, как жили раньше и как будем жить теперь, как хорошо хотя бы раз в году вот так встречаться и находить родственные тебе души. Кто-то предлагает осенью поехать в Париж или под Париж. Снять там дом и неделю пожить вот такой коммуной. Идея многим нравится: Бодлер, Аполлинер, Рембо — очень неплохая идея и прекрасная компания, не правда ли?
К восьми вечера, наконец, все разбредаются и расходятся. Я чертовски устал, Ольга просто валится с ног — завтра ей предстоит весь день убирать этот свинарник. В воскресенье — мы договорились — едем вместе закупать все необходимое для следующего семинара, который, как всегда, начинается во вторник утром.
Звоню приятелю:
— привет. Ну, как твои? Закончили?
— только что выпроводили последнюю барышню.
— а что рисовали?
— так ведь опять: белые розы, в хрустальной вазе, на белом фоне.
АРТИСТЫ, ПЕВЦЫ И ТАНЦОРЫ
Фёдор Шаляпин (два певца)
Чарующий тенор Карузо вы можете услышать в своем приемнике, мотаясь по Америке, практически каждый день. Волшебный бас Шаляпина умолк для американцев, по-видимому, навсегда.
Два великих певца, преобразивших наши представления о теноровом и басовом пении. Два современника, блиставших и гремевших в Америке, так непохоже продолжили свой триумфальный путь. Один продолжает петь, другого просто нет.
Понять эту загадку судьбы — цель данной работы.
Энрико Карузо родился в Неаполе 24 февраля 1873 года. Начал петь в церковном хоре. С 18 лет брал уроки в певческой школе Г. Верджине и через три года с успехом дебютировал в неаполитанском театре Новой оперы. Гастроли по Италии привели его в миланский «Ла-Скала», где он выступал всего один сезон — 1900—1901 годов. С 1898 года — триумфальные турне по Европе, в том числе дважды — в России. С 1903 по 1920 годы — работа в нью-йоркском Метрополитен-Опера.
Он пел все: от неаполитанских песен до сложнейших оперных партий. Все, кто пел и поет после него, лишь эпигоны его таланта и манеры исполнения теноровых партий.
В возрасте 48 лет Карузо умирает у себя на родине, в Неаполе, 2 августа 1921 года, в апогее славы, богатства и признания.
Начало пути Федора Шаляпина удивительно похоже.
Он родился в том же 1873 году, в Казани, в крестьянской семье. Пел в церковном хоре, а, кроме того, обучался сапожному искусству и другим ремеслам. Понятно, что, не будучи тенором, продвинуться в церковном пении не мог. С этого, с различий в тональности голоса, начались его различия с Карузо. Шаляпин нигде не учился и был самоучкой в странствующих труппах. В Москву Шаляпин приехал в возрасте 21 года и до 1896 года пел на гастролях московской Частной русской оперы. Его звезда взошла в 1896 году, когда его заметил Мамонтов. 22 сентября — дебют на сцене Частной оперы в Москве в роли Ивана Сусанина, через пять дней — партия Мефистофеля, 12 декабря — Иван Грозный в «Псковитянке» Римского-Корсакова.
Шаляпин знакомится с Сергеем Рахманиновым, с которым дружит затем всю жизнь. 7 декабря 1898 года друзья ставят в Частной опере «Бориса Годунова». Партия царя Бориса — лучшая во всей карьере Шаляпина. С 1898 года он становится солистом Большого. В 1922 году Шаляпин эмигрирует почти со всей своей многочисленной семьей. Его гастроли по Европе и Америке проходят с невероятным, неслыханным успехом. Подобно Карузо, он переворачивает все сложившиеся представления о басовых оперных партиях. Благодаря Карузо и Шаляпину теноровые и басовые партии приобретают глубину человеческих чувств и страданий. Отныне это — не картонные голоса картонных персонажей, а звуки, заполненные и переполненные человеческой сущностью, звуки, заставляющие содрогаться и раздвигать наши представления о том, что есть человеческая суть.
Умер Шаляпин в Париже в 1938 году, похоронен на кладбище Батиньоль, в канун 2-ой мировой войны. Его прах был перенесен на Новодевичье в 1984 году.
Недолгое время я работал на Пречистеньке, у Спасо-Зачатьевского монастыря. Ныне этот женский монастырь опять действует. Тогда же все это лежало втуне и в развалинах. 3-ий Зачатьевский переулок отделялся от Пречистеньки небольшим и заброшенным сквером, ныне застроенным новорусским манером.
Я часто сидел московскими безлунными вечерами в этом одиноком сквере, напротив дома Шаляпина с заколоченными фанерой окнами, выщербленным фасадом и засранным двором. Я сидел на скамейке, обнюхиваемый породистыми суками (не зафиксировать ли на нем свое присутствие, думали суки), пил пиво под немерный кач пустых деревьев. И мне виделся призрак великого певца, мятущийся от «чур меня!» и радостный от крика только что родившегося сына Бориса.
Здесь, в этом доме, Шаляпин был счастлив. И потому, по моему убеждению, именно здесь, а не на Новинском бульваре, не в Большом Чернышевском или Леонтьевском переулках, не на Скобелевской площади и не на Долгоруковской улице, и уж, конечно, не в Париже, должен обретаться и стенать призрак великого певца.
И вот теперь, живя в Америке и не слыша Шаляпина, бывшего некогда кумиром Америки, но на каждом шагу встречаясь с Карузо, я думаю, почему же так вышло. Неужели только потому, что однажды Федор Иванович назвал своего американского импресарио жидовской мордой?
Михаил Чехов
Была симфонически прекрасная ночь, и звезды спадали со своего поднебесья огромным занавесом — вот сейчас он откроется — и мы увидим захватывающе интересный спектакль мироздания, с богами и героями.
Мы шли из сельского клуба, с последнего сеанса, к себе домой, к притихшей в ночи скотине и мухам, к облитым лунным светом молодым яблонькам, на душистый сеновал, в прорехи крыши которого видно это небо, мы шли с американского фильма «Рапсодия» о необыкновенно красивой судьбе необыкновенно красивых людей с необыкновенно красивыми чувствами. Моя тетушка, я видел, плакала, на глазах блестели слезы — в молодости она играла на пианино, и до сих пор у них в доме на этажерке пылятся какие-то ноты, меж которых мне однажды попались диалоги Платона, такие же прекрасные, как и фортепьянная музыка. Бабушка Варя, шедшая по другую руку, театралка с дореволюционным стажем, вдруг сказала:
— А я его узнала.
— Кого?
— Ну, того, старого профессора музыки, Шумана. Это же Михаил Чехов.
— Какой Михаил Чехов?
Она посмотрела на меня, четырнадцатилетнего полушпингалета, недоюношу.
— Самый великий и самый несчастный из Чеховых.
И она рассказала мне то, что знала и помнила о нем. А знала она многое, потому что это она сейчас с дочкой живет в небойкой белорусской деревеньке Долже, скрываясь от сталинских репрессий, а бесконечно долгая молодость ее прошла в театральной Москве, она не знала отбоя от поклонников, но по-настоящему обожала только театр и знала все-все об актерах, актрисах, режиссерах и закулисах..
Племянник Антона Павловича, Михаил был странно-гениальным актером. В отличие от дяди, он был неказист, с совершенно невыразительным лицом, негромким голосом и явными дефектами речи. Он не играл ни внешностью, ни голосом, ни телом — все это было для него несущественно. Банальное «он играл душой» также к нему не подходило — душа мастерством не владеет. Никто не знал и не мог понять, в чем сила обаяния, сила проникновения его в зрителей и партнеров. Но он даже в мельчайшей эпизодической роли притягивал внимание к себе и запечатлевался.
Магия его игры ломала все театральные устои, системы и законы: будучи учеником Станиславского и Немировича-Данченко, он совершенно не вписывался в их систему, выламываясь из каждого спектакля и делая этим проломом новый спектакль.
Был он не от мира сего: когда началась революция он даже не заметил ее, потому что у него ушла жена с любимой доченькой, а доченька, ведь, это гораздо важнее революции (бабушка Варя усмехнулась и привычно посмотрела за спину).
У Михаила Чехова было много учеников и все они потом стали знаменитыми актерами, ну, не все, а кто уцелел. А как он играл Гамлета! Так Гамлета не смог бы сыграть и сам Гамлет, хотя, говорят, тоже был неплохой актер. Михаилу Чехову дали Второй МХТ, прямо на Театральной площади, в самом-самом центре Москвы, у Гранд-Отеля. Сам Анатолий Васильевич ему покровительствовал и защищал от пролетарских критиков.
Но он все равно уехал. Лечиться в Германию поехал — все Чеховы больные — и не вернулся. Оказывается, жив, не помер.
Михаил Чехов, вырвавшись из совдепии, колесил с труппой по Европе, давая спектакли с успехом, но почти исключительно для русской эмигрантской публики.
Когда в Европе стало совсем уж неспокойно, во второй половине 30-х, он переехал в Америку, имел шумный и грандиозный успех на Бродвее, поставив «Бесы» Достоевского, даже открыл свою театральную студию, но театральная Америка — это не Россия и даже не Европа.
В Голливуд его затащил Рахманинов, модный киношный композитор.
В Америке театральный актер и киноактер — две совершенно непохожие профессии. И перейти из театра в кино в Америке практически невозможно. Ни для кого. Исключая Михаила Чехова.
В Голливуде он быстро оказался в когорте великих: получил Оскара, стал членом Академии, естественно, оброс и киноучениками: среди его киностудийцев была Мерилин Монро.
Остатки своей короткой, по американским меркам, жизни (он умер в 62 года) он провел на собственном ранчо под Сан-Франциско: читал время от времени лекции, много писал. Среди написанного самое замечательное — «Путь актера».
Он сыграл несколько ролей из Достоевского, но — сколько он не сыграл! Преступление, что мир не узнал и никогда не узнает в его интерпретации князя Мышкина, Раскольникова, всех пятерых Карамазовых (о, какой бы это был фильм!), старика из «Униженных и оскорбленных», игрока, а — «Кроткая», «Сон смешного человека», «Бобок», «Записки из подполья», «Записки из мертвого дома»? Сколько ему надо было бы сыграть! В театре и в кино.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
