
Бесплатный фрагмент - S
And I think it's gonna be a long, long time
Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home.
Oh, no, I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone…
Sr, Elton John
Вступление
Через два слоя мокрого стекла, от автомобильного окна и прозрачной стены кафе, Лекс смотрел на занятый парочкой студентов стол, за которым он с Тото обедал позавчера.
Тогда, в пятницу, его телефон принял сообщением послание от Альберта с просьбой встретить его с самолета воскресным утром. В ожидании пищи, глядя в окно на взволнованные красным светом светофора автомобили, Лекс решил, что обязательно вспомнит по дороге в аэропорт этот обед, и если остановится на перекрестке, то посмотрит оттуда, из машины на этот столик. Задача состояла в том, чтобы вспомнить данное себе обещание. Впереди его ждали два безумных дня с очередными застольями, кальянными, привезенной из-за границы кем-то бутылочкой рома, громким смехом, тихими затяжками густого дыма и поскрипывающей, если хватит запала, в утренних сумерках кроватью. Но он справился. Вспомнил. Зачем Лекс занимался такими ментальными упражнениями, и почему это доставляло к лобным долям удовольствие как от почесываний комариных укусов, сам он не знал, но тренировался регулярно.
Воскресное петербуржское небо по майскому обычаю пряталось за полиэтиленовыми бесцветными облаками, иногда опрокидывая с грохотом серые пятна небесного конденсата. Так, наверное, видели по весне крыши теплиц маленькие ростки снизу. Потом они вырастали и опускали созревшие головы, вынужденные таращится в черную почву, ожидая появления жнецов.
На светофоре загорелся красный. Лекс уставился сквозь редкую рябь из пробегающих людей на тот самый стол и силился вспомнить самые незначительные детали пятничного разговора.
Кивая головой в ответ на длинные монологи брата, Тото косился на свой гаджет, контролируя ход футбольного матча в он-лайн игре. Около тридцати лет назад он, скорее всего, в первый раз расстроился, что брат опередил его на несколько минут, финишировав лидером при появлении в этом мире. Теперь Тото должен был выигрывать любые состязания, все, которые находил и считал достойными для своего участия. И все это пошло бы на пользу, если развитие себя стояло бы во главе, а не факт победы, — часто повторял ему Лекс. Тото мало кого слушал, не потому что пренебрегал или был равнодушен, а скорее не был способен удерживать на чем-либо внимание достаточно долго. Вокруг него всегда должны были работать всевозможные звуковые источники информации — гаджеты, телевизоры, жена. При этом Тото обязательно интересовался у спутников о событиях в мире, но переставал слушать их ответы уже до начала диалога, откровенно и без стеснения переключаясь на радио или телефонный разговор. Может быть, поэтому в его доме часто бывало много друзей, их бурное веселье и стук недовольных соседей в стены восполняли его бесконечный недостаток в событийности. Лекс верил, что он просто не нашел еще подходящего применения своему позитивному бешенству, что его светловолосая голова не нашла себе еще мишени для упора.
Как так вышло, что братья двойняшки оказались непохожими друг на друга больше чем два случайных прохожих, оставалось генетической загадкой. Темноволосый Лекс никогда не оглядывался с превосходством не тех, кого обогнал. Только вперед, туда, где он еще ничего не видел. Без чрезмерного рвения, но и без недовольства мог помочь вытащить к «новому» менее любопытных, хотя никогда не ставил это в обязательные задачи. Он мог сидеть на одном месте и делать всего лишь одно дело сколь угодно долго и максимально сосредоточенно, в кардинальном отличии от Тото, который возможно самовоспламенился бы, угодив в такую тесную ловушку.
Подобно неугомонной чайке, один из братьев крутил головой, отвлекаясь на блестящие автомобильные диски, изящные женские туфли, обивающие тротуар, новые наименования в меню, которые решено было попробовать, во что бы то ни стало. Внутри него бурлило светлое, молодое вино, готовое взорваться брызгами во все возможные стороны, вытолкнуть пробку без цели, но по причине невозможной тесноты.
Второй наблюдал за братом с пристальным вниманием ястреба в небе, черными глазами подмечая излишки движения и суеты, иногда ухмыляясь, но, не отпуская идею найти для него тот самый выход, упор для всей его несобранной в кучу силы.
Через звон вилок и ножей, звонков и разговоров по телефону, и чей-то обязательный для таких заведений отвратительный смех, до Лекса донеслось пищание телефона из сумки.
Тото одернул глаза на звук, но сразу опустил снова.
Сейчас, тяжелым, сумрачным, сырым утром воскресения, уставившись в окно, Лекс отчетливо помнил лицо брата, прочитавшего вслед за ним сообщение в телефоне. Как будто где-то подернулся нетерпеливый занавес между вторым и третьим звонком.
Резкий сигнал клаксона автомобиля сзади передал всю полноту негодования своего владельца и обозначил свободу перемещения вперед. Лекс зажмурил глаза со всех сил и тут же открыл, где-то писали, что так полезно. Через серую, размытую по лобовому стеклу, кашу он тронулся в сторону аэропорта, как и обещал Альберту в ответе на то самое сообщение.
Альберт всегда писал очень практично, как в советских телеграммах, где приходилось экономить символы, никогда не использовал эпитетов и лишних слов. Он обязательно учитывал все возможные дополнительные вопросы сразу, поэтому у Лекса не было возможности выбирать сценарий. Петербург добавил ко всему своих декораций и эффектов, обеспечил всем проснувшимся в это дивное, наполненное холодной водяной агрессией утро, чрезвычайно нестабильное настроение.
«Воск10ам. Пулк. Если никто не встретит, поеду к тебе»
Ко всему прочему в квартире Лекс оставил несколько укутанных, спасаясь от озноба, в одеяло людей. Волосы их были взлохмачены постоянными ерзаниями по тесным спальным местам от сбивающих дыхание пост алкогольных снов. Привыкшие просыпаться на работу ранним утром за прошедшие пять-шесть дней, в воскресное они обычно только укладывались спать. Цикл повторялся, невзирая на погодные условия и места обитания. «Лагерь» разбивался по факту наступления утра в том же месте, где оно догнало уставших беглецов, стартовавших с последним звонком своих офисных фабрик в долгожданный трип. Бегали все по-разному — марафонцы, спринтеры, с ролью и регламентом обычно определялись заранее. В путешествии каждый держал свою роль, выполнял свою отдельную функцию необходимую для поддержания целостности собравшейся группы. Лексу выпало в этот раз устроить у себя постоялый двор, а в последствии и реабилитационный центр для растративших силы путников.
Бежали. Так стремились куда-то бежать.
Альберт не таскал с собой саквояжей и тем более зонта. Его голова намокла, но не испортила простейшую композицию из миллиметровых волос на бритой поверхности. Лекс описал ему предполагаемое положение вещей и людей на данный момент в двух словах. Альберт слушал, уставившись на атакующие стекло капли, как принимающий отчет директор с напыщенным чувством отсутствия заинтересованности.
Лексу в моменты приступов негодования иногда удавалось задаться вопросом, откуда вообще в их с Тото жизни взялся Альберт. В самой обыкновенной одежде, с набором стандартных вредных привычек, он напоминал им среднее арифметическое от всех мужчин Земли в районе тридцати. Пропадая и появляясь неожиданно, его присутствие всегда определяло все значимые для братьев даты последних нескольких лет. На свадьбе Тото и Ясэ Альберт после долгих уговоров вышел сказать тост. Гостям с полувековой личной историей понадобилось пропустить по паре рюмок, прежде чем восторженный плач окончательно стих. Дни рождения, годовщины, ужин в четверг, поход в кино по средам, пробежка во вторник — казалось, что Альберт теперь всегда рядом, что стоит набрать его номер, как мелодия звонка тут же заиграет.
На отвлеченное замечание Лекса об «убегающих» Альберт вдруг откликнулся резким подергиванием головы:
— Здесь так много ресторанов и баров, — заметил он, проводя рукой по мокрому стеклу. — Много людей. Бегут, как ты выразился, в основном группами.
— Почему? — вдруг спросил Лекс.
— Потому что неизвестно куда. Страшно. Все видят только откуда. Как будто бегут спиной вперед. Но спиной вперед нельзя. Собираются в пары хотя бы — одному жутковато…
В голосе Альберта была какая-то неизвестная никому до этого колкость. Лекс почувствовал себя уставшим водителем такси, который тщетно пытался заговорить с вынужденным пассажиром.
На площади уже успела образоваться пробка. Дождь обтягивал прозрачной пленкой гранит вокруг памятника высеченному из тела планеты вождю.
— Смотри, — Альберт все громче продолжал — видишь, на скамейке сидит бабушка под цветным зонтом? Она уже свое отбежала. Выдохлась пару десятков лет назад. Каким-то образом поняла где-то внутри, что не добежит, что не знает уже, куда и зачем. И остановилась. Ее глаза начали тускнеть, и вскоре они затянутся мутной пленкой. Мозг «вращает» мир все медленнее. Это естественная реакция организма на страх.
Лексу по настоящему становилось страшно.
— А вы еще на полном ходу. Еще с задором и отвагой пытаетесь сотрясти неизвестный вам мир, неизвестных себя. Как заключенные в первые дни своего пребывания взаперти, вы уверены, что скоро сбежите! — Альберт вдруг опустил голову и выдохнул воздух, скопившийся от неполноценных яростных вдохов, похожих на всхлипывания при неконтролируемом рыдании.
— У тебя что-то случилось?– дрожащим голосом Лекс выдал себя. Похмельная дрожь охватила все тело необъяснимым приступом клеточной паники.
Он запомнил тот взгляд — Альберт поднял голову, полу прикрыв глаза, и резко дернул веками вверх, сверкнув необычной яркостью радужных оболочек.
Казалось, вот-вот что-то лопнет, явится Бог или нечто подобное, и всем откроется истинное, самое глубокое осознание. Но вместо этого, наполняя эхом кибер мелодий пространство, в кармане у Лекса заистерил телефон. Экран предоставил отчет о намеревавшемся войти в связь длинноволосом парне с обвисшим лицом и затуманенными глазами, подписанным снизу как «Мишель». Туман в его глазах заполнял пустоту, с которой все равно не справлялся. Каждый, кто знакомился с Мишелем, не выдерживал глазной дуэли в упор, хотя сам он никаких неприятностей через взгляд специально не передавал. Может быть, всех пугало его равнодушие. К людям, да и вообще ко всему людскому, ни капли злости Мишель не испытывал, а даже наоборот; но в отличие от большинства, все это занимало в его голове только лишь второе место. На первом, вырвавшись очень далеко вперед, там внутри за его глазами, задавала темп и правила бал музыка. Неизвестно насколько огромное ее количество и скрывала от всех эта дымовая завеса в глазах. Мишель играл сам, очень редко на людях, чаще для устройств звукозаписи; учил играть других, чем зарабатывал себе на еду, сигареты и то, что употреблял со всей командой по выходным.
Лекс с облегчением взял трубку, но с той стороны струей пара под давлением вырвался крик:
— Лекс, Лекс!!! Послушай!!! Я до сих пор не могу уснуть. Что там за таблетки мне подсунули, и сколько их было? Ты помнишь?!!! Что делать? Я хожу по комнате уже второй час. Я уже перестал пытаться. Дай мне Тото! Он рядом?
— Успокойся, — Лекс привычно ухмыльнулся. Обычное дело.
— Пива выпей…
— Уже. Не помогает. Тото у тебя?
— Вроде не было с утра.
— Мне звонила Ясэ, говорит, что мы с ним вчера остались вдвоем за барной стойкой в Крестах. Но я помню только, как садился в такси один. Дома его нет.
К Лексу вернулась, как оказалось, ожидавшая своего шанса похмельная паника. С Тото никогда ничего не случалось. Любой из людей имел шансов про запас попасть в историю по сравнению с Тото.
Мишель обещал обзвонить вчерашнюю «команду». Лекс остановил машину у пустого, почти черного от воды тротуара.
Все это утро. Альберт. Полу голые пьяные тела в квартире. Питерский серо-белый май. Этот страх, про который говорил Альберт. Это он заставляет бежать. В бутылки, таблетки, порошки. Что-то мучается там внутри взаперти и боится. Как будто в зеркало смотрит в неизвестность и черноту и не видит себя, съеживается от ужасной догадки о собственном несуществовании.
Лекс отчаянно пытался ухватиться сознанием хотя бы за что-нибудь. Но все вокруг разлеталось на пылинки и уносилось из головы, подхваченное космическим ветром в направлении поглощающей галактику черной дыры. Панический утренний свищ воскресения. Лекс «трогал» края отверстия наяву.
Дождь вышел на крейсерскую скорость. Альберт, казалось, начинал пропитываться местным унынием и снова завис на размытой картинке своего окна. Лекс постарался взяться за свои онемевшие от перенапряжения части тела и из всех сил прохрипел:
— Альберт… Мне кажется, что-то случилось. Тото пропал…
Ясэ
Люди распространялись матрешкой. К большому городу приклеен поменьше, к тому еще один или два, потом поселки, деревни, хутора.
На самом краю этих расходящихся кругов от брошенных на поверхность земного океана людей сидела девочка, рассматривая метания стаи маленьких рыбок в просвечиваемой невысоким северным солнцем озерной воде. Суета прибрежных птиц и переливы тяжелых волн между сморщенных камней наполняли пространство отсутствием человеческого. Было слышно как вековые сосны, кряхтя и потрескивая корой, расправляют свои кольца погреться на чуть теплом августовском Солнце.
К еле уловимому запаху осени, чьи разведчики уже мелькали в вечерних сумерках между осунувшимися деревьями, в тот день добавилась смерть. Вместе они стянули немногочисленных жителей деревни колючей веревкой в сноп и собрали готовой воспламениться охапкой хвороста у крыльца дома.
Ясэ сбежала через калитку с внутренней стороны двора. Она слышала, как бабушка прокричала ее имя несколько раз. Оставшись по обыкновению без ответа, старушка сняла с крюка в коридоре сморщенную палку и вышла к встревоженному сборищу ерзающих людей. В разнообразии далеких голосов различить что-либо внятное Ясэ не смогла. С доставшимся по наследству от бабули спокойствием она скрылась в потрескивающем своей жизнью лесу, не без удовольствия оставшись наедине с собственным молчанием. Этот дар — внутреннее молчание, как говорила ее мама, уже давно передавался по женской линии рода, но понимали и использовали его на благо не все. Люди ходили в их дом за советом как раз из-за него, хотя больше слов им нужна была порция спокойствия, которое могучей рекой неизвестной поддерживающей жизнь силы текла через их женские тела. В молодости все девочки в семье отличались нечеловеческой изящностью контуров тела, губ, завораживающим способом передвижения глаз в ровных очерченных глянцево-черными бровями вмятинах глазниц. Может быть, поэтому, а может быть в качестве еще одной из свалившихся на их род особенностей, все взрослые женщины свою вторую половину отведенной им жизни проводили одни. Юные претенденты плакали, дрались и истязали себя в порывах неконтролируемой страсти. Вокруг титанического спокойствия женщины всегда раскручивался турбулентный водоворот из дикости мужчин. Они погибали на войне, писали стихи, хлопали громко дверьми, возвращались и умоляли о прощении. Но все истории заканчивались, и с груженым составом опыта все предшественницы Ясэ переваливали за экватор в одиночку, где пребывали в привычном состоянии покоя и умиротворенности до своего молчаливого конца…

Умерла ведьма. Жители села, в жизни которых как плесень начинали появляться мобильные технологии, а с ними страсть к простоте и ясности явлений, пугались старых легенд с панической настороженностью. Бабка, что преставилась в тот день, прожила втрое больше самых сильных из них. К ней ходили просить за свой грех, когда он оказывался таким чудовищным, что воскресные службы у Христа не спасали мгновенно чернеющую снова при выходе их храма божьего душу. Грешники эти уже ничего не стеснялись, жили своим грехом и его известностью среди соседей. В какой-то момент осуждение людей всегда останавливается на заточенном пике. И если пик этот не протыкает виноватого многочисленными ножевыми, происходит откат, а в отсутствии рецидива помощь спасающемуся от своей беды. Но к старухе ходили еще и те, кто только собирался попробовать взвалить на себя ответственность за исправление чужой жизни. Эти платили щедро. Просили приворожить, наслать порчу, хворь на весь род. Теперь остались без поддержки со стороны темноты. Оторопев от неизвестности и внезапной потери центра сосредоточения всех своих яростей, толпа пришла к дому бабушки Ясэ. На добро и свет золоченого креста церкви никто даже не подумал понадеяться. Расшатывать страхи борьбой с ними всегда означало скорое нервное истощение.
Пальцы на босых ногах начинал сводить холод остывающей так быстро теперь земли. Ясэ пробиралась через полоски света между деревьев, собирая настоявшиеся запахи в память. Им предстояло исчезнуть совсем скоро. Ясэ же ждала дорога в большой город, откуда по слухам возвращаются уже без особенной страсти и внимания к тонким структурам нелюдимого леса. Их каменные стены делали слепыми и неяркими глаза, думала она, а души ламинируют в самый современный и прочный полиэтилен как кусочки мяса в магазине. Ее внутреннее молчание превращалось в задумчивость каждый раз, когда она считала дни до своего отъезда, но передумать она не позволила бы себе никогда…
Бабушка сидела на лавочке возле дома и курила, уставившись куда-то вдаль. Она походила на вождя племени Яки сейчас, ожидавшего бурю или наступление врага на горизонте. На завалинке, так называлась эта маленькая старая скамеечка, даже самый упертый и замкнутый на себе человек способен был ослабить собственную хватку и отрешиться от суеты. Она была аналогом коврика для медитации здесь. «Тот в тебе, кто заставляет постоянно над чем-то думать, покорно отойдет в тень и оставит тебя наедине с собой, как только ты приземлишь свою задницу на нее…», — часто повторяла, насмехаясь над гостями, бабушка. Ясэ сидела на скамейке по ночам. Кружка горячего крепкого чая, ворованная у бабушки сигарета и поверхность скамейки под спиной — единственное, что удерживало ее сознание спасительным парашютом в мире в такие ночи. Она погружалась с головой в звезды, чувствуя себя в их одиноком свете как дома. Ее внутренняя тишина была как будто каплей этого несокрушимого космоса, постоянным напоминанием о его крепких объятиях…
— Ты должна будешь помочь мне сегодня, — выпуская клубы дыма, проговорила бабушка. — Это мертвое чертово отродье все боятся трогать, а оставлять так тоже мало приятного. Я сказала им снять крышу с дома — священнику будет не так страшно. Дергается тоже как одинокий головастик в темной канаве.
— А я зачем? — с видом планирующего вылазку разведчика, не поднимая глаз, спросила Ясэ.
— Ну а ты что же, боишься?
— Вроде, нет…
К сумеркам от крыши ведьминой избы остались ломаные доски и отесанные бревна, в беспорядке разбросанные вокруг стен. Бревна отрывались и отламывались от дома в панической спешке. Говорили, что кто-то даже упал с лестницы, и что это старухино неугомонное зло противилось попыткам людей изгнать его.
Осунувшегося священника вели под руки. Ясэ тащила за ним сумку со свечами, крестами и склянками, среди которых через сломанную молнию на дне мелькала подранной этикеткой початая бутылка водки. «Сантехник почти, — тогда подумала она, — только воды своей чего-то испугался».
Люди остались за забором.
Старуха лежала на кровати посреди единственной комнаты. Закутанное в платок лицо походило с виду на кусок вяленого морщинистого мяса. Мертвое тело составляло подходящую компанию, будто ожидавшему и приготовившемуся его принять, интерьеру. Старинные фигурки балерин и берестяные игрушки вековой давности повылезали из темных углов, из чердаков, из под крыш, оттуда где живут домовые, встречать ведьму в свое прошлое.
— Не трогай. Пусть стоят себе,
Бабушкина рука опустилась на плечо Ясэ, и та не решилась настаивать на рассмотрении пыльной коллекции поближе,
— Они уже очень долго хранят свои истории. Потому она их и собирала. Истории скорее всего захватывающие, но жестокие. Обычно такие лучше всего ложатся в их память. Металл и камень умеют помнить человеческую боль. И люди очень давно это знают. А может, когда-то металл и камень научили людей убивать. Кто только им указал на такую роль. А фигурки кричат из прошлого, если слышать. Кто о чем. Человеку страшно прислушаться к ним, но по дикому интересно. Потому что они живут сквозь время, несут себя сквозь клетку часов, в которой человек мечется, осознавая неизбежность смерти. Страшно человеку, но жутко интересно попробовать заглянуть хотя бы назад, туда, в заваленный старым хламом и пеплом событий чердак осыпающегося прошлого.
Бабушка обошла вдоль стен комнаты, скрипя прохудившимся полом. Ясэ показалось, что от ее слов остолбеневший батюшка сейчас рассыплется и добавит к имеющейся пыли еще горстку. Она начала доставать из его старой дерматиновой сумки принадлежности для обряда и передавала ему. Святой отец ожил и принялся за приготовления, не забыв обозначить начало работ по традиции парой глотков наверняка освещенного спиртового раствора. Так расставленные свечи казались прямее и держали огонь, как правило, крепче, создавая необходимую гармонию в рисунке ритуала.
Наверное, сверху, в отсутствии крыши, это выглядело удивительно — подумалось Ясэ. Она подняла глаза и в квадрате неба увидела, как сверху на подсвеченные облака давит темнота. Свет уходил за Солнцем, оставляя в редких высоких полосках свинцовые следы, похожие на зарубины или следы от расцарапавших кожу когтей. «Мужики сняли крышу, Солнце сорвало балдахин с неба, и остались мы лицом прямо из постели в космос…», — пробормотала Ясэ, рассевшись на полу спиной к холодной печке.
Когда все было готово, а священник почти нарядился в рабочее, бабушка предложила ей выйти, и Ясэ, еле скрыв воодушевление, вышла на улицу. Хоть комната внутри дома и не особенно отличалась атмосферой в отсутствии крыши, во дворе было теплее и спокойнее. Небо и звезды были вокруг, а не в фокусе прямоугольника из стен, ветер приносил голоса и запах костра с берега. Жизнь из всех сторон придавала столько уверенности и непоколебимости, что в небо можно было смотреть даже с удовольствием, чуть балуя себя иногда приемами аккуратного осознания неизвестной огромности космоса, на который ты нацелил свои глаза…
Люди, что оставались около забора, разбрелись по домам. Сидели за столами и выпивали по вечерней за ужином.
Отыскав лавочку за «поехавшим» в сторону сараем, Ясэ присела и прислушалась. В доме монотонно шептали, иногда позвякивая инструментами, а может посудой. Пара заимствованных у бабушки сигарет смялась в кармане. Аккуратно, чтобы не порвать папиросную бумагу, она достала из кармана одну и закурила, медленно свалившись в головокружение. «Вот звезды наверху», — думал она — «А вот я закрыла глаза, и их уже нет. Какое мне дело до точки на небе, если я могу убрать ее из жизни, повернув голову. Навсегда. Я их и не запоминаю даже. Утром Солнце накроет нас колпаком и все. Все пропали…»
Глаза ее закрывались и открывались, размышляя о разнице, пока в очередной раз ни решили остаться сомкнутыми. Почти сгруппировав сознание для сна, в глазах ее загорелся вспышкой фотоаппарата свет. Она вскочила с возможно первого в своей жизни испугу и на самом выходе успела поймать разогнавшийся по гортани крик. Вокруг все оставалось прежним, но пропитанным неслышным звоном непривычности. Как будто она встала в неположенное время, не по судьбе, как будто ее вдруг протащило через временные складки в ближайшую из параллельных вселенных. Здесь было тревожно. Ясэ подумала, что все это возможно часть взросления и переходного возраста. Взрослые всегда утверждали при первой возможности, что жизнь — жестокая штука. Все как один они как будто знали на собственном опыте об этом, и, прищуривая глаза, качая головой, сваливали это сверху на наивных детей. Наверное, это приходила ясность и трезвое мышление, предполагала она. А наивность растворялась как свет в вечернем небе. Пелена спадала и оставалась истинная картинка без заблуждений и помех…
Бабушка, устало вздыхая, появилась из-за сарая и села рядом.
— Вроде угомонился святой отец. Положила спать окаянного…
Чиркнула спичка. Громко и глубоко она затянулась и на выдохе откинулась назад к покосившейся стене.
— После второй бутылки сжечь ее предлагал. Дурак… Вместе с домом, говорит, спалю. Священным огнем. Сопьется когда-нибудь до чертиков.
— Страшно ему, наверное.
При слове «страшно» у Ясэ подернулся подбородок. Ей показалось, что она впервые произнесла его с осознанием заключенного внутрь значения. Как будто прочитала его в первый раз в букваре, глядя на поясняющую картинку рядом.
— Страшно… Всем страшно, — ответила бабушка. Она вдруг повернула голову и приготовилась следить за каждым движением внучкиного лица. — Мне иногда кажется, что от этого страха все по утрам и встают только. Каждый своего конечно боится, но гонит себя этим с постели. Ты скоро поедешь жить в большой город, скажи, тебе страшно?
Из деревни после школы уезжали почти все. Те, кто оставались, служили впоследствии наглядным поводом для того, чтобы уехать.
Ясэ выбрала Питер. Он был загадочнее и больше всех остальных. И ей казалось, что он, может быть, сможет попробовать вступить с ее молчанием в разговор.
— Я не боюсь. Я немного растеряна. Как будто незнакомые ребята пригласили играть в игру на чужом дворе, правил которой ты совсем не знаешь…
— Ты поймешь. Правила — простые. Они тоже боятся. Но их много, как травинок в поле. Шатаются вместе. Какое дело колоску до своих переживаний, если у него вокруг поле? Вот и страх он прячет. Каждый из них прячет, в поле этом. Сверху крышка из дыма, под ногами грунт. Такой вот городской парник. Душно там, наверное, теперь стало, — бабушка чуть улыбнулась, видимо, припомнив сюжеты из своей юности, истину о которых она давно запаковала с собой в могилу.
Ночь приближалась к перевалу, что вел к следующему дню. На самом пике его сидели, почти задремав, Ясэ и ее бабушка. Их тонкие щелки закрывающихся глаз еще немного пропускали сквозь ресницы свет выскочивших аллергией на свет звезд на темном августовском небе.
Вспышкой фотоаппарата загорелся свет. Снова. Ясэ вскочила, раскрыла глаза, но свет ударил еще сильнее. Оно летело по небу или падало, сгорая в атмосфере и освещая пространство вокруг серебристым холодным цветом десятка Лун. Без звука. Бабушка нахмурилась, но не вставала со скамейки. Проводив взглядом падающую звезду до горизонта и выждав пару секунд, она снова закрыла глаза. Ясэ поняла, что приставать с расспросами и природе увиденного — бесполезно. Ей вспомнился «Мальчик-звезда» — сказка, которую она читала когда-то. Может быть, он где-то появился сейчас на улицах Питера в люльке обвязанной серебристой лентой из неземного материала, или голым роботом в подворотне, рыскающим в поисках цели…
Ближе к утру становилось прохладнее. Осень перед самым рассветом запускала свои тестовые программы. Люди в деревне вставали рано, с самым восходом.
Разбудить святого батюшку оказалось не так легко. Видимо, он пытался поджечь простынь, на которой лежала покойная в попытке привнести в обряд святого огня инквизиции. Но сил его хватило лишь на десяток метров по-пластунски и пары неудачных попыток извлечения пламени из зажигалки. На простыни виднелись темные пятна — единственные следы его религиозного террора.
Он дрожал. Они успели выпить горячего чая из термоса перед тем, как выйти к собирающимся у калитки людям. Глаза жителей были наполнены уважением и благоговением перед их усталыми лицами и отеками под глазами. Святой отец заявил о счастливом завершении операции, махнул рукой и отправился спать. Ясэ с бабушкой последовали его примеру.
Сентябрь уже регистрировал свое прибытие. Запах железнодорожного мазута и шум колесных вагонных пар возбуждали Ясэ, как спринтера возбуждает взвод курка стартового пистолета.
На вокзале несколько дней спустя она увидела среди прочих отправляющихся девочку лет шести в огромной футболке до колен, на которой прописными буквами было вышито: «I can FLY». « Я тоже попробую», — подумала Ясэ и поднялась по лестнице внутрь оживленного вагона…
Глава 1
Тото пропал.
После того, как Альберт уговорил Лекса не поддаваться на провокации сердца и нервов, пытавшихся сподобить организм на приступ, они решили попробовать начать с малого. Лекс позвонил к себе домой и предупредил всех о мобилизации. Панику поднимать не стали. «Альберт приехал, а до Тото не дозвонится», — легенду озвучили незамысловатую. Сам Альберт вызвался поехать к Ясэ, появиться несведущим в обстоятельствах и попробовать заполучить доступную ей информацию во всей полноте. Кресты — бар, в котором Мишель видел Тото в последний раз, открывался в семь. К этому времени, именно там был назначен общий сбор по поводу приезда Альберта. Лекс пытался поймать себя на уверенности, что Тото придет туда тоже. Пара бокалов пива, чтобы снять напряжение перегруженного вчерашним обменом жидкостями организма, жареные кусочки сыра, мяса в панировочных сухариках и смех участников вчерашних мероприятий, — все это казалось как никогда заманчивым, и от того подозрительно невозможным. Если Тото не придет, думал Лекс, обстановка станет чрезвычайной.
Воскресный день всегда располагал к сентиментальностям. Веселье оставалось во вчера, заботы откладывались на завтра. Оставались люди наедине друг с другом. Звонили родители… Родители! Они всегда звонили по воскресениям. Первому Тото. Когда у Лекса в очередной раз задрожало в кармане, он с быстротою суфлера повторял отрепетированный ответ на вопрос о неожиданной недоступности Тото.
— Привет, мам…
— Привет. Брат твой где? Не могу дозвониться. Все в порядке?
— Все хорошо, мам. Спит, наверное. Вчера погуляли…
— Я надеюсь, вы не злоупотребляете там?
— Да… да, нет, конечно…
Она думала, верно, что они выпивают вина за ужином, или пару пива в баре с гренками. Хотя, даже в самых популярных и ширпотребовских фильмах была ясно представлено, как обычно складывается современный уикэнд. Каждое воскресение Лекс ощущал внутри, что так проводить время совсем не правильно. От этого мучался под самый конец недели угрызениями совести и чрезмерной тревожностью за свою судьбу.
Нет, скорее не за судьбу, а за текущее положение усталого, праздного, потратившего время на стопки бездельника, мусолившего в голове отвращение к самому себе.
Сегодня добавилась беспомощность. Подстегнула. Он вдруг почувствовал опустошенность, какой не испытывал до этого момента. Если Тото вечером не придет, думал Лекс, он просто упадет от бессилия перед этим всем…
Обитатели «похмелье — кемпинга» с трудом разминали суставы и массажировали припухлости осунувшихся лиц. Запах по сравнению с майским, пускай и сырым, холодным уличным, в квартире стоял отвратительный. Лекс, не снимая ботинки, прошел на кухню и открыл форточку. Информации о Тото никто не раздобыл. Зато успели разогреть суп в огромной кастрюле и приготовить в ванной из ведра и обрезанной пластиковой бутылки так называемый «водяной бонг». По еле уловимому аромату жженых осенних листьев, Лекс догадался, что приспособление уже подверглось тесту.
Господа выглядели измученными и выложившимися марафонцами, достигшими финиша на замкнутой цикличной трассе, и упавшими у белой полосы с зеркальным расположением надписей «СТАРТ» и «ФИНИШ». Каждый из них хоть раз, но спросил себя о причинах и пользе таких «забегов», вследствие которых они остались на том же месте, но лишенные сил.
Фрикаделек в супе было немного. Каждому поровну. Община держалась на заботе друг о друге, но не без умеренных издевательств над теми, кому все-таки фрикадельки не хватило.
После нескольких чашек сладкого крепкого чая и пары курительных пауз в ванной к голове Лекса подобралась усталость и относительный покой. Осознание того, что единственным выходом оставалось лишь ожидание, позволило взять тайм аут. Он присоединился к группе продолжающих пребывать в оцепенении на полу, принял позу эмбриона у окна, закутавшись в одеяло, и слушал броуновский майский джаз дождевых капель о подоконник. Ему вдруг показалось, что они из песка, и стучат о стекло одноименных огромных часов, на нижнем дне которых, он пытался уснуть. Когда песок подобрался к голове, сила, что не давала времени остановиться, перевернула часы, и Лекс потерявший равновесие, освободившийся от опоры, в полете уснул…
***
Поверхность для приземления оказалась упругой и по ощущениям очень тонкой. Лекс открыла глаза, но вдруг понял, что они не открылись. Точнее открылись, но как будто совсем не они.
Внимание с непривычки болезненно ударило белым светом отовсюду. Вокруг не было ничего, только снежного цвета поверхность, на неизвестно большое расстояние распространяющаяся во все стороны. Попривыкнув к растерянности в пространстве, Лекс попробовал встать. С определенным верхом и низом оглядываться было гораздо проще.
«Никого», — подумалось ему. Тут же вдалеке появилась черная точка. Вибрируя и, подергиваясь, она росла, а, следовательно, приближалась. «Человек…».
Человеку оставалось с десяток шагов. Его лицо было мужским, загорелым и не похожим на современное. Он щурился и прикрывался от чего-то рукой. Еще чуть ближе, и Лекс заметил, что его серые волосы и одежда, похожая на больничную униформу, развивается как будто на сильном шквалистом ветру. Ветер вдруг стих, когда человек приблизился на расстояние вытянутой руки. Его взгляд и цвет, да и вообще структура походили больше на старую черно-белую фотографию, совсем из тех первых, на которых давно забытые пра пра родственники, история, что уже начала преобразовываться в мифы о чудных нарядах и подвигах духа. Он поднял руку ладонью вперед и громко отчетливо спросил:
— А ты где?
Лекс почувствовал намерение растеряться, но делать этого не хотелось.
— Я не знаю, — спокойно проговорил он.
Незнакомец удивленно и радостно улыбнулся, протянул руку и как будто потянул за собой. Лекс двинулся вперед. Само пространство вокруг пришло в движение. Ветер, тот самый, что принес с собой серовласый, осторожными попытками касался кожи и волос. Вдруг показалось, что где-то зашелестели осенние листья. Белая пелена вокруг спадала как занавес. Под ногами захрустел песок. Вокруг стало темно, и от резкой темноты у Лекса заслезились глаза. Голова дрожала от озноба и кружилась в попытке уследить за сменой декораций. Они менялись с ураганной частотой. Рука тянула его все дальше и дальше, пока, наконец, не ослабила хватку.
Лекс моргнул и снова открыл глаза. Он сидел на куче сухих веток над нависшим над ним крючковатым камнем. Вместе с выступом снизу они создавали подобие грота, но разглядеть, из чего торчали эти гранитные нос и подбородок, Лекс не мог. Седовласый сидел напротив. Между ними горел огонь костра. Грот защищал от ветра, что создавал у границы скалистого козырька завихрения, а вместе с ними непрерывный вой, похожий на тягу в трубе печки.
Камень окружал со всех сторон, кроме одной, той темной, куда ветер уносил самого себя. Лекс повернул голову и увидел там лица знакомых людей, деревья, горы, бургеры из закусочных. Картинки всплывали как квадратики окон на экране планшета так быстро, что к горлу подступила тошнота. Он отвернулся и уставился на огонь.
Лицо старика освещало пламя. Он казался волнистым барельефом на темном пространстве. На голове и на теле непонятно откуда появились разного цвета и размера перья, на шее цветастое ожерелье.
— Ты кто? — спросил он, казалось, не переставая улыбаться с момента первого короткого разговора.
— Я Лекс. А ты?
— Я… Я даже и не знаю уже. Я — этот грот, огонь и ветки под твоей задницей. Я грешным делом сначала решил, что тебя тоже сам и выдумал. Но видимо нет. Или я еще раз схожу с ума.
— Еще раз?
— Да, — старик улыбнулся чуть шире, — я тут уже очень долго. Много всего было. Я могу рассказать…
Было похоже, что он пытается скрыть хранившеюся уже много лет надежду на полноценную двустороннюю беседу. Широко раскрытые глаза выдавали трепетное ожидание ответа. Лекс не возражал. В отсутствие всех привычных характеристик, определяющих человеческое существование, сейчас ход событий был не особенно важным и совсем неконтролируемым. Даже слова, проговариваемые Лексом, придумывал совсем не он сам, так ему казалось.
— Расскажи сначала кто ты?
Седовласый опять натянул важную, но довольную физиономию и чуть улыбнувшись, глубоко вздохнул. Казалось, открыв рот, он запоет один из древних эпосов и начнет свою историю с рассказа о сотворении мира.
— Когда меня вытащили из маминого нутра в мир, отрезали лишнее и, предоставив моей воле выбор, вся деревня затаила дыхание. Я был первым сыном Вождя. Отец, разукрашенный кровью антилоп, в полном торжественном наряде держал меня на руках. Глаза мои осматривались по сторонам, я шевелил ушами, пытаясь уловить незнакомые до этого звуки, но сам не издавал ни единого. Люди стали оборачиваться. Казалось, даже муравьи остановились на своих тропинках, побросав свои грузы. Отец признавался, что видел тогда, как по очереди начинали блестеть глаза у женщин. Испуганный мир приготовился провалиться в отчаяние. В тот момент, когда ком в горле Вселенной пережал все возможные для дыхания пути, я закончил анализировать пространство, в которое угораздило провалиться, посмотрел в глаза отцу и заорал, скомандовав миру продолжение жизни. Шаман говорил много слов. О том, как зависает последняя капля кукурузного масла на горлышке перевернутого разрисованного цветами кувшина, как смущенно замолкает дождь, издалека углядев лучи, проснувшиеся растерзать его бурлящее тучное тело в небе, как перехватывает дыхание вершин гор, и останавливается на мгновение само время проводить замявшееся на пороге дня Солнце. Меня назвали — «Длинная Пауза». То есть — Тот Кто Заставляет Задуматься.
***
— Лекс, Лекс!!! Вставай! Почти семь — пора ехать!
Он дрожал, с трудом фокусировал сознание и память.
— Тото не звонил?
— Нет…
***
Альберт был скорее слишком обыкновенным, чем необычным. В этом была его странность. На таком фоне другие люди оказывались, будто, выкрашенными с боку каждый своим цветом. У Альберта же такой грани не было. Только один Лекс всегда подмечал его едва заметную нервозность в присутствии Ясэ. Они даже имели по этому поводу беседу около года назад. Лекс спросил Альберта открыто и учтиво, давая понять, что побуждения его чисты и направлены на сохранение текущей системы в покое и умиротворении. Альберт рассказал тогда, что сам не очень то понимает природу такого не уюта, поэтому конкретно ответить не может. Но факт самопроизвольного возникновения состояния «не по себе» при появлении Ясэ признал открыто.
Поднимаясь по лестнице до квартиры Тото, Альберт уже начинал вспоминать знакомое волнение. Звонок. Быстрые шаги. Открытая дверь.
Ясэ никогда его не стеснялась. Короткие шорты и футболка. Альберт поймал себя на догадке, что кроме них на ней ничего, скорее всего, не было. Мысль эта попала в разряд «с необъяснимым происхождением». Он не очень любил такие. Такие заставляли его подолгу смотреть на нее, а потом смущенно отворачиваться, понимая, что кто-то третий заметил его внимательный интерес.
Они пили чай. Все как обычно. Сигареты на балконе, постоянно включенный телевизор. Но у пространства квартиры теперь появился легкий озноб. Ясэ старалась быть спокойной и рассудительной, хотя внутри, где-то глубоко, как маленькой тучкой на ясном небе, что напугала капитана одинокого корабля, появилось дымное пятно неизвестности.
— Он никогда не делал так. Что-то случилось. Он не позволял себе даже севший телефон. Быть может, он где-то в метро сейчас или бежит по улице, сжимая отключенный мобильный со всей своей злости на гребаную батарейку, — Ясэ улыбнулась, почти утонув головой в диванной подушке.
«А, с ней на самом деле спокойнее…», — подумал Альберт и укрыл ее, забравшуюся с ногами и свернувшуюся в комок, пледом. Уходить не хотелось. «Кресты» были совсем недалеко. К вечеру закончился дождь, и первые ростки смельчаки пробивали стеблями газоны и наполняли воздух еле уловимым запахом травяных выделений. Альберт решил прогуляться пешком, и для того вышел пораньше, аккуратно захлопнув дверь, оставив не потревоженными сновидения Ясэ.
В окнах ресторанчиков и кафе на первых этажах домов заискрил свет. Желтый… Он был особенно необходим Альберту в сумерки. Теперь, в мае, от них было совсем никуда не деться. Они принялись растягиваться в полноценное «время суток». Альберт признавался, что не может терпеть эти серые лохмотья потасканного дня. Это они и есть старость, говорил он, символ того, что жизнь и свет уже ушли, но оставили лишь свое эхо, грустный безвыходный мотивчик.
Там за стеклами сидели люди. В основном курили, откинувшись на спинку стула или дивана. Изредка попадались склонившиеся над столом, сцепившиеся руками. Эти шептали друг другу в уши, чуть касаясь губами кожи, только их сокровенные новости их удивительно чувствительного мира. «Их определенно становится все меньше», — вдруг заметил про себя Альберт, — «нет, не совсем этих, щеками прижавшихся друг к другу, а вообще. Тех, кто не боится сегодня рискнуть и все-таки пойти до конца на эту „любовь“. Не испугаться ее мимолетности и катастрофического конца. Невозможности удержать. Страдать, но все равно прыгать обеими ногами на грабли. Нет. Люди научились притворяться счастливыми и без всего этого. Эта жажда быть удовлетворенным в них иногда выводит из себя. Слишком мало настоящего, так много различных надуманных удовольствий. Даже эти в кафе. Придумали себе праздный мир. Она симпатичная, он — хорошо одевается, знает толк в посудомоечных машинах. Ей даже будет интересно сыграть в ожидающую на берегу жену моряка, если ему придется отлучиться в длительную командировку. Но все притворство. Все. Когда-то кто-то первым дал слабину, и поддался искушению, перестал стараться. Испугался. Хотя, может, и не было никогда по-другому. И „любви“ этой их так мало. Да и кто добровольно себе отломит…»
Еще один поворот за угол драматического театра. Красная вывеска с четырьмя светящимися крестами над входом отражалась в огромной луже на месте остановки троллейбуса на дороге. Все должны были быть там. Альберт взялся за ручку тяжелой двери и чуть замялся на пару глубоких вдохов при входе…
***
Над столом висело облачко дыма. В его волнах фильтровался желтый свет лампы и опускался к столу, где в полголоса, как будто скрывая ото всех свою тайну, Лекс расспрашивал участников вчерашнего увеселительного действа о Тото. Больше, чем Мишель, никто рассказать не мог. Он даже показал банкетку, с которой сполз под утро сразу на заднее сиденье такси, не имея возможности отличить друг от друга все три измерения.
Альберт ждал поворота головы Лекса в его сторону. Его глаза напоминали пару пулевых отверстий, которые заполонил, как абажур лампы, серый дым.
— У Ясэ ничего, — Альберт неожиданно для себя перенял манеру и заговорил в полголоса, — Она сказала, что под утро он скинул сообщение. Написал, что заедет в Кресты поболтать с Димой и сразу домой.
Дима был давним знакомым Тото и также давно работал в Крестах барменом. Собственно на ценностях его профессии знакомство завязалось и основывалось до сих пор. Бесплатный вход на вечеринки и открытая кредитная линия в баре выручали всю боевую менеджерскую группу во времена скуки и финансовых неурядиц. К тому же он был довольно веселым и добродушным толстяком, с большим дополнительным желудком для коньяка. Такое название для своего круглого пуза он наклеил на рабочую футболку в районе пупка.
На работу Дима еще не пришел. Все заметно оживились появлению мало-мальски определенного плана, пускай и на совсем близкое будущее. Ждали Диму.
Все кроме Лекса и Мишеля в довольно оптимистичной манере глотали пиво. Этим двоим в крайней степени было необходимо поспать. Чувство мокрого мешка с цементом внутри. Постепенно все тверже и тверже. Он расползался бетоном по телу, утяжеляя руки, ноги и веки уже в конец исколотых светом глаз. Не хотелось ни пить, ни есть, ни курить. Даже спать уже не хотелось. Сознание переходило в состояние смесителя смыслов потребляемого. По типу дальнобойщиков, что видят на обочинах черных псов, Лексу несколько раз показалось, что в дверях бара стояла Ясэ. В пепельном платье, она была неподвижна и беззвучна. Глаза ее, не отрываясь ни на миг, смотрели на него, транслируя на самых коротких частотах: «Это ты! Ты! Ты виноват! Ты допустил все эти пьянки и трипы! Всех этих праздных пустых бесполезных весельчаков, которые никогда не поймут что живут, и даже, что умирают… Ты…»
Из-за стойки появилась круглая лысая голова. Помеченная сверху улыбчивыми морщинами, она жадно курила перед тем, как окунуться в рабочую футболку и дирижерский пульт во главе занимающего места в яме алко оркестра. Дима указал на темный угол в конце стойки, и Лекс, попросив остальных остаться, направился к нему.
— Слушай, Лекс, — Дима говорил немного взволнованно и непривычно серьезно, — Как Тото?
Уже тогда пахнуло тоном врача, интересующегося ведомым пациентом у родственников.
— Я не видел его со вчера. Никто не видел. Мы пришли, потому что надеялись узнать что-нибудь у тебя.
— Я думал, вам сообщили.
— Никто ничего не знает, Дим.
Дима опустил голову, затянулся совсем немножко, и на выдохе повернул в сторону кухни:
— Постой тут, сейчас приду…
Он вынес из подсобного помещения телефон и клочок бумаги.
— Вот, это его. Не включается. На листке номер машины скорой и адрес больницы. Тут рядом. Я на всякий случай записал имя врача.
Лекс покрылся бледными пятнами.
— Эй… эй, Лекс, не переживай. Вроде, ничего страшного. Может, отравился чем или выпил лишнего.
Дима улыбнулся. Улыбка почти точно повторяла кривую дугу основной морщины на лбу.
— В общем, когда Мишель ушел, еле-еле удерживая равновесие, Тото заказал еще пятьдесят граммчиков и кофе. На посошок они решили.
— Подожди, кто они?
— Да, к нему подсел какой-то в черной водолазке. Шутил. Он и предложил еще по одной напоследок. Выпил залпом, попрощался с Тото и ушел. Что-то сказал на ухо. Я подошел, спросил, как дела, нужно ли чего. Тото голову поднял, а у него слезы. Я давай спрашивать, а он со стула упал. Пытается встать — не может. Глаза закатил. Девчонки уложили на диван, людей уже не было почти. Он сжался весь, шепчет, что страшно ему. Думали сердце, может. Вызвали скорую. Он лежит, говорит что-то про звезды, про Солнце, про течение какое-то. Я испугался, что горячка, или съел таблетку какую, но пол часа назад совершенно нормальным был. Врачам пришлось денег дать, два косаря. Чтобы не в вытрезвитель. Так что, когда будет — вернешь.
Лекс вернул сразу. Быстро прикинув примерную сумму по счету, он оставил на столе необходимое количество денег и направился к выходу. Альберт и Мишель, переглянувшись, дождавшись одобрительных кивков от остальных участников заседания, бросились за ним.
Они стояли в тесном коридоре лицом к лицу. Видимо, столкнулись на самом пороге. Ясэ вопросительно поднимала вверх брови. На самом пике они подергивались еле заметно от перенапряжения своих маленьких мышц. Лекс дрожал весь.
— Он в больнице, — вывалилось у него из открытого рта.
— Что случилось, — она говорила привычно спокойнее ожидаемого.
— Приступ. Неизвестно. Но, говорят, ничего страшного. Поедем?
Лекс пришел в себя, до конца отбросив предположение о галлюциногенной природе происходящего. Инстинктивно почуяв облегчение в активных действиях, он распорядился насчет такси. Совершая движения, вращаясь, как любил повторять Альберт, становилось свободнее от нарастающей со временем мыслительной слизи на оболочке тела. Лекс давно это знал и не раз испытывал, но решиться на первое, на изначальный толчок всегда было самым сложным. Теперь ему как будто взвела пружину Ясэ.
Он забрался на переднее сидение, четко указав водителю адрес. Мишель открыл пассажирскую дверь для Ясэ, и она забралась к уже съежившемуся с другой стороны Альберту.
Разгоревшиеся фонари расчертили улицы беспорядочными, рваными неестественно яркими, свинцовыми бликами. Они должны освещать, но они лишь отвлекали внимание на дрожащие, блуждающие между луж и металлом мокрых автомобилей пятна. Все, что происходило в тенях деревьев и домов, на задних сиденьях такси, оказывалось еще незаметнее.
Альберт сжал зубы. Его правую ногу почти свело. Он не мог допустить прикосновений с телом Ясэ. От нее пахло собственным запахом. Тело отдавало в тесное пространство чрезмерное, по мнению Альберта, количество тепла. Он задыхался от него как испуганный больной, первый раз обнаруживший симптом неизвестной ему болезни.
— Каждая новая больница все больше предыдущей, — проговорил Мишель, оставляя на стекле, в которое уперся лбом, моментально исчезающие мутные пятна конденсата.
Красные цифры на светофоре отсчитывали невыносимое время стоянки. За окном светились окна палат и синие огни кварцуемых процедурных.
— Скоро будет один огромный госпиталь, — продолжал бормотать Мишель. — Рождаешься в одном крыле, отвозят в детское, потом в школьное. Дальше сам выбирай. Но в конце, как только немного сдал, вернут ближе к родильному. Отпутешествовал. Закончил вираж.
— Уже как госпиталь, — повернув голову налево, между передних сидений, встрял Лекс. Краем глаза он заметил паническую сосредоточенность со стороны Альберта. — Уже везде больница. У каждого дома по аптечному сундуку. Все на клизмах с биодобавками. Домашний стационар.
Машина тронула с места, но тут же остановилась. Все остановились, — выученные замирать при характерном звуке опасности, что в совокупности с синей, вращающейся подсветкой на крыше черных автомобилей обозначал текущие приоритеты. Мимо больничной проходной в уставной спешке проезжал маленький кортеж. Таксист пробормотал на своем языке, как будто в рацию, несколько гнусностей о московских номерах и сожалению о том, что приоритеты расставлены не совсем законно. Черные машины, устроив сбой в работе системы перекрестка, выстроились в ряд и унеслись по дороге прочь.
— Да. Есть такой, — медсестра с опухлостями вокруг глаз голосом привокзального диспетчера озвучивала информацию из мерцающего монитора. — Поступил утром в неврологическое. Время уже не для посещений, но я попробую дозвониться до заведующего отделением. Должен быть еще тут.
Альберту показалось, что кто-то издал на выдохе звук похожий на писк гитарной струны при ослаблении натяжения.
— Ой… Исчез, — девушка в мятом халате медленно переводила усталые глаза с Лекса на монитор и обратно.
— Как исчез?! Куда?! — Лекс немного подпрыгнул.
Струны вернули прежнее натяжение.
— Из базы данных. Был вот только, а теперь нет. Вы не беспокойтесь, присядьте. Я позвоню в отделение.
Опустившись на мягкий диван, у Лекса закололо в глазах. От усталости потрепанные края век будто подшили нитками. Он видел, как у Мишеля дергалась голова на измотавшейся шее, увлекая его в горизонтальное положение.
Кофе.
Это та свобода, которую оставила своим подопечным Великая корпоративная машина — кофейный аппарат и пять минут в час на его использование. Сигарета, балкон, двор, сквер или крыша и сладкие триста секунд отрешения от всего. Время почувствовать, поненавидеть, погрустить, чтобы ничто не отвлекало тебя от достижения максимального результата в твоем менеджерском забеге.
Аппаратов было несколько. Лекс бросил пару монет в один из них, и он заурчал, перемалывая невесть откуда привезенные черные зерна. К соседнему подошел человек в халате.
— Смотрите прямо, — человек скомандовал в сторону Лекса и тут же последовал своему совету сам. — Вы, если я не ошибаюсь, по поводу молодого человека, что привезли утром с приступом?
— Да, я его брат.
Лекс поднял подбородок как солдат на параде, но сдержался от поворота головы.
— Мы не будем с вами разговаривать, обещайте. И вы не будете ходить за мной. Я вам сейчас все расскажу и уйду. Обещайте?
Лекс пообещал.
— Около часа назад пришли люди с удостоверениями. Мы отдали вашего брата им. Данные по его случаю сейчас удаляются. Что с ним случилось сказать сложно. Мы не смогли выяснить. Машины, на которых они приехали, были с московскими номерами. Теперь забирайте свой кофе и уходите.
Лекс повернулся к человеку в халате. Кофе был готов, и приготовившие его машины перестали подавать голос. Белый халат поджал на секунду губы и глазами дал понять, что сожалеет, но больше возможностей помочь не имел. Лекс чуть дернул головой в знак благодарности и закрыл глаза. Халат быстро застучал ботинками и пропал в пиликающем и позвякивающем внутрибольничном шуме.
Теперь глаза нужно было открыть. Что-то сказать Ясэ. Теперь стало по-новому, еще не знакомому страшно. Лекс уставился в темноту век. В его ушах загудел знакомый ветер. Мелкие радужные вспышки сливались в огонь костра по центру, а на темноте выступал барельеф морщинистого индейского лица. Ноги подкосились, но он вовремя поймал себя. Тело дрогнуло под электрическим разрядом, и от сильного толчка сердца глаза поддались и раскрылись вновь. В незнакомом страхе было пока спокойно и немного холодно. Лекс захватил кофе и направился к уже знакомой девушке.
— Дозвонились до отделения?
— Да. Странно, говорят, что никогда не было такого. Хотя про парня с приступом я сама с утра слышала от дежурных. Может, то был не ваш.
— Будем искать, — Лекс улыбнулся во весь рот. — Спасибо! — продолжая демонстрировать зубы, он отчеканил каждую букву и направился к своим.
Они вышли в сырой сквер, огороженный от ветра больничными корпусами. Светящиеся шарики фонарей запутались в низких ветках деревьев. Свежерожденные листья облепили их свет и отбрасывали огромные тени на серебристый асфальт.
Мишель вызвался заехать на вокзал за билетами и сопровождать Ясэ. Было решено ехать в Москву. Вчетвером. Лекс попросил Альберта позвонить в полицию и в столицу Чуре. Сам же он не решался набрать номер отца. Комок в горле затвердел и как будто попытался вырваться, когда Альберт в стороне проговорил в свой телефон: «Здравствуйте. У нас пропал человек…»
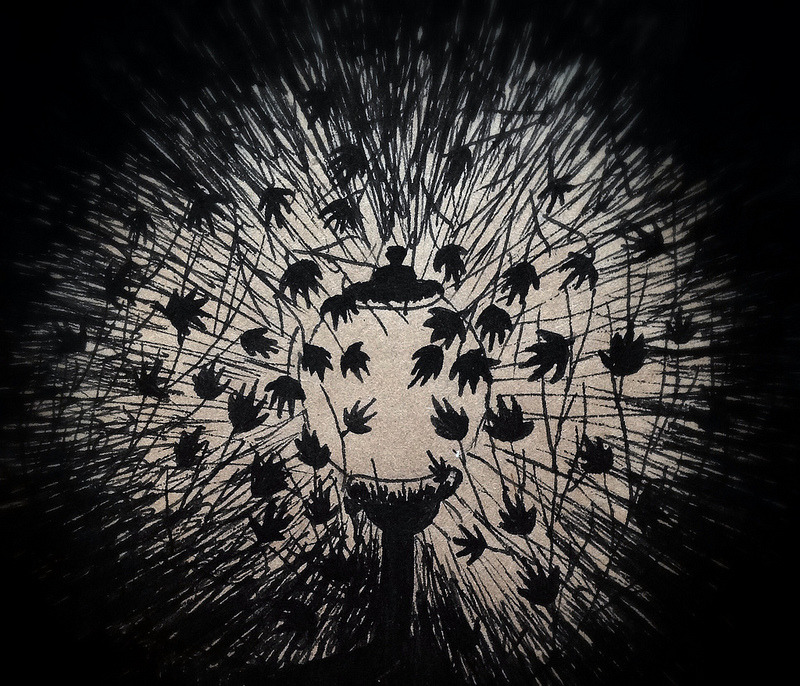
Чура
Рыжий. Рыжий.
Во дворе между типовых многоэтажек с восьмого этажа, где жила его семья, было хорошо заметно, присутствовал ли Чура на игровой площадке. Волосы его потемнели потом, уже после школы и стали цветом походить на сочно-коричневые глаза, что как будто были пришиты пуговицами к вытянутому овальному лицу в такую же коричневатую точку. Пришиты плохо. Глаза ерзали из стороны в сторону даже во сне. Спал он всегда неспокойно. Еще неспокойнее жил.
В тот октябрь выпало огромное количество листьев с лип и кленов, посаженных в искусственных дворах еще детьми красной партии. Тото, Лекс и Чура, скинувшись по привычке на сигареты, сидели на старом сидении от советского автомобиля за прикрывавшими их от окон домов гаражами. Солнце было уже совсем белым и холодным. Хотя с его погружением в лес становилось еще холоднее. Прятавшаяся от света сырость поднималась с земли и наполняла темные пятна пространства собой. Поворот планеты. Затирание остатков дня черным ластиком.
В сумерках Чура не мог оставаться один. Его огненный цвет каждый день сопротивлялся где-то внутри наступлению темноты, и он переживал микро перерождение вновь и вновь. Родители работали допоздна, поэтому единственным спасением были друзья, которые тоже не сильно рвались оставаться дома за домашним заданием. Он курил быстрее и больше остальных, постоянно что-то проговаривая и одновременно выпуская дым изо рта.
В тот день, под конец октября, у него была с собой новость. Он уезжал в Москву. Ему выпало стать глашатаем, объявившим сроки окончания детства. В столице ждала академия красных удостоверений и чистый лист с заголовком «Репутация».
«А детство потому прекрасно, что не о чем в нем вспоминать», — говорил он Лексу несколькими годами позже. Они ехали тогда в машине вдвоем, подметая создаваемыми завихрениями листья с обочин в такой же октябрь. Рыжий. Рыжий. Это был его цвет. Всегда. Пускай и покрылся темным окислом с годами.
«Как только ты присел на стул и задумался о чем-нибудь из прошлого первый раз, может быть в пятнадцать лет или в двадцать пять, ты включил алгоритм старения. Меня стало раздражать это с годами. Это мертвит. Этот пересказ снова и снова самому себе.»
На них были отутюженные костюмы и галстуки, головы аккуратно подстрижены и бриты.
«Знаешь, почему хорошие писатели пишут? Все они немного мертвее остальных, на крошечную каплю, на микрон в стороне. Они рассказывают себе о мире, не являясь его полноценной частью. И как комментатор на футбольном матче, не могут делать что-либо другое, иначе не будет и их самих. Это невыносимо тяжело, я полагаю. Постоянный монолог в голове…»
Они ехали на свадьбу к Тото тогда. Лекс молчал и настоял на отсутствии музыки в машине. Солнце садилось за темную решетку голого холодного леса. Они решили выйти в него, пока совсем не стемнело. Чура направил блестящую мишень острия капота точно в поворот и, проехав по ухабистой грунтовой дороге с половину километра, остановился на границе сосновых угодий и желтого сорнякового поля. Здесь свободное от решетки Солнце равнодушно отпускало полагаемую для этого участка планеты норму тепла.
Чура всегда возил с собой термос с крепким чаем. Может он и потемнел от того, что постоянно запивал им каждую скуриваемую сигарету.
Они остановились на светлом пятне между чуть покачивающихся и кряхтящих корабельных сосен и запускали поперек лучиков табачный дым.
«Помнишь, как мы видели звезду? Мой отец сказал в тот день, что договорился с академией в Москве. Я не хотел уезжать. Казалось, что единственный кто огорчился тогда, был я.
Мы сидели за гаражом. Она появилась, когда Тото предложил пойти домой. Уже было совсем темно, а она зажглась вдруг на половину неба. И падала… Прямо в парк…
Знаешь, я живу с тем ощущением неизвестности рядом до сих пор. С сомнением в определяющей роли ощущаемого мира. С подозрением и даже уверенностью, что где-то совсем близко много всего другого…
Я никому не говорил. Но я столкнулся с ним тогда, в парке, когда мы побежали найти то, что упало с неба. Он был совсем прозрачным. По расплывчатым очертаниям кустов в темноте я заметил, как его форма менялась, но, среагировав на нас, сформировалась в человекоподобный шаблон. Я знаю, он смотрел на меня. Всего лишь пару секунд. Потом я моргнул, и после разглядеть ничего больше не смог.
Может, это было подростковое помешательство на почве чрезмерного количества никотина в юношеских розовых легких.
Ни звезд, ни метеоритов мы не нашли.
Но я открыл в себе необычное ощущение. Я почувствовал границы своего тела так, как никогда этого не делал. И все то, что окружает меня, я понял, это пространство от моей кожи до неизвестно насколько далекой бесконечности в космосе. А границы моего представления обо всем, как и кожа, скрывают за собой неизвестную вселенную возможных пониманий и взглядов на окружающий тебя мир. Я чувствую сейчас, что стоит только оступиться, заглянув, как будто с обрыва вниз, в эту темноту, можно провалиться и раствориться в ней, лишиться точки отсчета и перестать быть собой…»
Занавес горизонта закрылся на очередной антракт. Чура поторопил Лекса, и они поспешили на праздник. В сумерках жажда к людскому шуму обострялась мгновенно, и Чура отстоял право на включенное радио.
По прибытию он выбежал из машины и, не раздеваясь, прыгнул с разбегу в бассейн родственников и гостей, напившись еще до начала основных торжеств.
Глава 2
В вечернем поезде на Москву пахло усталостью. Обычный коллектив из портфельчиков с презентациями, типовыми договорами, труппой стриптизерш и классом бледных столичных школьников, насобиравших полные ботинки холодной балтийской воды с невского гранита.
«А, вы были когда-нибудь в Эрмитаже?»
«Да, в школе как-то ездили всем классом…»
Подготовка органических файлов к полноценной работе включала в себя привязку к серверу, где хранились ключевые наработки отдельных программ по изучению структуры доставшегося им визуального ряда.
Можно было расслышать, как постанывают обезвоженные колени, ожидавших отправления пассажиров.
Столицы всегда были не в восторге от усталых людей. Лекс и Мишель дождались чай. После пары глотков, похожих на те, которые заставляла делать мама, пихая в рот ложку с микстурой, уже в состоянии сна они забрались на верхние полки.
Человеческая суета и шум рассеивались с удалением от городского света. Вскоре остались лишь стуки коленей в стены купе от нервных подергиваний ног, один или два звонких храпящих трансформатора и случайные сжеванные слова из диалогов грез.
Ясэ открыла глаза. Уснуть не получилось. Самая удачная попытка подвела ее к краю воронки, но она так и не смогла увлечься сворачивающимся в нее водоворотом.
— Альберт, ты спишь?
— … нет.
Он лежал, уставившись на пробегавшие по верхней полке тени, сложив руки на груди, как какой-нибудь румынский граф в своем гробу, и, казалось, не собирался спать.
— Пойдем, покурим?
Ее голос сквозь металлический ритм колес добавлял в подергивания вагона еще одну, заметную только ему волну колебаний.
— Давай…
Альберт быстро поднялся и вышел, оставив ей возможность для маневров с одеждой. Они прошли еще через один вагон до самого конца поезда. В окне тамбура шла трансляция одного из самых захватывающих представлений из двух серебристых полос, плавно извивающихся среди фонарей и черных очертаний деревьев.
— Как думаешь, с Тото случилось что-нибудь страшное?
Ясэ оглянулась на него. Альберт продолжал смотреть в окно.
— Надеюсь, что нет. Скоро мы все всё узнаем. До этого, думаю, отчаиваться не стоит.
— Ты даже не смотришь на меня, — Ясэ едва улыбнулась. — Ты чего-то боишься? Меня?
Альберт после паузы повернул голову, и от его взгляда каждая клетка тела Ясэ пришла в настороженную готовность. Он понял, что она имеет в виду, и что ее это забавляло.
— Это не совсем то, — он проговорил, сдерживая внутри что-то, или давал понять, что у него был по этому поводу секрет. Но в его сдержанности и самообладании Ясэ не пришлось сомневаться. — Это особенное любопытство, — теперь улыбнулся и он.
— Любопытство?
— Да. Я предпочитаю это слово. Оно наиболее верно. Понимаешь, у большинства людей есть оторванный кусок, дырка в том мешке, в котором они живут. Через это отверстие они могут ощутить то, что снаружи.
— Снаружи?
— Вне себя. Большинство называет это Богом, хотя представляют все по-разному. Что там точно никто не знает, но стремится узнать, и еще очень сильно боится.
Альберт улыбнулся еще шире.
— Вот ты оказалась еще одним таким отверстием для меня.
Ясэ мельком взглянула на него и опустила глаза.
— У Мишеля, например, дырки напротив ушей. Он пытается понять Бога через свою музыку. Он слышит чуть-чуть от самой структуры мира, ту часть, что можно записать в ноты. Но в тоже время он очень сильно не хочет расставаться с самим собой, поэтому боится прислушаться. Снаружи человеческого мешка заманчивая суть, но в ней нет самого мешка, а значит, не будет и тебя. Не будет того, кому интересно узнать, того, кому страшно. Там вообще никого нет. Он прислушивается и тут же одергивает себя, подсознательно ощущая угрозу собственной пропажи. Из этого страха и сшит мешок, что, на мой взгляд, очень изящно задумано.
Альберт говорил и уже как будто не замечал Ясэ. Ей показалось, что он не заметил бы в тот момент ее ухода.
— Есть люди с маленькими отверстиями. Если им везет, и они находят их, то говорят — «человек нашел себя в жизни». А на самом деле он нашел совсем противоположное — выход из. Я видел особенных с огромными дырами. Они были совсем не люди. Они не боялись, не жили и очень быстро утекли наружу. А есть вообще без дыр. Зрелые, готовые, целые настоящие стопроцентные люди. Без Бога. Просто качественные мешки.
К этим, вышеупомянутым, судя по тону, Альберт относился с целым набором упреков. Ясэ вдруг представилось, что он говорил про Тото, но думать об этом сейчас не осталось сил. По приливу крови к глазным застежкам она поняла, что очередная попытка уснуть могла увенчаться успехом.
Альберт продолжал говорить. Ясэ искала подходящую паузу для предложения пойти спать, но во время очередного поворота его головы в ее сторону челюсти вдруг свело эффектом кислого апельсина. Она перестала чувствовать ступни ног, но сквозь них из пола как будто прорастали вверх холодный и колючий терновник. Он добрался до коленей, и Ясэ испугалась падения. Альберт продолжал говорить, хотя различить что-то в его замысловатых мыслительных схемах Ясэ уже не могла. В окне утекали вдаль ступеньки шпал. На темном небе висела лишь одна звезда. Ей вдруг вспомнилась бабушка. Потом добавился Тото, этот поезд и страх, необъяснимый, окутывающий все вокруг. Мешок. А звезда как отверстие в нем к Богу. Ясэ не отрывала от нее взгляда. Свет на небе стал расти и медленно спускаться к горизонту. Звезда падала так же, как тогда в детстве, заполнив серебристой вспышкой половину неба. Терновник добрался до шеи, и голова Ясэ наклонилась в сторону.
— Альберт!!
Сквозь дымные свинцовые лучи она падала на металлический пол. Сил осталось только на удержание немного приподнятых век. На поверхности ее глаз отражалось лицо Альберта. Склонившись прямо над ней, оно продолжало говорить…
***
Лекс вздрогнул от щелчка замка двери в купе. Глаза открывать не стал — слишком ценным показалась ему наработанная с таким трудом, оформившаяся договоренность о перемещении себя в сон. Оценив интуитивно ситуацию со временем, Лекс перевернулся на другой бок, лицом к стене и уставился в темноту, ожидая появления сил, увлекающих сознание за собой, подальше от оставленного на профилактику и техническое обслуживание пустого тела.
Поезд отстукивал заезженную мелодию. Под нее за окном менялись сами собой слайды почти не отличавшиеся друг от друга. Фонарь за фонарем. Лексу вдруг представилось их купе со стороны улицы. Одно фото недвижимых людей на полках перемещающееся от проектора до проектора. «У смотрящего на фото столько же шансов оказаться фотографией самому, все может перемещаться не только в пространстве, но и в самой сути!», — громко крикнул с пустого перрона Лекс. Поезд уезжал вдаль. За ним поползли фонари и деревья. Все свернулось в кулек и исчезло в темноте. Затем стали появляться и исчезать незнакомые места и вещи. Щекой Лекс почувствовал теплый желтый свет и повернул голову прямо. Длинная Пауза сидел на том же месте. Утес и куча хвороста, казалось, индеец только закончил свой рассказ. Лекс же помнил его слово в слово, как будто только услышал. Он сломал пару веток и бросил в костер. Несколько ярких искр взлетели и тут же унеслись с ветром прочь. Длинная Пауза оживился после первых звуков, поймав взглядом своего собеседника, как будто на время потеряв его из вида.
— А что это за место? — Лекс спросил, еще раз окинув взглядом небогатый на объекты ландшафт.
— О, это я сам придумал. Тебе нравится? С первого раза может показаться не очень удобным. Но после тысяч проб и различных вариаций я выбрал именно это. Лучше пока не нашел. Тут видно ветер, но и не продувает. Огонь я всегда любил. Все остальное порядком надоело.
— Подожди, придумал?! Как это?!
— Из этого течения можно достать что угодно, — Индеец посмотрел туда, куда уносился ветер. — Когда я попал сюда, почти сразу я начал сходить с ума в первый раз. По правде сказать, я в уме и не был до этого. Первым, что я сделал, была копия моего предыдущего мира. Я придумал его мгновенно. Точно таким же как был. С речкой, горой вдалеке, зелеными деревьями. Я красил его в осень, посыпал снегом, когда хотелось зимы. Иногда я даже терпел холод, играя в запоздавшую весну. Но потом все это надоело. Стало противно купаться в реке, вдыхать запахи цветов, зная, что все твоя лишь фантазия, и они должны пахнуть так, как ты выбрал и придумал. Я все стер. Отпустил. И целый мир уволок за собой этот непрекращающийся ветер.
— А, ты знаешь, что это вообще за ветер? Где, когда, и почему ты находишься?
Длинная Пауза улыбнулся.
— Ты еще тоже не в своем уме. Такой же как я в первый раз. Ты поймешь потом. Не все, но немного больше имеющегося. Как раз, отпустив первый свой мир, я избавился и от тумана в голове. Я оставил себе шкуру и лег на нее. Сначала появлялись звезды и кометы, но это были остатки и привычки старого ума. Со временем ни осталось ничего кроме ветра и гула. Так я пролежал на шкуре очень долго. Когда я вдруг встал, ведомый странной незнакомой волей, я понял, что хочу сделать еще мир. Совсем не такой, как был. Но потом я стер и его. А потом все повторилось снова. От последнего я оставил этот кусок скалы и костер. После очень долгого затишья вдруг появился ты. И теперь я гадаю, как и зачем я тебя придумал здесь. Или происходит что-то совсем новое…
Лекс дернулся и от чего-то часто задышал:
— А ты помнишь, откуда ты попал сюда? Что было до?
Индеец кивнул головой. Его рот, растянутый в улыбку, не открывался, но Лекс слышал его голос:
— Рассскажу. Но позже. Поезд резко останавливается… Поезд почему-то останавливается…
Лекс дернул головой, угодив лбом в стену. За окном купе было темнее, чем бывает в это время года в Питере. Фонари горели где-то очень далеко. Поезд действительно остановился.
Хлопок дверей вагона, скрип лестницы. Через десяток секунд в дверь купе постучали.
Они предоставили удостоверения и заверили, что все рассчитано только на обоюдное благо. Три фамилии, три имени: Лекс, Мишель и Ясэ. Их выводили под светом ручных фонарей. Проводник в тамбуре не поднял на них глаз. Ясэ, разбуженная в кровати, после падения в тамбуре пыталась собрать крошки от разбитых воспоминаний, но получалось из рук вон плохо.
Кровать Альберта была аккуратно заправлена. Ни вещей, ни следов его пребывания, ни интереса со стороны синих фуражек. Альберт исчез. Как будто и не было…
Мишель
We are the nobodies
We wanna be somebodies
М. М.
— Знаешь, сколько галактик в нашей Вселенной?
— Нет. Подожди ты со Вселенными. Я еле держусь на самом краю сознания. Кажется, сейчас упаду…
Чура отпил из бутылки газированной воды и снова закрыл руками лицо.
— Куда? — Мишель усмехнулся и повел бровями в недоумении перед воображаемым третьим.
Сам он был тоже крайне не трезв, но обогнать Чуру никто не был способен. Этот брал штурмом любой праздник и с разбегу пролетал мимо, оказываясь на задворках наедине с раскачавшейся планетой. Тото попросил Мишеля помочь, когда Чура попытался ударить одного из гостей. Выглядело все это совсем не страшно. Гость не растерял веселья, а о попытке догадался только Тото. Агрессия Чуры была плавной и размеренной, как и его праздничный тост, нагло прерванный на двадцатой минуте ведущим вечера. После этого возмутительного нарушения свободы волеизъявления проснулся террор. Но средств в арсенале осталось уже немного, и он направил все их на самого себя.
Мишель выслушал озадаченных виновников свадебного торжества и покачал головой. Проблема была ясна, и крепкий сон для Чуры являлся тогда самым надежным и безопасным решением для всех.
Но у Мишеля был свой план.
— На. Держи еще. Скоро пойдешь плясать. Скажешь Тото, что выспался или искупался.
Он указал Чуре на ступеньки деревянного крыльца, что выходило на задний двор загородного клуба. Отсюда были слышны голоса выходивших покурить на свежий воздух, завитых и разукрашенных дам, одетых, как учила их кукла Барби, и, уже спрятавших галстуки кавалеров. Видно было мало. За серыми кустами иногда всхлипывала остывающая река.
Мишель ждал звезды. К полуночи их появилось достаточно, чтобы он мог выбраться подальше от искусственного света и, набрав полную голову незаконно пахнущего дыма, пуститься с ними во взаимопоглощение.
На верхней ступеньке черным пятном на потрескавшемся дереве промышленным происхождением выделялся прямоугольник пластиковой карты. Двумя светлыми зарубками на нем перед бледным лицом Чуры предстали нарезанные «дорожки». «Налево пойдешь… Направо пойдешь…», — голос богатыря из сказки торжественно прочитал высеченное на камне в рыжей Чуриной голове.
Они предпочитали американскую валюту. Нюхать через номинал превышающий доллар не позволяла финансовая ситуация, да и порошок не стоил того. Суровый взгляд первого президента вместе с декларацией о вере исчезал в хрустящих складках бумажной трубочки. Пара громких старательных собачьих вдоха, и Чура откинул голову назад, растирая переносицу, морщась, будто получил ожог слизистых оболочек горячим пеплом от адского пламени.
— Так, что там со Вселенной? — удержавшись на своем острие, спросил он.
Мишель задержался с ответом на несколько секунд, будто дочитывая абзац, и отвернулся от неба.
— Знаешь, сколько галактик в нашей Вселенной?
— Говорят, что на самом большом пляже меньше песчинок.
— Черт с ними. Я понял сколько.
— Ну, конечно. Ничего необычного. После определенного, неподвластного многим на этой планете количества маслянистого дыма из твоей трубки ты частенько становишься дико понятливым.
Чура, определенно приходил в себя. В необыкновенно сильного и сконцентрированного себя.
— Ну, сколько?
Мишель снова уставился вверх и кивнул в сторону окружавших дом корабельных сосен.
— Видишь кромки сосен? Или кусты у реки? Я сначала подумал, глядя на их кроны, что порядок распределения листьев и веток напоминают формы галактик в темноте. И мне пришло на ум, что их ровно столько, сколько деревьев на Земле. И между ними должна быть связь, они как-то связаны друг с другом. А мы их вырубаем и жжем. Нарушаем равновесие не только на планете, но всего мироздания. А потом я ощутил не умом, скорее всем, что у меня есть, что не только деревья, но и все мы связаны. Космос — это наша молекулярная карта, это мы и есть, разложенные на крупицы. Правы были древние. Земля — центр Вселенной. Потому, что наблюдатель Вселенной здесь. Я — центр.
— Да, кто бы сомневался. Дай как мне своей трубки.
Чура начал нервно ходить из стороны в сторону готовый незамедлительно пуститься в занятия йогой или рвануть что есть сил в неожиданный сверхзвуковой прыжок сквозь события.
— На…
Мишель аккуратно протянул ему свой купленный накануне за пару сотен артефакт, набитый сушеным травяным порошком, и зажигалку.
— В какой-то момент, — продолжал он, — сознание свернуло, отклонилось не в ту сторону. Они придумали расстояние до звезд, скорость света. Они думают, что открыли путь, хотя на самом деле они заблокировали его. Теперь мы в тюрьме простейших физических понятий с самого детства. И поэтому нам никогда не летать.
Чура прокашлялся, но не выпустил из рук трубку.
— То есть Джордано Бруно сожгли во имя сохранения истины?
— Не знаю. Может и так. Дай сюда.
Мишель высосал остатки продуктов горения из трубки и выпустил их тонкой струйкой дыма в холодный воздух.
— Они отреклись от единения с миром. Сделали человека чем-то отдельным от всего, самостоятельно осознающим, создающим свой мир, по своим порядкам. Это должно нарушать равновесие. Но все закончится его восстановлением. Мы не сможем не соответствовать Вселенной. В какой-то критический момент она все восстановит.
— Страшный суд?
— Да. Снова потоп. Бог прилетит с очередной проверкой, вскинет руки, воскликнет обреченно: «Ну, ёп твою мать!» и вымоет начисто свою планету.
Почти захлебнувшись в истерическом хохоте, они двинулись к реке, мелькая оранжевыми огоньками тлеющих сигарет. Чура потрогал рукой воду и неожиданно серьезно спросил:
— А, ты крещеный?
— Да, но крестик давно не ношу.
— Не важно. Освети-ка воду. Что-нибудь по латыни знаешь?
— «Бон аква» — подойдет? Тебе зачем?
— Войду в святую воду. Омоюсь.
— Ты сдурел? Ей замерзать уже пора.
Мишель не прекращал улыбаться. Он знал, Чура войдет. Пока он раздевался, Мишель выбрал подходящую сухую ветку. Подожженную с краю, он предложил ее в качестве ритуального факела уже голому другу. Бормоча про себя с десяток известных ему слов из Библии, сложа ладони перед лицом, Мишель наблюдал как подсвеченный обнаженный человек медленно, расправляя ногами складки стоялой студеной воды, погружается в темноту.
— О, Бог, Господь, Вселенная, Потоки силы! Примите меня, как есть. Мы с тобой одной крови, Земля. Ты. И Я.
Чура, вскинув руки к небу, погрузился с головою в реку, оставив снаружи лишь уголек потухшей ветки. В его ушах гудела вода, пробирающаяся где-то через камни и пороги. Ему представилось, что так звучит сама планета, так звучит жизнь.
— Чура-а-а-а-а-а!!!
Он услышал это даже сквозь воду. Резко выпрыгнув наверх, Чура развернулся лицом к берегу. Мишель стоял неподвижно, открыв рот, глаза и даже ноздри невыразительно шире обычного. Рядом с ним на поверхности воды каким-то чудом появлялись и разлетались в стороны брызги, как будто ребенок, играя, шлепал руками по воде. Через несколько растерянных десятых частей секунды Чура узнал его. Это был тот, Невидимый из парка у родительского дома. Он сидел на корточках и задорно подпрыгивал, образуя рябь на самом пространстве.
Заметив, что Чура решился на движение в его сторону, прозрачное существо приподнялось и стало плотнее… На каждый осторожный шаг Чуры оно отвечало своим, отдаляясь от берега.
Мишель, до сих пор не закрыв рот, широко открытыми влажными глазами, полными концентрированного смолянистого тумана, едва уловил, как его голый друг бросился прочь от воды. Сначала нерешительно, пытаясь поймать ситуацию за темный хвост и рассмотреть поближе, Мишель попытался угнаться за ним.
«Прозрачный» вбежал на старое крыльцо и выбил собой запертую дверь. Чура бросился в темноту комнаты. Внутри было пыльно и тянуло чем-то похожим на сушеную речную тину. Так обычно пахли старые рыболовные сети в сарае.
Несколько раз Чуре показалось, что «прозрачный» стоял прямо перед ним. Темнота перед глазами меняла плотность и насыщенность. Он всматривался в нее, пытаясь определить то ли консистенцию, то ли наличие в ней инородного, махал и разводил черный дым руками. Комната вокруг перестала быть кубической и превратилась в чернильную сферу, в магический шарик, что хранил в себе ответ на заветный вопрос. Хранил в себе голого человека сейчас…
На одной из стен вдруг сам собою нарисовался светящийся прямоугольник. На его фоне Чура увидел четкие контуры человека; правильного человека Леонарда Да Винчи, разделенного на гармоничные части и расставившего ноги и руки в стороны, образуя святую звезду. Человек сделал шаг и растворился в ярком свете. Чура двинулся к двери, будто всплывая на поверхность, все быстрее приближаясь к краю иного пространства.
Когда он, голый и сырой, выскочил с разбегу в холл, полный гостей, закусок и искрящегося электрического света, глаза его сжались от боли. Голоса стихли. Где-то фыркнула опухшими от помадного ожога губами пьяная барышня, некоторые охнули, остальные смущенно покосились на Тото и Ясэ, танцующих в центре усыпанного свадебными цветами зала. Кто-то взял Чуру за руку.
— Чура, — сказал он на ухо. — Это Альберт. Пойдем.
Альберт помог ему встать и направился обратно к использованной только что двери на задний двор. Чура понемногу стал открывать глаза.
— Я не пойду обратно, Альберт. Ни за что.
— Хорошо… Хорошо… Пойдем, на веранду…
Они развернулись и прошли мимо новоиспеченной семьи. Альберт попытался улыбнуться им, внести в случившееся надежду на добрый и смешной финал. Только Ясэ поддержала его чуть заметным подергиванием щеки. Отыскав где-то чистую скатерть, сзади подоспел взлохмаченный Мишель. Они обернули ею голого, покрасневшего, похожего вместе со своей огненной головой на перезрелый апельсин, и вышли на веранду.
Альберт хохотал. Еле слышно в ладошки. Мишель присоединился к нему после пары глубоких затяжек. Он положил на скамейку пачку сигарет и зажигалку, предполагая скорое возникновение тяги к табаку у Чуры.
Альберт хохотал, хлопал Чуру по плечу. Рыжие волосы подсохли и устремились из головы в разные стороны; ровно, в соответствующее их количеству, множество разных сторон. Чура расслабил плечи, присел, выдыхая дым, на скамейку и засмеялся сам.
Альберт хохотал. Как будто это был его, произведенный на свет без задоринки и помарок, проведенный в точности по заранее отработанному плану, издевательский розыгрыш…
Глава 2. 1/2
Альберт выходил из вагона последним. Очередная людская капля утекла далеко вперед по перрону, чтобы через кран тяжелых дверей вокзала капнуть в Московское человеко-хранилище. Он шел, перебирая ботинками выметенную почерневшую брусчатку, и вдыхал давно нелюбимый им запах здешнего асфальта, прелого камня и продуктов жизнедеятельности утренней взбудораженной столицы. « В Москве что-то внутри выпрямляется», — как-то сказал Альберт, — « От настороженности что ли, или, наоборот, от уверенности. Наверное, это чувствую только те, кто живет у моря. Здесь нет ощущения направленности, нет края…»
Солнце. Здесь его было немного больше. Даже в центре Москвы в анализирующее сознание сразу проникали неуловимые признаки уже распустившихся где-то на окраинах листьев и цветов. Весна уже все приготовила, все прибрала. Последний обход и проверка перед сдачей объекта лету.
Чура бросил окурок в высокую урну, заметив Альберта, и, засунув обе руки в карманы отглаженных брюк, ждал его на выходе с платформы. За несколько лет трудолюбивой службы он начал пропитываться уставом организации и произвольно соответствовать роду профессиональной деятельности даже в быту.
Альберт выложил все сразу. По дороге до машины он успел рассказать про больницу и черный кортеж, про то, как поезд был остановлен, и он видел из окна тамбура, в который случайно вышел покурить, людей с оружием, увозивших на похожих машинах их сонных друзей. Чура смотрел в землю и ускорял шаг.
— Я постараюсь узнать, где они, Альберт… Но…
Они сели в машину. Детали интерьера и обивка внутри пропитались табачными смолами, от того воздух казался затхлым и совсем не свежим.
— Но, есть одно предположение. И, боюсь, все именно так, как я думаю.
Чура приготовил сто рублей для парковщика и направил автомобиль к выезду.
«В Питере», — думал Альберт, — « люди замочены с добавлением морского ветра, и идеи о бесконечно далеком горизонте, об океане и далеких городах, вперемешку с тоской и грустью, со светлым чувством нехватки или ожидания чего-то. В Москве все консервируются лишь в собственном соку. Хотя, что там, что тут, под действием одних законов бегут по обустроенным дорожкам, как муравьи по делам улья. Здесь им, кажется, слишком тесно, слишком близко друг к другу». Он смотрел через тонированное стекло на колонну спускающихся в метро. «Интересно, у людей бывает, как у тех южноамериканских муравьев? Замыкает некоторых на движение по кругу, пока не останется сил… Может, я просто пока не рассмотрел такие круги…» Альберт улыбался, представляя, как один из потока отслаивался в сторону, увлекая за собою сонных последователей его спины, делал ответвление и заворачивал поток в хоровод. Они кружились и падали замертво прямо на тротуар, но основная колонна непоколебимо шла по своему основному маршруту.
— Альберт!
— Да… Прости, отключаюсь…
Они выехали на шоссе и через пару кварталов встали в утренней свежей пробке. По понедельникам перекрестки гудели жизнерадостнее. К концу недели это проходило. Люди становились заметно злее и агрессивнее. В понедельник они жили еще остатками выходных, запахом ее духов или легким раздражением от его щетины, скандалом с тещей или бабушкиными пирогами. Но выхлоп и сигналы клаксона ядовитым очистителем смывали этот налет и оставляли головы сухими, отмытыми с хрустящей, стерильной поверхностью…
— Альберт, все это может быть гораздо ужаснее, — Чура не повернулся, но понял, что привлек внимание. — Все, что случилось… Я не должен тебе говорить, но теперь уже все равно. Это болезнь. Они подозревают Тото.
Чура вцепился в руль и стал резко вращать его в стороны, совершая непозволительные маневры через все возможные полосы движения.
— В чем подозревают?
— В том, что он болен.
Снова резкая остановка в очередной пробке. Альберт потер лоб и как будто свел пальцами нахмуренные брови еще больше вниз.
— Что за болезнь?
— Они не знают. Несколько приступов в Москве. Тото — первый в Питере. По всему миру с пол тысячи случаев. Все в больших городах. Начали поступать почти одновременно. На днях выступят перед прессой. Как только найдут, за что зацепиться. Пока они ничего не знают. Ну, это только все, что знаю я.
— Лекса, Мишеля и Ясэ изолировали?
— Да. Я думаю, они уже увидели Тото, в каком состоянии бы он ни был.
— Ты знаешь, где они?
— Догадываюсь, но даже мне туда нельзя.
— Что делать?
— Будем ждать. Летальных исходов, пока, насколько мне известно, не было. Может, у него и нет ничего. Отпустят скоро. Сегодня попробую узнать.
Они выехали на один из Московских радиусов, напрямую ведущих к большому кольцу. В сторону пригорода транспортного застоя не наблюдалось. Почти у самой невидимой столичной границы Чура свернул и остановил во дворе маленькой по здешним меркам гостиницы.
— Альберт… — Чура посмотрел на него взглядом друга поддерживающего в беде второго, испугавшись оставлять его одного в трудную минуту. — Я заеду вечером.
— Хорошо, — Альберт, принимая поддержку, кивнул и вбежал по каменным лестницам крыльца к входу.
Машина торопливо развернулась и унесла опаздывающего на службу хозяина. Альберту улыбалась девушка из-за приветственной гостиничной стойки. Безразличные рыбы в огромном аквариуме медленно парили в зеленой воде из стороны в сторону за ее спиной.
— Добро пожаловать!
Девушка вытянулась вверх и повторила приветствие на английском. Альберт почти рассмеялся в ответ. Он выглядел наконец-то счастливым после долгого перерыва человеком.
— У вас заказан номер?
— Нет… Мне не нужен номер.
— Тогда, чем я могу помочь?
— Наклонитесь, я скажу вам на ухо.
Девушка чуть сократила улыбку и по-собачьи повернула голову в бок. Чуть наклонившись, она все-таки рискнула. Альберт говорил не долго. По лицу его слушательницы понять настроение сказанного было бы невозможным. В аквариуме рыбки вдруг дернулись в сторону от неожиданно появившейся струйки из пузырьков воздуха. Она поднималась наверх с самого дна, создавая снаружи звучное бурление.
Альберт закончил. Улыбнувшись на прощание, он попытался изобразить нечто подобное участливому выражению лица и вышел обратно на улицу…
Тото
Тото медленно вытянул себя из сна. Подсвеченный фонарем, снег ложился неслышно во дворе на твердую, стянутую в панцирь землю. Морозы стояли уже неделю. Чтобы выйти на балкон, требовались большие пушистые тапки, штаны и плед, пропахший табаком вследствие доставшейся ему незавидной доли доспеха для комфортного пребывания курильщиков снаружи.
Снег шел редкий, и случись сейчас лето, никто бы и не подумал о зонте в такой дождь. Где-то со стороны большого перекрестка через два двора иногда доносились звуки скребущих асфальт шин. В некоторых окнах горели ночные рождественские треугольники свечей. Они отгоняли злых духов, которые в Рождество были особенно активны. Сердца стучали размерено. Их хозяева отыскали себе убежища на еще одну холодную ночь и беспечно дышали в теплые подушки, пережидая пугающую темноту.
Тото закурил. Кончик свернутой в трубочку папиросы захрустел. Ее дым съежился от холода и повис, не долетев до потолка, завитушками перистых облаков над головой. Запах поздней осени, самых последних капель переспелого тепла.
Тото глубоко вдыхал и тщательно выдыхал, наблюдая за использованными продуктами горения, распространяющимися, с трудом расталкивая морозный воздух, по пространству балкона. В глазах стали слышны удары в сердечный колокол вследствие повышающейся чувствительности всех мембранных оболочек тела. Хруст опускающегося снега и сама тишина наполнили раковины ушей гулом тех самых струн из обнадеживающей теории. Он опускал в него всю голову, как будто в теплую воду моря и становился подобным ему. Здесь не было дел, а следовательно проблем. Там, вовне, где оставалось его тело, без забот было нельзя. Из забот, казалось, состояло все вокруг. Дела… Это было его любимое слово. Как экскурсовод в музее он воздавал им хвалу в своих рассказах и как рок-звезда он шел по ним как по сцене, неся на себе ответственность за свой статус, их мнение и за надежность его роли в системе. Здесь на балконе он жаловался себе на усталость. Скидывал с себя форменный костюм и погружался головой в растворяющий все известное на свете звук, гул, вымывающий за считанные секунды из нее все дела, статусы и даже его самого…
Становилось прохладно, и тело приступило к предварительному дрожанию во избежание быстрого падения температуры. Тото открыл глаза. Лежа на полу, как на дне ванной, он еще немного поглазел из-под «воды» в потолок и, поддавшись наступающему ознобу, поднялся на ноги.
Дверь не открылась. Он пробовал еще и еще, аккуратно, плечом, не создавая резких шумов, но дверь не двинулась с места. Пластиковый панцирь затянулся и запечатал Тото внутри. Он сел на пол и попытался включиться в решение проблемы.
Он вдруг представил, как кричит что-то о помощи. Сюжет оказался очень неприятным, и Тото отложил его на самый крайний случай. Толстые стекла подобно солнечным батареям мгновенно поглощали все производимое тепло. Там, снаружи, темный зимний вакуум — разреженное пространство; оно заметило нарушение его границ, чужеродное тело, добычу, щупальцами облепив балкон, глазело внутрь. Тото дышал все громче, стараясь отогнать от ушей нарастающий гул, тот самый, в который так любил опустить голову. Теперь он понял — это она, пустота так дышит, дрожит. Там есть кто-то. Она сама и есть кто-то. И теперь она обратила свое внимание на него. Пар изо рта исчезал в нескольких сантиметрах от лица, где, казалось, начиналась граница. Тото встал, и по всему его телу пробежала дрожь, как будто его оборачивали в паутину. Руки были прижаты к телу, ноги друг к другу. Он впал в оцепенение и почти по самую макушку головы в подвывающий тем самым гулом страх, чистый, главный из всех страхов на это планете страх, рожденный на этой границе исчезновения всего, на краю, за которым уже нет тебя.
Сердце Тото стучало прерывисто, но довольно уверенно. Через все слои, сквозь которые ему пришлось погрузиться туда, где он пребывал, донеслись глухие стуки. Он резко вздохнул и повернулся к входной двери. За стеклом стояла Ясэ. Наматывая на указательный палец волосы у виска, она немного улыбалась и хлопала слипающимися сонными глазами. Открыв незапертые двери, Ясэ высунула лишь голову на балкон, не решаясь выходить на холод босиком:
— Ты чего? Сдурел?
Из комнаты вывалился теплый воздух. Тото развернулся:
— Включи свет.
— Хорошо, закрывай двери, холодно.
Тото дождался зажжения ламп и шагнул на свет. Закрыв за собой дверь, он взглянул через стекло. Там на балконе небольшой десант тепла, ринувшийся на его высвобождение, остался обреченным перед вновь наступающей темнотой…
Как только внутрь начало поступать тепло дома, усталое тело приступило к срочному погружению в сон. На кухне Ясэ гремела чашками и заваривала чай, что-то говорила, включала и выключала воду, но Тото с каждой секундой терял связь, и, в конце концов, не дождавшись чая, выключился из эфира…
Глава 3
Я очнулся рано утром,
Я увидел небо в открытую дверь.
Это не значит почти ничего,
Кроме того, что, возможно, я буду жить.
И. Кормильцев.
«Не приходил в себя…»
Так сказал этот в халате и костюме. Самый главный доктор. При разговоре он смотрел в глаза так, что, казалось, сейчас последует страшный диагноз и тебе придется разбудить все свое мужество для дальнейшего контроля над присутствием « в себе».
Лекс смотрел в маленький иллюминатор двери палаты, которую занимал Тото. Его брат лежал обмотанный проводами и трубками, иногда подергиваясь, но не подавая признаков возвращения.
Их привезли утром. Напоили чаем, накормили шоколадом и взяли все, что они смогли выдавить из себя на анализ. Мишель и Ясэ опустошенными провалились в белые кровати и пропали во сне. Лекс уставился в окошко палаты Тото, пытался следовать за ним, но, едва нащупав следы, пропадал в бесконечной темноте, той в которой блуждают люди, теряя себя.
«Ты не в себе…»
Так говорят. Там, где ты есть в таком случае, бывает чрезвычайно страшно. Неизвестно где неизвестно кто может оказаться на твоем пути. Или ты вдруг появишься на его дорожке.
Тропки пропавших.
Доктор что-то рассказывал о догадках и возможных причинах болезни. За решетками на здешних окнах находилось около сотни подозреваемых. Более десятка отправились куда-то вместе с Тото. Куда и зачем они покинули мир, оставив тела, выяснить никому не удавалось. Новости о похожих случаях поступали и из Европы, и из-за океана, но говорить вслух об этом никто не решался. Слов на официальное заявление было совсем мало. Люди разных возрастов, оттенков кожи и политических взглядов вдруг закатывали глаза и падали, сбросив с себя тела, как одежду.
«Как от этого уберечься? Что это вирус или генетическое? Или может быть рак? Может, нам нужно реже бывать на Солнце?» — спросили бы люди. « Нам ничего неизвестно!» — ответили бы официальные лица. И люди бы стали бояться сильнее обычного.
Тото дернулся и снова замер.
«А, люди», — думал Лекс, — « не могут так близко к неизвестности. Неизвестность напрямую связана со смертью для нас. И от того очень пугает. В положении заданного вопроса о местонахождении и форме существования, при имеющейся информации о возможной случайной собственной пропаже в любой момент, человек приближается к осознанию такого далекого для него в обыденности «сейчас». Обычно это «сейчас» приходит к нему на смертном одре. Поэтому большинство становятся такими понятливыми и благородными перед отправкой. Теперь это «сейчас» накатывает волнами, с каждой новой задираясь все нахальнее. Амплитуда растет, и она когда-нибудь достигнет необходимой границы. Мир лопнет, и человек оставит свое обличие еще одним пациентом здесь за решеткой…»
Доктор развернулся и ушел. Показалось, что привезли еще кого-то. Лекс качнулся в левую сторону и сделал шаг. Только после нескольких движений ногами он понял, что идет в направлении своей кровати, ведомый неизвестной силой.
Опустив голову на подушку, ему показалось, что здесь его давно ждала его часть, мучалась и растерянно пыталась отыскать недостающее. Теперь они были вместе, теперь пришел покой. Теперь у него наконец-то снова появились жабры для глубокого размеренного дыхания под теплой смолянистой водой сновидений, в которую он стремительно опускался, раскачиваясь брошенной на память в море монеткой.
***
Угли еле потрескивали, покрылись холодным серым налетом, но еще дышали горячим кислородом внутри. Был ли здесь кислород и подлинные химические реакции, Лекс не задумывался. Даже про себя он не смог бы сказать, что таковой здесь был. «Здесь» было тоже сомнительным. Длинная Пауза лежал на спине с закрытыми глазами и не шевелился.
— Ляг, — проскрипел он.
Лекс опустился на спину, и, сложив за головою руки, уставился на черный козырек грота, еле различимый своими неровностями в тусклом свете остывающих углей.
— Ты спрашивал, что было до всего этого? Я, пожалуй, расскажу. Но правдивым мой рассказ будет в неопределенной и непредсказуемой степени. Я измучался мыслями о подлинности моих воспоминаний.
Индеец вздрогнул, давая понять, что текущее положение было следствием испытанных им мук.
— Там были дети. Много детей на истоптанной маленькой площади в центре деревни. Большинство из них были голые, двигались очень быстро, поднимая облако горячей песочной пыли. Я сидел в тени деревьев и наблюдал. К тому времени луна для меня умирала и вырастала вновь столько раз, что жители соседних домов считали вежливым принести мне воды и предложить помощь. Люди проходили мимо и улыбались мне, как улыбаются тому, кто уже сделал все, что должен был, все, что решил сделать, и теперь ждал назначенного времени отправления. Все знали, что когда-нибудь отправятся туда, но тогда они как будто провожали меня, улыбаясь, то ли радуясь за скорую мою свободу, то ли были счастливы за себя и за остававшийся у них запас отведенного срока. Но все случилось не так, как нам представлялось. Он появился вдалеке на дороге. Дети мелькали перед моими глазами, бегая по кругу, и я замечал его в промежутках меж их тел, сквозь клубы пыли и крики. Они походили на птиц, подумал я тогда, на кружащих в небе и отражающих солнце маленьких чирикающих птиц. А он… Он приближался, как сокол, откуда-то с высоты, не поворачивая головы и не отводя взгляда. Мне вдруг привиделись опустившие крылья, замирающие на мгновение и падающие вниз на горячую землю безумные птицы. Я чувствовал их удары о землю, видел поднимающуюся пыль. Это его шаги, от которых было невозможно оторвать взгляда. Рисунки на его правильном и крепком теле были совсем незнакомыми и напугали детей. Площадь опустела, и в компании нескольких вооруженных мужчин к нашему гостю вышел шаман. Он подошел очень близко, пытаясь заглянуть своими тусклыми, белесыми глазами в его, но вдруг начал трястись и упал на землю. Он кричал так, как кричат те, кто принимает преждевременную смерть в одиночку. Когда нет никого, кого стоит предупредить об опасности или того, кто смог бы помочь. Это было воззвание, но не к этому миру, а к тому, в который он уже видел дорогу, точно знал, что остаться в этом он уже не сможет. Войны бросились в атаку, но повалились оземь рядом с шаманом. А потом дети.
Длинная пауза повернул голову в противоположную от утеса сторону, в темноту, где, казалось, увидел тех, про кого говорил.
— А потом дети. Они прятались за матерей и за деревья. Но как птицам в небе им некуда было деться. Они закрывали глаза и опускались на колени, взывая к матерям. Я видел, как широко были открыты их рты, но не слышал их крика. Пришелец стоял посреди маленькой площади и, стиснув зубы, пытался, что есть сил, давить на них языком. Творимый им звук был почти не слышным, но сдавливал голову где-то в самом центре, будто наполняя ее сверх того, что она способна была поместить. Я оставался один несколько мгновений. Он посмотрел на меня тогда, и тело его вдруг покрылось рябью из прозрачных полос. Как будто пространство обратилось водою, а он был пятном света на ее поверхности. А я… Я падал головою в это пятно. На самом краю возможного для меня тогда обзора в бликах солнечного света растворялись люди. Они исчезали, как растворенная водою реки грязь с белых покрывал. В голове, как будто под той самой водою, гудело содержимое. Это он своим натужным мычащим звуком из-за сжатых зубов провоцировал и раздражал внутренности. И наконец стало страшно… Так страшно, как никогда не было. Я вдруг понял, насколько огромное количество страха хранилось внутри меня. И тогда он проснулся весь. Деревья и небо покрывались его черными пятнами. Он сжимал, как капкан, не оставляя возможности вырваться, ни одного шанса на спасение. Мир чернел и таял в темном тумане, а этот чужой, разрисованный чужеземными шрамами, скалил зубы и улыбался. Он был весел, мне показалось, и счастлив даже.
Длинная Пауза опустил голову и замолчал на пару минут. Лекс не решился вмешаться.
— Вскоре не осталось ничего. Одна темнота. Звезды где-то вдалеке. Но я догадался, что это только мои о них воспоминания. Звезды — первое, что пришло на ум, чтобы заполнить черноту. Я все еще боялся. Непонятно чего, но, знаешь, я понял тогда, что страх может не иметь объекта. Он как дыхание или сердцебиение, всегда работает в людях. Он — как одна из основ жизни. И тогда у меня остался лишь он один. Мы сидели с ним в темноте очень долго…
Лекс вдруг вспомнил о Тото. Это было похоже на прозрение, на вспышку где-то сзади, на звук лопнувшего воздушного шарика. Он был обязан успеть спросить:
— Так, кто же это был такой? Этот пришелец?
Лекс кричал, но между ним и старым индейцем пространство вдруг превратилось в желе, звуки пропадали в нем, не успев побыть услышанными. Все вокруг стало содрогаться, как при землетрясении, и с утеса посыпались мелкие камни.
«Это топот. Панический топот ног», — подумал Лекс. Он закрыл глаза и понял, что откроет их уже на больничной койке. За дверями палаты по коридору бежали люди…
***
Чура притормозил. Уступил дорогу «скорой». Всегда в нем возникало подозрительно чувство, что врачи в таких могли знать немного больше о текущей ситуации в мире. А ситуация в свою очередь могла напрямую касаться и его.
Он перестроился за ней в правый ряд, а потом и вовсе свернул следом в необходимый поворот. Дозвониться до Альберта за целый день он так и не смог, поэтому поехал к нему сразу, как освободился. Альберт скорее всего спал, но больничная машина теперь внесла в это наивное предположение некоторую сумятицу.
Чура оставил машину задними фарами к крыльцу. Врачи остановились прямо у входа. Он видел в зеркале, как они суетливо поднимаются по ступенькам и вбегают в холл. Где-то гаснет ячейка, пиксель на мониторе. Они спешат устранить неисправность. Такая работа.
Он вошел за ними, но в холле было пусто. За стойкой регистрации, опустив голову, сидела девушка. Рыбы за ее спиной не имели к происходящему во всем мире никакого отношения. Как будто были мертвы, но кто-то оставил им способность держать равновесие под водою.
У нее были слишком красные для своей работы глаза. Плакала, решил Чура.
— Что случилось? — у него получился бы шепот, если бы не миллионы истребленных сигарет.
— Страшно, — она всхлипнула, не выдержала и разревелась вновь. — Она… Моя коллега, ей совсем плохо.
Чура решил немного оживить обстановку и достал удостоверение. Такой прием на здешней местности добавлял упорядоченности почти в каждой попытке.
— Что случилось? — настаивал он.
— Днем я вернулась сюда за стойку, а она плачет, говорит, что ей не хорошо. Дрожит. Боится. Отвели ее в комнату, дали таблетку. Она уснула. Так показалось. Через несколько часов закричала так, что напугала гостей с первых этажей. Вызвали скорую. Она стонет, дергается. Вот врачи с ней сейчас.
Девушка показала рукой в направлении нужной комнаты.
— Не плачьте. Успокойтесь.
— А вдруг это вирус, про который говорили по телевизору??!!
Девушка перешла на крик и мимические брызги.
Они все-таки решили сказать, подумал Чура. Сколько же тогда уже зараженных? Он сделал шаг назад.
— Когда говорили, что сказали?!
Чура хлопнул в ладоши, чтобы разбудить и ее самообладание, и в качестве превентивной меры для своего.
— Сказали, что неизвестный вирус. Больше ста человек.
Она вдруг остановила громыхающий насос, поставляющий слезы и сопли, и посмотрела на Чуру:
— А еще ее напугал один… Жуткий.
— Кто?!
— Лысый какой-то. До обеда заходил. Охрана на видео видела, как он пришел, что-то прошептал ей на ухо и ушел сразу. Она после этого вот и…
Чура выполнил прием с удостоверением еще раз, уже перед местными сторожами порядка. Он смотрел, как Альберт склонился над стойкой и почти прислонился щекою к ее щеке. Читать по губам Чура не умел, но без этого было видно, что Альберт не говорил слов. Губы и язык его двигались совсем неестественно, а потом и вовсе натянулись в странную улыбку. Зубы сжались, как будто он пытался выдавить сквозь них что-то. Альберт моргнул, расслабил лицо и выпрямил спину. Девушка опустилась на стул.
Чура уже хотел опустить удрученно глаза, но вскользь заметил на записи с камеры над крыльцом то, что вдруг заставило приподняться ворсинки на его спине. Он робко попросил включить именно это еще раз и уставился в монитор. Спускаясь по лестнице, Альберт в какой-то момент заморгал, как голографическая проекция. Всего лишь на мгновение. Это было похоже на рябь в телевизоре, так решили и местные слуги порядка. Но Чура уже видел такое. В парке у дома в детстве, на свадьбе Тото у реки. Это был он. Пускай прозрачный, но точно он…
Альберт
Дом родителей стоял на самом краю города. Через дорогу от его крыльца, за заросшей канавой начинался лес, продолжающийся на многие километры вдаль, хранивший в себе дома зверей и птиц, наверняка, никогда не встречавших человека.
Большой город огнями переливался на половине неба бледно зеленым и был чуть слышен где-то вдали по ночам. В остальное время в маленьком поселке на окраине, состоящим из пары десятков частных домов, было спокойно и тихо. Из отверстия в лесополосе изредка выскакивали автомобили, и едва появившись, стеснительно уменьшали громкость своих моторов.
Тото и Лекс провели детство где-то в виднеющихся вдали окнах многоэтажек. В этот дом их родители переехали почти сразу после проводов сыновей из отеческого гнезда. Они расставили на полочках сувениры, привезенные из многочисленный путешествий, фотографии, сложили аккуратной стопочкой дрова у камина и попали в аристократический мир, где в тишине постукивающих часовых механизмов пили с конфетами чай из фарфоровых чашек, пекли и жарили изысканные блюда для гостей и называли сон отдыхом, погружаться в который теперь можно было во сколько и на сколько пожелаешь.
Тото приезжал сюда отдыхать. Когда дом оставался пустым, покинутым хозяевами с целью поглазеть на затерянные в складках планеты примечательности, он устраивал ужин или небольшую вечеринку, которые заканчивались обычно очень рано. Всем гостям с наступлением темноты и окончанием трапезы вдруг резко хотелось спать. Дом консервативно оберегал установленные законы. Тото запирал за всеми дверь, выключал свет и спал…
В тот день был туман. Такой, что деревья в лесу, вдруг потеряв из виду корни, испуганно жались друг к другу, боясь остаться в одиночестве, в тишине, в еле сдавливающей бока слепоте. Он постучал в дверь.
Тото высунул из-под одеяла нос и принюхался к свежему весеннему воздуху. Он подумал об огне в камине и чашке горячего чая, собрался и спрыгнул с кровати. Если бы не мысли о тепле и этот ядовитый холодный запах так рано открывшихся луж в лесу, ожидающий ответа у двери так и остался бы ни с чем. Тото надел штаны и свитер, согласился с собою в зеркале, что выглядит приемлемо, и открыл дверь.
Через порог медленно переполз туман, оглядываясь по углам, словно сытый, но размышляющий о десерте редкий гость в здешнем ресторане. Гость улыбался, натянуто и специально. Из вежливости.
— Доброе утро. Простите, что так рано. Но на вашей улице больше никто не открывает, а у меня совсем уж чрезвычайная ситуация, — молодой человек продемонстрировал ладони рук, измазанные сырой глиняной грязью.
— Что случилось?
— Там, на дороге, машина. По пороги в грязи. Не знаю, как так залез…
— Там же знак. Предупреждающий.
Тото чуть улыбнулся. Люди, попавшие в затруднительную ситуацию по вине своей невнимательности и нерасторопности, встречались им с особенным энтузиазмом. Он наслаждался каждым, пусть даже крошечным, незаметным и не принимаемым в расчет большинством, микроскопическим главенством. Каждой миллисекундой в такой роли.
Гость заметил ухмылку и улыбнулся в ответ очень похоже:
— Я первый раз. А знак в тумане совсем не видно.
— Чем я могу вам помочь?
Непроизвольно, по обыкновению, сделав акцент на букве «Я», Тото не скрыл ни капли из подмешанного в тон недовольства от возможно выстроенных незнакомцем планов его участия в спасении утопающего автомобиля. Он не то, чтобы не умел скрывать, может и смог бы, но за всю жизнь еще не разу не пытался.
Гость заметил и это тоже.
— Мне бы лопату? Или несколько досок? Если есть.
Тото задержал взгляд на лице незнакомца и, уже повернувшись спиной, обронил:
— Посмотрим.
Лопата нашлась.
Странный гость подобно межзвездному кораблю погружался в опустившиеся к самой земле облака, создавая спиральные завихрения в ровных, медленно качающихся слоях.
Тото запер дверь и вернулся в дом. В комнате стало заметно теплее.
Камин хрустел весело разгоревшимися поленьями, чай на маленьком столике у кресла испускал вверх свое еле заметное пламя из легких микроскопических капель пара. Тото упал в кресло, закрыл глаза веками и ладонями рук. До тела приятно доносилось волнами тепло, а сознание воодушевленно предвкушало первый глоток сладкого чая и последующую за ним дебютную сигарету на веранде в компании весенней прохлады и совсем юных запахов, просыпающихся в лесу.
Кольнуло где-то около пупка. В тот самый момент, когда Тото открыл глаза. «Я не разжигал камин, и не наливал себе чая!», — мысль взорвалась изнутри, пронеслась осколками по телу и, отразившись от кожи, вернулась к начальной точке, где разгоралась и становилась все тяжелее. В комнате снова стало холодно. В камине темно. Со стен и полок пропали рамочки с фотографиями, со стола и подоконников горшки с цветами. Пропало все, кроме стен и окон. На стекла давил туман, и из глубины черных щелей, поскрипывая как будто половицами, уже сочились его дымные щупальца.
Тото вспомнил. Это же Альберт. Его друг — Альберт. Это он приходил за лопатой. Почему же не узнал его? Почему вел себя как чужой? Куда пропали все вещи, и не снится ли ему все это? Снится. Наверняка. Почему не просыпается? Раньше это было так легко.
Тото зажмурил глаза и попытался направить все свое напряжение на открытие глаз по настоящему. Но не смог найти нужного алгоритма. Все тот же пустой дом, стены и окна, пол, уже покрытый дымкой, проливающейся из неплотно закрытых окон. Он как будто на дне, — думал Тото, — дом на дне туманного океана.
Отыскав шапку, шарф и теплые ботинки, он остановился нерешительно у двери, оглянулся еще раз и увидел, как туман заползал на стены и потолок, скрывая и заполняя каждую выемку. Тото выбрался наружу и через пару шагов потерял дом из виду. Он раздвигал руками белые сгустки, как взлохмаченный, потревоженный кем-то ил на дне туманного водоема расправляет плавником беззвучная рыба. Пробовал кричать, но звук его голоса жадно впитывало пространство так быстро, что услышать его не получалось даже ему самому. От дефицита шума гудело в ушах. Идти пришлось долго, дольше, чем самые длинные из возможных земных прогулок. Но он пришел.
Туман остался за спиной; такой плотный, что на него можно было опереться. До обрыва впереди оставалось чуть больше метра. Тото поднял голову и увидел небо. Многие звезды на нем подергивались, а некоторые срывались с мест и падали в направлении горизонта. Тото проводил одну взглядом. Но горизонта здесь не оказалось, и она продолжила свой путь, как будто по стенке стеклянного шара, внутри которого теперь был Тото. Ему пришлось подойти к самому краю обрыва, чтобы проследить за ней.
— Где мы, Альберт?
Альберт сидел, свесив ноги, невнятно бормоча то ли песню, то ли ритмичный стишок. Он предложил Тото присесть рядом.
— Ты на самом краю, Тото.
— На краю чего?
— Почти всего.
Тото был спокоен и как будто только совсем недавно запамятовал все о том, что здесь происходило. Оно было где-то рядом, но поймать без третьей силы это воспоминание здесь было невозможно.
— Ты боишься? — спросил Альберт.
— Нет. Вроде бы нет.
— А, тогда в баре, когда все началось, боялся?
Третья сила. Он вспомнил. Все до самой потери сознания. Галлюцинации и пропадающие стены бара, люди масляными пятнами растекающиеся в пространстве, звезды в абсолютной темноте и ветер. Ветер давил на уши и как будто на само сердце где-то в центре груди. Страшно было так, что его стук сотрясал все тело множеством разрядов электрического тока в каждом нервном окончании. Мир вокруг вдруг стал таким маленьким, и, казалось, можно было дотянуться головою до неба, высунуть голову за облака в космос. Планета оказалась так мала по сравнению со Вселенной. Она оказалась ничем в этой черноте, и Тото почувствовал, как ее отчаяние и одиночество вдруг стали ему понятны. Он сжимался в комок под воздействием их гравитации.
— Было очень страшно, — ответил он Альберту, — теперь нет.
— Это хорошо. Так и должно быть. Ты теперь за страхом. Ты теперь — не ты.
— А, кто?
— Ты — почти Бог, Тото! — Альберт усмехнулся. Он посмеивался над словом «Бог» после каждого использования. — Но, тебе нужно прыгнуть, — Альберт резко нахмурился. Тото сделал шаг назад, но туман не позволил сделать второй.
Альберт поднялся на ноги и положил руку на плечи Тото, немного подталкивая к самому краю.
— Ты прыгнешь, Тото. Такова природа твоего путешествия. Ты станешь Богом, рекой, течением Его сквозь Вселенную, как кусок льда в реке растаешь и соединишься со своим естеством.
Альберт подводил Тото все ближе к обрыву. Звезды со всех сторон уставились на них, как на сцену, и Тото вдруг подумал о них, как о вспышках зрительских фотокамер; о себе как о главной звезде представления. Его кульминационная реплика, наконец, выросла и созрела:
— Альберт, а ты кто?
Они посмотрели друг на друга, и Альберт, подернувшись прозрачной полосой по всей своей длине, улыбнулся:
— Я — весеннее тепло, что топит лед для реки.
Последовал удар. Ноги Тото потеряли опору. Он резко и глубоко вздохнул, дрожью ощутив начало стремительного падения.
Полет закончился, не начавшись. Тото висел у самого края. Альберт держал его за рукав и подергивал как удочку на рыбалке.
— Подожди, совсем забыл. Видел когда-нибудь Его?
В другой руке Альберта была фотография. Он неестественно изогнулся и дотянулся ей до лица Тото. На картинке сидел старик в лохмотьях и торчащих из головы старых перьях. Лицо его плохо освещалось тусклым костром, но таких Тото никогда не встречал. Ему вспомнился Лекс отчего-то…
— Нет. Не видел.
Альберт кивнул головой и отпустил руку…

Глава 4
Топот…
Быстрый топот. Несколько ног…
Особенно рано утром.
Тото впал в кому два дня назад.
Ноги каждый раз несли врачей к очередному впадающему. Утром один из первых заболевших отвалился сухим листом и улетел по ту сторону, угодив в первую сотню летальных по все планете.
Снова топот. Они бегали день ото дня все быстрее.
Страх. Тот же, что тогда, в воскресение, теперь не волнами, а строем, маршем экстренных сапог на фронте войны за жизнь. Лекс лежал лицом к стене. Она становилась заметно светлее от минуты к минуте. Ему хотелось встать и открыть окно, вывалиться по пояс в весеннее утро, но разбудить Ясэ он не решался. Что ей сказать, что теперь пообещать сделать.
Снова топот. В груди каждый раз надувался пузырь, где-то около сердца, и делал все тело будто тяжелее в несколько раз. Глубоко вздохнуть не получалось, да и не нужно было каменному телу кислорода. Лекс дышал медленно и понемногу. Каждый стук сердца был похож на отчаянный удар запертого где-то свободолюбца в дверь, теряющего так быстро надежду на освобождение.
Он приподнял голову и повернулся на бок. Ясэ лежала к нему спиной. На еще одной третьей кровати было пусто. Мишель вышел. Он частенько ходил курить и пить чай даже ночью.
— Ты не спишь? — высоким хрипом пробурчала Ясэ.
Лекс медленно повернулся на спину.
— Нет…
— Все изменилось очень быстро, — Ясэ делала большие паузы между словами. Лексу показалось, что она старательно скрывает в них тихий, но уже крепко зацепившийся здесь плач. — Так быстро, Лекс. Так, что вопрос о будущем настолько неразрешим, насколько и бесполезен. Если оно вообще есть… будущее… У нас…
Теперь было не спутать. Это был обыкновенный девичий всхлип. Лекс встал, открыл окно, вдохнул пару раз и присел в ее ногах.
— Тебе страшно? — спросил он.
— Нет… Страшно — это когда есть вероятность чего-то плохого, а я вообще не представляю, что будет.
Лекс подумал о смерти. Наверное, в первый раз. Спросить о такой вероятности он не решился.
— Что-то поменялось совсем, — продолжала Ясэ, — как будто остановилось. Мы вроде как катались на американских горках, весело, увлекательно. Но теперь конец. Вагончики еле-еле подтягиваются к финишу. Аттракцион закончен. На выход. А выходить куда?
— Может, это будет тоже захватывающе?
— Может, — всхлипывания прекращались. — Сможем ли выйти только? Успеем ли заметить что за остановка?
— Скорее всего, конечная. По крайней мере, выбирать не приходится.
Снова ноги за дверью. Лекс прошуршал тапочками и выглянул наружу. Еще привезли. Совсем плохие. Без попыток заявить о себе плачем, криком или движением рук. Вот-вот должен был показаться Мишель. Обычно он не гулял долго, да и нельзя было тут гулять. Ясэ, поймав те же мысли, поднялась с кровати и решительно спросила:
— А где Мишель?
Бойко запихав ноги в носки и тапки, она беззвучно взяла под контроль предрассветную вылазку, и они вышли в длинный пустой больничный коридор.
***
Аккуратно, не прикасаясь к стенкам кружки, Мишель размешивал на подоконнике чай. Он видел, как открывал глаза Лекс, но не подал виду и отправился курить один. В дальнем конце коридора старая двустворчатая дверь скрывала выход на лестничный пролет, заброшенный и заваленный строительным мусором еще в прошлом веке. Сюда заходили изредка врачи и мед персонал, но тоже только по вечерам или ночью. На одной из площадок была обустроена крошечная территория с креслом, стулом и обрезанной пластиковой бутылкой для утилизации отходов. В окно пока еще можно было разглядеть внутренний двор. Ветки, что бились в стекло, уже начинали выпускать листья, но выглядели немного сутуло.
Мишель поставил чашку на подоконник и сверкнул искрами зажигалки. Обычно он выкуривал одну, затем выпивал немного чая, после закуривал еще. Эту он курил медленно, и часто случалось так, что она испускала свой едкий дух сама, лишь с небольшой его помощью. Исключительным слухом своим здесь он отдыхал от писка мониторов и датчиков, наслаждаясь шорохами и потрескиваниями старого интерьера.

Он щелкнул зажигалкой во второй раз. Огонь загорелся в его ладошках, но поднести его к сигарете Мишель не мог. Проникающий сквозь пальцы свет нарисовал на подоконнике вполне себе человеческую тень, по все видимости принадлежащую кому-то рядом.
Мишель не отрывал глаз от огня, но отчетливо видел, как тень повернулась и облокотилась на стену, собрав руки в замок на груди. Он повернул голову в ее сторону, но увидел лишь оставленные кем-то подписи на облупившейся краске.
«Подводит система», — думал Мишель, — «Голова с недосыпа выдает странности…» Сладкий чай должен был помочь. Мишель закурил сигарету, не оглядываясь по сторонам при зажженном огне, и сел в кресло. Шорохи внизу и вверху, где-то упал кусок штукатурки, где-то в подвале царапала лапками крыса рыжие кирпичи. Затем кто-то довольно громко усмехнулся. Мишель открыл глаза, вытянул вперед руку и снова зажег огонь.
Он стоял у стены. Только контур. Без тела.
Мишель смотрел, не отрываясь, и точно знал, что этот прозрачный ухмылялся и потешался над ним. Тот же, что и тогда у реки, на свадьбе. Он пришел, как приходит второй приступ боли, как второй прыжок с парашюта. Еще страшнее первого, потому что теперь страх знакомый.
Мишель от чего-то зажмурил глаза.
— Ну ладно, хватит…! — весело вскрикнул голос там за глазами. — Это же я.
Голос был очень знакомым, но рассудок не позволил себе догадаться. Мишель открыл глаза. Альберт сидел на стуле, опустив одну ногу на пол, другой подперев подбородок, и из под задранных вверх бровей смотрел на него. Такого доброго лица в исполнении Альберта Мишель еще не встречал.
— Ты?!
— Я.
Альберт был заметно доволен.
— Как же так?
— Ну…., — Альберт развел руками, — есть конкретнее вопрос? Этот слишком уж обо всем.
Мишель затянулся и стал приходить в себя. С другом теперь было спокойнее, лишь вот его недавняя прозрачность приводила в растерянность. «Хотя,», -думал он, — «еще несколько дней назад, увидев бы такое, он, наверняка, свалился бы в обморок от испуга. Значит не так уж и страшно, раз мозг не боится. Или это какой-то странный нескончаемый транс, в который мы угодили всей планетой….»
— Как ты это сделал, Альберт? Ты вообще кто?
— Вот. Это конкретно. Сделал как — неважно. Кто я — тоже. Главное — ты не сильно испугался, — Альберт продолжал улыбаться.
— У меня есть к тебе дело, Мишель.
— Дело?
— Да. Мне нужно, что бы ты ни за что ни отпустил вот это из рук.
У Альберта в руке вдруг появилась фотография. Он отпустил ее ни сразу. Они держались за края вдвоем.
— Ты видел его когда-нибудь?
На черном фоне в белую крапинку на картинке куда-то вниз смотрел старик. По чуть различимому блеску в его глазах было понятно, что смотрел он на угли костра.
— Нет, — ответил Мишель и Альберт отпустил индейца на картинке к нему.
— Постарайся удержать, хорошо?
Альберт снова улыбнулся и протянул руки вперед. Они обнялись как будто на прощание. Через уместное для дружеских объятий время Мишель опустил руки и попытался отодвинуться назад, но Альберт сжал его еще сильнее. Где-то внизу спины что-то хрустнуло, проскакало ломаной волной по каждому позвонку до головы и ушей, и отозвалось в них ударом большого чугунного колокола. Мишель закатил глаза. Альберт почти прислонился губами к его уху и прошептал:
— А ты ведь слышишь, слышишь, Мишель. Как она течет, как она извивается. Но понять не можешь, потому что человек. Пытаешься, стараешься хоть немного запомнить, сохранить в своих каракулях на бумаге, но это все пыль. Я покажу тебе ее. Музыку. Всю сразу.
Стало холодно. Дрожь как будто сотрясала все пространство вокруг. Мишель открыл глаза и втянул носом плотный морозный воздух, с едва заметным привкусом старого металла.
Они сидели на блестящей поверхности, на самой вершине большого шара. Далеко вверх в темноту уходила колонна, на которой шар был подвешен. Стены расширялись к низу, где в отсутствии всякого пола были видны невероятно быстро пролетающие густые облака.
Колокол. Это его вибрации заставляли дрожать.
— Что это, Альберт?
Мишель приподнялся, стараясь удержаться за колонну.
— Это самый край, Мишель. Хотя ты и так был недалеко.
— Недалеко от чего?
— От музыки. От ее источника и родителя. Теперь ты вернешься к нему.
Альберт повернул рукой его лицо и заставил посмотреть в глаза.
— Так заведено, Мишель. Помнишь принцип «по образу и подобию своему»?
— Да.
— Так вот вы стали слишком уж непохожи. Только и осталась, быть может, музыка. Но вернуться придется всем, даже тебе, Мишель.
— К Богу?
Мишель проглотил накопленное во рту бесстрашие.
— Я умру, Альберт?
— Никто не умрет. Ты упадешь туда и станешь всеми этими облаками внизу, всеми известными и неизвестными тебе созвучиями. Навсегда.
Альберт улыбнулся снова и подернулся прозрачной полосою.
— Пока, Мишель. Ты еще можешь посидеть здесь немного.
Он исчез. Становилось все холоднее, а облака как будто приближались. Или Мишель, вцепившись в огромный язычок громадного колокола, падал навстречу им вниз.
Его нашла Ясэ. На грязной старой лестничной площадке. Она подняла его голову и звала по имени. Лекс нащупал пульс и попытался приподнять его на ноги. Они звали на помощь.
Язычок вдруг стал раскачиваться. И Мишель с трудом удерживал равновесие. Вскоре он стал ударять о стены, пространство внутри покрылось сначала рябью, а затем ураганом из беспорядочного звона его последнего убежища.
Колокол свалился в облака, подняв дымные брызги, и стих.
Они вытащили его в темный коридор. Топот ног. Теперь они направлялись к нему. К ним. Уже на каталке Мишель опустил правую руку и разжал кисть. Скомканный клочок плотной бумаги подобрал Лекс. Когда голоса санитаров стихли, он аккуратно расправил его, и где-то лишь у самой гортани, там внутри, можно было расслышать:
— Длинная Пауза.
Глава 5
Через противогаз или в маске — даже голос из радио вырывался, казалось, из стянутого, онемевшего рта. Говорил, что-то о сотнях тысяч, членах президентских семей, эвакуации и поиске вакцины. Они совещались на самых верхних уровнях власти, но из имеющихся у них арсеналов оружия, лекарств и медицинских приборов пока не нашли средств. Люди падали независимо от возраста, положения в обществе и местонахождения. Отшельники с храмов высоко в горах, дети с запрятанных в джунглях Африки озер, звезды кино, спортсмены и просто соседи по лестничной клетке вдруг терялись где-то внутри головы, оставляли тело на остаточных запасах энергии, поддерживающих стук сердца еще немного, до окончательного угасания.
Они возили по улицам танки и шумели вертолетами сутки напролет, пытались спрятаться в убежищах. Но снова рядом кто-то закатывал глаза, и люди шарахались от него, как от чумного, закрученные до скрипа в спираль страхом. Он стекал с них, как вода с выжимаемого полотенца. Все сильнее и тоньше, пока хватка не ослабевала, и человек не осыпался трухой, маленькими обрывками ниток, растворяющимися в пространстве.
Лексу и Ясэ дали пару часов на сборы. Оставаться в ведомственном госпитале теперь было бессмысленно. Помочь в изучении свалившейся напасти они не смогли. Взамен сотни анализов они получили фиолетовые круги под глазами, несколько сброшенных килограмм и чувство опустошенности такого уровня, существование при котором ранее казалось невозможным. Мишель и Тото остались где-то там…
Их встретил Чура. Лицо его мало чем отличалось — красные ободки вокруг глаз, обвислые щеки. Он молча посадил их в машину, сел сам, заблокировал двери и выдохнул:
— Это Альберт.
Ясэ вскинула голову, как будто это было то, что она ждала услышать. После разговора с Албертом в тамбуре она не могла отделаться от беспокойства — ей казалось, что он наблюдает, отчаянно думает о ней каждую секунду.
— Что Альберт? — Лекс попытался спросить громко, но получилось немного жевано.
— Это Альберт. Это он убивает людей. Специально.
У Ясэ немного закружилась голова.
— Что?! Зачем? Все эти тысячи людей?! — теперь у Лекса получалось почти кричать.
— Не знаю. Он распространяет какую-то заразу. Может, не только он один.
Чура еще немного сжался и напомнил Лексу о том случае в парке, о том, как он бегал голый по банкетному залу на их свадьбе, рассказал о Прозрачном и девушке из отеля. Ясэ прислонила лоб к холодному стеклу и пыталась удержать закручивающуюся картинку в глазах. С этим симптомом ее тоже познакомил Альберт.
Они выезжали из города на север. Домой. Пробовали звонить Альберту, но трубку никто не брал. Иногда попадались съехавшие на обочину автомобили, иногда люди. Становилось темнее. Лекс иногда открывал окно и утыкался головою во встречный поток воздуха. Выбить из внутренностей все эти несколько дней, весь этот растворитель, что вымывает то, что обычно звали душой; постоянно пронизывающий глаза огонь костра и морщинистое лицо индейца. Ясэ спала на заднем сидении, иногда громко вздыхая, вытирая высохшие губы языком. В уголках ее глаз при свете мелькавших фонарей блестели следы просачивающихся между веками слез. Чура курил, молчал, изредка поглядывал в зеркало.
На небе появились звезды. Совсем мало, но достаточно для того, чтобы Лекс почувствовал тошноту. Он вспомнил утес, поток, в котором звезды, люди и целые миры проносились куда-то или просто возникали, пропадали и формировались снова. Лекс глотнул воды и снова вылез головой из окна.
— Давай, остановимся? — вернувшись, спросил Лекс.
Чура мгновенно притормозил и остановился на обочине. Они осторожно захлопнули двери. Ясэ осталась в машине одна.
— Что же теперь?
— Я не знаю, Лекс.
По верхушкам сосен пробежал суетливо ветер. На дороге было тише обычного. В лесу, уже почти ночью они чувствовали себя, как на совсем незнакомой планете.
— У меня такое чувство, что я банкрот. Что вот-вот придет какая-нибудь специальная служба и заберет то немногое, что осталось. Я как будто теряю все, как будто с меня снимают слой за слоем внутри и оставляют лишь оболочку, воздушный шарик, — Лекс присел на корточки и набрал в руку сухих иголок. Земля была уже теплой, уже подготовленной к спешащему опустится на него лету.
Чура присел у дерева и закурил снова:
— Тебе страшно?
— Я не знаю что это. Но если бы пришлось отвечать конкретно, то я сказал бы, что да. Очень.
— Я искал его, искал, где только возможно. Его все ищут. Но мне кажется, он сам скоро найдет нас, — Чура закрыл глаза и запрокинул голову наверх. — Быть может, прямо сейчас.
Над лесом прошмыгнул еще один крохотный ветерок.
— Я видел его, Лекс, — голос Чуры стал заметнее тише. — Он не похож на человека. Он как нарисованная картинка, световая проекция, отражение чего-то здесь или след, развод, как от надавливания пальцем на монитор.
— И что у него за цель? Зачем столько людей?
— Я не знаю. Но когда я думаю об этом, где-то в груди пережимает очень важный нерв и мне кажется, что он не остановится. На это уже не остановить.
Чура тщательно затушил окурок о землю и встал.
— Поедем? — спокойно предложил он.
— Я отвезу Ясэ в деревню к бабушке. Она так хотела. И сразу вернусь.
Лекс протянул руку, и Чура помог ему подняться.
— Если, конечно, успею…
Они вернулись к машине и, переглянувшись, открыли одновременно двери. Ясэ не спала. Она сидела в темноте с Чуриным телефоном в руках.
— Альберт звонил. Только что, — она говорила голосом очень похожим на те, что можно услышать в торговых центрах. — Он будет ждать тебя у гаража во дворе. Завтра вечером.
Ясэ посмотрела на Чуру и отдала ему телефон.
— Я взяла трубку, подумала, что другого шанса может не быть. Он сказал, чтобы мы ничего не боялись, что уже ничего не поменять и не остановить. И что он никакая ни нарисованная картинка…
Глава 6
Лекс не приехал.
До назначенного времени оставалось около тридцати минут. «Как раз к закату», — подумал Чура, всматриваясь во двор с высоты девятого этажа. Он вышел курить на общий балкон, хранивший воспоминания о первом опыте с портвейном и табаком, запечатанные юношескими автографами на грязных бетонных стенах. Солнце садилось по июньскому обыкновению очень медленно. Чуре никак не удавалось накуриться вдоволь, и он беспрерывно продолжал наполнять окурками любезно оставленную кем-то в углу жестяную баночку от горошка.

Внизу, на игровой площадке не было никого. Детей гулять одних не пускали, да и сами взрослые выходили на улицу с опаской. Телевизор призывал всех оставаться на местах и бояться эпидемии, хотя и обещал скорое избавление от ужасной заразы. Гаражи по-прежнему оставались на своих местах, но траву и кусты за ними давно прикатали асфальтом.
Чура всматривался в каждый закоулок двора, пытаясь поймать взглядом волнистую рябь или сразу Альберта, но никого не находил. «А было бы здорово, если кто-нибудь сейчас позвал попинать мяч», — подумал он. «Оказаться вдруг в два раза ниже, в тысячу раз беспечнее…».
Время. Пора.
Он остановился около двери в квартиру и, почти передумав, все-таки зашел домой переодеться. Мяч громко прыгал по ступенькам вниз, иногда изящно отскакивая от стены на площадке и самостоятельно продолжая путь к выходу. Оказавшись на поле, Чура запустил его высоко вверх. Хлопок от его удара о Землю эхом закружил вдоль образующих двор домов и выстрелил как из нарезного ствола в небо.
От ворот до ворот. Чура бегал туда сюда, непременно забивая голы. Его футболка очень быстро начала темнеть. В очередной раз сравняв счет, он остановился за неспособностью далее дышать. Мяч, укутанный сеткой, остался в воротах. Чура присел на скамейку неподалеку и на секунду совсем забыл обо всем, лишь силясь наполнить грудь посвежевшим к ночи летним воздухом.
— Наигрался? — Альберт добродушно хмыкнул и протянул Чуре бутылку с водой.
Блаженная секунда беспамятства прошла. Они смотрели друг на друга около минуты в тишине. Чура взял бутылку и выпил почти целиком.
— Какого хрена, Альберт?
Альберт присел рядом.
— Темнеть ведь больше не будет? — всматриваясь в редкие подсвеченные лампами окна, спросил он.
— Какого хрена, Альберт? — еще раз прохрипел Чура. Его зубы были сжаты с такой силой, что скулы и даже сама голова немного дрожали.
— Что ты хочешь знать? — он подернулся прозрачной рябью также, как делал это раньше.
— Что происходит с людьми? Ты убиваешь их? — у Чуры начало получаться брать такого неуловимого себя в руки.
— Я не знаю, что такое «убивать». Такая категория может существовать только во второстепенной системе, там, откуда можно что-то достать или привнести из системы первоначальной. Я — часть того, где ничего не пропадает и не появляется. И тем более не умирает…
Чура вдруг вспомнил до самого конца, и даже больше, все, что знал об Альберте, о его фокусах с невидимостью, о его постоянном спокойствии стороннего наблюдателя, чтобы он не делал, на что бы ни смотрел.
— Вы — тоже часть первоначальной системы, истинного мира, — продолжал Альберт. — Но вы вырастили здесь еще один, свой, на фундаменте основного, «по образу и подобию» — помнишь?
Альберт улыбался, обычно, как и всегда, совсем немного приподнимая и вжимая внутрь уголки рта, создавая на щеках глубокие ямки. Чуру выводило это из себя. Он ловил, снова отпускал, и снова удерживал себя от того, чтобы броситься на Альберта с кулаками.
— Успокойся, — Альберт дотронулся до его плеча. — Люди растворились, исчезли. Но никто не умер, никто не сделал с ними никакого зла, никакой беды. Тебе нужно выкинуть все эти прежние названия из головы. Если ты хочешь понять. Все теперь поменялось. Меняется. И изменится до конца.
— До конца… — Чура хотел переспросить, но получилось лишь тихое эхо. — Значит, я тоже умру?
— Знаешь, а это начинает немного раздражать, — Альберт поднялся. — Если тебе так угодно, то да! ДА!!! Умрешь! Всякий, кто задаст такой вопрос, умрет. Очень скоро.
Он отвернулся от Чуры, будто обиженный, но через секунду развернулся обратно, наклонившись к Чуриному лицу:
— Скажи, в тебе есть кто-то еще? Тот, кому неинтересна человеческая смерть? Тот, кто не собирается умирать?
Чура растерял весь свой запал и как будто повис в воздухе, машинально пытаясь сохранить равновесие:
— Я не знаю, — пробормотал он.
— А я тебе расскажу. Его почти в тебе не осталось. Он сморщенный такой, корявенький. И продолжает сохнуть и съеживаться. А ты вокруг него, как тонна жира, облепившая маленькое постукивающее сердце. Со всеми своими мыслями, теориями, остроумными мнениями и оправданиями давишь со всех сторон, сжимаешь. И сам же чувствуешь, что все это не совсем правильно, что тебе за это перед кем-то должно быть стыдно. Но не останавливаешься. Как алкоголик заливаешь свой рак до конца, как наркоман, повышающий дозу, пытаешься убить себя, чтобы дать сердцу стучать. Но лишь делаешь все еще теснее, еще уже.
Альберт хлопнул в ладоши.
— А теперь, Чура, будет инфаркт. Вот у этого твоего плаксивого и капризного «Я». И оно, как ты верно заметил, умрет.
Альберт вдохнул носом остывающий воздух и затих, ожидая от Чуры каких-нибудь реакций. Но он молчал, осторожно рылся в карманах и, найдя все необходимое, закурил.
— Чура, — Альберт спросил так, словно хотел стрельнуть сигарету. — Ты в Бога веришь? Ну, в какое-либо главенствующее, все определяющее сознание?
— Верю, — вместе с дымом выдал Чура. — В сознание.
— Так вот. Представь, что это сознание — кожа. Девичья.
Альберт покосился на недвижимого собеседника. Тот не согласился оценивать шутку.
— И кожа эта, — продолжил Альберт, — все что есть. Нет ничего кроме нее. И вдруг на коже начинает образовываться маленькое воспаление. Кто-то еще, второе сознание, из кожи делает что-то свое, аномальное. Сначала все выглядит не так и страшно, просто красное пятно. В океане тогда только появилась рыба. Потом кожа становилась плотнее, и звери вышли на сушу. А когда это новообразование начало менять цвет, появились вы. Начали ковырять, изучать, придумывать. И вырастили этот прыщ — уже не нужный коже, отвергнутый, отвратительный, лишний. Это ваше собственное накопленное сознание — тот гной из мертвых клеток когда-то живой кожи. Вы доросли до отказа от Бога, но это не ваша заслуга, такова природа формирования прыща. Говорят, сатана — князь мира сего. В чем-то они правы. Богу нет до вас дела, он не хотел вас, не планировал. Он избавится от вас. Но не из-за ненависти или злости, просто так все получилось.
— А, кто это — второе сознание? — Чура повернулся, и Альберт увидел в его глазах неожиданное для них обоих понимание услышанного. Его зрачки расширились, закрыв собою большую часть коричневых радужных оболочек.
— Я не знаю.
Коричневого в глазах Чуры не осталось.
— Я и не должен, — добавил Альберт. — Но я, кажется, догадался. И поэтому мне нужно идти.
Альберт встал и протянул Чуре руку.
— Это сейчас произойдет? — чуть подернувшись лицом спросил Чура.
— Ничего не произойдет. Я уйду. Все уже случилось. С тобой, с Лексом и Ясэ.
— Стой! А ты? А кто тогда ты, Альберт?
Чура взял его за руку и крепко сжал, чтобы не отпустить без ответа.
— Если говорить о коже, то я ее иммунитет, — Альберт покрылся прозрачной рябью и освободил руку. — Я вымою тут все от жира и от закутанных в него уже почти мертвых сердец.
Он обычным способом улыбнулся и пошел нормальным человеческим шагом прочь.
Если сумерки имели бы шкалу, то уперлись бы в верхний предел. Чура остался один в пустом дворе. Слегка онемевшими ногами, захватив мяч, он побрел домой. Летний вечер воскресения. В каждом движении листьев, в каждом звуке захлопывающейся двери его настроение, толстая спайка замкнутой лесенки, по которой все пытаются забраться. В тишине, в шепоте усталых людей можно было проследить уныние от понимания тесноты подчинившего их колеса. Оно заставляло их снова и снова делать этот мир, разговаривать о сделанном и восхвалять его. Только в воскресный вечер появлялась лазейка, маленький просвет туда, за барьер. В этом унынии было какая-то честная идея, истинный шанс принять для себя большую правду. Но люди боялись, бежали от нее. Чура с друзьями обычно прятались в Крестах и обливали свои потрепанные за выходные сознания холодным пивом. Теперь шансов попасть туда у Чуры было мало. Но он решился на попытку.
У входа стоял человек с удивительно правильным по геометрическим канонам округлым пузом и рыжим огоньком сигареты над ним.
— Знаешь, Дим, скорее всего это конец. Всему, понимаешь? — уже за стойкой внутри Чура, жадно запивая пивом предварительно осушенную стопку, уговаривал Диму поверить. Рассказал про Тото, про Мишеля, но ни слова об Альберте.
Люди в Кресты почти не ходили. Дима появлялся здесь, когда оставаться дома одному было невыносимо. Он отвез жену и сына в родную деревню, как только объявили об эпидемии. Наливал редким гостям бесплатно то, что еще осталось.
— Я думал об этом, — достав с полки початую бутылку виски и присев напротив Чуры, пробормотал Дима. — Конец так конец. Сына я родил, дом построил. Пил и ел вдоволь.
Дима широко улыбнулся и похлопал себя по животу в доказательство своих слов. Морщинки на его высоком лбу изогнулись в смайлики, и Чура почувствовал, как различная плотность алкоголя затаскивает его на обычный для такой кондиции вечер памяти и теплых чувств ностальгии, уже пробравшихся к его груди.
Они приготовили немного еды из остатков замороженных полуфабрикатов, открыли еще бутылку и уселись прямо на кухне, поднимая тосты за славные, оставшиеся в прошлом вечеринки, добрые издевательства над людьми и невероятного героизма пьяные подвиги. Каждый тост был озаглавлен словами: «А, помнишь?», а заканчивался звоном посуды и очередной сигаретой.
— Закончится этот мир, — вялым подпитым голосом говорил Дима, — начнется новый. Начнем заново. Куда же мы отсюда денемся?
Когда компания пребывала в увеселительном приподнятом состоянии достаточно долго, находившийся в ней Чура в какой-то момент обязательно вздрагивал умом и отделялся подобно выходу из тела в астральный мир, смотрел на компаньонов со стороны и наполнялся нестерпимым гневов. Он не мог выносить их свободного плавания и вольного поведения в этом пространстве из обычных мирских дел и желаний, из разговоров о себе. «А если не будет нового мира? А если мы все обратно растворимся в черный космос? Навсегда?».
— Пойдем, подышим, Дим?
Чура поднялся при помощи удерживающего движения руками о стол. На небе, замыленный серым, крапинками чернел тот самый космос. « Неудивительно, что Тото, когда падал, говорил о небе. Там, наверху, за этой подсвеченной сторожевыми огнями города границей, то, к чему так рвется вдруг нащупавшая лазейку душа. А я ей тюрьма. Я ей давно не друг и не дом. Я — враг и насильник ее».
Он одернул взгляд первый раз. Около затылка, где-то внутри головы как будто треснула корка. Дима протянул ему сигарету. Чура попытался посмотреть ему в глаза, но все вокруг выглядело теперь как негатив, как тени от холодного голубого света. Он видел, как небо и земля расходятся напополам, чувствовал, как получившаяся трещина пытается вытянуть из него что-то.
Дима поймал его уже недвижимым. Он смог бы открыть глаза, снова встать на ноги, но остался до конца там, в темноте, не найдя причин теперь возвращаться…
Лекс
Он выпил чаю. Бабушка Ясэ заварила каких-то сухих трав, сказала, что станет немного спокойнее. В деревне почти никого не осталось. На окраине, по словам бабушки, все еще валялось чье-то тело. Подбирать уже было некому. Еще она рассказала, что слышит, как в мире стало шумно. «Забегали, засуетились, как будто в октябре спохватились, что сена на зиму нет», — покашливая, бормотала она. Ходила бабушка совсем медленно, но в сигаретке на завалинке отказать себе так и не смогла.
Лекс видел, как Ясэ присела на скамейку и закрыла глаза. Теперь они с бабушкой стали так похожи. Они были готовы к концу, к финалу своих сюжетов, наполнены чем-то совершенно иным, а, может, наоборот избавившиеся от чего-то. Он решил для себя, что стоит как раз на тонкой грани, за которой последует то же принятие, но отправится к нему, не хватало сил.
Нужно было спешить. Над головою несколько раз пролетел самолет. И Лексу показалось, что он тоже услышал, как шумит и волнуется весь мир. Ему представился муравейник, суетливые его обитатели и еще кто-то, поливающий их сверху водой.
Они ничего не сказали друг другу. Обнялись. Но никакого тепла не пришло. «Все-таки в ней пустота. Она была всегда, и теперь взяла все в свои руки», — решил Лекс. Он завел двигатель, тронулся и посмотрел еще раз в зеркало. Ясэ на дороге уже не было.
На обочине на самом деле валялось тело. Аккуратно объехав его, Лекс закурил, включил радио, но рабочей станции не нашлось. Он попробовал петь сам, потом стал открывать окна, но снаружи становилось все жарче. Асфальт нагревался очень быстро и испускал мазутный аромат масляным облачком над собой. В тишине ехать было невыносимо. Во время первой попытки Лексу показалось, что на пассажирском сидении сидел Альберт, а за боковым окном вместо леса многоэтажные дома мелькали вывешенным на балконах бельем. Он оглянулся. Все стало прежним. Лес. Пустое сидение.
Под монотонный гул мотора и шелест потоков воздуха о контуры машины зрение часто играло злые шутливые сценки с усталыми водителями. Кто-то видел стаи псов, кто-то птиц. Лекс же заметил впереди Тото. Он стоял, подняв руку, в белой футболке и шортах, так сильно светившихся на ярком Солнце.
Машину повело к обочине. Лекс успел схватить свою голову шеей за секунду до удара лба о руль. Сон, продолжавшийся несколько секунд, был похож на погружение в воду бассейна после прыжка с вышки. Провалиться получилось глубоко, но это будто немного зарядило так необходимой сейчас энергией. Лекс решил не останавливаться на пустой дороге и добраться хотя бы до живых людей.
Сквозь открытые окна пролетал едва прохладный воздух. Хотелось пить. Хотелось окунуть голову в холодную воду.
У самого края вышки. Еще шаг и полет…
Там вдалеке Тото снова махал рукой. Машина, заметив его, начала сближаться с краем дороги…
Воздух стал прохладнее. Лекс открыл глаза и ужаснулся темноте. Он сидел на холодной старой гранитной брусчатке у самой воды. Поверхность реки покрывала среднего размера рябь. Редкие лодки без огней болтались как поплавки удочек где-то посередине русла. Фонарей на берегах горела лишь малая часть. Людей и машин Лекс, обернувшись вокруг, не нашел.
С другой стороны каменного балкона сидел спиною к Лексу человек. Он был одет в джинсы и цветную рубаху, но его выдали растрепанные седые волосы.
— Длинная Пауза! — Лекс крикнул громко. Звук голоса разлетелся в разные стороны, разорванный изголодавшимся пространством.
— Лекс! — Индеец вскочил на ноги. — Ты здесь. Похоже, я снова схожу с ума, очень далеко и очень странно.
Они улыбнулись друг другу и сели напротив как тогда на утесе.
— Я могу сделать костер, если хочешь? — Длинная Пауза уже приготовился щелкнуть пальцами.
— Не надо. Тут не надо, — настоял Лекс.
— Где это мы? Ты знаешь?
Лекс еще раз осмотрелся.
— Это Петербург. Мой родной город.
Теперь индеец начал вертеть головой.
— Ишь, до чего дошло… Здесь живут люди? Где они?
— Они попадали и исчезли. Также как твоя деревня.
Длинная Пауза замер.
— Это он Лекс. Значит где-то рядом он.
Старик шептал, наклонившись к гранитной брусчатке ухом, пытаясь уловить признаки Его появления.
Ветер приносил с залива совершенно безвкусный воздух, как будто не морской, а отфильтрованный комнатный. Пустой. Лекс потрогал рукою воду. Ее как будто не существовало на ощупь. Он вспомнил Ясэ.
Индеец ползал по камням, бормоча слова. В них не было страха. Наоборот, Лексу почудилось, что старик воодушевился возможностью поменять что-то в своем бесконечном существовании.
И тогда появился Он. Обычным, каким всегда привык его видеть Лекс.
— Альберт…?! — тихое имя вырвалось изо рта.
— Я, Лекс.
Альберт поднял руки перед собою ладонями вверх.
— Ну, вот мы и подошли к финалу, господа, — с довольным видом прокричал он. — Тебе разве не нравится здесь без людей, Лекс? Тихо… Мишелю бы понравилось… А, вот твоему другу, — он кивнул головой в сторону Длинной Паузы, — показалось, что без людей скучно.
Индеец подошел к Альберту ближе, чтобы рассмотреть его лицо.
— Кто ты? — еле слышно проскрипел он.
— Я тот, — Альберт продолжал кричать, — кто избавит тебя от твоих скитаний, старик. И от всех этих фантазий, что ты умудрился раздуть. Лекс! Лекс! Хочешь послушать, что они придумали в своей деревне? Как, по их мнению, началась жизнь? Давай, старик, расскажи нам!
Альберт начал шагать по каменной площадке, иногда подпрыгивая, как ребенок в детском хороводе. Лекс схватил его за руку:
— Альберт, я умер?
Его лицо растеряло всякое веселье и сделалось привычно каменным.
— Ты же разговариваешь со мной сейчас. Значит еще не совсем. Тело, правда, развалилось на кусочки, но не беспокойся, съесть его теперь некому. Почти никого…
Альберт оглянулся вокруг, приглашая последовать его примеру, и предложил всем присесть.
— Разводи свой костер, старик. И расскажи нам свою историю о сотворении мира напоследок. А я расскажу свою, — Альберт снова улыбнулся и подмигнул Лексу, давая понять, что готов удовлетворить любопытство.
Они молчали. Долго. Лексу подумалось, что если пришлось бы ответить на вопрос о текущем времени года, он сказал бы, что это осень. Вода в реке была темнее обычного, почти смоляного цвета. Таким, должно быть, предстает перед путниками Стикс, а графские старые дома на том берегу — новым пустым, низшим миром преисподней.
В костре что-то треснуло. Лекс одернул взгляд, и Длинная Пауза тут же заговорил:
— Мой дед более всего на свете любил сидеть у входа в хижину и смотреть в сторону Солнца. Когда он стал совсем немощным, только этим и занимался. Чего только там в небе выискивал… Про летающего Бога говорил, того, что летал над землею и водою во времена, когда кроме воды и тверди ничего не было. Долго летал. Дед говорил, что мучился он, как муха в хижине, вырваться хотел, но все по кругу летал и летал. А потом замер однажды над песком у воды. Думать стал, как ему выбраться. Куда и откуда выбираться ему требовалось, дед мой не знал, чувствовал лишь только, что невыносимо ему тут. Висел туманом над берегом он до тех пор, пока чего-то не выдумал, и прежде чем улететь, на песке росчерк оставил, пометку что ли. Такой формы…
Индеец поднял руку над костром и провел волнистую линию в пространстве:
S
— Улетел, видимо, нашел выход. А из следа божественного со временем черви полезли, песок ожил, так как в самой жизни измазался. Так и началось заселение. Дед то мой, видимо, Бога этого в небе высматривал. Палкой на земле эту загогулину чертил везде, думал все, чего Он, дух этот, решил тут такой след оставить. Говорил, что знак это для тех, кто может также заплутать тут. Если кривую эту пополам сложить, то овал получится, ловушка эта как раз по форме. Может, в этом дело. Если и догадался дед, то все с собой к предкам унес.
Длинная Пауза выдохнул и сжал губы в знак окончания истории.
— Во как! — Альберт иронично кивнул в сторону Лекса. — Видал? Как у них там изогнуло то в головах, — он сделал жест пальцем, видимо, демонстрируя траекторию изгиба. — Теперь я вам, господа, свою историю расскажу, и собираться будем.
Альберт подошел к воде и захватил немного в ладони.
— Видишь, Лекс, как течет река?
Лекс часто дышал, как при нехватке кислорода, хотя начинал догадываться, что в том месте, где они все находились, можно было и не дышать вовсе. Он не мог определиться готов ли он «собираться» и больше всего ждал от Альберта ответа на вопрос куда.
— Вижу.
— Представь себе, что кроме нее ничего нет, что каждая капля ее, ничем не отличаясь от какой-либо другой, содержит в себе все, «все» такого размера, о котором ты даже не представляешь. Ты способен лишь обозвать ее — «Бог». Она несет в себе все, всю энергию и сознание, поэтому слухи о ее доброте и милосердии — вранье. У реки нет выбора — любить тебя или ненавидеть, она просто делает тебя сырым. Но, как оказалось, в одном месте, а именно прямо здесь, у нее водопад или особенное препятствие на пути — нерастворимое ею еще одно сознание. Оно — тоже ее часть, но именно та, где течение вдруг опадает. В этом падении рожден ваш мир. Как это происходит, я не знаю. Но сознание, ныне организовавшее все это, перед тобой, — Альберт покосился на старика. — Помнишь, он показывал тебе свой грот. С каждым разом он создавал себе интерьер все более походящий на истинную суть. Тот поток из картинок и образов — это была твоя попытка увидеть Бога. Смотри, — он поднял палец к небу, — это Бог шипит, как радиоэфир.
Лекс поднял глаза. Звезды в небе мигали, создавая крошечные волны. Одна за одной среди них вспыхивали и загорались картинки из прошлого, старые вещи и давно забытые люди. Чаще всего появлялся Тото.
— Кто же тогда Я, способный видеть все это? — Лекс обратился к Альберту, но успел заметить, как седой старик склонил голову и уставился в камни под ногами.
— Люди…, -продолжал Альберт, — Когда вода из реки устремляется вниз, от ее потока отделяются крошечные капли. Падая в воду, каждая капля превращается в маленький пузырь. Ты — вот такой пузырь, а точнее только лишь его пленка, тоненькая плоская часть от Бога, половинка сферы. И вас таких огромная пена. Пузыри обычно сразу пропадают, лопаются. Но теперь вы стали прочнее, посчитали себя способными на выбор, нежелающими возвращаться в реку. Решили проникнуть все дальше и дальше, расправить свои пленки и начать самим контролировать направление течения. Вас становится все больше и больше, вы распространяетесь подобно метастазам, вызывая все новую пену. Но вы просчитались с масштабом. Все пузыри полопаются, уже почти никого не осталось.
— Ты это сделал?
— Я. Но я ничего не решаю сам, Лекс. Я — просто действие, я — просто природное явление, которое обязательно возникнет в заданных условиях, подобных тем, что создали вы. Вы тоже ничего не решали, так искривилось русло, так уронило течение его сознание.
Они посмотрели на индейца, но тот оставался недвижим.
— А он, как он оказался в такой роли. Его история про племя и падающих людей — неправда?
— Может, и правда. Он с виду такой же человек. Но как вдруг он оказался ключевым, я понять не могу. Я же говорю, я просто природное явление, процесс лопания пузырей.
Альберт улыбнулся и подернулся прозрачной полосой.
— Собираться, Лекс, придется в никуда. Твоя пленка лопнет, как сильно ты бы ее не держал, и капля Бога вернется в реку. Все превратится опять в спокойное течение, даже шума пустого эфира не будет, так как не останется того, кто его услышит, — Альберт поднялся и зашел за спину Длинной Паузы. — Поднимайся, старик. Теперь тебя на самом деле не станет.
Длинная Пауза поднялся как заколдованный. Еле удерживая голову от падения на бок, он шагнул в сторону воды.
— Ты тоже, Лекс. Или ты так и не решился сделать это самостоятельно? — Альберт ехидно щурил глаза.
Лекс подошел к краю и еще раз взглянул на тот берег. Все истории о проносящейся в критический момент перед глазами жизни — правда. Все содержимое пузыря в один момент оказывается голым и свободным. И распадается на атомы, электроны, кварки, такого размера частицы, существование которых больше никогда не будет заметно…
Лекс оттолкнулся ногами и, зависнув над водой, вдруг увидел, как отражение его распустилось на тонкие нити и выстроилось, подобно волосам на ветру или водорослям на дне, вдоль бесшумного течения реки.
Глава 7
Не ощущая, не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому
когда летишь на луг
желая корму,
приобретает форму
сам воздух вдруг.
И. Б.
Священник не пил уже несколько недель. Изменился в лице. Стал бриться и стричь бороду. Копил силы и мужество, чтобы предстать перед Начальником в пристойном виде. Встреча эта если и была за горами, то только за теми, на которые он уже почти залез. Улитке остался лишь следующий день до края вершины Фудзи.
Кроме него в деревне жила лишь Ясэ. Вдвоем они похоронили бабушку несколько дней назад. « Не ругайтесь ни на кого и не злитесь, когда я не проснусь», — сказала она за неделю. Потом не проснулась. Они не ругались, молча забросали яму землей. Ясэ воткнула в землю несколько цветов и сосновых веток. У бабушки была необъяснимая любовь к соснам. «По ним бежит такое тепло, которое не остудит ни один февральский мороз», — говорила она, прислоняясь к ним спиной.
По вечерам Ясэ готовила ужин и чай. Батюшка приходил около шести, приносил немного вина. К закату Ясэ ходила в лес, к озеру. Провожая взглядом опускающееся Солнце, она иногда вспоминала Тото и Лекса, но память ее растворялась день ото дня как тепло в ночной темноте, и вскоре исчезла.
Ближе к середине августа каждый год после жарких знойных летних дней мир вдруг брал на пробу немного осени, нагонял ветров и дождей, закрашивал небо в темно-серый. Это происходило, как предупреждение о грядущем, напоминание о неминуемости конца.
В первый такой день священник не пришел. Ясэ немного поела одна и вышла, накинув старую куртку, на крыльцо. Немного моросил дождь. Ветер успокоился к вечеру, но чернильного цвета горизонт означал вероятное возвращение ненастья к ночи. Сигарет давно не осталось, но желание курить — то, что Ясэ не смогла забыть.
— Сигаретку? — знакомый задорный голос прогремел в давно осевшей здесь тишине.
Ясэ не повернула головы.
— Давай, — сказала она, протянув руку.
— Мир закончился, Ясэ.
— Знаю. Чувствую. Внутри как вымыло все растворителем.
Она по-прежнему не поворачивала головы, выпуская дым перед собой. Ветер прекратился совсем, и дым плавно уплывал сиреневой струйкой в сторону черного горизонта.
— Никого больше нет. И тебе тоже придется пойти со мной.
Он положил ей руку на колено и надавил пальцами на кожу. Ясэ почувствовала, как его губы приблизились к уху. Они не издавали звуков, не дышали, просто были рядом. Гул прилетел откуда-то издалека, от той невероятно черной полосы на краю неба. Она начала расти, и вскоре деревья вдалеке стали казаться наклеенной на черную бумагу цветной аппликацией. А потом рисунок был скомкан, изжеван и съеден темнотою.
— Видишь, его скоро не станет. Я хотел, чтобы ты одна увидела это.
— Почему я?
— Я не могу этого объяснить. Эта какая-то странная особенность моей функции здесь. Такой характер у моего действия.
Чернота приближалась, уже проглотив половину деревни.
— Мы будем последним штрихом. В самом центре той вспышки, что издает кинескоп телевизора при выключении.
Она остановилась перед лицом Ясэ, дрожа как высоковольтные провода. От дыхания на ее поверхности появлялась рябь, но быстро исчезала, снова превращаясь в матовую черную пленку.
Ясэ повернула голову. Он был похож на трухлявую мумию, собранную из вороньих перьев, что осыпались и засасывались чернотою.
— Идем? — еле слышно проговорил он.
Она кивнула.
Ее глаза были открыты, но для них ничего не осталось. В ушах все еще потрескивало. Назвать себя она не смогла бы, но очень пыталась вспомнить. Ноги старались найти опору, она висела в пространстве в отсутствии какой-либо силы тяготения.
Она моргала так часто и старательно, как бьют камнем о камень, пытаясь добыть искру. И в одно из резких открытий увидела вспышку, ту же, что и тогда, на завалинке у дома ведьмы.
Ясэ держалась обеими руками за края скамьи. За спиною стоял маленький покосившийся сарай. Она выдохнула, моргнула еще раз и огляделась. Поверхность земли заканчивалась в нескольких метрах от нее. Там, за краем блестели звезды. Она наклонилась и посмотрела за берег своего маленького острова. Звезды блестели отовсюду. Остров висел неподвижно на поверхности бесконечно широкой космической реки.
Ясэ присела на скамейку снова. Вглядываясь в одну из самых ярких, она вдруг заметила, что звезда сползает вниз. Потом за первой поползли остальные, все быстрее, образуя падающую сверху звездную реку. Ясэ подошла к краю, протянула руку и, нащупав в потоке зажженную сигарету, вернулась на место.
Посмотрите в глаза человеку рядом или случайно в зеркало, проходя по коридору. Быть может, на поверхности глазного пузыря, в самом центре, где зрачок чернее всего, вы увидите отблеск разведенного ею костра.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.