
Бесплатный фрагмент - Русский плен
Невыдуманные истории
I

Брод через великую реку
вместо предисловия
Благоприятен брод через Великую Реку
И Цзин
Непримечательным полднем несколько лет назад я шагал ко входу станции метро «Площадь Маркеса» рядом с трамвайным кольцом, на месте которого ныне возведена двести первая автопарковка, и смотрел на другую сторону проезда, продолжающего улицу Титова в направлении Башни. В какой-то момент я взглянул на шестиэтажный бастион «Версаль»: незадолго до того выросшую розоватую ротонду.
Я сбавил шаг, поражённый отчётливым воспоминанием давнего сна… Да, он привиделся много лет назад: ещё не было ни метро, ни ГУМа. Не было и самой площади Маркеса — её пространство занимал пустырь, заросший бурьяном. В центре, примерно там, где ныне стоит памятник Покрышкину, возвышался стальной каркас; за две недели до Нового Года его обвешивали сосенками и большими картонными фигурами наподобие ёлочных игрушек, обвивали гирляндами из выкрашенных в разные цвета стоваттных лампочек и окружали горками, ледяными статуями Деда Мороза, Снегурочки, коней и сказочного зверья… Да ещё 9-го мая по вечерам на пустырь привозили батарею гаубиц М-30 и несколько блоков армейских сигнальных ракет, выпускавшихся в качестве фейерверка под орудийные залпы в честь Дня Победы.
Всё остальное время пустырь был таковым в полном смысле слова. Его прямоугольник обрамляли улицы, названные в соответствии с праздниками: Новогодней, маршала Блюхера и генерала Ватутина. Улицы Покрышкина в ту пору тоже не было, ходил там трамвай, вдоль рельсов которого пролегала невнятная грунтовая дорога. И ничего, кроме троп, протоптанных собаководами, бурьяна не пересекало. Возможно, уже возводилась 24-этажная коробка — как считалось, гостиницы, как оказалось — Вавилонской башни, которая не будет окончена никогда…
Вот тогда-то мне и приснился сон, где я, как беляевский Ариэль, парил над означенным местом, с недоумением озирая вместо пустыря причудливо застроенный квартал. Изумляли и разновысотные здания, и круглые башни, и не то огромные прозрачные витрины, не то транспаранты… Город тех лет был скопищем серых коробок, особенно левобережье; откуда бы здесь взялось всё это? Хорошо помню, как опознал во сне перекрёсток Ватутина и Новогодней, рядом с которым меня озадачило сооружение неведомого назначения с полуоткрытыми галереями, соответствующее сегодняшней многоярусной парковке на север от башни Сан-Сити…
Со странным чувством я развернулся на восток, где уже всходило солнце, и начал набирать высоту. От полёта над простором Оби, от утренней панорамы меня охватил восторг, сравнимый с изумлением перед сказочно преобразившимся энским пустырём…
С этим восторгом я и проснулся — и надолго забыл сновидение. Пока не пошёл по уже порядком застроенной площади и не взглянул на округлую башню «Версаля». Воспоминание поразило меня не менее, чем тогда: площадь Маркеса приняла вид, очень похожий на явленный мне во сне!
Как могло случиться это двойное чудо: полёта, да ещё в не самом близком будущем? Понятия не имею.
И всё же во сне я преисполнился восторга не от волшебно изменившегося города, а от парения над Обью — полёта над Великой Рекой.
Жизнь — не сон, далеко не только сон. И сны с полётами нечасты.
Жизнь — не полёт, а брод. Брод через Великую Реку.
Русский плен
…Но в переулках узких
доныне не погас
тот серый свет из русских
чуть воспалённых глаз…
Юрий Кублановский
Пианист С. решил выехать на запад в начале 90-х. Родной N-ск и прежде казался временным и наполовину вынужденным местом жительства — в лучшем случае, отправной точкой грядущего броска к творчеству, к успеху, гастролям… И, в конце концов, — к гонорарам: тогда о них не принято было говорить, но почему бы время от времени не помечтать о должной оценке в рублях художественных достижений?
Последние годы повернули всё наоборот. Гонорары — хотя какие там гонорары: не более чем скудные подачки! — стали первейшим вопросом; до творчества дело просто не доходило. С., однако, совершенно не желал работать за роялем, как работают за станком или прилавком, то есть, переезжая с халтуры на халтуру — именно так музыканты называют подобные труды, нисколько не претендующие на эстетику, — садиться перед клавиатурой и по нескольку часов в сутки нажимать на нужные клавиши. С детских лет он хотел быть артистом, с юных — считал себя таковым, и потому готов был смириться со многим, но только не с участью музыкального подёнщика. А кормиться приходилось как раз этим. Да и на кого было рассчитывать? Многие из числа тех, кто мог быть его слушателем, едва набирали на булку хлеба; а новые хозяева жизни, превзойдя прежнюю партноменклатуру во всех отношениях, от доходов до анекдотов, сорили деньгами где угодно — но не в кассах зала камерной музыки…
Последней каплей оказался незначительный случай, прекрасно высветивший, каково быть N-ским музыкантом в эпоху перемен…
С. записал на местном телевидении сюиту вальсов Шуберта, и весьма удачно. Минорные эпизоды благоухали мокрой осенней листвой, и даже в мажорных гармониях чудились печальные призвуки. Вступительное слово в телепередаче произнёс известный музыковед, с которым С. приятельствовал много лет. Тут-то и приключилась незадача: характеризуя артиста, он приписал ему исполнение тридцати двух сонат Бетховена! Подобные примеры и в мире-то единичны: для пианиста это настоящий подвиг; вот только в N-ске свершил его не С., а некто К., окончивший консерваторию и начавший концертную деятельность примерно в те же годы.
Казалось бы, из-за чего расстраиваться? Всего лишь недоразумение, да и разве не приятно, что тебя считают способным на покорение таких вершин? Обескураживало другое: этот же музыковед никогда не перепутал бы Кемпфа и Шнабеля в любой из бетховенских сонат — а здесь ему не слишком важно, С. или К. исполнил все тридцать две! Совершай любые подвиги в боях местного масштаба — кто их оценит? Если коллеге и приятелю это безразлично, что говорить о публике!
Тоска и досада обступали со всех сторон. В ответ на традиционное: «Доброе утро!» — всё чаще слышалось, и не всегда в шутку: «Утро добрым не бывает…»
Выручил случай. Оказавшись в Москве, С. узнал, что правительство Восточной Германии за считанные месяцы до объединения проявило неожиданную инициативу: способствовать восстановлению довоенного процента еврейского населения в немецких землях. А ведь тут, в Сибири, он считался евреем. Бог знает, сколько раз ему пришлось выслушать надоедливую шутку: «Выступает сионист П. — ах, извините, пианист С.!» Но если земля обетованная ему, сыну украинки-матери, без переделанного ради графы «национальность» паспорта не светила, то Германия — иное дело: кто знает, насколько там следят за чистотой материнской линии? Он решил рискнуть: не подменяя данных, указать всё как есть. Некоторую надежду давало и то, что они с женой оба музыканты, а именно на севере страны ощущался недостаток интеллигенции, в особенности творческой.
Бумаги были приняты уже правительством Германии объединённой. Через три месяца С. с семьёй получил приглашение на постоянное место жительства. Но выезжать он должен был как ’refugee’ — беженец. Здесь и возникли непредвиденные проблемы.
Чтобы продать принадлежавшую им долю хорошей квартиры в центре N-ска, ему пришлось сначала развестись, затем оформить брак с женщиной, фактически жилплощадь покупавшей, развестись с ней и, наконец, жениться заново на настоящей супруге. Всё требовало времени. И когда С. пришёл в германское посольство в Москве для оформления вида на жительство, чиновник, едва ли сочувствовавший такому странному беженцу, отвечал, что полугодичный срок обращения по его приглашению истёк.
— Как же так? — возражал обескураженный проситель — по нашим правилам приглашение на постоянное место жительства действительно в течение года! Мне пришлось устроить множество разных дел, подготовиться к отъезду…
— Нам всё равно, что и сколько действительно по вашим правилам, но если вы беженец, вы должны отправляться немедленно!
Обращение было направлено на повторное рассмотрение. К счастью, германское правительство своего мнения не изменило: С. мог переселяться с женой и дочерью в землю Шлезвиг-Гольштейн.
Однако же он решил для начала поехать один, немного освоиться на новом месте и тогда перевозить семью.
Небольшая остановка в Москве произвела на него неизгладимое впечатление. Никогда — ни до того, ни после — она не казалась настолько мрачной. Город вечной ночи! Снег сыпал да сыпал, немедленно превращаясь в грязь. Едва просачивалось жиденькое молочко дня, как в три пополудни уже начинало смеркаться, и в четыре темнело. Ни разу за неделю не проглянуло солнце — в N-ске такое, что ни говори, невозможно. Зато на каждом шагу попадались приметы нового мы́шления и новой жизни, заполонившие столицу с поразительной быстротой — что до N-ска пока не дошло. С. успокаивал себя, говоря: «Да мне-то теперь что», — но снова и снова не на шутку раздражался и огорчался увиденным.
Как и тем, что московские знакомые за него не порадовались. По большей части они не отвлекались от своих дел; разговоры в основном вращались вокруг избитой формулы «ты еврей, а я не смог». Всего два настоящих друга переживали из-за отъезда С., и невыразимая гамма чувств по этому поводу никак не сводилась ни к печали, ни к удовлетворённости. Гораздо больше прежнего пили, меньше прежнего пьянели — и почему-то много плакали… Все оставались живы — но что-то из жизни уходило бесповоротно.
За несколько дней, проведённых в лагере Красного Креста для иммигрантов, ему полегчало. Условия были вполне сносные, отношение к переселенцам нормальное, а новизна обстановки и давно забытые чувства: общности с окружающими и надежды на будущее — придали им даже некоторый оттенок благодарности. И уже через неделю С. покинул лагерь, чтобы переехать на своё постоянное место жительства в F-бург.
Нанесённый на большинство карт, но никогда не упоминавшийся ни в разговорах, ни в книгах город невелик, красив и довольно стар. На самых обычных улочках в нём попадаются изумительные уголки, где можно простоять пять-шесть минут со странным ощущением, будто ты ни с того ни с сего перешагнул из собственной жизни в кадр какого-то фильма…
Однажды, пользуясь отсутствием дождя, С. гулял по городу, услышал звуки фортепиано — и обрадовался, обнаружив, что они доносятся не из чьего-то дома, а из кирхи. Стараясь не морщиться от раздавшегося следом фальшивого пения, вошёл внутрь и поинтересовался, где бы ему можно было увидеть пастора. На уроках немецкого настоятельно рекомендовали именно такую форму вопроса: «где бы я мог…» или нечто подобное; вопрос: «где пастор?» — звучал бы просто оскорбительно.
Пастора, однако, не было; зато обнаружился настоящий рояль. А сидевший за ним органист, очень живой человек лет сорока, охотно выслушал всё, что сказал С.: я-де пианист, недавно переехал в F-бург; заниматься мне негде, не позволите ли вы иногда бывать у вас, когда я никому не помешаю? — и ответил, что — да, конечно, будем рады…
И С. по вечерам стал приходить в кирху на час-полтора. Окончив занятия и простившись со сторожем, он с удовлетворением наблюдал, как закрываются окна в домах по соседству — отворяли-то их, чтобы послушать его игру! Что ж, гонять гаммы и арпеджио он был небольшой охотник и, как Нейгауз, предпочитал шлифовать технику на подходящих фрагментах художественных сочинений, а если уж играл этюды, то не Черни, а Шопена. Поэтому из кирхи по вечерам звучала достойная музыка, и окна открывались ей навстречу…
А случившаяся вскоре беседа с пастором оказалась ещё более счастливой. Во-первых, он попросил С. во время службы исполнять какую-нибудь серьёзную музыку. Экспромты Шуберта? Прекрасно! Его же медленные песни в обработке Листа? Тем более!..
Во-вторых, он сказал С., что хотел бы познакомить его с одной из прихожанок, которая очень поддерживает их общину и любит музыку.
— Она родственница Фуртвенглера, дирижёра Вильгельма Фуртвенглера, — может быть, вы слышали это имя…
Имя Вильгельма Фуртвенглера?! Как же не слышали! Капитан, переправивший на своём корабле музыкальные святыни и сам дух европейской культуры через страшные бури и рифы середины века! Уже в том, что в консерваторских кругах он панибратски именовался Фуртом, содержалась изрядная доля почтительного восхищения. А лично для С. дирижёр многие годы был настоящим кумиром, платиново-иридиевым эталоном великого человека и музыканта…
И потому знакомство с фрау Янцен представлялось чем-то вроде Благой вести. А произошло оно неделей позже.
Племянница дирижёра оказалась весьма элегантной дамой, назвать которую пожилой было бы так же странно, как северное небо — ласковым.
Быстрые и проницательные глаза из-под полей чёрной шляпы выражали больше интереса к беженцу-пианисту, чем безукоризненно корректная речь.
— У нас многие играют на рояле, но пианистов очень мало — здесь, на севере, их нет, почти нет… Мы с друзьями иногда собираемся вместе, — так, ничего особенного, просто людям, знакомым с юности, иногда хочется повидаться и поговорить. Может быть, вы поиграли бы когда-нибудь для нас? Всё, что угодно, любую классическую музыку… Это было бы совершенно замечательно! Конечно, вам заранее позвонят, вас доставят. Возможно, в вашем положении скромная сумма тоже будет нелишней… А когда вы станете более известны, мы сможем гордиться, что поначалу вы выступали перед нами…»

Разумеется, он согласился! Не самому изыскивать возможности добраться до рояля, не самому себе играть — нет, музицировать перед представителями той самой европейской культуры, о которой в N-ске говорилось как о чём-то недосягаемом, притом за скромные деньги! Месяц назад С. и не мечтал о таком обороте дела.
Он начал заниматься в кирхе больше и чаще. Когда же оказалось, что это не радует сторожа, вернулся к прежнему распорядку, но упражнялся куда старательнее. Слава богу, память не подводила, да и руки возвращали потерянную форму.
А первое приглашение последовало недели через три. Пианист приготовил свой лучший костюм — из серой шерсти с небольшим ворсом, надевавшийся исключительно на концерты, — и сел в подъехавший за три минуты до условленного времени старомодный «мерседес».
Город F-бург в самом деле невелик; через четверть часа спокойной езды он скрылся за деревьями, сквозь которые несколько раз проглянуло Балтийское море. Вскоре автомобиль въехал в ограду особняка, принадлежавшего фрау Янцен.
С. навсегда запомнил эту картину: дородные парковые липы с чёрными сучьями, бледный закат над крышей здания и решёткой ограды, кажущийся тусклым жёлтый свет в высоких окнах второго этажа… Ощущение «как в кино» усиливал даже совсем не кинематографический ветерок с моря.
Так или иначе, ему предстояло первое выступление на немецкой земле. С. играл Шопена, ещё бы: ведь «это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…» Ноктюрн удался больше, чем баркарола, мазурки — больше, чем ноктюрн. Пара вальсов Шуберта оказалась вполне достойным заключением. Понравилось всё как будто в равной мере; лица слушателей — а их собралось дюжины полторы — во время игры были внимательны, а после неё выражали явное одобрение, хотя аплодисменты раздались, только когда он встал и поклонился.
В течение получаса, прежде чем фрау Янцен сказала, что машина для него готова, С. был представлен нескольким из собравшихся — тем, кто хотел обменяться с ним парой слов. Не слушатели подходили к артисту, а его подводили к кому-то из них, говоря: герр Шульце, барон фон Тройссен, принц Кобург — последний, кстати, показался пианисту обаятельным и простым в обхождении человеком… С. понял, что гости хозяйки дома — это уцелевшие представители северогерманской аристократии, далеко не бедствующие, но и не блистающие ни в каких хрониках люди, сохранившие врождённое чувство своего круга, как они хранили его и в Веймарской республике, и в «тысячелетнем рейхе», и в послевоенной Германии.
Напоследок фрау Янцен спросила, хорошо ли ему игралось, выслушала благодарности и как бы между прочим осведомилась: нет ли у него хорошего костюма?
С. чуть не оступился от такого вопроса и отвечал, что нет, костюма лучше этого нет.
— Ну хорошо, завтра я пришлю вам пару — может быть, какой-то из них вам подойдёт. Когда бы вам было удобно?
Из-за неожиданной коды С. провёл обратный путь в смешанных чувствах. Никогда прежде он не ощущал себя неподобающе одетым и был слегка сконфужен; с другой стороны, оценив ум и расположение гостей, он не усомнился, что они всё поняли как надо. Предложение же фрау Янцен — что оно могло вызвать, кроме признательности? Хозяйка не только указала на некоторое упущение, но и взялась его поправить. Вертелась неприятная мыслишка об обещанной, но пока не вручённой скромной сумме.
— Да о чём беспокоиться, когда имеешь дело с такими людьми? — сказал он себе, перевернувшись в постели с боку на бок. И заснул; а в полдень, как было условлено, подъехал тот же «мерседес» с двумя костюмами и конвертом, куда были вложены двести марок.
— Нормально… За сорок минут непотной работы…
Да, F-бург — это тебе не N-ск…
Его занятия музыкой напоминали забитую сырыми дровами печь. Перед тем, как вталкивать новое полено, нельзя было не думать: зачем? И вот в ней затрещал едва заметный огонёк. Появилась тяга, дым больше не валил в лицо, не ел глаза… Что бы ни говорили, артист живёт ради публики; нет её — нет и жизни. Да и слава — это, прежде всего, слушатель или зритель; а кому она нужна сама по себе?
Слушателей в гостиной сидело немного, зато каждый из них для чужеземца был бесценен. Впрочем, и его происхождение не осталось незамеченным: на третьей встрече С. попросили сыграть что-нибудь русское.
Он замялся. Ни Рахманинова, ни Скрябина он не играл, выученную в консерватории пару прелюдий и фуг Шостаковича — они могли бы заинтересовать потомков Баха! — подзабыл. Известные ещё со школы «Времена года» тоже не мешало бы повторить…
Выход из затруднительного положения нашёлся совершенно непредвиденный, а указало на него то, что он со своими провожатыми в подпитии пел в Москве:
В далёкий край товарищ улета-а-ет…
В дружеской компании С. нередко исполнял под собственный аккомпанемент репертуар отнюдь не классический: что-нибудь из Дины Верни или прочих эмигрантов, частушечного или лагерного фольклора. Ни разу в жизни не спутав ударения в устной речи, не пропустив ни единой запятой при письме, он пропевал, наслаждаясь разливом одесского просторечия далеко за пределами грамматических берегов:
Товарищ малахольнай,
Скажи моёй ты маме,
Что сын её пог'ибнул у борьбе.
С винтовкою у'рукою,
И с шашкой у друг'ою,
И с песнею весёлой на губе…
А вот советской классики — той же Одессы, причёсанной Покрассом или Блантером, — С. не касался никогда, но вовсе не потому, что не любил; однако петь её сколько-нибудь серьёзно было невозможно, а издёвки на её счёт он себе бы не позволил и никому не извинил: в конце концов, за это погибли миллионы.
А тут вдруг решился. Конечно, не раскрывая рта, легко и естественно исполнил попурри из полудюжины советских песен, украшая голосоведение то терциями, то секстами, время от времени вставляя блестящий пассаж, да и гармонизацию подыскивая похитрее, чем у аккомпаниаторов Бернеса.
Успех вышел неожиданный. Гости не просто оживились от неслыханной музыки, нет — но, хорошо представляя себе, как должно слушать Бетховена или Шуберта, здесь они чувствовали себя свободнее: можно было как угодно проявлять свою реакцию, улыбаться, а то и перекинуться парой слов прямо во время игры… Казалось бы, чисто советский душевный подъём, изумительно влитый в мелодические наплывы, безотказно действовал и на такую публику.
На следующей встрече его попросили сыграть «то же самое, что прозвучало прошлый раз, помните, в самом конце?» Усмехнувшись про себя, С. добавил к уже звучавшим песням тридцатых годов несколько военных. Как просили, в самом конце по-булгаковски скомандовал себе: «Маэстро, урежьте марш!..»
И тогда над аккордовой кладкой левой руки его правая возвела золотые купола октав взамен никому в F-бурге не известных слов:
…И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва…
Заключение его импровизации вышло патетичным вдвойне. Как говаривали совсем недавно, «у нас, советских, собственная гордость». И даже когда гордиться стало вроде бы нечем, когда быть советским в Германии показалось бы ещё нелепее, чем в России, оскорблённая гордость зардела под пеплом, придав выразительности и без того незаурядной музыке. «Никогда не добиться» — это не о ельцинской Москве, готовой на всё без разбору перед бывшим врагом. Нет, это о той, нашей Москве, которая теперь только в песне и жила!..
Невесёлая шутка закончилась на полном серьёзе. И отозвалась нешуточным эхом.
Лицо одного из гостей С. запомнил с первого взгляда благодаря поразительному сходству с Германом Гессе — правда, в отличие от великого писателя, этот сухощавый седой старик был среднего роста. Слушал он с напряжённым вниманием и садился поближе к роялю. И неудивительно, что он оказался одним из немногих, к кому пианист обращал свою игру — салон фрау Янцен не был концертным холлом, где можно играть для публики в целом.
Заканчивая попурри, С. краем глаза заметил что-то странное. Выдержав органный пункт, он выкроил мгновение, чтобы скосить глаза в сторону старика.
Тот сидел, уронив лицо на руки. Плечи его тряслись. Смеётся? Плачет? От такой музыки?!
В некотором замешательстве С. заиграл си минор Баха-Зилоти, знаменитый в России благодаря Гилельсу, но едва ли звучавший в Германии…
Хлопали ему как обычно: не много, но искренне. А едва дело дошло до коктейлей, взволнованная чуть больше обычного фрау Янцен сообщила, что один из её гостей «очень хочет сказать русскому музыканту несколько слов».
Им оказался тот самый пожилой человек.
— Рудольф фон К… евиц, — представила она своего гостя. Начала фамилии С. не расслышал, потому что тот решительно перебил хозяйку:
— Руди, просто Руди.
И добавил дальше такое, что С. не знал, чему не верить: своим ушам или своему немецкому.
— Я был в русском плену… Попал под Сталинградом… Многие погибли в окружении, многие умерли в лагере, да почти все; мне повезло: меня отправили в деревню. Это были самые счастливые годы моей жизни…
В русской деревне, в плену — счастливейшие годы жизни немецкого аристократа?!
Он не пытался ничего объяснять; да С. по-немецки не всё бы и понял. Поражённый происшедшим, он уловил главное: ответом и невольным возражением на его двойную игру — двурушничество в обоих смыслах слова! — оказалась искренность, которой не до игры. Старик не обманывался и не преувеличивал.
Да и как он мог объяснить этому русскому беженцу в нескольких словах то, ради чего надо было прожить эпоху!
Надо было помнить счастливое детство в родовом поместье, где конюшня была в большем почёте, чем гараж. И то, как вдруг всё разом потускнело — от погоды до отцовского смеха. Помнить, как с горячностью говорившие о чём-то родители немедленно замолкали при его появлении, явно дожидаясь, когда он выйдет.
— Но мы же побеждаем? Побеждаем? — уже юношей добивался он от отца.
— Побеждаем — не мы… Побеждают — эти наши…
…И надо было помнить отца, появившегося дома в последний раз в морской офицерской форме; выглядел он в ней прекрасно — но могло ли это утешить!
…А вскоре Руди и сам стоял в строю на плацу перед мрачной казармой, где будущим триумфаторам предстояло провести год ускоренной подготовки перед отправкой на фронт. И жуть смешивалась с восторгом, когда едва начавший бриться молодняк слушал по радио сверхчеловека, в чьём голосе клокотал экстаз победы — неизбежной победы безжалостных древних богов.
Из казарменного героического Чистилища его низвергли прямо в Ад, в Сталинградский котёл, жёгший лютым морозом и кипевший сплошными разрывами снарядов.
Он не помнил, как очутился в лагере для военнопленных. А заметив, что слышит одним ухом, не слишком расстроился: смерть стояла рядом, не от снарядов «катюш», так от обморожений или воспаления лёгких.
…И вдруг засветило солнце, когда их семерых везли в открытом кузове полуторки. Сидевший рядом с шофёром конвоир изредка поглядывал через борт с подножки; о побеге не могло быть и речи: даже случайно выпавший из машины пленный скоро превратился бы в занесённый снегом холмик.
И вот он оказался в поволжской деревушке — единственный немец и единственный мужчина среди женщин и детей.
Смерть отступила ещё на шаг. Он был молод, его организм не успел сильно истощиться. От отваров неведомых трав кашель стал не так жесток; обмороженные руки и ноги подживали. В оглохшее ухо возвращался слух, и Рудольф фон К. начал понимать некоторые фразы на языке низшей расы.
Низшей? Он сразу заметил, что эти люди как-то иначе смотрят. Не предполагая, что о том же полвека спустя скажет поэт, он и сам уловил
тот серый свет из русских
чуть воспалённых глаз, —
хотя глаза у здешних жителей были темнее, чем у северных немцев или поляков.
Он сразу заметил, и что на него самого здесь смотрят иначе, чем следовало ожидать: не как на пленного, раба или скотину, нет — как на единственного взрослого мужчину, который ничего не смыслит в сельской жизни и не владеет никакими крестьянскими навыками, но зато усерден, толков и расторопен.
Как он мог объяснить русскому пианисту всё, что и сам скорее чувствовал, чем понимал: деревенька не одно поколение обходилась без мужиков, сперва прореженных первой мировой вместе с гражданской, голодом и тифом. Потом изрядно поубавленных сталинской коллективизацией — когда едва ли не каждый двор с добрым хозяином оказывался кулацким! Наконец, подчищенных до последнего взрослого недавней мобилизацией. Немец, он был не враг — а работник и потому спаситель. История заходила в эти края, чтобы брать, брать и брать, никого и ничего не возвращая — он же стал первым, кого она сюда пригнала: такое же зёрнышко между её жерновами, как эти русские бабы и ребятишки.
Перед лицом общего бедствия они оказались заодно; более того, люди, прямо с рождения сдвинутые судьбой на самую кромку: один шажок, и не удержаться — были добры к нему, как и добры вообще. Без этого они бы не протянули. А что говорить о нём? Его выхаживали, его кормили, не имея ни лишних сил, ни достатка пищи; его включили в круговую поруку добра, не раздумывая и не сомневаясь. Он обязан был этим людям не фактом своего выживания — но обретением жизни в самой её основе.
А что потом? А потом возвращение в 1948–м к воронке от мощной авиабомбы посреди развалин родового дома… Страна, освобождённая и побеждённая одновременно, требовала одного: труда, труда, труда. Серые будни, хмурые лица. Впрочем, Рудольф фон К. уже не знал ни нужды, ни голода. От семейного достояния кое-что уцелело, женитьба принесла нечто вроде любви. Но воспоминания послевоенного времени оказались чёрно-белыми. И, хотя те годы прошли отнюдь не впустую, с ними прошла и молодость. Теперь, когда жизнь большей частью была позади, на всём лежал налёт серости. Если вдруг пробивался цвет — то именно с памятью русских лет. Первой русской весны…
Красные от холода руки. Печь, растапливаемая сосновыми дровами — от сырости рыжими, как волосы соседской девчонки, — и такое же рыжее пламя в печи. Парнáя желтизна варёной картошки. И другая желтизна, которая проступала через серебро вербного пуха, подтверждая, что зиму пережили, что теперь уж не пропадём. Как ни пасмурно было небо, синева сквозила и в глубине его серости. Талой серости, яркой серости…
Удивительно ли, что от нестерпимого марша, исполненного этим русским, она хлынула прямо оттуда, из давней весны, да так, что вдруг затряслись плечи, и, как написал неведомый в земле Шлезвиг-Гольштейн поэт,
Сквознячок зарябил
под ещё не открытыми веками,
словно их приоткрыл
на ветру над слепящими реками,
громоздящими льды
возле вётел среди необычного
изобилья воды,
голубого и светло-горчичного…

Остановка на «Зорьке»
— Да поставь ты машину на стоянку! Охота тебе в такую даль волочиться!..
Я слышал подобные реплики домашних не раз и не два, но поступал по-прежнему: если машина не была нужна хотя бы пару дней, отгонял её в гараж на окраину города.
Дело не в упрямстве: никто себе не враг, чтобы просто так возвращаться шесть километров на транспорте плюс один пешком, — и не в деньгах: пол-литра горючего на дорогу туда и обратный билет сопоставимы с платой за стоянку. А машину вдобавок придётся забирать! Да и путь от гаража до остановки ни весной, ни в дождливую погоду, ни после метели приятным не назовёшь.
Однажды я понял, что просто люблю ездить в такую даль.
Ряды капитальных гаражей как строились, так надолго и остались на самой окраине; вид с кровли включал широкий сектор, в который не попадали никакие городские строения — так, сараи да картофельные делянки.
Натоптанная дорожка пролегала через обширную пустошь, сильно отличающуюся от городских: изувеченная, но пока живая часть лесостепи, простиравшейся в этих краях испокон веков.
В одном месте, где прежде был мостик, я переходил ложок: просто спускался вниз и по насыпанной глиняной перемычке пересекал воду. Точнее, не воду — разводы бензина и масел, по краям забросанные изношенными покрышками и канистрами из-под автохимии.
А ведь здесь угадывалась речка, обычная степная речка, точащаяся по неисчислимым петлям так медленно, что и направление течения сразу не определить. Над ней всё ещё склоняются ивы, вдоль неё весной опушаются вербы. Нечасто, но я видел на, казалось бы, безнадёжно загаженной воде дикую утку с выводком.
И сам пустырь время от времени одаривал незабываемыми зрелищами…
По дороге минуешь голубятню; иногда можно заметить птиц. Как-то раз, незадолго до заката, при яркой подсветке низкого солнца я увидел на фоне свинцовой тучи высоко кружащуюся стаю: три сизых и четыре белых голубя. Как же сияли эти белые!
А однажды осенью, когда череда сырых туманных дней вдруг сменилась резким прояснением и заморозком, я застал пожелтевшую траву, полынь и лебеду, всю в весомом серебре, сверкающем на утреннем солнце.
Направляясь к гаражу за машиной, я нередко ловил себя на мысли, что предвкушаю какой-то подарок. Летом это по меньшей мере густое благоухание донника, скрывающего зелень под своей белой и жёлтой пеной. Но была и одна ожидавшаяся встреча.
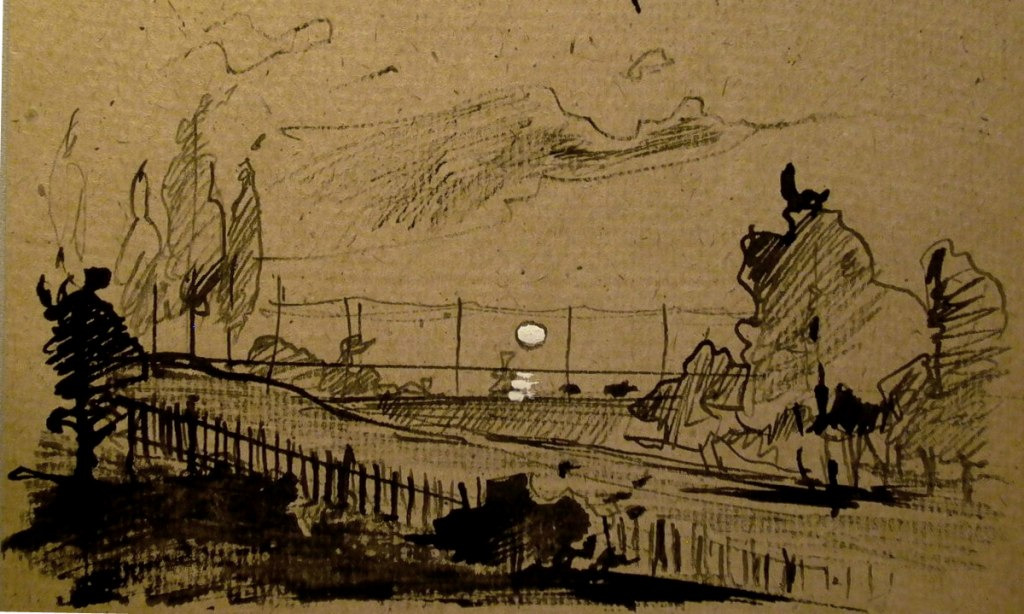
Несколько лет на краю пустыря жил человек. Знавшие о нём гаражане поначалу называли его бомжом, — но какой же это был бомж? В землянке дедок прожил недолго. Где-то на детской площадке отделилась от своего основания сфера: решётка широт и меридианов из сваренных труб; он перекатил её на облюбованное место и обшил изнутри — картонными, снаружи — жестяными и алюминиевыми листами. Получилось двухметровое подобие осиного гнезда с окошечком и дверью, вполне защищавшее от дождя и ветра. Судя по трубе, внутри стояла буржуйка, так что в этом коконе можно было пережидать сильные морозы и даже готовить пищу — для умеренной погоды под навесом стояла другая печка. На дрова он разбирал деревянные ящики и складывал дощечки в аккуратную поленницу. Под черёмухой выкопал колодец. Сотки три-четыре окружил изгородью из кроватных спинок, арматурных прутьев и прочего хлама, с которым охотно срослись крапива и шиповник. В огороде же старик сажал картошку. И привечал собак, так что нередко там дремало два-три пса, таких же лохматых, как и он сам. Живой притягивал живое!
И потому исчезновение старичка я заметил не сразу. Сторож ближней автостоянки сказал, что по весне он умер. Ни разу я не поздоровался с ним, понятия не имел, как его зовут — но опечалился, будто тот был добрым знакомым…
А жизнь продолжалась. Однажды перед выходом на нужной остановке я вдруг услышал от кондукторши:
— На зорьке кто сходит?
На «Зорьке»? На какой «Зорьке»? Кинотеатр «Заря» находился в совсем другом месте! А неподалёку действительно был подобный, по которому именовалась и остановка… Как же он назывался? Ах, да речь же о Зорге, об улице Рихарда Зорге! Фамилия разведчика-антифашиста в устах молодой и едва ли эрудированной женщины, недавно попавшей на маршрут, ненароком превратилось в «Зорьку»… Жизнь, жизнь! Здесь она ещё идёт самотёком, просачиваясь сквозь сито порядков и правил, здесь бетон ещё не подчинил её себе, как в кварталах, где обретаемся мы…
Это всё живое!..
Анатолий Иванович Мальцев был великим математиком, одним из крупнейших чистых математиков прошлого века. То, что по специфике своих научных интересов он не был связан с триумфами прикладной науки — с ядерными и аэрокосмическими исследованиями или чем-либо подобным — никак не умаляет значения его работ для развития математики и информатики. А его монументальное телосложение даже чисто внешне соответствовало роли основателя Сибирской алгебраической школы.
Прежде чем переехать в Новосибирский Академгородок, Анатолий Иванович, тогда ещё член-корреспондент АН СССР, работал в Иванове. К тому времени относится небольшая история, которую я услышал от профессора Валерия Матвеевича Копытова, а он — от её непосредственного участника, Асана Дабсовича Тайманова, академика Казахской Академии наук, а в ту пору — сотрудника мальцевского логического семинара.
Будучи страстным охотником и рыбаком, Анатолий Иванович не упускал случая и просто побродить по окрестностям Иванова. Однажды они отправились на прогулку вместе с Таймановым, увлеклись обсуждением логических проблем и, в конце концов, засиделись у костерка на берегу одного из несчётных озёр. Времени прошло немало, вечер был не за горами, и Асан Дабсович заметил:
— Анатолий Иванович, наверное, пора возвращаться? Я уже и пить хочу…
Мальцев, не отвлекаясь от темы, кивнул на озеро:
— Так вот же!
Но Тайманов, подойдя к кромке берега, усмотрел за ней ряску, водоросли, водомерок, чьих-то личинок, чего полно в любом водоёме и что мало вяжется с представлением о питье… И отвечал в смущении:
— Да тут столько всякого плавает….
— Да-а? — Мальцев разулся, закатал штаны и, войдя в воду, зачерпнул её большущим ковшом своих ладоней. Поднеся всё, что в них угодило, к лицу, он произнёс:
— Асан Дабсович, это же всё — живое!
И с удовольствием выпил.
Самому мне уже не довелось увидеть Анатолия Ивановича. А вот Асана Дабсовича я встречал много раз и с радостью вспоминаю этого оригинальнейшего человека.
Верите ли, однажды я одолжил ему — академику! — деньги. Повод прост. Мы встретились в книжном магазине торгового центра; он увидел в продаже свежевышедший сборник Анри Пуанкаре «О науке» и подосадовал об оставленном дома кошельке. А статьи Пуанкаре вызывали острый читательский зуд. И, заметив знакомое лицо, он сказал:
— Молодой человек, мы же с вами частенько видимся. Дайте мне десять рублей; я вам верну при первой возможности.
У аспиранта всё своё было с собой. Я вынул десятку, которая мне и была возвращена недели через две. Но в каком виде!
На этот раз мы встретились возле гардероба Института математики. Асан Дабсович разулыбался и, когда мы поздоровались, вынул из кармана и протянул мне что-то вроде сапожной иглы или тоненького прутика. Я с изумлением взял это и услышал:
— Я, как вернулся домой, сразу приготовил вам десятку, чтобы случайно её не потратить…
Игла оказалась скатанной в тонюсенькую трубочку десятирублёвой купюрой!
Таковы настоящие математики — вопреки легендам и анекдотам, очень живые.
А в качестве постскриптума — ещё одна ремарка от Валерия Матвеевича. Уже в последние годы академик Мальцев, давно забросивший рояль, на спор выучил «Турецкий марш» Моцарта…
Дурацкий детектив
Началось всё с того, что Н., дальняя родственница и подруга моей жены, попросила её посодействовать доставке отделочных материалов в свою новую квартиру. Что означало поездку вместе с хозяйкой в строительный супермаркет, покупку там некоторого количества сухой штукатурки и тому подобного и отвоз всего груза в двадцатичетырёхэтажную свечку. Не могу сказать, что я взялся за это доброе дело с большой охотой; я не завистлив — но когда ближний покупает квартиру, то пусть уж сам её и отделывает, не правда ли?
В силу некоторых причин, в которые я особенно не вдавался, помочь действительно было нужно, и свободным вечером мы отправились. Причём выехали, во-первых, не рано — дабы избежать транспортных пробок, во-вторых, втроём — но чтобы взять побольше штукатурки и большое пластиковое ведро с грунтовкой, возвращаться решили порознь: мы с М. везём груз, а Н. следует за нами на автобусе: «Пока вы там разгружаетесь, я и подъеду…» Всё-таки по весу пассажир — это почти три мешка со строительными смесями!
Вот мы возле тёмного ещё дома: во всей семидесятиметровой махине светится несколько окон. К счастью, асфальт проложен, и подрулить можно буквально к лестнице у подъезда. М. прикладывает ключ к магнитному замку, я начинаю разгрузку с пластикового ведра и ставлю его в междверный проём грузового лифта. Тот пищит, а я переношу мешки из машины в кабину. Неожиданно раздаётся голос из динамика: «Не застряли?» — «Нет, — отвечаю, — сейчас закончим погрузку и поедем». — «Не блокируйте двери», — требует невидимый диспетчер. — «Хорошо, постараемся побыстрее».
И вот наш груз на четырнадцатом этаже. М. отпирает лестничную площадку, я с ведром пропитки в руках жду рядом. Входим, и от наших шагов зажигается свет — до чего, однако, техника дошла! Видимо, вот квартира Н. — номеров на дверях пока что нет. Немного повозившись с ключом, М. её открывает, а я возвращаюсь к лифту и обнаруживаю, что он уехал. Куда — неизвестно: индикатора этажа, где сейчас находится кабина, здесь нет. Несколько раз нажимаю на кнопку вызова, как будто от этого что-то зависит. Из недр внутриквартирной тьмы М. осведомляется, где я, — откликаюсь, что лифт уехал.
— Кто его вызвал в незаселённом доме? — резонно спрашивает М.
— Ну, приедет, — говорю я, и минут через семь кабина действительно приезжает.
Пустой.
Дурной сон и только.
Я в недоумении смотрю на соседнюю дверь — пассажирского лифта. Нет, вне всяких сомнений, мы грузились в этот. Бросаюсь в квартиру и выпаливаю М.:
— Кто-то вынес наши мешки!
— Вот как, — отвечает она. Наверное, мы думаем о том, что принадлежат они не нам, а Н. — а вот прошляпили-то их мы. Но кто, кто мог умыкнуть их в здании, где нет жильцов?! Да, жильцов нет, зато отделкой наверняка занимаются…
— Ну кто-то же есть в доме!
Сам я соображаю судорожно и никакого плана не предлагаю. Понятно, что груз по-прежнему здесь, в единственном подъезде безлюдного дома; вынести мешки куда бы то ни было нереально.
Ну что делать, если не носиться по этажам словно в расчёте на то, что злоумышленник просто вынес мешки на площадку, лишь бы отпустить лифт поскорее и дать возможность застукать себя с поличным? Затея нелепая, но несколько минут я от неё не отказываюсь: лифтовая и лестничная шахты рядом, с лифтовой площадки я выскакиваю на общий балкон, с него — на лестничную, взбегаю на этаж выше по ступенькам (не кабину же вызывать!), и снова заглядываю на лифтовую площадку: никого. Дурной сон продолжается, пока я не пробуждаюсь, задыхаясь, на двадцать пятом — техническом…
К квартире H. возвращаюсь на лифте. Тем временем М. нашла соседа и поговорила с ним, вызнав пару этажей, где работы идут; правда, оба ниже — но что ещё делать? М. закрывает квартиру, и мы быстро спускаемся, стучась на первом из названных во все двери поочерёдно. Никого.
Спускаемся, она на лифте, я по лестнице — и с балкона вижу свет в окне; сообразить, в какой он квартире, нетрудно, так что мы стучимся туда, где люди заведомо есть. Одиннадцатый час вечера, и кто-то неохотно откликается из-за двери.
— Откройте, пожалуйста! — просит М., а я думаю, что женский голос в такой ситуации лучше, чем мужской.
Открывает мужчина в трусах. За его спиной в конце отделанного начерно коридора — женщина в халатике с ребёнком на руках. Мы на два голоса объясняем ситуацию, и он, подумав, говорит, что отделкой как будто занимаются на восьмом и семнадцатом этажах. Едем на восьмой, он рядом — и там история повторяется как во сне, только с парой отличий: квартира отделана не без шика, а ребёнок сидит в колясочке при матери… Семнадцатый выше нашего четырнадцатого, он у меня на большем подозрении, мы едем туда, но сначала я выглядываю на балкон: одно из окон светится!
И дверная ручка в цементной пыли; ну, такое мы видели не раз — может ли быть иначе? Стук, пожалуй, слишком нервный. После второй серии ударов из-за двери раздаётся: «Чего надо?»
— Откройте, пожалуйста, надо поговорить!
— О чём говорить? Что вам надо? Я не открою.
— Мы ваши соседи, дело буквально на минуту! — включается М., а я продолжаю:
— Вам нечего бояться, мы здесь вдвоём с женой!
— Говорите так, что вам надо. Я не открою.
— Послушайте, нам люди с ребёнком открывали, чтобы сказать, что они знают — у нас кое-что пропало…
— Я ничего не знаю… Я не открою.
— Ну что, полицию вызвать?
— Вызывайте…
И на этом голос перестал отвечать.
Тупик.
Такой же дурной, как и сон. М. позвонила хозяйке, та сказала, что уже на подходе: где вы, на каком этаже, у какой квартиры?
— На семнадцатом!
— Звони в полицию, — говорю я М., и она набирает общий номер экстренных служб. С некоторыми уточнениями наш вызов получает резолюцию: «Ожидайте…»
А я слышу за дверью сип перетаскиваемой волоком тяжести. Вот как!
— Сгоняй за соседом, — прошу я, — пусть хоть свидетель будет!
М. убегает, а я от чистой безысходности оглядываю площадку: щиток электроснабжения открыт! Я подскакиваю и отключаю свет сначала во всех квартирах на этаже (всё равно никого больше нет), а, немного подумав, в одной осаждённой. Как выяснилось позже, это была хорошая идея; жаль, перекрыть воду возможности не представилось…
Поднимаются М. с соседом. Он вступает в переговоры с тем же успехом: за дверью снова раздаётся звук переволакиваемого груза.
— Похоже, он пересыпает вашу штукатурку в свои мешки. Упаковочки в окно — и кому вы что докажете? — говорит сосед нам вполголоса.
— Хоть бы полными не выкинул, — вторит М. — У подъезда внизу наша машина стоит…
Вскоре появляется хозяйка; Н. уже позвонила дежурному жилищного участка, чтобы узнать, чья это квартира, но в ответ услышала опасение, что вор ссыплет похищенное в унитаз и в итоге зацементирует канализационную трубу. Сосед уходит, приняв наши благодарности, а Н. высказывает уже мелькавшую мысль: ведёрко с пропиткой, самое дорогое из купленного, у неё, а всё остальное, в конце концов — это двадцать пять баксов. Можно завтра съездить повторно.
Конечно, ею движет вежливость: неизвестно, сколько ждать полиции. Нами — досада и жажда возмездия. Да и как отступиться от своего при уверенности, что похититель за дверью! А чтоб отыскать эту дверь, надо было полчаса бегать по этажам! Вдобавок, и путь к отступлению отрезан: представители закона уже едут. Если едут…
Наряд приехал на удивление быстро, хотя удивляться стоило другому: сотрудники оказались автоинспекторами. Найти нас в здании не проще, чем дорогу к нему. М. решительно идёт их встречать (ведь Н. не в курсе дела!), а мы остаёмся караулить. Наконец люди в форме на семнадцатом этаже, мы излагаем старшему ситуацию, а он, слыша шум волока, распоряжается включить в квартире свет и стучит в дверь куда спокойнее нас: «Откройте, полиция!»
Сип мешка по полу прекращается. Офицер стучит посильнéе: «Полиция!»
Видимо, новый голос вместе со вдруг загоревшимися лампами возымели действие: дверь с небольшой паузой открывается. Сотрудники угрозыска всё поняли бы сразу; наверное, и инспекторам ГИБДД картина ясна. Мне достаточно было поймать взгляд затравленного шакала. Но надо же что-то инкриминировать этому малому в рабочей одежде!
— Можно войти? — осведомляется инспектор.
— Входите, — отвечает тот.
С момента, когда мы начали барабанить в дверь, прошло больше часа. Больше часа шакал знал, что его обложили. Правда, он даёт разные ответы на вопрос, почему не открывал сразу и отказывался отпирать нам: то он спал, то он работал — а свежий раствор действительно стоит в жестяном бочонке — и это за полночь! При отключенном электричестве! Тем не менее, обнаружить похищенное с ходу мне не удаётся… Кружа по квартире, загромождённой множеством мешков со штукатуркой и стяжкой, я нахожу всё что угодно, но только не означенное у Н. в чеке.
Опять тупик!
Услышав от работничка издевательское: «Вы ещё на балконе не искали!», я начинаю повторно перерывать кучу пустых мешков из-под строительных смесей, где и обнаруживаю наши упаковки опустошёнными, свёрнутыми и всунутыми в чужую…
— Ну и на кой тебе это понадобилось? — угрожающе говорю я, приближаясь к шакалу. Старший из инспекторов предлагает мне вести себя поспокойнее и оставить их с похитителем наедине…
В сущности, этим интрига исчерпана. Остальное можно изложить вкратце. Предложение разойтись миром с компенсацией материального ущерба в две тысячи. «Нет, — отрезаю я, желая нанести виновнику ущерб моральный не менее понесённого нами, и заявляю заведомо неприемлемую сумму. — Десять!» Поездка в дежурную часть и написание заявления при изрядно пострадавшей способности кратко и ясно изложить происшествие по порядку. «Вы третий раз меняете показания!» — неприязненно говорит оформляющий заявление капитан полиции по поводу какого-то обстоятельства; ничего удивительного: идёт третий час ночи. Повторная поездка на место действия — Н. не уверена, что заперла квартиру. Неоднократные обсуждения того, чтó за странный тип попался: сперва вызвал грузовой лифт — зачем? Упёр мешки — на что они ему? Не затаился — вдобавок начал отвечать через закрытую дверь! Потуши он свет или просто молчи — что бы мы тогда могли сделать? У него было столько времени и вариантов замести следы — но он позволил мне обнаружить улики! И мы хороши: что стоило при разгрузке заблокировать двери лифта, как внизу?
Состоявшийся месяц спустя суд из-за незначительности ущерба счёл похищение административным правонарушением и оштрафовал Лапшина Льва Александровича, жителя пригорода, на три тысячи в пользу государства — а хозяйке не возместил ничего…
Впрочем, ущерб ей компенсировал владелец квартиры на семнадцатом, к которому она обратилась с пересказом происшедшего; хозяин оказался отставным офицером и очень приятным человеком.
А хорошие люди должны знакомиться между собой, не правда ли? Пусть даже при нехороших обстоятельствах.
Синдром Родиона Раскольникова
…Теперь этот человек придёт, сам придёт, и очень скоро; коль виноват, так уж непременно придёт. Другой не придёт, а этот придёт.
Ф. М. Достоевский
На новой кафедре обнаружился странно общительный старичок. Профессор — хотя, как легко теперь выяснить, в его докторской не было решено ни одной известной проблемы — хватило одобрения маститого академика. Потому и защиты ему не пришлось дожидаться до середины 90-х, когда учёные степени резко подешевели, а научный вес стал определяться возможностью найти работу за границей. В общем, и докторскую степень, и профессорское звание он получил вовремя: в советское, собственно, время. И мог бы вслед за кумиром тогдашней общественности повторить: я себе уже всё доказал!
Увы, новое время бесцеремонно требовало ежегодных отчётов. И профессор зачем-то подробно рассказывал мне о почти готовых монографиях, на которые уже есть отзывы того да другого корифея… Странное дело: готовых монографий нет — а отзывы уже есть! Конечно, я не задавал вслух никаких вопросов; продлевать разговоры о былых и будущих заслугах профессора не возникало никакого желания — не только из-за дурного запаха изо рта, но также из-за нараставшего раз за разом скептицизма.
Однажды он похвастался мне, что у него в предыдущем году вышло пять научных работ:
— У кого ещё на кафедре пять работ за год? А их уже библиотека проверила!
Я кивнул, хотя и изумился мотивировке: ну при чём тут библиотека? Что за странный аргумент: пять работ, проверенных библиотекой? Речь же не о новых теоремах или методах, которые могут подтверждаться авторитетным научным семинаром или рецензентом хорошего журнала — а о факте публикации! Если работы напечатаны — чего ж тут проверять?! Или… А что, собственно, или?
Я зашёл на сайт университета и увидел проверенный библиотекой список публикаций профессора: да, действительно, в прошлом году пять работ. Вошёл в e-library, российскую научную электронную библиотеку: уже две. Вот как… Заглянул в международную базу Scopus: статей профессора нет! Отсутствие статейки с конференции понятно — но где работа в солидном западном журнале? И что это за страницы у статьи, если смотреть по институтскому списку: с первой по пятую? А на каких же тогда титульный лист журнала, оборот титула, оглавление номера?
На сайте журнала статья просто отсутствовала; и вообще с начала нулевых годов профессор там не публиковался. Вторая исчезнувшая статья была неправильно оформлена: заметку в материалах молодёжной школы (и как он туда попал, в его-то годы?), опубликованных в приложении к журналу, шустрый старичок выдал за статью в самом журнале.
Печально, — скажете вы, — если время вынуждает ветеранов заниматься подлогами! Печально, — соглашусь я, — но кто же заставляет ветеранов тыкать в нос коллегам подложными достижениями, прикрываясь фиговым библиотечным листком? Сидел бы в тени со своим мелким жульничеством да помалкивал — оно и сошло бы с рук!
Действительно: что побуждало старичка выходить с ним на свет самому?
И пришла в мою голову другая история, случившаяся несколько лет назад и известная мне в кое-каких подробностях. Чем-то она напоминает этот неловкий эпизод…
Б.Б. защищал докторскую диссертацию, по общему мнению, поздновато. Так уж получилось: лет пятнадцать он занимался малопонятными вопросами, которые коллегам казались чисто формальными изысканиями, не представляющими интереса на общей исследовательской ниве, да и публиковался в скромных местных изданиях. Потом произошёл прорыв: Б.Б. сумел вдруг решить несколько задач, за которые никто и не брался — слишком велики были общеизвестные трудности вопросов такого рода. Его диссертация появилась за два-три года, почти как Афина Паллада из Зевесовой головы. Успех озадачивал и сотрудников собственного отдела, и московский головной институт. Решительно поддерживали соискателя только некоторые, включая Г.Г., его начальника; наверное, поэтому особых препятствий по дороге к защите у Б.Б. не возникло. Но что будет на самой защите? Одно дело, когда чьи-то работы постепенно завоёвывают известность и признание, а люди привыкают думать о соискателе как о состоявшемся докторе и воспринимают его амбиции как нечто закономерное. Совсем другое, если докторские амбиции обнаруживаются внезапно — тогда поведение научной среды и членов учёного совета становится не слишком предсказуемым.
Встречая накануне защиты иногороднего оппонента, Б.Б., как на грех, немного опоздал: хлопот у него было предостаточно. Но тот оказался очень доброжелательным человеком и замечательным собеседником. Уже возле ведомственной гостиницы, где гость должен был расположиться на ночь, они простояли почти час, беседуя на самые разные темы. В какой-то момент Б.Б. осторожно поделился своими опасениями: скорость его выдвижения может завтра сыграть против него…
— Да ну! — возразил оппонент, — Бросьте! У фактора скорости две стороны: та, о которой вы говорите — и противоположная. Чтобы найти веские аргументы против присуждения вам степени, надо основательно подготовиться… А мы все люди занятые, и кому это надо? Дельная критика тоже не появляется в одночасье.
— Никому вроде бы не надо, — отвечал Б.Б., — и серьёзную дискуссию никто, конечно, не станет готовить, да и трудно в моих чащобах продираться. Можно промолчать — и понакидать «чёрных шаров»…
— Нет, такого я не припомню, чтобы диссертации проваливали молчком! Раньше в этом отношении побаивались ВАК — особенно при Кириллове-Угрюмове…
Б.Б. вспомнил, что в те годы, когда он защищал кандидатскую, председателем Высшей аттестационной комиссии действительно был человек с весьма красноречивой фамилией… А оппонент продолжал:
«…в присуждении учёной степени —
отказать!»
И с расстановкой:
«Без
права
повторной
защиты».
Кириллов-Угрюмов поворачивался и уходил… Всё, точка! Ну, да сейчас кое-что изменилось: в ВАК тоже не всё просто…
Продрогнув, оба вошли в холл гостиницы, Б.Б. провёл гостя в заказанный номер — скромный, но приличный; заглянул ко второму оппоненту, разместившемуся здесь же пораньше, и зашагал домой.
Казалось бы, он должен был сосредоточиться на завтрашнем выступлении, но мысли с деталей доклада переключались на услышанную историю. Б.Б. представлял себе, как средних лет соискатель из какой-нибудь Костромы или Вологды съездил в недальний Ярославль и защитил кандидатскую. Оплатив неизбежный в те годы банкет и выслушав на нём немало напутствий на будущее, провёл недельку в оформлении документов, отправил папку в ВАК и с облегчением вернулся восвояси, прикидывая, как теперь пойдёт жизнь… Обойтись без банкета для земляков было тоже немыслимо, так что снова под звяканье стаканов звучали добрые слова и пожелания… Сидя с семейством на картошке и огурцах с тёщиного огорода, диссертант ожидал почтовой карточки из Москвы, повышения в должности, прибавки к зарплате.
Но вместо карточки приходит приглашение в ВАК. Что бы это значило? Ни с кем такого не бывало, спросить — и то не у кого. Дядя с тётей говорят, мол, ты же большая умница, замечательную работу написал! Тебя и зовут в столицу, чтобы вручить диплом в торжественной обстановке… Жена спрашивает: как ты думаешь, костюм нужно новый, или я этот постираю и отутюжу?.. Сынок ноет: пап, возьми меня в Москву!..
И вот стоит кандидат в кандидаты между Абрамом Аркадьевичем и Юрием Яковлевичем, немного недоумевая из-за неторжественности обстановки и неприветливости приёма. Вздрагивает посреди монотонного списка при оглашении своей фамилии, поскольку думает уже о чём-то постороннем. И не сразу понимает, услыхав: «В присуждении отказать!.. Без права повторной защиты!»
И после этого стоит, уже не слыша, как кто-то говорит: «Где получить решение на руки», кто-то: «Куда жаловаться», стоит, не понимая: зачем он здесь, в Москве? Надо попытаться что-то сделать или можно возвращаться домой? А как теперь возвращаться домой? Что сказать жене? Что — дяде с тётей? Что говорить на работе?.. И куда теперь диссертацию — в мусорное ведро, на макулатуру? Вовка вон защитился — по такой ерунде! А Гошка — вообще по чужим результатам…
Главное, к чему этот совершенно не советский садизм? Вызывать в Москву ради того, чтобы сказать: проваливай к себе в Кострому и впредь не суйся! — думал Б.Б., возвращаясь домой…
На ночь он выпил полбутылька валерьянки и приготовил бутылёк элеутерококка на утро. Заснул, но сон был беспокойный. В голову лезли мысли не столько о защите и докладе, сколько о том, как накрыть стол для членов совета, и что надо отправить микроавтобус за теми, кому далеко добираться, и что у оппонентов надо забрать экземпляры отзывов… Сквозь сон вдруг спохватывался, что не заготовил проект решения диссовета, и, уже подняв голову, успокаивался: проект, конечно, был готов…
А защита пошла неплохо. Речь соискателя мало-помалу наладилась и стала бойкой и уверенной, слайды на экране смотрелись хорошо, оппоненты говорили кратко и убедительно. Только вечный скептик Д.Д., взяв слово, принялся задавать вопрос за вопросом, но ответы лежали на поверхности и не требовали от Б.Б. размышления; его руководитель, переименованный в научного консультанта и вынужденный молча следить за дискуссией, кивал головой, сияя на весь зал…
Наконец прения окончились. Совет избрал счётную комиссию и приступил к голосованию. К Б.Б. подошёл один из членов совета и с оговоркой «заранее не поздравляю» выразил одобрение. Б.Б. отвечал: «Ну, поблагодарить-то вас я могу!» Оппоненты, удовлетворённо улыбаясь, беседовали о чём-то друг с другом. Г.Г., его начальник, тоже весело улыбался — но не приближался…
Объявили результаты: двадцать голосов «за», три «против». Б.Б. принимал поздравления и благодарил всех-всех-всех уже на полных основаниях. Прощаясь с последним из уходящих членов совета, он спросил:
— А три «против» — это не многовато?
— Нет, — ответил тот. — Скорее хорошо: ВАК увидит, что была настоящая дискуссия, мнения разошлись… Даже при шести «против» ты считался бы защитившимся, — у тебя двукратный запас!
— Честно говоря, я не понял: кто же, собственно, «против»? Голосовал-то против кто? — просто к слову, без особой надежды на ответ спросил Б.Б. — Ну, Д.Д. — это понятно, а ещё двое?
— Да Г. Г. со своим замом, конечно. Кто ж больше…
Весьма озадаченный Б.Б. простился и начал собирать бумаги.
Всё развивалось по плану; как и заседание, день шёл к концу без аварий и осложнений. Защитившийся не был ни счастлив, ни умиротворён: он просто делал, что нужно, и следил, чтоб ничего не упустить. Время от времени вспоминая о трёх «чёрных шарах» и последних услышанных словах, он думал: «Да с какой стати? Г.Г. всегда поддерживал, подсказывал: что, куда и как… И вдруг — против?..» Думал, пока под вечер не ожил его сотовый телефон.
— Б.Б., помните, я обещал вам премию в случае успешной защиты? — без приветствий и предисловий начал звонок Г.Г.
— Спасибо! Но я вас за премию отдельно поблагодарю, сегодня хочется за другое, — начал было Б.Б.
— Ладно-ладно, всё другое понятно, — оборвал его Г.Г., — ну, так выписал я премию и обещание сдержал!
— Вы так много сделали для меня… Я считаю это нашей общей победой…
— Хорошо, хорошо. Празднуйте! — и Г.Г. прервал разговор.
Да, пожалуй, этот и проголосовал, — подумал Б.Б., — иначе чего бы он так спешил отчитаться… Ну, премия так премия… Отступное…
Вот собственно, и всё. Докторскую Б. Б. утвердили, и на удивление быстро.
А старичок-профессор получил было выговор: компьютерная проверка кафедрального отчёта не сошлась с цифрами сайта, и подлог его вскрылся. И опять он долго носил по инстанциям объяснительные, написанные от руки или распечатанные на принтере, так что выговор в конце концов сняли, — ибо виноватыми посчитали тех, кто проверял: библиотекарей. К счастью, без выговоров.
Запорожец
Однажды мне позвонил старинный друг и предложил вместе поехать с ночевкой на дачу к людям, о которых я был от него же наслышан; почему-то я недолго колебался.
Описывать поездку в машине сквозь дождливый августовский вечер нет никакого смысла: от всех подобных она отличалась тем, что по дороге мы слушали концерты Моцарта где солировал Рудольф Фиркушны. Описывать дачу тоже незачем: от всего прочего загородного новостроя она отличалась разве что городской евроотделкой да числом этажей. Участок? Хм, участок… Одной стороной, спускаясь по косогору, он выходил к большому пруду; а в себе самом заключал небольшой прудик. Насаждения — в том числе необычных видов — пока не успели разрастись. Два здоровенных пса? Мне ни за что не вспомнить их пород. Господи, да всё это любой из нас неоднократно видел по телевизору! Кстати, в гостиной стоял и телевизор с экраном метр на полтора; но той ночью сборная России от этого лучше не заиграла.
А вот хозяева — милейшие люди, таких по телевизору не увидишь. Мужа, оказывается, я знал в лицо по годам в Институте, где он числился научным сотрудником, а я — аспирантом. От ужина в памяти остался салат из помидоров; я думал, что в спелом состоянии они бывают красные и жёлтые, ну, розовые у некоторых сортов; здесь же отведал необычно коричневых и необычайно вкусных. Проговорили до четырёх; поднялись не рано. После завтрака засобирались домой. Явно не выспавшаяся хозяйка вышла проводить нас на крылечко и, глянув вдаль, произнесла нечто странное:
— Вон Пётр Косой поехал, — хорошо бы вам успеть до него…
Я, как и остальные, пропустил её слова мимо ушей. Пётр Прямой, Пётр Косой — какая нам разница! Простившись, мы сели «Тойоту» и тронулись. А вскоре поняли, чтó хозяйка имела в виду…
Безразмерная просёлочная дорога, перевитая колеями, как растрепавшаяся девичья коса, поворачивала направо. Мы ехали по самой правой колее и свернули по дуге меньшего радиуса. А по дальней дуге нас обошёл красный «Запорожец» — так лихо, что на небольшом ухабе он взлетел, как на трамплине, пронёсся метра четыре по воздуху, шмякнулся наземь и попылил дальше. В этот момент в память и врезался профиль водителя — явно веселившегося всю ночь без перерыва и теперь погнавшего за добавкой. Помните картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка»? Лицо всадника прямиком перешло к водителю «Запорожца»…
Ну, а нас взятие тогда миновало.
Молодая-то была…
― Красивая не была, а молодая-то была, — говаривала при случае моя бабушка. А вот пара историй от моих коллег.
Н.Н., с которой мы много лет работаем на одной кафедре, рассказывала про большого чудака, так сказать, профессионального читателя, многие годы бывшего завсегдатаем ГПНТБ. Однажды она встретила его в качестве кондуктора троллейбуса. Обилечивая вновь вошедших, он внимательно посмотрел на Н.Н. через свои бипризматические очки неимоверной толщины, решительно произнёс: «Ну, здесь всё ясно!» — и обернулся к следующей пассажирке.
― Я убираю кошелёк, бормоча себе под нос: «А чтó, собственно, ему ясно?» — до пенсии мне тогда оставалось два-три года. Стоящая рядом дама укоризненно говорит ему вслед: «Кондуктор, куда вы пошли? Женщина-то молодая!» Тогда он разворачивается, снова подходит ко мне, наводит на меня очки и после секундной паузы веско чеканит: «Была!»

М.М. в коридоре поведывал мне и нашему общему знакомому краткую сводку своих стоматологических злоключений. Мои собеседники сошлись на том, что с возрастом надо отводить здоровью твёрдую долю своего бюджета, а если посчастливится ей уцелеть — резервировать на будущее.
― Годы своё берут! — резюмировал М.М., остававшийся, однако, видным мужчиной. Когда-то он, несомненно, привлекал к себе немало заинтересованных взглядов, так что продолжение его рассказа полно иронии.
― Еду я недели две назад в метро, стою, держусь за поручень. Сидит передо мной девушка, уже не в пальто или брюках, а в капроновых чулочках. Смотрю я на её коленки и думаю: «Ну, если девушки выходят с голыми ногами, весна действительно пришла!»
А она, поймав мой взгляд, встаёт и говорит: «Садитесь!»
Ослепление
Такого я сроду не видывал. Возле умеренно быстро едущей по широкому полю мимо перелесков и небольших болот Chevrolet-Нивы собрался неожиданный кортеж. Поддерживая нашу скорость, машину сопровождали десятки слепней, некоторые из которых достигали вполне справочных размеров в три сантиметра. Когда машина притормаживала на ухабистых участках, они бились в стёкла с угрожающим щелчком.
Добравшись до цели нашей поездки — ягодных мест, — мы отважились выйти наружу. М. достала аэрозоль, а я прихлопнул одного за другим нескольких деловито жужжащих дронов, покусившихся на меня. Странное дело, запах показался приятным — видимо, до нашего появления слепни подкреплялись цветочным нектаром, как пчёлы. Но машина почему-то представлялась им желанной добычей. На правом зеркале заднего вида образовалась сплошная серая масса, и, когда я хлопнул руками вплотную к поверхности, между ладоней осталось сразу четыре. Хорошо, что не семь, как у храброго портняжки, поскольку из них брызнула зловонная жижа. Что пьют эти твари? Почему они не высыхают на лету под июльским солнцем и ветром? Или какой-то из четверых уже напился бычьей крови и оставил на моих руках разлагающуюся лимфу? Морщась, я растёр в ладонях кисти лабазников. Но, хотя дихлофос помог мало, люди интересовали этих двукрылых чудовищ меньше, чем «Нива». Вот комары — тех не проведёшь…
И смородина в березовых околках, и полевая клубника на лугах оказались зеленоваты. Для сбора клубники это хорошо, но мы не захватили корзин, да и выискивать ягодные кустики в такой высокой траве не слишком увлекательно; поесть — конечно, а собирать?
Мы увезли с собой только чайных трав да берёзовых веток на веники. А также три-четыре дюжины слепней, бессмысленно кружившихся в салоне и ползавших по стёклам безо всяких попыток напасть. Странное дело: окажись вместо них осы, мы бы буквально не знали, как спасаться, но эти почему-то вели себя обречённо и, частично помилованные открытыми на ходу окнами, не создавали никаких хлопот.
М. сказала: «Когда нас дедушка возил на „Жигулях“, паутов иногда набивалось не меньше. Они слетались под заднее стекло и там подыхали. Мы их собирали и кормили кур…»
Ох и странные урожаи взращивают порой родные сибирские лесостепи!
Оёшские байки
В тот раз Виктор Васильевич открыл при мне сарай, который всегда стоял на замке и потому не привлекал к себе внимания. Ну, сарай и сарай за собачьей конурой ― мало ли сараев у него на подворье? Но по мере того, как он оттаскивал широкую дверь, бороздившую грунт наподобие циркуля, и находящееся внутри открывалось взгляду, моё удивление нарастало: один за другим на свет явились три мотоцикла! Последним ― вишнёвая «Ява», мечта юности каждого второго из моих ровесников, едва ли не единственная иномарка, распространённая в Стране Советов. Два других тоже были без колясок, что в деревне редкость, и, как было ясно даже малосведущему взгляду, относились к разным временам. Небольшая экспозиция мотостроения в сарае!
— Правый, «Иж» 49-й ― очень хороший мотоцикл! ― заговорил Виктор Васильевич.― По любой дороге идёт! Я на нём однажды от милицейского прямо по пахоте ушёл!
Что мотоцикл этот очень хорош, неудивительно. Как я прочитал позже, «Иж-49» производился на трофейном немецком оборудовании и представлял собой усовершенствованный немецкий DKW ― «Dampf Kraft Wagen», «паровоз» (хотя популярнее была псевдорасшифровка «Das Kleine Wunder» ― «маленькое чудо»); оригинал дорабатывало советское КБ под руководством создателя ― немецкого гонщика и конструктора Германа Вебера.
Я знал, что Виктор Васильевич по молодости был заядлым охотником и рыбаком, так что теоретически мог нарушать какие-то из наших порядков ― хотя какие там порядки в здешних болотах?! Семьдесят лет советской власти промелькнули для них незаметно и бесследно, так же как у меня в голове промелькнула одна из его охотничьих историй…
Но чтобы удирать от милиции?!
Видя моё изумление, Виктор Васильевич продолжил:
— В колхозе выработку начисляли в трудоднях; деньги платили только трактористам и комбайнёрам. Выдавали в Михайловке, и бухгалтер там сидел, и кассир…
Я вспомнил кассу в центральной усадьбе, где и сам пару раз когда-то получал командировочные. Виктор Васильевич продолжил:
― Мотоцикл мне пригнали прямо перед тем; я на него сел и сразу поехал ― как влитой! Ну, и за деньгами тоже на нём, ещё без номеров, без прав, без никаких! А в Михайловке наши получили деньги и говорят: «Виктор, у тебя мотоцикл, езжай в Кремлёвку за водкой!» У нас магазина тогда не было, в Михайловке водку свои разбирали, а в Кремлёвке она всегда стояла…
― Да уж, ― сказал я, вспомнив типичный прилавок сельпо, половину которого занимали однообразные бутылки с водкой, четверть ― серый хлеб, а на остальном пространстве ютились серая лапша, серая соль, дешёвая карамель и тому подобные товары.
― Наши скинулись, вышло на ящик без малого; дали мне в напарники Сашку Глебова, мы и поехали. Взяли водку, выходим, а тут как раз тамошний участковый: «Твой мотоцикл без номеров? Пошли за мной, ― говорит, ― под арест поставлю твоё транспортное средство!» Я веду мотоцикл перед собой и шепчу: «Сашка, как он будет гараж отпирать, прыгай на заднее седло! Ящик держи крепче и сам держись!» И едва он, открывая дверь, отошёл сам, как я одним толчком «Ижа» завёл и рванул! С поворота гляжу: участковый свой «Урал» выводит. Ладно, думаю, догоняй! А как ему по наезженному не догнать: милицейские-то выпускались с пятью скоростями! Слышу ― рядом! А тут у кремлёвских слева от дороги пошёл пар, я туда и свернул! И вот веришь ― нет: по паханому как поплыли, хоть не шибко быстро. Нас двое, «Иж» на второй [передаче] буксует, но тащит. А «Урал» ― тот нет, не пойдёт! Будет только пыль подымать! Отъехали. Я обернулся: участковый глядит нам вслед с накатанной… А мы по тракторной колее с того краю пахоты и ушли…
Я подумал, что оставлять мотоцикл без прав и без документов под арестом в чужом селе ― большой риск, каким бы ни был тамошний участковый. А каково бы было Сашке пятнадцать километров переть на горбу ящик водки!
мы разучились нищим подавать
Мы разучились нищим подавать,
дышать над морем высотой соленой,
встречать зарю и в лавках покупать
за медный мусор — золото лимонов…
Так писал в 1921-м Николай Тихонов.
Это на ¾ не про меня. Я учился и учусь всему, начиная с высотного дыхания, над морем или в горах — но вот нищим не подаю почти никогда. Ни увечным, ни узбечкам, ни старушкам, ни подружкам. Помните, были такие подружки, которые вдвоём шастали по Вокзальной, потому что им вечно не хватало «на электричку до Академа»? Когда однажды на просьбу двадцати рублей на билет я изумлённо спросил: «Как, опять?» — они начали меня обходить. Впрочем, манера игнорировать просящих (и попрошайничающих) возникла несколько раньше, но укрепилась благодаря некой женщине, много лет побирающейся в вагонах метро. Низкого роста, неопределённого возраста, как будто бы не калека. Довольно бесцеремонно идёт по вагону, ничем не мотивируя и даже, кажется, ничем не проявляя своей нужды, кроме странной одежды 50-х годов. Смотрит отнюдь не просительно — требовательно.
В этом взгляде всё дело. Бесцветные глаза за толстыми линзами похожи на лампочки карманных фонариков моего детства, и есть в них нечто странное: убогое — и отталкивающее. Поэтому я неприязненно отвожу глаза, хотя другие ей изредка подают.
Нынешним сентябрём мы с М. оказались в Петербурге; к командировке приплюсовалась пара выходных, и в субботу перед отлётом домой мы зашли в Фонтанный Дом — дом-музей Ахматовой. Первый и последний раз я был там в 1990-м, вскоре после основания. Конечно, изменилось многое — но главное осталось прежним: просто «её стены» и предметы, принадлежавшие самой Анне Андреевне и той эпохе. И в этот раз за окнами светилась на солнце «её листва» — ещё летняя зелень Шереметевского сада…
Помимо ахматовских впечатлений было одно, скажем так, постороннее.
Подойдя к билетной кассе (она расположена в парке), я опознал в вышедшей из неё женщине знакомую из новосибирского метро. «Ты обознался, это не она, — сказала М., — да и волосы у нашей седые, а у этой тёмные…» На последнее возразить было нечего, одета посетительница музея была скромно — но прилично. Но глаза нашей трудно спутать с чьими бы то ни было, а их я приметил. М. не согласилась со мной и позже, когда мы увидели метро-нищенку в очереди на посадку — мы возвращались одним рейсом. В салоне самолёта мы встретились с ней взглядами, правда, теперь я пробирался между стоящими пассажирами, расталкивающими по полкам свой багаж, а она сидела в кресле возле прохода. Волосы действительно были выкрашены тёмной хной.
Недели через две я увидел её в метро за обычным делом, в прежних очках и с тёмно-рыжими волосами, выглядывающими из-под косынки. Почитательница царскосельской музы была в весьма поношенной, но опрятной одежде. Помимо застарелой неприязни, я ощутил что-то вроде интереса: надо же, собирать милостыню с пассажиров, чтобы слетать в Питер, к Ахматовой!
Но — стоит ли ей подавать?
Ветеринарная эвтаназия
Прочитал сегодня запоминающееся стихотворение Simon’s Cat о том, как старуха возле метро предлагает кота:
Я подошёл. Ведь думал — с голодухи…
Хотел рублей четыреста подать,
Но видели бы вы глаза старухи!
«Возьмите котика! Мне скоро помирать…»
В миру, в пыли житейской круговерти
Внезапно наступила пустота.
Старуха не своей боялась смерти,
Пыталась от неё спасти кота…
В связи с этим необычным поворотом темы мне вспомнилось два давних эпизода в приёмной ветеринарного пункта. Что интересно, пациенты — в основном собаки и кошки — вели себя просто образцово, в полном соответствии с буквальным переводом слова patience: терпение.
Врач С. М. вынес старой женщине кота — чёрного с несколькими белыми пятнами: «Большая внутренняя гематома; или дверью где-то прищемили, или ногой хорошо поддали. Вряд ли выживет, усыплять надо».
— Сколько возьмёте?
— Двести пятьдесят это стоит.
Хозяйка молча взяла кота на руки и побрела — наверное, вдвое медленнее, чем шла сюда. Пусть уж бедный примет свою смерть даром…
А второе посещение пришлось на зиму, при сильном морозе. Неудивительно, что в приёмной было пусто. Я пристраивал своего уже перевязанного кота в большую сумку с несколькими изношенными свитерами, когда в дверях появился пожилой мужчина с овчаркой. Заметно выпивший, в ожидании приёма он заплакал. Как я понял из его разговора с ветеринаром, ему вскоре предстоял переезд в ближнее — но зарубежье, а старую собаку он не мог взять с собой. И отдать некому. Вот и повёл, рыдая, выгуливать в последний раз…
На словах: «Нет, тушку послезавтра заберут и похоронят в специальной яме», — я схватил сумку с Барсиком и выскочил на улицу.
Нам ещё жить да жить.
Ящик водки
Проводы отца — не просто событие в жизни сына. Хуже ли, лучше ли освоившись в середине человечества, в гуще людского бытия, вдруг осознаёшь себя на краю. Внешний распорядок мог почти не измениться, но внутреннее ощущение становится в корне другим.
Я получил тогда несколько важных уроков. Вероятно, главный — начисто лишённое пафоса и вызова мужество, с которым отец смотрел на приближающийся конец. По сравнению с этим несколько других как-то теряются, не то что переходя в число второстепенных, но оказываясь среди впечатлений, которые можно оставить при себе.
Один из уроков я всё же вспоминаю, время от времени встречая на улице совершенно немощного старика, который передвигается с большим трудом и в самом выражении лица не несёт теперь ничего, кроме муки. Он по-прежнему живёт неподалёку — там, куда мы вдвоём пару раз заходили к нему в гости. В период, когда спортивное прошлое отца безусловно отделилось от текущего времени, хозяин работал тренером, достигал хороших результатов и охотно о них рассказывал.
В последний год, незадолго до того, как отца признали неоперабельным, мы просили его обеспечить явку нескольких человек на донорский пункт. Таков был тогдашний порядок: готовившийся к тяжёлой операции должен был заранее позаботиться о возможном переливании крови. Отец и мне предлагал позвать студентов сдать кровь на его, так сказать, счёт — но я проявил удручающую нерешительность, отговорившись тем, что попытаюсь сделать это ближе к операции. А мысль обратиться к товарищам по спорту показалась ему удачной; он и назвал двоих, которые чаще прочих выходили на связь и при каждой встрече со мной передавали ему привет. Одним из них был наш сосед.
Но реакции не последовало. Точнее, тренер ответил мне: «Ну что ж я, ребят-сборников пошлю кровь сдавать? Подумаю, кого можно попросить…» И задумался надолго. Как и второй.
До операции дело не дошло. Когда оставалось всего несколько дней, отец сказал маме, мол, спортсменов домой не зови, — дай им денег на ящик водки, пусть помянут…
Можно только догадываться, почему люди, с которыми его всю жизнь связывала сердечная дружба и спортивное братство, в последний момент стали ему безразличны. Но мне кажется, что эпизод со сдачей крови сыграл в этом какую-то роль.
Ящик водки вам цена, дорогие товарищи. А в доме моём вам делать нечего.
Санитары
Чёрный ворон в зоологии именуется «вороном обыкновенным». На самом деле это одно из необыкновеннейших живых существ, о чём как нельзя лучше свидетельствует его неназойливое, но постоянное присутствие в народных эпосах и песенном фольклоре. Как и то, что мифологический ворон живёт триста лет, хотя реальный — в среднем в двадцать раз меньше. Зато орнитологи расскажут много удивительного о его интеллекте, о способности имитировать звуки и человеческую речь (не из этого ли возник шедевр Эдгара По?), об особенностях воронова социума. Интересно, что ручные вóроны доживали при хозяине до 75 лет — примерно как он сам.

Я поначалу поражался, когда встречал их в городе. Как же «Красная книга»? Вероятно, по каким-то причинам их стало значительно больше — война и смерть совсем не обязательные спутники этой невесёлой, что ни говори, птицы…
Первые же встречи были в молодости на лоне Алтайских гор. Собственно, стоит ли называть «встречей» возможность увидеть одного или нескольких воронов издали и полюбоваться красотой их полёта или парения? А в воздухе они прекрасны!
Но один из эпизодов мне запомнился.
Наша группа встала на так называемую днёвку в замечательном месте: у небольшого озера, среди кедров и скал под северными срывами горы Аккая. Когда остановка не вынуждается непогодой, такие дни просто великолепны: не надо шагать по горной тропе под рюкзаком с заливаемыми потом глазами, можно забыть о ноющих под лямками плечах и дать поджить стёртым ногам, а самим неторопливо поесть и выпить чаю, даже позагорать… Одним словом, отдохнуть.
Я же наметил себе особый отдых: взобраться на гребень, огибая вершину Аккаи с востока, по дороге посмотреть на верхние Байюкские озёра, расположенные в тундровой зоне и редко посещаемые туристами, — просто побродить часов пять-шесть налегке. Оговорили с руководителем примерный маршрут, я надел кирпичного цвета робу, которая бросилась бы в глаза, если не дай бог чего… И отправился.
Не буду заводить речь об озёрах, хотя они запомнились — и мёртвое, и живое, а я окунулся в оба. На гребне же, в сущности, нечего описывать: величие открывающейся панорамы выражает себя в безмолвии, не в словах… Гребень оправдывает своё название только при взгляде с севера, представляя собой отнюдь не скальный нож, как может показаться снизу, но протяжённое и полого снижающееся на юг плато, словно вымощенное камешками и плотной глиной.
Я располагал тремя часами и возможностью оценить погоду: на десятки километров вокруг ни единого облачка… Послеполуденное солнце в лёгкой дымке, передо мной плавно снижающаяся и удобная для ходьбы поверхность безо всяких видимых препятствий. Почему не пройти немного на юг и не осмотреть сверху долину одноимённой реки?
Препятствие оказалось невидимым. Я шёл на юг в тишине и покое — и вдруг наткнулся на стену встречного ветра, буквально не позволявшего идти дальше. Стоило отойти на пятнадцать-двадцать метров назад — он переставал ощущаться. Несколько раз я подходил к его незримой границе — но скорость и устойчивость потока не менялись. Странное дело: сильнейшей ветер нёсся по горной пустоши и с ничем не выделяющегося места поднимался вверх, оставляя меня в клине штиля у поверхности земли…
В клине довольно тонком. Я понял это, когда увидел воронов совсем близко. Их было трое. Они не парили — они словно зависли, стремительно мчась в воздушном течении, но почти не смещаясь относительно земли. Насколько же точно они находили зону равновесия для такого скольжения — на зависть мастерам виндсёрфинга! Время от времени один из них делал знаменитую воронову «бочку» — своеобразный кувырок в полёте — на несколько секунд отставая от товарищей и снова возвращаясь к ним.
Несомненно, птицы наблюдали за мной, так же как и я за ними. Удалось услышать, как они обменялись несколькими репликами и — удалились. Точнее, дали ветру себя унести.
О чём они… говорили? Сошлись на том, что человек бодр, держится уверенно и не сулит им добычи? Пока что не сулит…
Да, я повернул назад и добрался до стоянки без приключений. Если не считать таковым грозу, внезапно налетевшую, когда я уже спускался по каменным осыпям северного склона, обходя срывы и спрятавшись от дождя под одним из них. Откуда было взяться буре — во всей округе два часа назад не было ни облачка? Ходившие в горы подобному не удивляются…
А если я и удивлялся — то вспоминая подслушанное совещание трёх больших птиц. Они не каркают, как ворóны; их говор негромок и, что ни думай, производит впечатление членораздельной речи…
Второй эпизод прозаичнее. Мы с дочкой провели неделю в семейном лагере на берегу Катуни. В понедельник наши товарищи решили послужить природе: убрать мусор, оставленный отдыхавшими неподалёку от нас в выходные дни. На краю невысокого обрыва, рядом с соснами, чьи корни уже подмыты водой, я нашёл неприятный пакет: килограмма два мяса, припасённого для шашлыка и, очевидно, протухшего. Спустился с этим на песок поближе к реке и вывернул принесённую паводком корягу; получилась канавка, куда я скинул находку и набросал сверху порядочный слой ивовых и сосновых веток.
На следующий день я заметил рядом с лагерем ястреба. Он поднялся с сука, полетел, ловко огибая сосны, и перед тем, как снова сесть, притормозил, развернувшись поперёк линии взгляда… Тогда я и увидел, что это ворон. Причина его появления прояснилась на день позже. Пройдя мимо места, где вывернул корягу, я обнаружил, что снесённые мною ветки разбросаны, а шашлычный пакет исчез.
Так и поработали два санитара леса на катунском берегу.
Формула
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
