
Бесплатный фрагмент - Русские музыканты об Америке и американцах
Предисловие
Идея этой книги родилась в 2006 году, когда я, будучи студентом исторического факультета Государственного университета гуманитарных наук, оказался перед необходимостью выбрать тему для своей дипломной работы. Неплохое знание английского языка и увлечённость англо-американской культурой весьма удачно соединились с моим композиторским прошлым (а в ретроспективе — и с будущим), в результате чего, после не особенно длительных, но гораздо более трудоёмких, чем я ожидал, усилий, из-под моего пера вышло сочинение, по-научному неэлегантно названное как «Российско-американские культурные связи в 20-е–40-е годы ХХ века на примере биографий русских музыкальных деятелей».
Я начал с персонажей более или менее известных — Прокофьева, Рахманинова, Стравинского, Шаляпина. Изучая источники по их жизни — дневники, письма, воспоминания, — а также разнообразные жизнеописания, я пришёл к осознанию двух важных моментов. Во-первых, чем дальше я продвигался в своей работе, тем шире становился круг людей, о которых стоило бы написать, особенно в свете того, что их имена сегодня практически — и едва ли справедливо — забыты в России. Я узнал о существовании Владимира Дукельского, Артура Лурье, Николая Набокова (кузена писателя), Дмитрия Тёмкина, Сола Юрока и многих других. Во-вторых, я обнаружил, что сухое изложение биографических данных, перечисление дат и фактов, не говоря уже об аналитике и статистике, меня совершенно не привлекало. Мне было любопытно взглянуть на Америку глазами моих русских героев, собрать их впечатления, наблюдения, размышления о Новом Свете, понять, как и насколько американская среда повлияла на их национальный характер, менталитет, сам образ жизни.
Получившееся в итоге нагромождение цитат и псевдо-обобщений и стало моей дипломной работой (оценённой, кстати, на «отлично»! ). В соответствии с требованиями академической бюрократии, я сформулировал тогда некое обоснование темы и её актуальность, пытаясь — как это обычно и делается — найти объективные оправдания своего субъективного интереса. Теперь, в рамках настоящей книги, после значительных ревизий, сокращений и дополнений, подобные риторические упражнения излишни. Это не научная работа. Ни гипотез, ни выводов в ней нет — они оставлены на суд читателя, которому предлагается прийти к собственному мнению.
Немногочисленные и разрозненные сведения пришлось собирать буквально по крупицам (большая часть материалов публикуется на русском языке впервые), их количество и качество неравномерно. Вместе с тем, представить их я попытался беспристрастно — настолько, насколько это возможно. Это — книга-коллаж, книга-калейдоскоп, она не претендует ни на целостность, ни на полноту, хотя логическая структура и некоторая завершённость в ней всё же есть. Изложение ведётся тематически, а выбор для рассмотрения тех или иных музыкантов не случаен — включены лишь те, кто был явным образом связан друг с другом узами личного или профессионального знакомства, в силу чего многие не менее замечательные личности остались за пределами моего внимания; обзор всех русских музыкантов в Америке потребовал бы составление специального словаря.
Мне бы хотелось выразить свою искреннюю благодарность Михаилу Владимировичу Бутову, Владимиру Алексеевичу Губайловскому, Павлу Михайловичу Крючкову, Эдуарду Николаевичу Мехралиеву, Патрику Рассу, Роберту Эдварду Смиту, Ирине Марковне Супоницкой и Оливии Тёмкиной-Дуглас за их вдумчивые советы и благожелательную поддержку в подготовке текста этой книги. Особенно же я благодарен моему доброму товарищу Борису Мессереру за галерею замечательных портретных эскизов, украсивших следующие страницы.
Введение
Культурная эмиграция — любопытное явление мировой истории, особенно новейшей. Вообще, социальные и экономические потрясения, как и целенаправленная политика властей, часто вынуждают людей покидать отечество в поисках лучшей доли. Каждый из них так или иначе несёт с собой и частицу своей национальной культуры — для этого необязательно быть художником или писателем. Вырастая в определённой среде, где бытуют некоторые обычаи и традиции, неписаные правила и нормы поведения, своеобразное восприятие себя и окружающих, получая обязательное образование, закрепляющее общепринятые точки зрения, всякий человек неизбежно, и обычно неосознанно, сам становится носителем культуры, которая во многом определяет его образ жизни.
Попадая в иную культурную среду, люди ведут себя по-разному. Одни в ней растворяются, адаптируются, привыкают, другие отказываются меняться, создают диаспоры. Тут играет свою роль, помимо прочего, и стойкость индивидуального характера, и, так сказать, сила культурного воздействия, с обеих сторон. Одна культура может обогатить другую, а может и уничтожить или изменить до неузнаваемости.
Что же происходит, когда эмигранты — сами деятели культуры, то есть, не только носители её, но и творцы? Что происходит, если сразу множество таких людей единовременно перебираются из одной страны в другую? Что вообще представляет из себя подобное культурное взаимодействие?
То, что обычно понимается под русской культурной эмиграцией — результат Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, Гражданской войны и последующего установления режима Советской власти — специфический феномен ХХ века, сопоставимый до известной степени лишь с исходом интеллигенции из Германии в 1930-е годы в связи с торжеством идеологии национал-социализма.
Уезжать, впрочем, начали гораздо раньше. Только к 1906 году количество эмигрантов из России достигало ― по самым скромным подсчётам — пятисот тысяч человек. Почти десятилетие спустя, в 1918 году, их численность увеличилась в полтора раза. А ещё через десять лет русских беженцев в разных странах мира было уже почти два с половиной миллиона. Изначально бежали от царских репрессий, особенно после первой русской революции 1905 года, да и просто за лучшей жизнью, потом спасались от ужасов нового режима. Одни уезжали, потому что боялись потерять всё, или уже потеряли, другие же, напротив, лишь искали бóльших возможностей. Например, в Америку перебирались отпрыски бедных еврейских семей, а то и целые семьи (с антисемитизмом царского времени было покончено в Советском Союзе, но легче от этого не стало). Формальные препятствия к выезду за границу тогда ещё были вполне преодолимы.
Значительнее всего изменился со временем социальный состав мигрантов. Если на первых порах это были в основном люди рабочих профессий и малообеспеченные, а также крестьяне, то позднее, наоборот, родину покидали представители интеллигенции и дворянства, офицеры царской армии и, конечно, чувствительные к культурной атмосфере деятели искусства. Многие полагали, что уезжают лишь на время — в годы Гражданской войны положение советской власти казалось неопределённым, если не сказать — шатким. Даже те, кто поддерживал новый режим, скептически смотрели в будущее. Но все они, как известно, ошиблись.
Серебряный век русской культуры продлился всего около двух десятилетий и закончился — оборвался — стремительно и печально. Многие деятели культуры продолжали работать, многие другие были репрессированы. Сотни литераторов, художников, музыкантов, актёров, учёных покинули Россию. Кто-то сгинул на чужбине, кому-то удалось обосноваться за границей и, не имея возможности или не желая творить на родине, они внесли вклад в культуры других государств и народов.
В поисках нового пристанища для творческой работы русская культурная элита рассеялась по всему свету. Кто-то обосновался в китайском Харбине, недалеко от российской границы. Другие, в их числе многие театралы, уехали в Берлин, где русская община процветала в 1920-е года, до тех пор, пока приход Гитлера к власти не заставил их искать нового пристанища. Многие оказались в Париже, который к 1930-м годам вообще превратился в центр русской интеллектуальной эмиграции. Некоторые улетели в Буэнос-Айрес. Некоторые — в Нью-Йорк и Сан-Франциско, где уже сформировались к тому времени крупные русские диаспоры. А кто-то даже поехал в Лос-Анджелес.
Но вообще уезжали всё-таки обычно в Европу — в Германию, Францию, Швейцарию — в те страны, которые уже хорошо были знакомы относительно состоятельным русским по учёбе, работе и отдыху. Русские музыканты бывали на гастролях и в Америке, но всё же чаще концертировали в Европе. Старый Свет, однако, в 1920-е и 1930-е годы был не тот, что прежде. Восстановление после одной мировой войны проходило на фоне ожидания следующей, и первенство среди наиболее успешных государств мира медленно, но верно перемещалось за океан, к Соединённым Штатам Америки. Высокие темпы развития производства и, как следствие, быстрый рост доходов и численности предпринимателей, в том числе, из среднего класса, вместе с модой на импорт культуры из Европы, могли предоставить людям искусства куда более заманчивые возможности.
…были государства, которые открыто продавали своё гражданство апатридам. Часть русских эмигрантов получила паспорта, выданные на законных основаниях правительством Гондураса, обещавшим самый вожделенный приз — визу в США. Всё, что требовалось, — это оплатить чек в сто долларов, выписанный непосредственно на имя президента Республики Гондурас, и в считанные дни новёхонький паспорт был у вас в руках. Другим любопытным вариантом было гражданство Республики Гаити, которым в 1920 году в Париже торговали направо и налево. Несколько русских скрипачей и пианистов уехали в США по гаитянским паспортам и были поражены, когда из расспросов иммиграционных властей выяснилось, что Гаити — страна негритянская. Им и не нужно было прибегать к таким уловкам: для всех артистов на въезд в США отсутствовали какие-либо ограничения.
Контакты между Россией и Америкой до Первой мировой войны существовали — дипломатические, экономические, культурные, — правда, назвать их связями, тем более, имевшими какой-то исключительно тесный характер, было бы преувеличением. Обе державы были крупными игроками в локальной политике, но не мировой, находились они далеко друг от друга, и делить им особо было нечего. На международной арене русско-американские отношения зависели в большей степени от отношений каждой из стран с Великобританией и Францией.
Торговля между Россией и Америкой была ограничена, и никаких стратегически важных товаров они друг у друга не покупали, за исключением разве что русской пеньки, использовавшейся в кораблестроении в Салеме и Бостоне, а также водки, икры и мехов для стола и гардероба американских нуворишей. В России же об Америке знали мало и по большей части из романов Фенимора Купера, Джека Лондона и, пожалуй, Марка Твена, да и те пользовались весьма ограниченным успехом, поскольку большинство русских читать вовсе не умело, а тяготы повседневной жизни не оставляли места фантазиям о полуреальной-полумифической заокеанской стране.
Конечно, в XIX веке — а изредка и сегодня — русских поселенцев можно было встретить на Аляске, и вообще на северо-западе американского континента, а также в северных областях Калифорнии, но дальше дело и не пошло, поскольку император Александр II, понимая приоритет Центральной Азии, продал в 1867 году Аляску Соединённым Штатам за $7.200.000 и отказался от всяких притязаний на американские территории.
Изменила двусторонние отношения Первая мировая война, в которую Америка вступила 6 апреля 1917 года, объявив войну Германии и став, таким образом, впервые в истории союзником России, пусть и ненадолго. Сама же Россия переживала в ту пору хаос Февральской революции…
Поначалу американское правительство с энтузиазмом приветствовало отстранение Николая II от власти, поскольку тогда казалось, что на смену отжившей свой век монархии придёт парламентский демократический режим, сходный, собственно, с американским. Большевики в целом и Ленин в частности в Штатах считались — более или менее справедливо — немецкими шпионами и агентами, засланными с целью подорвать военные усилия России, что в итоге и произошло. Впрочем, война, которую Россия проигрывала, и без того становилась всё менее популярной, как и само Временное правительство Александра Керенского, который всеми силами стремился её продолжать.
После событий, известных впоследствии как (Великая) Октябрьская (социалистическая) революция, Россия в одностороннем порядке вышла из войны, заключив в начале 1918 года сепаратное перемирие с Германией. Неожиданно Соединённые Штаты не только потеряли союзника, но и приобрели идеологического противника в лице первого в мире социалистического режима, агрессивно враждебного если не к Америке как таковой, то к тем ценностям демократии и капитализма, которые Америка разделяла.
Религиозный фанатизм советского коммунизма и нескрываемые им глобальные амбиции оказались серьёзным испытанием для американской нервной системы. Долгая и относительно спокойная эпоха русско-американских отношений, не ознаменованная, в сущности, ничем примечательным, неожиданно подошла к концу. Вся история ХХ века станет, в значительной степени, историей русско-американской идеологической и военной борьбы.
Только 17 ноября 1933 года, по прошествии почти шестнадцати лет с возникновения Советской власти, правительства США и СССР установили дипломатические отношения. Соединённые Штаты, таким образом, были одним из первых государств, признавших свержение царя и Временное правительство, но одним из последних, признавших коммунистический режим. Причины, что характерно, были сугубо политическими. В администрации Франклина Рузвельта видели в Третьей империи Гитлера гораздо бóльшую угрозу американскому образу жизни, чем в сталинской стране победившего социализма, соответственно, последняя рассматривалась как естественный европейский противовес первой. Если в массовом сознании американцев больших сдвигов не произошло, то на официальном уровне началось ощутимое сближение.
Фактическое вступление СССР во Вторую мировую войну в 1939 году в Америке не афишировалось, а вот нападение Германии на СССР в 1941 году вызвало очередной резкий поворот в советско-американских отношениях. Теперь Советский Союз был дружественным государством, если не формально, то по сути. Появилась необходимость лучше понять и, более того, полюбить Россию в её тогдашнем виде. Голливудские студии получили чёткие указания изменить образ России и русских в фильмах — теперь недопустимо стало высмеивать коммунизм или использовать русский акцент для комических эффектов. Одновременно была запущена масштабная программа военной помощи Советам — провиантом, деньгами и техникой, — значительно повлиявшая на весь ход войны. Знаменитые «катюши» представляли собой ничто иное, как советские ракетные установки, смонтированные на американских грузовиках Studebaker.
Взаимная дружба оказалось, увы, недолгой. Стоило лишь закончится войне, как антисоветские и антикоммунистические настроения в Америке вспыхнули с новой — и ещё большей — силой. Кульминацией стала эра так называемого маккартизма (по имени сенатора от штата Висконсин Джозефа МакКарти), продлившаяся с 1949 по 1959 годы. Подобно тому, как НКВД и цензура искали врагов народа в СССР в 1930-х, так и в США два десятилетия спустя правительство и ФБР не покладая рук трудились в поисках тех, кто сочувствовал советскому режиму.
Хотя антикоммунистическая «охота на ведьм» явилась в значительной степени следствием паранойи, для негативного образа советской России были в Америке и вполне объективные основания. Разделение послевоенной Европы на две сферы влияния лишь способствовало поляризации настроений. В 1948 году членом Восточного блока стала Чехословакия, некогда вполне демократическая республика, образованная к тому же не без помощи американского президента Вудро Вильсона. Широкое — и отнюдь не лестное — освещение в западной прессе получило разделение Берлина в 1948–1949 годах. Ну а когда в 1949 году коммунистический Китай провозгласил себя союзником СССР, страхи американцев достигли панической отметки, из-за угрозы международного окружения государствами, не питавшими сочувствия к американским ценностям.
На этом этапе впервые в истории русские стали восприниматься в Соединённых Штатах как враг номер один, причём разница между понятиями «русский» и «советский» больше не проводилась. Те самые голливудские продюсеры, которые всего несколько лет до этого создавали в своих фильмах вполне положительные образы русских и России, подверглись жёсткой критике, а некоторые — и уголовному преследованию. Социальный заказ снова изменился. Если сначала над советскими реалиями в кино обычно посмеивались, потом им симпатизировали, то теперь они стали объектом самой настоящей ненависти, а военное столкновение двух держав казалось неизбежным и очень скорым. В дешёвых научно-фантастических фильмах и популярной литературе оно часто аллегорически изображалось в виде вторжения инопланетян, таких же агрессивных, хитрых и совершенно непонятных.
Парадоксально, но подобного рода настроения почти никак не затронули русских эмигрантов, во всяком случае, тех, кто явно не разделял советских идеалов — а таких вообще было большинство. Не исчезла вовсе и мода на русское, только теперь всё то русское, о чём можно было писать и снимать фильмы, заканчивалось Революцией (в сознании американцев три русских революции слились в одну). Русская культура, таким образом, превратилась в достояние истории.
Некоторое потепление пришло в русско-американские отношения с так называемой хрущёвской оттепелью. Хотя взаимная угроза не стала менее явной, а в чём-то, наоборот, усилилась, тем не менее, появились возможности для диалога. Никита Хрущёв встретился в Женеве в 1955 году с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, а в 1959 году уже лично посетил США, что стало первым в истории прецедентом визита главы русского/российского/советского государства в Соединённые Штаты.
В 1958 году было подписано соглашение Лэйси-Зарубина, о культурном обмене между США и СССР, что фактически несколько приподняло железный занавес, правда, больше для американцев, чем для русских. В Россию хлынул поток американских туристов, которые смогли воочию убедиться, что в России не всегда зима, медведи не ходят по улицам и не все пьют водку.
Более важно то, что некоторым русским артистам позволили посетить Америку. Одним из главных действующих лиц всего этого процесса стал знаменитый (и некогда русский) импресарио Сол Юрок. Ему приписывают такую фразу: «Знаете, что такое культурный обмен между Советским Союзом и Соединенными Штатами? Это когда они везут ко мне своих евреев из Одессы, а я везу к ним своих евреев из Одессы».
Ансамбль народного танца Игоря Моисеева с феноменальным успехом провёл в 1958 году гастроли в Америке, выступив в общей сложности перед полумиллионной аудиторией, а двадцатитрёхлетний американский пианист Ван Клиберн завоевал первое место на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве. В 1959 году с гастролями приехал в Штаты Большой театр. В большинстве крупных городов, где были выступления, приходилось звать на помощь полицию — количество желающих поглядеть на настоящих русских было слишком велико. И в конечном итоге любопытство пересиливало страх перед Россией.
Но не прошло и двух лет, как началось возведение Берлинской стены, ставшей символом всей Холодной войны, а затем, год спустя, разразился кубинский ядерный кризис, и прежнее паническое недоверие вернулось…
ИСХОД
Наш дом на чужбине случайной,
Где мирен изгнанника сон,
Как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружён.
Владимир Набоков (1899–1977)
Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.
Robert Frost (1874–1963)
I. Образ Америки
В географическом отношении, с конца XIX века, Российская империя и Соединённые Штаты Америки практически были соседями — русский Дальний Восток и некогда русскую, но теперь американскую Аляску разделял лишь узкий пролив. Культурная дистанция, однако, была куда больше и проходила скорее через Европу, которая занимала, так сказать, промежуточное положение. Европейские страны многим русским были известны не понаслышке, в то время, как об Америке в России (да и в Европе) ходили порой фантастические представления, как, впрочем, и в самой Америке о России.
[В начале 1920-х годов] Париж был полон американцев, разбрасывавших доллары направо и налево — предполагалось, что все они были миллионерами. С некоторыми я познакомился, хотя по-английски не говорил. А они рассказывали мне про сухой закон, подпольные бары, бутлеггеров, дешёвый джин, чикагские бандитские разборки, знаменитого Аль Капоне… Из всех этих историй, а также из американских вестернов, я вынес впечатление о том, что в Соединённых Штатах жили исключительно ковбои и гангстеры.
Какие-то отдельные элементы американской культуры, конечно, просачивались в круги богемы и интеллигенции, превращаясь в модные веяния. Молодые художники одевались в костюмы (предположительно) американского покроя, со штанами в крупную клетку и кричащими шейными платками. Те, кто хотел выделиться ещё больше, без устали вставляли в свою речь фразы вроде hello и all right (чем, как правило, и ограничивались их познания в английском языке).
Студенты зачитывались Эдгаром По и Уолтом Уитменом, Джеком Лондоном и Марком Твеном, появлялись многочисленные переводы, в том числе и за подписью именитых мастеров Серебряного века, вроде Бальмонта или Брюсова. В облюбованных творческой элитой питейных заведениях звучала негритянская музыка и рэгтаймы Ирвинга Берлина, кавказское вино смешивали с водкой в подражание американским коктейлям.
Интереса к самим Соединённым Штатам, их политическому устройству, традициям и даже — в годы Первой мировой войны — к их отношениям с союзниками при этом обычно не наблюдалось. Мода на американское была эксцентричной, и следовать ей считалось признаком тонкого вкуса, а страсть к американской популярной музыке за пределы узкой компании поклонников авангарда никогда и не выходила, хотя Дмитрий Тёмкин, вращавшийся как раз в таком обществе, сравнивал тогдашнюю атмосферу с культурой рок-н-ролла в странах советского блока в конце 1950-х годов.
«Америка казалась мне далёкой, непривлекательной и запретной…» — удручённо замечал в мемуарах Николай Набоков. Ему вторил, хотя и более оптимистично, Сергей Прокофьев: «Тянуло путешествовать, ехать куда-нибудь далеко-далеко, в Америку. Действительно, у нас в России говорят об Америке, как о чём-то таком, куда всё равно никогда не попасть, как на Луну».
…Я давно уже интересовался Новым Светом и страной, где какие-то сказочно энергичные люди делают миллиарды скорее и проще, чем у нас на Руси лапти плетут, и где бесстрашно строят вавилонские башни в 60 этажей высотою.
Думы о выступлении в суровой стране «бизнесменов», о которой я много слышал необычного, фантастического, так волновали меня, что я даже не помню впечатлений переезда через океан.
Интересно отметить, что во многом первоначальные представления русских музыкантов и артистов о Новом Свете подтвердились. «Я думал, что, конечно, здесь не надо искать ни пейзажей, ни замков, ни легенд. Это страна великолепного комфорта, золотых долларов и безупречного all right», — записал Прокофьев на борту корабля, взявшего курс на Сан-Франциско.
В самой же Америке к русским тогда относились скорее положительно. Прокофьев, ещё до того, как ступил на американскую почву, впрочем, не был ни в чём уверен. «Как невероятно разнообразны мнения об Америке и, главное, об отношении американцев к русским». Немного позднее он ориентировался в обстановке гораздо лучше: «Это неправда, что к русским артистам относятся плохо…», «в Америке к русским относятся лучше, чем в Англии…». От одного из русских иммигрантов-музыкантов Прокофьев также узнал, что «русские музыканты в спросе и большевизм не бросил тени на русское искусство».
К некоторым деятелям культуры отношение было даже более трепетное, чем в Старом Свете. «Я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе», — писал Пётр Чайковский о своём визите в Штаты в 1891 году. Разумеется, такое положение вещей не было всегда неизменным.
Преобладающее в Америке общественное мнение по отношению к России за последние три года дважды кардинально изменилось. Сперва оно было против — после раздела Польши и «злодейской» финской войны [1939–40 годов]. В газетных карикатурах Сталин выглядел отталкивающим гибридом волка и медведя. Потом, неожиданно, общественное мнение оказалось на стороне России: после нацистского вторжения 1941 года. Сталин вдруг предстал в образе благородного воина в доспехах, защищающего Кремль от тевтонских орд…
Моисей Леонович Гершонович | Morris Gest

Музыкальный и театральный продюсер.
Родился 3 (15) марта 1875 (по другим данным — 5 (17) января 1881) года под городом Вильной Виленского уезда Виленской губернии (Российская империя; ныне — Литовская республика). Умер 16 мая 1942 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк (США).
Вместе с семьёй эмигрировал в США в 1890 году, поселившись в Бостоне. Начинал работой в библиотеке окружного суда, затем в разных качествах работал в бостонских театрах.
В 1912–1936 годах выступал как продюсер на Бродвее, приняв участие в организации постановок более, чем сотни мюзиклов и ревю. В 1920-е в кооперации с партнёрами организовал собственное продюсерское дело, представляя американской публике главным образом европейских артистов.
Широкую известность принесло Гесту сотрудничество с русскими артистами и музыкантами, как советскими, так и в эмиграции, включая балетные и театральные труппы (например, Московский художественный театр).
Константин Бальмонт [Америка, 1921]
Сонет, посвящённый Сергею Прокофьеву
Америка. Великая страна
Двух океанов, гор, полей и прерий.
Ты всем, чьё сердце пронзено потерей,
Была не раз как родина дана.
И в тех сердцах опять цвела весна.
Ты учишь быть могучим в полной мере.
Ты воля, и велишь не гаснуть вере.
В творящий дух. Ты знаешь глубь до дна.
Ты медленно куёшь свои решенья.
Так выберет не сразу ювелир
Вон тот рубин, и этот вот сапфир.
Но, раз решив, одно творишь: Свершенье,
Работаешь — твой труд похож на пир.
Ты пламя. Меткострельность достиженья.
II. «Ехать или не ехать…»
«… — у меня на этот счёт никогда не было ни малейшего сомненья. Никакого! Никогда не сомневался, всегда знал: если только будет возможность — уеду!» В таких выражениях вспоминал о своём отъезде балетмейстер, а тогда просто балетный танцор, Георгий Баланчивадзе, он же будущий Джордж Баланчин. Действительно, в течение первой четверти двадцатого века Россию покинуло — среди прочих — множество талантливых деятелей культуры. И если поначалу далеко не все из них были так же решительны, как Баланчин, то уже к двадцатым годам перспективы жизни и творчества в Советской России стали вполне очевидны, вынудив оставить родину тех, для кого новые ценности были неприемлемы.
Конечно, больше всего пищи для размышлений в этом смысле дали Первая мировая война и Октябрьская революция (Февральскую на удивление многие приняли с одобрением). С этого времени начался наиболее интенсивный поток эмиграции. Но и прежде некоторые люди науки и искусства бежали, только ещё от царского режима. Не говоря уже о том, что многие, бывая за границей, на гастролях или на отдыхе, могли воочию убедиться в различиях между Россией и Западом. Например, Сергей Рахманинов и Фёдор Шаляпин, эмигрировавшие в Соединённые Штаты в 1918 и 1921 годах соответственно, гастролировали там в конце 1900-х. В Швейцарии фактически обосновался ещё до начала Первой мировой Игорь Стравинский (вообще проживший в эмиграции бóльшую часть жизни).
Многие музыканты уезжали в Европу, а уже потом часть из них перебиралась в Америку. Сразу в Соединённые Штаты ехали в основном те, кто намеревался начать жизнь заново, у кого не было ни репутации, которую надо поддерживать, ни денег, которые можно потерять. Это были люди, которые собирались буквально сделать себя сами.
Когда я сошёл на берег в Соединённых Штатах, я был незаметным, да и не стоящим внимания, мигрантом из довольно большого потока. Другие молодые русские, гораздо более известные, чем я, тоже путешествовали через Атлантику в Америку в 1905 и 1906 годах. Поэты, артисты, писатели буквально волнами захлёстывали эти берега, спасаясь от царских репрессий!
Пару лет спустя после иммиграции в США Соломона Гуркова, впоследствии ставшего Солом Юроком, в Новый Свет впервые приехал с гастролями Сергей Рахманинов. Оставаться насовсем он тогда не собирался, хотя предложения такие поступали. Например, его дирижирование Бостонским симфоническим оркестром (тем самым, который позднее с успехом возглавил Сергей Кусевицкий) во время исполнения собственной симфонической поэмы «Остров мёртвых» произвело такое впечатление, что русскому композитору сразу же пообещали место тогдашнего главного дирижёра, немца Макса Фидлера. Но Рахманинов отказался не раздумывая. Перспектива жить и работать в Америке казалось ему нелепой. Почти через десять лет, однако, обстоятельства изменились достаточно, чтобы именно такую перспективу музыкант счёл приоритетной.
После начала неудачной для России Первой мировой войны тягостные мысли начали одолевать молодого Сергея Прокофьева, который в течение нескольких лет планировал уехать в Америку. Первые устремления датировались началом октября 1914 года: «Очутиться в мае в Америке… это не плохо. Усиленно читал по-английски, ибо, друзья мои, Америка!» Ну а после Февральской революции Прокофьев уже всеми способами изыскивал способ оставить родину. Он ненавязчиво намекал находившимся в России американцам, что совсем даже не против поработать для тамошней публики: «Я сообщил, что… если в Америке пожелают, могу приехать концертировать». Дальше — больше. К концу 1917 года композитор уже был полон решимости.
Ехать в Америку! Конечно! Здесь — закисание, там — жизнь ключом, здесь — резня и дичь, там — культурная жизнь, здесь — жалкие концерты в Кисловодске, там — Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду. Лишь бы Америка не чувствовала вражды к сепаратным русским! И вот под этим флагом я встретил Новый год. Неужели он провалит мои желания?
Как оказалось, ожидания Прокофьева вполне оправдались. И хотя ему пришлось ещё немного потерпеть (все первые месяцы 1918 года он беспрестанно возвращался мыслями к эмиграции в Америку), уже весной ему удалось покинуть Россию и через Японию добраться до Соединённых Штатов. Финансировал поездку американский промышленник Сайрус МакКормик, который познакомился с Прокофьевым в июне 1917 года, во время посещения России в составе американской дипломатической миссии.
Санкционировал же заграничную поездку сам Анатолий Луначарский, народный комиссар просвещения, рассчитывая, что композитор будет своего рода советским атташе по культуре. Тот соблюдал договор и в беседах с американскими корреспондентами никогда не отзывался негативно о послереволюционной России, не желая рисковать хорошими отношениями с большевистским режимом и его заграничными агентами.
Русские, жившие в Европе, искали новых возможностей, которые могли найти только в Америке (зачастую с помощью других русских). Так, летом 1923 года молодой, но уже небезызвестный Николай Слонимский получил предложение из Соединённых Штатов стать концертмейстером в недавно организованной оперной труппе при престижной Истменовской музыкальной школе в Рочестере, штат Нью-Йорк. Предприятие это было детищем русского певца Владимира Розинга, с которым Слонимский гастролировал в 1921–1922 годах во Франции, Бельгии и Испании как аккомпаниатор.
Сергея Кусевицкого, овеянного славой своих русских и — в гораздо большей степени — парижских концертов, звали в Америку неоднократно. В 1921 году он получил предложение возглавить Лос-анджелесский оркестр, но отказался. То же повторилось и год спустя с оркестром Цинциннати. По поводу последнего он писал Рахманинову, что «дело не вышло». Позднее дирижёру стало известно, что о нём ходят настойчивые слухи, будто он вовсе не намерен надолго оставаться в Штатах, а кроме того, запрашивает баснословные гонорары. В 1924 году Кусевицкому был предложен пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, второго из старейших во всей Северной Америке, и на сей раз маэстро согласился. Его секретарём на какое-то время снова — как и в европейские годы — стал Слонимский. Несмотря на то, что обоими первые американские контракты рассматривались скорее как временные (для Слонимского они таковыми и оказались), пребывание в Америке обернулось постоянным.
То же можно сказать и о пианисте и композиторе Дмитрии Тёмкине, обосновавшемся сперва в Берлине и затем в Париже, где никто иной, как скрипач Ефрем Цимбалист внушил ему идею о необходимости эмигрировать в США (сам Цимбалист уже получил приличный аванс за написание музыки к одному развлекательному шоу). Впоследствии, в 1925 году, Тёмкин принял предложение трёхмесячного концертного турне по Америке с водевильным театром. Небольшая дисквалификация для серьёзного музыканта, — но зато хороший заработок! По его собственным словам, «у нас не было страны, и надо было найти новую; а что могло быть более подходящим для европейца, искавшего лучшей жизни, чем Соединённые Штаты, вожделенная цель всех беженцев?»
Александру Гречанинову по всей видимости ещё в 1917 году, после Февральской революции, было предложено переехать в Америку на условиях полной материальной поддержки. С ним тогда познакомился в Кисловодске некий состоятельный американец, господин Крэн, содержавший на свои средства хор при русской церкви в Нью-Йорке, где с успехом исполнялись произведения композитора. Крэн же одним из первых осознал, что личное присутствие Гречанинова только поспособствует американскому успеху его музыки. Поначалу музыкант воспринял перспективу без особого энтузиазма — он покинул Россию только в 1925 году и поселился в Париже. Лишь в декабре 1928 года русская певица Нина Кошиц, сама уже обосновавшаяся в Штатах, сообщила ему о возможности провести серию концертов, каждый — с гарантией в тысячу долларов, и теперь Гречанинов ответил согласием. Позднее, в мемуарах, он вспоминал: «Мне давно хотелось побывать в Америке, а потому я с радостью принял предложение». С окончательным переездом он, впрочем, вовсе не спешил и на этот шаг решился только десять лет спустя. На фоне переговоров между Сталином и Гитлером и нарастания угрозы новой войны, единственной альтернативой Европе была Америка. К тому же, дочь Гречанинова была уже в Детройте замужем за американцем, так что, композитор принял решение перебраться в Новый Свет насовсем.
В 1933 году в Америку уехали Николай Набоков и Джордж Баланчин. Первый не мог больше найти себе применения в Европе, испытывая серьёзный недостаток в средствах. Второй был настроен — по крайней мере, по позднейшим воспоминаниям — несколько более романтично.
Захотелось в Америку, показалось — там интересней будет, что-то такое произойдёт другое. Появятся новые, невероятные какие-то знакомые. Русским всегда хочется увидеть Америку… Жизнь в Америке, думал я, будет весёлая. Так и оказалось.
В числе последних покинул Европу Игорь Стравинский, которого неблагоприятный тамошний климат конца 1930-х годов — и природный, и культурный, и политический — буквально подталкивал к эмиграции в Америку. Несколькими годами ранее он обнаружил, что тёплый и тогда ещё чистый воздух Калифорнии прекрасно подходил для его болезненных лёгких, а американские оркестры с куда бóльшим энтузиазмом, чем европейские готовы были исполнять его сочинения. Кроме того, ему было предложено прочесть необременительный, но хорошо оплачиваемый курс лекций (на 1939/40 учебный год) в престижном Гарвардском университете. Накануне отъезда за океан Стравинский всё время был нервным, раздражительным, неспособным работать, есть и спать и горел одним лишь желанием выбраться «в Америку, где по-прежнему царил порядок».
Вообще, страх перед беспорядком, анархией был для композитора важнейшим фактором в выборе места проживания. Как вспоминал Николай Набоков, после вступления США во Вторую мировую войну Стравинский стал весьма обеспокоен вероятностью революции в Америке. Как-то раз он спросил знакомого, действительно ли такое может случиться, и, получив неопределённый ответ, воскликнул с негодованием: «Куда же мне тогда деваться?».
Надо вместе с тем сказать, что в отличие от многих других эмигрантов, Стравинский не бежал собственно от нацистской угрозы. Никакой симпатии к национал-социалистической и фашистской идеологиям он не испытывал, что не помешало ему немало усилий приложить для достижения взаимопонимания с Муссолини. Когда немецкая пресса — ошибочно — назвала его евреем, он сделал всё возможное, чтобы это опровергнуть (значительная часть его авторских отчислений поступала из Германии). Впрочем, с началом войны музыка Стравинского всё равно попала под официальный запрет — в 1939 году из-за его французского гражданства, а в 1940 году уже (вторично) сама по себе. Соответственно, чем больше стран оккупировала Германия, тем меньше исполнялись его сочинения.
Задолго до первого визита Стравинского в Штаты его имя — во многом благодаря бурной деятельности Сергея Кусевицкого — было там уже очень хорошо известно. Любопытным примером может послужить следующий факт. Одна газета как-то раз напечатала статью о том, как композитор, больной и нищий, влачил жалкое существование в Швейцарии, сумев под таким предлогом собрать пожертвований на сумму более десяти тысяч долларов.
Соломон Израилевич Гурков| Sol Hurok
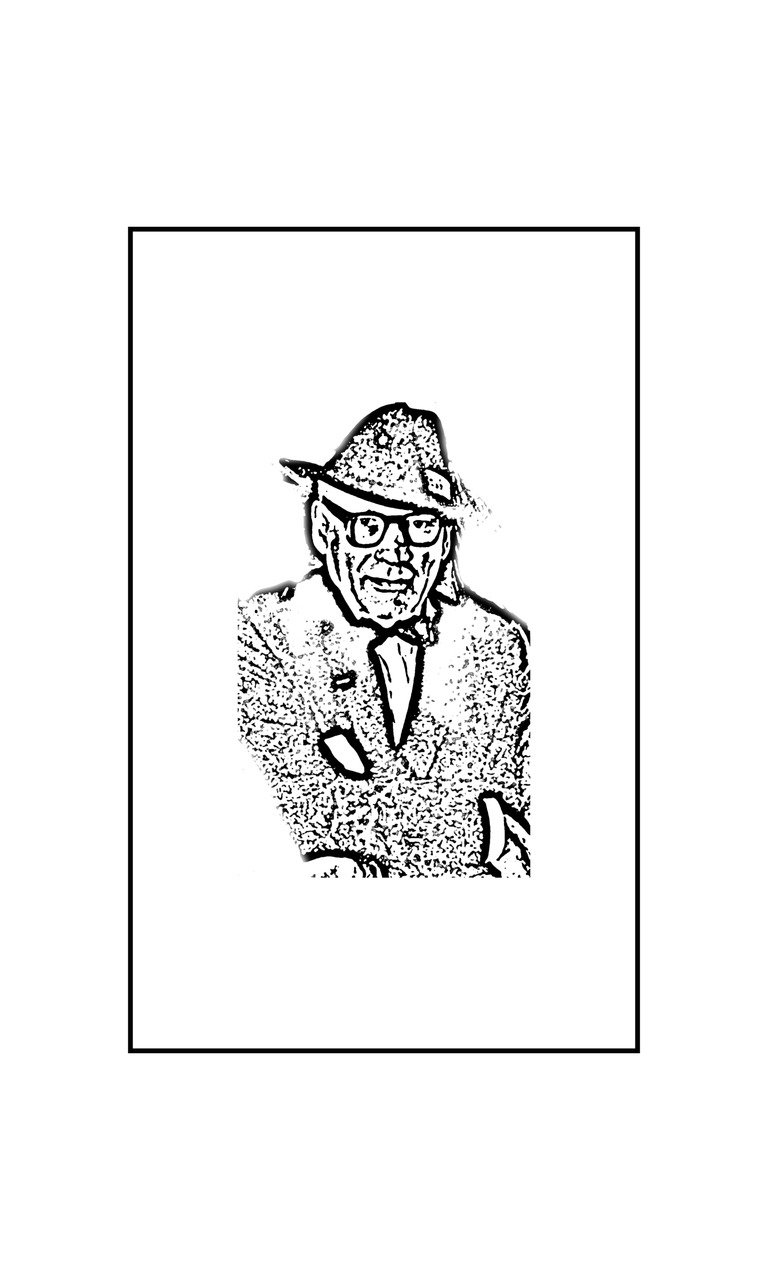
Музыкальный и театральный продюсер, концертный менеджер.
Родился 9 (21) апреля 1888 года в городе Погаре Стародубского уезда Черниговской губернии (Российская империя; ныне — Российская федерация). Умер 5 марта 1974 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк (США).
В США — с 1906 года (гражданин — с 1914). Профессиональную деятельность начал с организации концертов в Нью-Йорке. Затем в качестве импресарио вёл дела многих всемирно известных артистов, как американских, так и русских, в том числе Айседоры Дункан, Анны Павловой, Артура Рубинштейна, Галины Улановой, Михаила Фокина, Фёдора Шаляпина.
С 1926 года Юрок в числе прочего организовывал гастроли советских артистов в Америке и американских — в СССР, регулярно посещая Советский Союз. Был антрепренёром трупп «Русских балетов» и способствовал укреплению популярности русской музыки в Штатах.
К 1940-м годам стал одним из ведущих музыкально-театральных продюсеров страны. В общей сложности за свою карьеру Юроку удалось поработать с четырьмя тысячами исполнителей.
III. Welcome
Пересечение Атлантики в первые десятилетия ХХ века было предприятием долгим и обычно не особенно приятным. Воздушного сообщения между Старым и Новым Светом в те годы ещё не существовало, так что, единственным вариантом оставалось — как и веками до того — морское путешествие.
В распоряжении богатых и знаменитых были комфортабельные апартаменты на роскошных океанских лайнерах, таких огромных, что порой пассажирам казалось, будто они вовсе и не покидали суши. Помимо кают, отличимых от номеров лучших гостиниц лишь видами за окном, к услугам взыскательной публики были рестораны, гольф-клубы, залы для танцев, оркестры, библиотеки, иногда даже кинотеатры.
Те же, кто не был обременён почётом и славой, — а это, конечно, абсолютное большинство — вынуждены были довольствоваться тесными койками в битком набитых каютах на старых и утлых пароходах. Интеллектуалы и люди искусства делили жилое пространство, а нередко и грузовые отсеки, с неграмотными разнорабочими и разорившимися крестьянами со всей Европы. Как атмосфера, так и санитарные условия оставляли желать лучшего. Но именно таковы были врата Америки для рядового иммигранта.
Первое появление желтовато-зелёного берега Джерси и голубовато-зелёной рубенсовской леди, олицетворявшей свободу и самоуважение, которых нам столь долго не хватало, привело нас в восторг, такой же громогласный и спонтанный, как и у многих предшествовавших поколений иммигрантов.
Уже на берегу, прохождение иммиграционного контроля и таможни было, как правило, также связано с немалыми трудностями, от которых только избранные могли быть застрахованы, да и то не всегда. Даже Пётр Чайковский, композитор с мировым именем, специально приглашённый в 1891 году выступить на открытии Карнеги-холла в Нью-Йорке, был по прибытии замучен таможенными и паспортными формальностями. Эти неудобства, однако, ни в какое сравнение не шли с рутинными процедурами досмотра. Фёдор Шаляпин во время своего первого визита в Штаты в 1907 году имел возможность воочию наблюдать за мытарствами переселенцев.
…Я познакомился с тем, как принимает Америка эмигрантов из Европы, видел, как грубо раздевают людей, осматривают карманы, справляются у женщин, где их мужья, у девушек — девушки ли они, спрашивают, много ли они привезли с собой денег. И только после этого одним позволяют сойти на берег, а некоторых отправляют обратно, в Европу.
Самого Шаляпина у трапа ожидал его менеджер (и бывший соотечественник) Сол Юрок, быстро и эффективно уладивший все нюансы, так, что артист удостоился подобающего своему статусу приёма — уже на пристани его окружило множество «деловитых людей» и репортёров, заваливших артиста самыми разными вопросами о его личной жизни и взглядах. На следующий день падкие на сенсации газеты, не оценившие ироничных ответов певца, напечатали, что он «один на один ходит на медведя, презирает политику, не терпит нищих и надеется, что по возвращении в Россию его посадят в тюрьму».
Толпа журналистов годом раньше засыпала вопросами и молодого, но уже (почти) легендарного пианиста Артура Рубинштейна, русского поляка, после чего местные газеты запестрели сенсационными — и снова ложными — историями. Его следующий визит состоялся только тридцать лет спустя, в 1937 году, что также не дало никаких особенных процедурных осложнений. Правда, тогда его авторитет был уже и вовсе непререкаем, да и приехал он дать всего несколько концертов (и на сей раз его менеджером выступил всё тот же неутомимый Сол Юрок). А через пару лет Рубинштейн принял решение обосноваться в Америке постоянно.
Сам же Юрок, кстати, в своей автобиографии счёл нужным упомянуть лишь, что очутился в Нью-Йорке в мае 1906 года, не раскрывая подробностей. Ясно, что он не был встречен распростёртыми объятиями, но, коль скоро мемуары он писал уже будучи американским гражданином, вероятно, ему не очень-то и хотелось вспоминать малоприятные подробности своего прибытия.
Слава виртуоза оградила от чрезмерной волокиты и Сергея Рахманинова (с большим успехом гастролировавшего здесь почти за десять лет до этого) — он вступил на американскую землю без особых проблем в начале ноября 1918 года, уже имея несколько приглашений концертировать — летом он получил (при помощи старых русских друзей Осипа Габриловича и Модеста Альтшулера) три приглашения выступить в США. Одно из них было от Симфонического оркестра Цинциннати, другое — из Бостона, третье — предложение дать серию сольных концертов. В обоих оркестрах, рассыпаясь в комплиментах, предложили ему место главного дирижера, многочисленные льготы и почести. Кроме прочего, эти предложения были чрезвычайно привлекательны в материальном отношении, но Рахманинов, по ряду личных причин, отверг их. Также знакомые предупреждали его об интригах в среде руководства американских оркестров. Впрочем, хотя Рахманинов и не подписал ни одного из предложенных контрактов, с их помощью ему довольно легко удалось получить американскую визу. Без труда получил визу и Николай Слонимский.
У меня, как у человека искусства, не возникло проблем с получением американской визы, ибо для работников умственного труда не было никаких ограничений. Но я завидовал американцам, которые первыми высадились на берег и говорили по-английски так быстро, что я не мог понять ни слова.
А вот двадцатисемилетнему Сергею Прокофьеву, чья мировая слава была ещё впереди, пришлось парой месяцев раньше, в августе 1918 года, несколько дней провести на эмиграционной станции. Касательно конкретных причин в свидетельствах нет единодушия. В официальной, автобиографической, версии было сказано, что в Сан-Франциско его «не сразу пустили на берег, зная, что в России правят „максималисты“ (так в то время в Америке называли большевиков) — народ не совсем понятный и, вероятно, опасный». В личном дневнике же произошедшее трактовалось скорее как рутинный порядок иммиграционного контроля, тем более, что вместе с композитором на станции ждали своей очереди многие желавшие глотнуть американского воздуха — из разных стран мира. Впрочем, одно другому и не мешает. Сама процедура контроля была, насколько можно судить, вполне цивилизованной, хотя с непривычки и раздражала. «Выйдя в вестибюль, я им крикнул по-английски: такие беспорядки — срам для Америки! Но они невозмутимо ответили „all right“ и уехали…» В итоге, однако, всё закончилось вполне благополучно, и в начале сентября композитор уже прибыл в Нью-Йорк.
Быстрой и безболезненной оказалась процедура иммиграции Владимира Дукельского, тогда ещё несовершеннолетнего, в 1921 году. Впрочем, упущенное было навёрстано в 1929 году, когда его возвращение в Соединённые Штаты из Европы прошло куда менее успешно. Нансеновский паспорт для лиц без гражданства, выданный Лигой Наций, оказался незнаком иммиграционным чиновникам, в результате чего музыканту пришлось провести ночь в компании немытых черноволосых детей и их тараторивших на непонятном языке матерей, в окружении ароматов хлора и йода.
Русские эмигранты, из тех, что первоначально перебрались в Европу, начали стекаться в Соединённые Штаты в основном в 1930-е годы. Причиной послужило нараставшее в Старом Свете напряжение в связи с установлением в Германии национал-социалистического режима и угрозой новой мировой или, по крайней мере, локальной европейской войны. В августе 1933 года вместе с женой в Нью-Йорк прибыл Николай Набоков. В том же году пароходом приехал в Штаты и Джордж Баланчин, нервная система которого тоже была испытана на прочность: «С чиновниками в порту… у нас, помню, были неприятности, с бумагами был какой-то непорядок. Нас не хотели впускать в Америку. А я по-английски не понимал…»
В сентябре 1939 года Статую Свободы снова воочию увидел Игорь Стравинский, впервые посетивший Америку с концертами ещё четырьмя годами ранее. В интервью с Робертом Крафтом он впоследствии смаковал подробности своего переезда через Атлантику.
…Корабль, S.S. Manhattan, был запружен народом, как гонконгский паром; вместе со мной проживало ещё шестеро пассажиров, хотя каждый из нас семерых заплатил за отдельную каюту. [Дирижёр Артуро] Тосканини тоже был на борту, но я его не видел. Я слышал, он отказался даже войти в свою каюту, где также было на шесть пассажиров больше положенного, и спал в шезлонге или, подобно капитану Ахабу, и в такой же ярости, бродил по палубе.
На иммиграционном контроле чиновник спросил композитора, не желает ли тот поменять имя. «Это был самый неожиданный вопрос из всех, что мне когда-либо задавали. Я рассмеялся, на что чиновник заметил: „Вообще, большинство так и делает“». Согласно одному из позднейших интервью, этот эпизод произошёл со Стравинским в августе 1940 года, когда он въезжал в Штаты из Мексики по русской квоте, однако Крафт настаивал, что всё описанное имело место именно в 1939 году, на пристани в Нью-Йорке. Принципиальной разницы, конечно, тут и нет.
Лев Абрамович Горнштейн | Leo Ornstein

Композитор, пианист, педагог.
Родился 29 ноября (11 декабря; по другим данным — 20 ноября (2 декабря)) 1895 года (по другим данным — в 1892, 1893 или 1894 году) в городе Кременчуге Кременчугского уезда Полтавской губернии (Российская империя; ныне — Республика Украина). Умер 24 февраля 2002 года в Грин Бэй, штат Висконсин (США).
Изучал композицию и фортепиано в Петербургской консерватории, работал аккомпаниатором. Вместе с семьёй эмигрировал в США в 1907 году. Учился в Институте музыкального искусства (будущей Джульярдской школе) в Нью-Йорке.
В 1910–1925 годах много выступал как гастролирующий пианист, исполняя главным образом произведения авторов-модернистов (в том числе и собственные), пользовался широким успехом. Впоследствии его музыка приобретала всё бóльшую стилистическую разнородность.
В 1933 году полностью оставил концертную деятельность, посвятив себя преподаванию и основав собственную музыкальную школу. С 1953 и до конца жизни занимался только сочинением, при этом, отказавшись от продвижения своей музыки. Последние десятилетия Орнштейн провёл практически в полной изоляции от внешнего мира.
Сергей Прокофьев [Радушный приём, 1918]
8 (21) августа 1918.
Полицейским допросом морили пассажиров несколько часов и в результате двадцать человек на берег не сошли, среди них — всех приехавших [sic] из России (за исключением уже бывших в Америке) и среди них — меня. Мы должны были выдержать ещё один допрос, показать письма, бумаги и прочее. Из России боялись немецких шпионов и большевиков.
— Что это?
— Ноты.
— Вы сами их написали?
— Сам, на пароходе.
— А вы их можете сыграть?
— Могу.
— Сыграйте.
Играю на пианино, которое тут же в гостиной парохода, тему скрипичной сонаты без аккомпанемента. Не нравится.
— А Шопена можете сыграть?
— Что вы хотите?
— «Похоронный марш».
Играю четыре такта. Чиновник, видимо, наслаждается.
— Очень хорошо, — говорит он с чувством.
— А вы знаете, на чью смерть он написан?
— Нет.
— На смерть собаки.
Человек неодобрительно качает головой.
Перерыв мои сочинения и не найдя среди них писем, чиновник заявил, что хотя нам всем придётся съездить на остров, но вероятно через час меня отпустят. Остров, это звучало неприятно, так как мы его видели при въезде в бухту: он мал, скалист, красив и весь застроен тюрьмами.
11 (24) августа 1918 [всё ещё на острове].
Меня вызвали и подвергли часовому допросу. Спрашивали массу нужных и ненужных вещей, но некоторые вопросы были прямо шедевры:
— Сочувствуете ли вы в войне союзникам?
— Сочувствую.
— Сочувствуете ли вы большевикам?
— Нет.
— Почему?
— Потому что они взяли мои деньги.
— Бывали ли вы на их митингах?
— Бывал.
— Хорошо ли они говорят?
— Хорошо, но не логично.
— Где ваш отец?
— В могиле.
— Был ли он на войне?
— Нет.
— Почему?
— Потому что умер.
— Состоите ли вы членом какого-нибудь общества?
— Петроградского Шахматного общества.
— Политической партии?
— Нет.
— Почему?
— Потому что я считаю, что артист должен быть вне политики.
— Признаёте ли вы многожёнство?
— Я не имею ни одной.
— Сидели ли вы в тюрьме?
— В вашей. Etc.
АМЕРИКАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
God bless America,
Land that I love,
Stand beside her and guide her
Thru the night with a light from above.
From the mountains to the prairies,
To the oceans white with foam,
God bless America,
My home sweet home.
Irving Berlin [Israel Baline] (1888–1989)
Бог — доллар,
доллар — отец,
доллар — дух святой.
Владимир Маяковский (1893–1930)
IV. Русские в Нью-Йорке
«Кто в мире не слыхал о Статуе свободы? Когда корабль входил в Нью-йоркскую гавань, я долго и с уважением смотрел на величавую леди, символизирующую свободу и права человека». Этими словами Дмитрия Тёмкина можно, вероятно, было выразить чувства многих иммигрантов, и не только, конечно, русских.
Ошеломляющую сказочную панораму, открывающуюся при приближении к Нью-Иорку, с эффектной, царящей над входом, статуей Свободы — всё это трудно описать. Шесть сезонов подряд я ездил потом в Америку и каждый раз приближение к Нью-Иорку производило на меня всегда одинаково сильное впечатление.
Крупнейший и самый быстрорастущий город Америки, а в перспективе фактически и её символ, космополитический центр притяжения (как и въездного и таможенного контроля) для бесчисленных путешественников и переселенцев, равно, как и формирующийся культурный центр, законодатель мод и хорошего вкуса (пусть, словами Владимира Дукельского, «в смысле искусства» и «город обезьян, раззолочённых и галдящих, но никому не нужных»), Нью-Йорк в начале ХХ столетия ещё не стал тем поражающим воображение городом будущего, образ которого приобретёт известность по всему миру. Ещё только возводились знаменитые небоскрёбы — самое высокое здание насчитывало пока всего два десятка этажей, — а до железнодорожного вокзала добирались в основном на лошадях.
Правда, многие характерные черты, вроде вавилонского смешения языков и наций или, по выражению Артура Рубинштейна, контраста между «изношенными трущобами и роскошью лучших отелей», были уже вполне заметны.
Если Нью-Йорк всё ещё не слишком отличался от многих других американских городов, то его неповторимость по отношению к городам Европы или России была несомненна. Его упоминали часто и описывали сравнительно подробно. Ещё Пётр Чайковский в конце XIX века отмечал, что Нью-Йорк «очень красивый и очень оригинальный город; на главной улице одноэтажные домишки чередуются с домами в 9 этажей… Великолепен Центральный парк». Приблизительно в таком же духе отзывались и русские иммигранты — почти на всех город произвёл в целом очень благоприятное впечатление. Так, красочно, пусть и не без критики, живописал Нью-Йорк Фёдор Шаляпин, во время своего первого визита в 1907 году.
Город производил удивительное впечатление: всё живое в нём стремительно двигалось по всем направлениям, словно разбегаясь в ожидании катастрофы… Вокруг стоит такой адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят ещё такой же грандиозный, но невидимый. В этой кипящей каше человеческой я сразу почувствовал себя угрожающе одиноким, ничтожным и ненужным. Люди бежали, скакали, ехали; вырывая газеты из рук разносчиков, читали их на ходу и бросали под ноги себе; толкали друг друга, не извиняясь за недостатком времени, курили трубки, сигары и дымились, точно сгорая.
Ко времени второго приезда артиста, почти пятнадцать лет спустя, принципиально изменилось мало, разве что город, как казалось, вырос едва ли не вдвое (в сущности, так и произошло).
На улицах стало так многолюдно, что, когда я издали наблюдал толпы народа, снующие по 5-ой авеню, мне казалось, что все люди идут в обнимку!
— Как прекрасно видеть такую братскую любовь! — размышлял я.
Меня, однако, ждало разочарование. Подойдя к толпе совсем близко, я понял: то, что я принимал за чувства, оказалось простой необходимостью. Это была вынужденная близость, наблюдаемая в знакомой всем банке сардин (или бочке селёдок)!
Первые впечатления Сергея Прокофьева, посетившего Нью-Йорк осенью 1918 года, нашли выражение вполне в том же самом духе: «Нет другого города, кроме Нью-Йорка, который так красив, когда к нему подъезжаешь».
…Чем ближе к Нью-Йорку, тем вид был интереснее. Наконец, замелькали равномерные, нумерованные улицы, а затем мы углубились под город и так, не вылезая из-под земли, и приехали на вокзал. Затем нас удушили бензиновой вонью автомобили, которые пускали её сюда же, под землю, вертясь у входа вокзала, и мы поехали по улицам Нью-Йорка… Тем не менее, Нью-Йорк, ничуть не поразив, произвёл просто отличное впечатление.
На следующий день Прокофьев добавил в дневнике, что «Нью-Йорк очень хороший город, и я рад, что поживу в нём». Вместе с тем было и ощущение сытости, даже пресыщения, богатства и некоторой безвкусицы (супруга музыканта Лина Прокофьева, истинный знаток моды, была позднее совершенно поражена кричащей одеждой дам). Это мнение прошло проверку временем — несмотря на «удушающие бензиновые пары» и «бесконечную суету», и даже в сравнении с европейскими столицами: «В Париже Нью-Йорк казался мне узким и тесным. Да, здесь берегут каждый квадратный аршин, но как в нагромождении своём он импозантен!» — восклицал Прокофьев два года спустя. Но похоже, что деловой суете мегаполиса композитор в целом скорее симпатизировал: «В девять часов утра Нью-Йорк, такой же как всегда, благоустроенный и оживлённый». «Нью-Йорк выглядел весёлым…, богатым — и весь был залит солнцем. Мне было приятно в него вернуться», — записывал он в дневнике в октябре 1921 года.
В высшей степени положительное впечатление произвёл город на Джорджа Баланчина в 1933 году: «Помню запахи порта, портовую жизнь. Нью-Йорк мне сразу очень понравился: люди бодрые, дома высокие…». И вообще, Америка ему «понравилась больше Европы. Во-первых, Европа по сравнению с Америкой маленькая… И люди мне там [в Европе] не нравились — всё одно и то же, одно и то же», — вспоминал балетмейстер полвека спустя.
Естественно, далеко не все разделяли подобные восторги. Например, Артур Рубинштейн, не понаслышке знакомый с изысками европейских (и прочих) столиц, без особого энтузиазма описывал свой первый визит в 1906 году.
Откровенно говоря, Нью-Йорк в те дни был довольно безобразным городком. Этот длинный и узкий остров, втиснутый между двумя крупными реками, был разрезан авеню по вертикали и улицами по горизонтали; назывались все они, к моему удивлению, только по номерам. Считалось, что такая геометрия была практичной, мне же она казалась монотонной. Величественные небоскрёбы тогда ещё не построили, и лишь одно знаменитое Flatiron Building напоминало нечто похожее. Основными артериями города были Бродвей и Пятая авеню. Первая — жизненный центр Нью-Йорка, копия парижских бульваров; второй же был присущ некоторый «аристократический дух», благодаря дворцам американской знати, особенно тем, что выходили на Центральный парк… Боковые улочки этих «образцовых» кварталов были похожи на аналогичные в Лондоне, с их небольшими, аккуратными и узкими частными домами, расположенными строгими рядами. В остальных частях города царили запустение и нищета; улицы были грязными и вонючими, забитыми толпами плохо одетых и унылых людей, которые вечно куда-то спешили.
Впоследствии, годы спустя, когда у пианиста появилась возможность изучить город более подробно, тот открылся ему и с более приятных сторон, вроде «Уолл-Стрит и её окружения, тихих старых улочек, у которых всё-таки были названия, экзотического Chinatown и Riverside Drive».
Вторил Рубинштейну и тогда ещё несколько менее искушённый, но не менее наблюдательный восемнадцатилетний Владимир Дукельский — один из самых молодых иммигрантов, — прибывший в Нью-Йорк в 1921 году: «Странным образом я почувствовал себя как дома в этом перенаселённом и чрезмерно разрекламированном городе — невероятно прекрасном издалека, невероятно уродливом вблизи». Одна из главных достопримечательностей, Бродвей, пользовалась особым вниманием музыканта — будущего знаменитого сочинителя мюзиклов.
[Бродвей был] неряшливым и вонючим под лучами палящего солнца, подобно немытой путане после ночи со слишком многими клиентами. После заката Бродвей — это, конечно, вавилонское зрелище, но будь я мэром Нью-Йорка, я бы закрывал его в дневное время, или же разогнал бы всех продавцов напитков и попкорна, посносил бы ларьки с хот-догами и гамбургерами и позакрывал бы бары — то есть, убрал бы всю эту мусорную мишуру, которая обезобразила некогда замечательную и благородную театральную улицу.
Сдержанно и с изрядной долей разочарования и равнодушия описывал Нью-Йорк невпечатлительный Николай Набоков, известный космополит, очутившийся в культурной столице Америки в том же году, что и Баланчин:
Я помню, что вовсе не был поражён или потрясён Нью-Йорком. Оказалось, он в точности такой, как я себе и представлял: беспредельный вертикальный хаос… установленный на образцовом горизонтальном порядке. Я ожидал увидеть причудливые, высоко расположенные железные дороги, картинки которых я рассматривал ещё в далёком детстве, и я также ожидал, что они окажутся шумными, грязными и обветшалыми. Я ожидал увидеть пообносившиеся трёхэтажные кирпичные дома, стоящие плечо к плечу со сверкающими небоскрёбами. Я ожидал увидеть на каждом углу удобные аптеки, где можно купить молочные коктейли и засахаренные бананы, ожидал увидеть удобные просторные такси и мрачных монстров частных автомобилей, стоящих в пробках на улицах. Это всё я уже видел в фильмах, читал об этом в книгах, и слышал от тех немногих американцев, которых мне довелось встретить.
Фёдор Иванович Шаляпин | Feodor Chaliapine
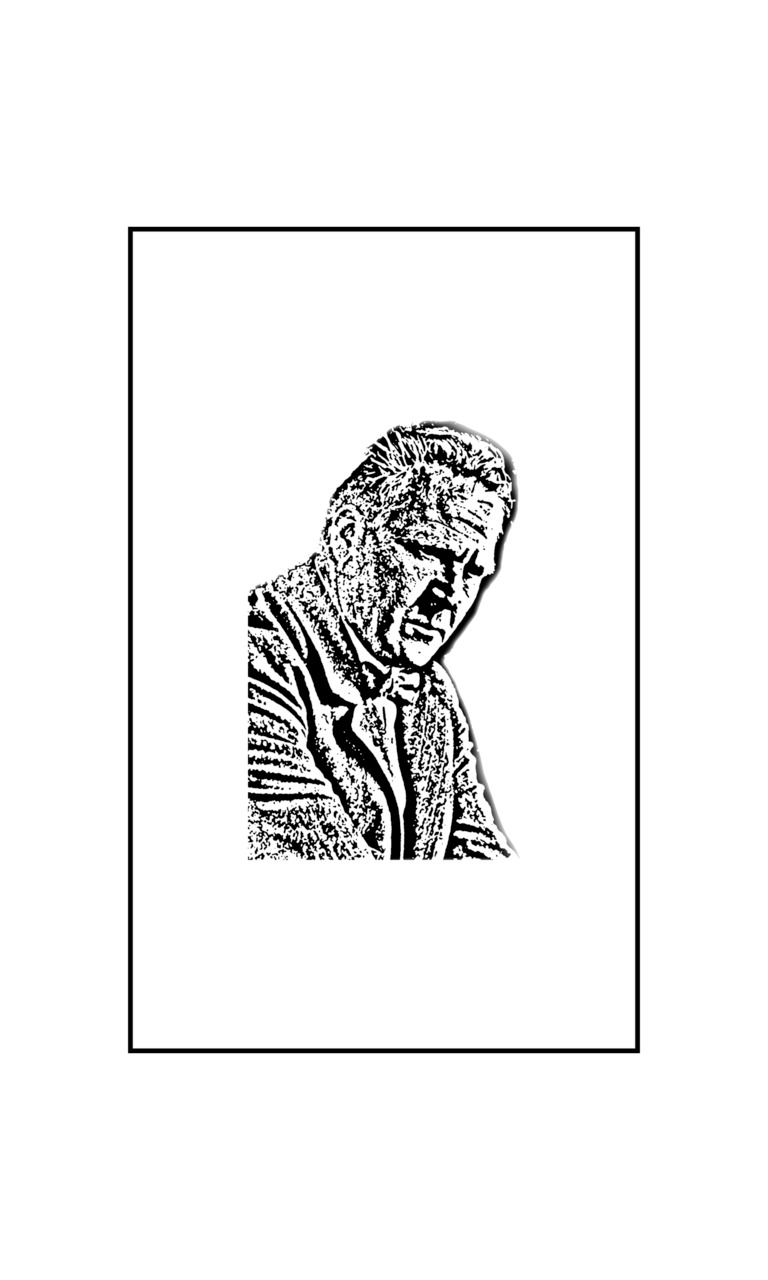
Оперный и камерный певец (бас).
Родился 1 (13) февраля 1873 года в городе Казани Казанского уезда Казанской губернии (Российская империя; ныне — Российская федерация). Умер 12 апреля 1938 года в Париже (Франция). В 1984 году его останки перезахоронены в Москве.
Один из ведущих оперных артистов своего времени, оказавший влияние на развитие оперного искусства и актерского мастерства в ХХ веке, а также на популяризацию русской оперы за границей.
Уже к началу века Шаляпин обладал широкой известностью, выступая в лучших оперных театрах, в том числе в составе трупп Большого и Мариинского театров (последний он возглавлял в качестве художественного руководителя в 1918–1921 годах). С 1901 регулярно гастролировал за рубежом. В 1919 первым получил звание народного артиста Республики.
В 1921 году покинул Советскую Россию, обосновавшись главным образом в США (в его честь открыта звезда на «Аллее славы» в Голливуде), также проживал в Финляндии, Великобритании и Франции. Продолжал регулярно гастролировать по всему миру. С 1935 — постоянно в Париже.
Владимир Дукельский [Мой Нью-Йорк, 1921/1955]
Всякий великий город — а заслуживающих такое определение немного — производит мгновенное и особенное воздействие на каждого, кто попадает в него впервые. Так вот, Нью-Йорк бьёт прямо по зубам.
Конечно, в 1921 году облик Манхэттена был ещё не таким впечатляющим, как в 1935, но бóльшую часть первых трёх дней [после прибытия] мы провели в полном изумлении… Нью-Йорк казался даже грязнее Константинополя, но в наэлектризованном воздухе веяло каким-то лихорадочным ожиданием. Город был новым, несимпатичным и немного франтоватым, неловко юным, подобно неуклюжему щенку волкодава с непомерно длинными лапами.
Как и все чудеса света, вроде Эйфелевой башни в Париже или лондонского Тауэра, небоскрёбы уже спустя несколько дней перестали казаться чем-то необыкновенным, хотя ночной Бродвей по-прежнему являл собой удивительное и неповторимое зрелище. А вот центральный парк разочаровал — деревья хилые и анемичные, а окружавшие их высокие здания словно выжимали весь сок из всего этого безрадостного оазиса.
Вообще, существует несколько Нью-Йорков. Например:
— вполне дружелюбный предпиквиковский Нью-Йорк Вашингтона Ирвинга;
— элегантная, в духе Леди Блессингтон, столица несправедливо забытого Натаниэля Паркера Уиллиса;
— Манхэттен продавщиц из рассказов О. Генри;
— иммигрантский Нью-Йорк Горького и Короленко;
— безжалостный город-монстр, воспетый Джоном Дос Пассосом;
— Нью-Йорк Скотта Фицджеральда, блистающий фляжками и бёдрами, опьянённый дешёвым джином и золотой молодёжью;
— полный достоинства изысканный клубно-литературный мир Генри Джеймса;
— Гринвич-Виллиджский гирляндочный образ большого города Максвелла Боденхайма;
— излюбленное прибежище псевдо-аристократов, изображённое Беном Хектом;
— Гарлемо-Монпарнасский рай Карла Ван Вехтена;
— модный центр прилизанных пройдох Джерома Вейдмана.
Мы увидели, почувствовали и попробовали немного от каждого, кроме рафинированного кирпичного Верхнего Вест-Сайда учителей пения — города стареющих экс-примадонн с крашенными волосами и поникших гардений, смертельных музыкальных вечеров с балладами Таун-холла, надоевшего куриного салата и слабых коктейлей; этот город остаётся невоспетым, и жаль, ведь в двадцатые это было занятное место — место, куда нас переселили из нашей гостиницы на Мэдисон-авеню.
Нью-Йорк: Плюсы и Минусы
<+>
— зубы, ноги и руки нью-йоркской женщины, лучшей в мире;
— устрицы в жёстких ракушках;
— закат на Вашингтон-Сквер;
— вопреки расхожему мнению, исключительные дружелюбие и гостеприимство нью-йоркцев;
— Мюррей-Хилл;
— эйфория первого выступления (за кулисами и на сцене);
— Роберт Бенчли, Айра Гершвин и доктор Лео Мишель (любимый Бродвейский врач);
— все Гершвины;
— животы танцовщиц в Парадизе и Голливуде;
— странные диалекты Баланчина, Сэма Лайонса и Сесила Битона;
— поющие голоса всех цветных артистов;
— поэзия аптекарской Лиггетта.
<–>
— невозможность заниматься любовью в нью-йоркских такси;
— Бродвей и Шестая Авеню в дневное время;
— цена простого омлета в клубе Двадцать Один;
— река Гудзон, которая должна быть на месте Ист-Ривер, и наоборот;
— акцент нью-йорской женщины на гламуре и почти полное отсутствие обаяния;
— Центральный Парк, одно из самых унылых мест Нью-Йорка;
— упадок и псевдо-высоколобость шоу-бурлесок и их последователей;
— трудность в перемещении между Ист-Сайдом и Вест-Сайдом, когда спешишь;
— бесконечное и повсеместное прославление в Нью-Йорке иностранных самозванцев;
— трудность в бравировании собственной мужественностью в артистических салонах.
V. America the Beautiful
После Нью-Йорка, восточных врат Америки, вторым центром русской эмиграции стала Калифорния, западные врата, а особенно совсем ещё молодой и только набиравший известность Лос-Анджелес. В начале двадцатого столетия это был небольшой пограничный город на краю неприветливой пустыни, лишённый европейской культуры и большинства удобств. Если он и был чем-то знаменит, так это, главным образом, своим мягким климатом, за что многие его и выбирали, а также киноиндустрией, которая только начала перемещаться сюда из Нью-Йорка.
В 1920-е годы русские эмигранты быстро создали в Голливуде яркую и дружную общину, с собственными книжными и прочими магазинами, кафе, ресторанами и даже своей православной церковью, которая стала духовным центром всей диаспоры. В отличие от других иммигрантов — венгров, французов, британцев, немцев, шведов, поляков, чехов — у русских больше не было родины, некуда была возвращаться, а потому в Голливуде они обосновывались не временно, а насовсем. Западный Голливуд остаётся центром русской общины и сегодня.
Вообще, эту «чудесную страну», «край солнца, нефти, апельсинов и кинематографических звёзд», «роскошной», благородной и глубоко волнующей природной красоты облюбовали и многие представители европейской культурной эмиграции, вроде Томаса Манна или Арнольда Шёнберга. Несмотря на то, что в отношении музыкального климата Лос-Анджелес сильно уступал другим крупным городам, и вообще в артистических кругах считался порой вульгарным, композиторы и прочие деятели искусства что-то в нём находили.
«…Los Angeles… пожалуй, это лучшее место в Соединенных Штатах», — писал Сергей Рахманинов в письме 1924 года. В то время город ещё не задыхался в ныне знаменитом смоге. В декабре 1920 года Сергей Прокофьев отметил в дневнике: «Утром приехал в Лос-Анжелес, знаменитый тёплый уголок. Ещё три-четыре года назад мало кто знал о нём, а теперь Los Angeles по населению обогнал Сан-Франциско».
Именно в Лос-Анджелесе на долгие годы обосновался Игорь Стравинский, почти сразу же после переезда в Соединённые Штаты в 1939 году, и в общей сложности прожил здесь почти так же долго, как и в России.
Ещё со времени моей первой поездки [в этот город] в 1935 году, я подумывал поселиться где-нибудь в пригороде отвратительного, но восхитительного Лос-Анджелеса, прежде всего, памятуя о своём здоровье, но также и потому, что именно Лос-Анджелес казался мне лучшим местом в Америке, чтобы начать новую жизнь.
Впрочем, какое-то время спустя, «отвратительная» сторона города стала для Стравинского преобладать над «восхитительной», что в конечном итоге заставило его в 1969 году перебраться в квартиру в Нью-Йорке.
…Голливуд всё увядает… потому, что экономическое процветание, созданное войной уступило место маразму… и потому, что большинство наших самых интересных знакомых, которые раньше частенько приезжали в Калифорнию, теперь возвратились в Европу…
В таком же пессимистичном духе выдержаны были и другие письма композитора конца 1940-х годов. «…Голливуд безынтересен, Калифорния вообще сильно изменилась, даже климат…» К последним годам жизни Стравинского Лос-Анджелес приобрёл уже те черты, которыми знаменит и поныне: «…Все [наши друзья] покидают California из-за плохого воздуха (туманы и smog). Зимой ещё лучше, а летом невыносимая жара. Но где же жить? В больших городах всюду стало хуже…» Полную солидарность в оценках проявлял и друг Стравинского Николай Набоков: «Голливуд из шикарной столицы кино быстро превращался в грязный муравейник, где солнце светило сквозь пелену смога, а знакомых лиц становилось всё меньше».
В октябре 1963 года в письме к Набокову бессменный секретарь Стравинского Роберт Крафт отмечал, что тот был бы рад любой возможности уехать из Голливуда, хотя бы на время — настолько город стал невыносимым. Друзей у композитора действительно здесь оставалось всё меньше, а кинозвёздная публика раздражала его всё больше; водить машину он не мог, ходил с трудом и вообще проводил большую часть времени дома, в окружении врачей и налоговых юристов. При этом, в полном соответствии своей противоречивой натуре, самим голливудским домом композитор был вполне доволен и не желал переезжать, даже когда появлялась перспектива улучшить жилищные условия.
В несколько иных условиях находились все те, для кого Лос-Анджелес стал не только местом проживания, но и непосредственным местом работы, главным образом, очевидно, на киностудиях или в смежных областях, индустрии развлечений в целом. Кто-то же просто не имел ничего против атмосферы гламура и сомнительной экологии и без особого труда мог приспособиться к новым условиям. В конце концов, население Калифорнии вообще и Лос-Анджелеса в частности продолжало неуклонно расти. В 1960-е годы, незадолго до отъезда Стравинского на Восточное побережье, сюда переселился Николай Слонимский, а несколькими годами ранее — и Владимир Дукельский.
Теперь я — убеждённый калифорниец, и никуда больше не перееду, хотя мне по-прежнему кажется, что, по контрасту с Нью-Йорком, жить в Калифорнии хорошо, но посещать её неинтересно. Краткое пребывание в Лос-Анджелесе даже наблюдательному визитёру принесёт скромные впечатления. Вообще, всё тут смахивает на разбавленную Ривьеру, только в большем масштабе. Бензоколонки куда внушительнее пальм, а здешние обитатели, чистенькие и крупные, выглядят так, словно они всю жизнь только тем и занимались, что ели здоровую пищу, пили фруктовые соки и загорали, катаясь в своих открытых кабриолетах. Погода настолько однообразно хороша, что никогда не становится темой для разговора. Расстояния такие большие, что никто в Лос-Анджелесе никогда не «заскакивает» в гости к друзьям, которые обычно живут не ближе, чем в десяти милях. Ночная жизнь ничем особым не выделяется — в Нью-Йорке и Чикаго можно увидеть всё то же самое, только получше. Наконец, те, кто работает на студиях или в офисах, ложатся спать в десять вечера, а встают в половину седьмого или в семь, так что, всем прочим остаётся только бухать или смотреть кино, да и то, если есть машина. А без машины тут вообще делать нечего.
Прочие города, если и не поражали, как Нью-Йорк, размерами, и не привлекали, как Лос-Анджелес, звёздностью и климатом, в большинстве своём тоже производили вполне благоприятное впечатление — многие русские музыканты гастролировали по Штатам, и в их распоряжении был богатый материал для сравнения.
Немало путевых впечатлений и наблюдений можно обнаружить в дневниках Прокофьева. В Сан-Франциско композитор писал: «Окрестности очень красивы, а благоустройство, довольство и богатство (всех классов общества) так и улыбается со всех сторон». Опять же, Нью-Йорк, самый впечатляющий из городов, часто напрашивался в сравнение со своими «младшими» собратьями: «Хотя Сан-Франциско не Нью-Йорк и не Чикаго, но всё же он поражал своим оживлением, благоустройством и, главное, удивительным богатством: магазины ломятся от превосходных вещей и, очевидно, доллары текут рекой». Уступал Нью-Йорку и Чикаго, город, занимавший не последнее место в творческой карьере музыканта: «Сам город разбит на правильные квадратики, застроенные небольшими домами, которые совсем не так импонируют, как большие домины Нью-Йорка. Только центральная часть города — Michigan Avenue — великолепна». «Я ожидал от Чикаго ошеломляющего движения. Оно и было, но город мне показался каким-то тесным, да и некрасивых, закопчённых домов было немало. Я гулял мимо ослепительных магазинов, но мои доллары кончились и магазины были для меня безопасны…» «Вообще, дым и туман — эмблемы этого города. Avenue по берегу озера [Мичиган] очень хороша, магазины роскошны, но сам город тесен и прокопчён», — добавлял композитор.
Подобные Чикаго промышленные города вообще не вызывали большого энтузиазма у Прокофьева: «В одиннадцать часов дня Буффало, город Буйвола. Большой, грязный и скучный для глаза». «Утром Pittsburg, царство дыма и копоти, как принято говорить…» А вот города поменьше, и не такие суетливые, гораздо лучше подходили вкусам музыканта: «Вашингтон мне чрезвычайно понравился, это один из лучших американских городов: просторный, спокойный, зелёный» (близкий друг Прокофьева Дукельский называл Вашингтон «маленьким Парижем с южным акцентом»). «Cleveland такой же хороший американский город, как и все американские города», — подытоживал Прокофьев.
Более критично был настроен к американским городам Фёдор Шаляпин. Хотя он и пел дифирамбы Америке в своих автобиографиях (например, «в Беверли-Хиллс было так чудесно, что каждый день я по многу раз восклицал: „Это настоящий рай!“ Будь я американский гражданин — непременно жил бы только здесь!»), в документах более личного характера его отношение было куда сдержаннее. Даже «рай-город Los Angeles кажется немного скучным». Подробного комментария заслужила в 1922 году Филадельфия.
Город хоть и большой, но скучный. Как и большинство американских городов, заселены они ипокритичным народом, и, несмотря на liberty, никакой ни в чём свободы нет — всё запрещено, и выдуманы такие суровые и нелепые законы, что только руками разводишь — но зато доллар!!! О, эта сильная монета покупает всё оптом и в розницу.
Нередко бывал в Филадельфии и Дукельский — там жили его мать и брат. В наблюдениях композитора также не чувствуется чрезмерного восхищения, пусть до инвектив Шаляпина он и не доходил.
Тихий и освежающе непримечательный город, но туристу в нём делать нечего. Обслуживание в отелях так себе. Еда, правда, превосходна, но вот рестораны унылые и все как на одно лицо. Единственный театр находится на особенно мрачной и плохо освещённой улице, а его единственная любопытная черта — это расположение заднего входа по другую сторону улицы, напротив самого театра. Главная площадь почти не уступает Таймс-Сквер в Нью-Йорке по вопиющей безвкусности, а бурлеска, которую мне довелось наблюдать в одном зловонном переулке, была самым мерзостным зрелищем, какое только можно вообразить.
За пределами городов, ландшафты — безусловно примечательные своим разнообразием — редко вызывали заметный интерес у русских иммигрантов, несмотря на то, что многие из них едва ли не бóльшую часть времени проводили в дороге, разъезжая с гастролями по всей стране. Во всяком случае, природные красоты американских просторов описывались, как правило, довольно скупо и без особого восторга. Пожалуй, один лишь Александр Гречанинов в письмах на родину восхищался необычной природой, диковинными пейзажами, яркими контрастами при переезде из Калифорнии в восточные штаты и вспоминал в качестве образно-художественной параллели свой ранний хор «Над неприступной крутизною»: «Контраст в природе и климате разительный. Сейчас здесь буря… Там „благоухают розы“…»
Важно отметить значительное сходство природы Америки с природой России, по крайней мере, во многих регионах. Оно не осталось незамеченным. И всякий раз от этого сходства веяло ностальгией, вспоминались леса и поля далёкой покинутой родины.
Канзас, Небраска и Айова возбудили во мне совершенно особенное чувство. Как похожи были они на бескрайние и пустынные украинские степи, простирающиеся до самого горизонта! Всякому русскому Великие равнины как будто уже хорошо знакомы.
Ровные степи штата Орегон Прокофьев сопоставлял в дневнике с южными ландшафтами Новороссийска и Екатеринославской губернии (ныне — Днепропетровская область в составе Украины). По мнению Дукельского, исключительно по-русски выглядели пейзажи Новой Англии.
[Вообще, по сравнению с Нью-Йорком] Новая Англия была словно глотком прохладной воды после слишком большого количества шампанского. Пейзаж не мог сравниться с красотами Италии или Швейцарии, но сама его сдержанность и трезвая лиричность напомнили мне центральную Россию, ещё больше усилив чувство возвращения домой…
Прокофьев же, надо сказать, вообще находил американские пейзажи довольно унылыми: «После ровных и скучных полей Америки глаз не мог оторваться от цветущих ландшафтов уютной Франции». Не преминул он отдать должное и американскому дурному вкусу в обращении с собственными природными достопримечательностями.
Так мы и не повидали прекрасную Ниагару, зато вдоволь налюбовались на отвратительные фабрики, которыми она густо обляпана со всех сторон. Да! Американцы, несмотря на весь свой размах, всё же недостаточно шикарны, чтобы позволить себе роскошь иметь Ниагару.
Мнение композитора могло бы, вероятно, измениться, если бы ему довелось увидеть Большой Каньон («как говорят, одно из удивительных зрелищ во всей Америке»), но, увы, из этого так ничего и не вышло.
Некоторого рода двойственное отношение к облику Америки можно встретить у Шаляпина. От откровенной апологетики на «Страницах моей жизни» («Невозможно на нескольких страницах должным образом оценить такую большую и интересную страну, как Америка. Когда-нибудь я посвящу ей целую книгу»), через более или менее нейтральные впечатления в письмах («Живу здесь всё равно как на „царских днях“ — кругом иллюминация — столько всяких огненных реклам, что просто голова кружится. Вот вы бы ахнули-то от удивления: ну и Америка, действительно „другой“ свет») и заметках («…На первый взгляд, провинция однообразна повсюду… в Америке однообразие ещё однообразнее — всё это ново, ни на чём нет приятной пыли веков, и потому более чётка оголённая монотонность городов, разрезанных, подобно кексу, на квадраты…»), певец доходил до откровенно отрицательных оценок: «Езжу по Америке вдоль и поперёк. Отвратительно!… Тяжёлая страна!» и «…снова сезон в этой чёрной и скучной Америке».
А вот Артур Рубинштейн в результате своих странствий во время первых американских гастролей пришёл к совсем уж нелестному выводу, который, насколько можно судить, так и остался неизменным.
По большей части та Америка, которую я увидел в 1906 году, была уродливой. За пределами нескольких крупных городов страна представляла собой однообразно-бесцветную картину. Провинциальные города были, как правило, спроектированы и построены в спешке, и практически по одному и тому же плану. Просторные площади с их скамейками, деревьями и фонтанами, равно как и парки, мне почти не встречались. Сельская местность, которую я наблюдал из окон своего вагона, выглядела опустошённой и непривлекательной. Я был неприятно поражён видами бесконечных просторов невозделанных земель, негостеприимных лесов и гор, грязи и мусора на окраинах придорожных городов и посёлков.
Сергей Васильевич Рахманинов | Sergei Rachmaninoff
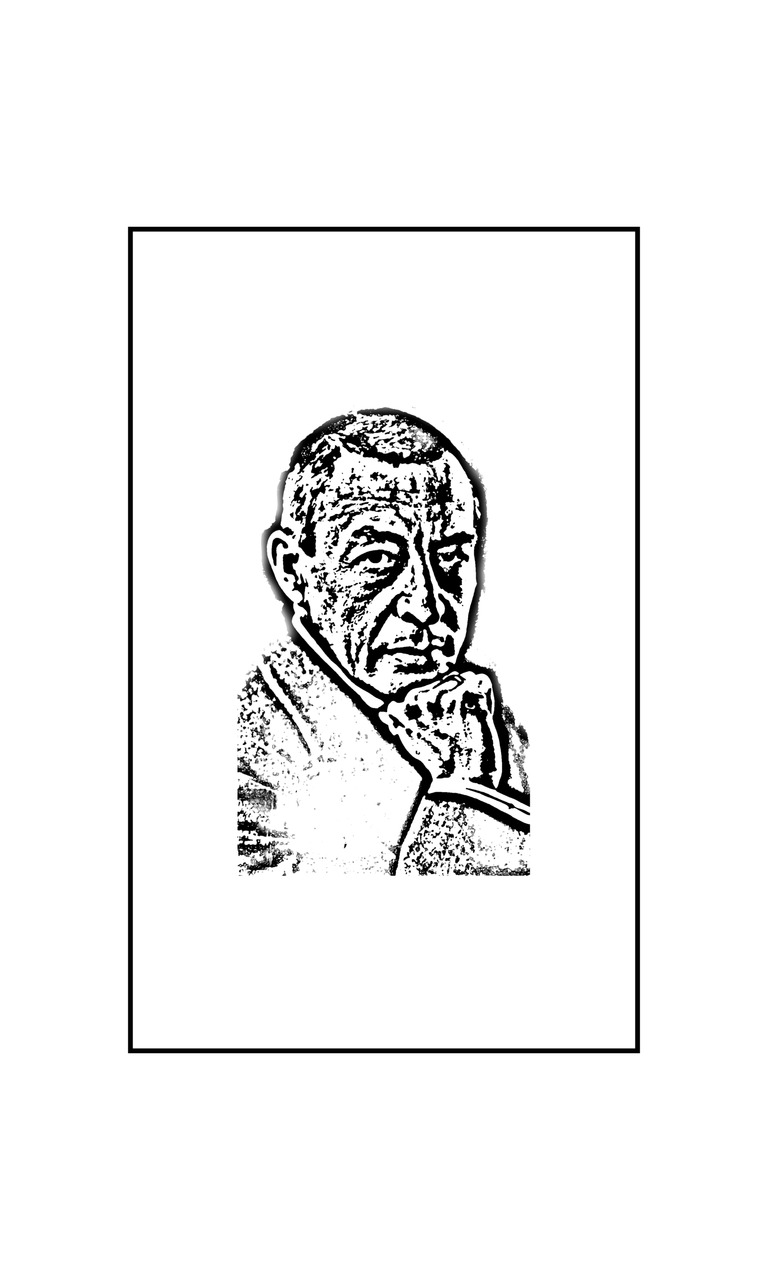
Композитор, пианист, дирижёр.
Родился 20 марта (1 апреля; по другим данным — 2 апреля) 1873 года в имении Семёново Старорусского уезда Новгородской губернии (Российская империи; ныне — Российская федерация). Умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, похоронен в Вальгалле, штат Нью-Йорк (США).
Прелюдии и концерты Рахманинова составляют основу современного классического репертуара для фортепиано. Ему принадлежат также симфонии, оперы, произведения для хора a capella, романсы. В Соединенных Штатах музыкант пользуется репутацией одного из самых выдающихся композиторов в истории страны.
С 1906 года часть времени жил в Германии, возвращаясь в Россию летом. В США впервые — в 1909/10, на гастролях в качестве пианиста. В 1917 покинул Россию окончательно, отправившись в концертное турне по Скандинавии, проживал в Швеции и Дании.
В 1918 году переехал в США (гражданин — с 1943). Часть года периодически проводил в Европе — Франции и Швейцарии, на собственной вилле. С этого периода сочинял мало, написав за все годы эмиграции всего несколько произведений. Вёл жизнь странствующего пианиста-виртуоза, став одним из самых высокооплачиваемых исполнителей своего времени.
Фёдор Шаляпин [Песня о Калифорнии, 1926]
Благородная красота калифорнийской природы глубоко меня волновала. Мне опять захотелось передать стихами то, что я чувствовал. Даже больше того: меня охватило страстное желание сочинить об этом песню! После многодневных трудов мне удалось написать стихи, которые я потом переложил на музыку. Вот это стихотворение. Я назвал его «Эх вы, песни, мои песни».
Эх вы, песни, мои песни!
Вы родились в сердце, песни,
Вы облились моей кровью.
И пою я вас с любовью
Всему миру, песни-птицы,
Песни-сказы, небылицы,
Мои песни.
Эй, эй вы, песни, песни-птицы,
Рассказы, небылицы.
Лейтесь соловьями,
А я с вами.
Эх вы, песни, песни-звоны,
Эх вы, сердца мово стоны.
Вы летайте соколами,
Заливайтесь соловьями,
Лейтесь горными ручьями.
А я с вами, песни, с вами,
Мои песни.
Эй, эй вы, песни…
Вы слетайте в ту сторонку,
Где живёт моя девчонка,
Опуститесь к ней в садочек
На ракитовый кусточек
Да с малинова листочка
Ей шепните про дружочка.
Мои песни!
Эй, эй вы, песни…
Если смерть придёт,
То знайте: вы меня не покидайте!
Вместе с звоном колокольным
Вы неситесь вихрем вольным
По полям и по сугробам
За моим сосновым гробом.
На мою могилу, песни!
Мои песни!
Эй, эй вы, песни…
VI. Национальный характер
Удивительная вещь — национальный характер. Нелегко его обнаружить и точно описать, проследить историю. Во всяком характере есть что-то своё, исконное, и что-то заимствованное, некогда чужое, но уже адаптированное. Разделить эти две ипостаси тоже бывает непросто, главным образом, по причине того, что обе они уходят вглубь веков.
Именно чуждый, непривычный национальный характер является тем, что заставляет человека чувствовать себя иностранцем в другой стране, в общении с людьми, осознавать свою непохожесть. Сам же характер, как и — в ином контексте — язык, есть квинтэссенция культуры и конкретное её воплощение.
Американский случай в этом отношении, пожалуй, можно считать уникальным. Плавильному котлу Америки удалось, к тому же сравнительно недавно, преобразовать в органичное целое элементы стольких культур, что невозможно перечислить. Принцип единства во множестве и разнообразии, нашедший прямое отражение в девизе американского герба — e pluribus unum, — прочно утвердился в американской идентичности, пусть и не всегда это единство понималось так широко, как сегодня.
…меня впечатлили сами американцы. Относительно недавняя массовая иммиграция из разных концов Европы привела — несмотря на различие частей — к успешному образованию гармоничного целого. Динамичная воля бывших европейцев преуспеть в новых условиях вызывала у меня самый горячий восторг. Америку называли страной возможностей, и вполне справедливо. А как я влюбился в их слэнг, остроумный, колкий и столь непохожий на традиционный, вежливый и монотонный язык англичан!
У европейцев и русских, даже космополитов по натуре и привычкам, но всё же жителей национальных государств, или, по крайней мере, воспитанных в национальных традициях, многие особенности эклектичного американского характера и менталитета вызывали любопытство, удивление, зачастую смешанное с недоумением, иногда — с восхищением, а иной раз (но редко) — и с неприязнью.
Американская жизнь, нравы, порядки — всё это чрезвычайно интересно, оригинально, и на каждом шагу я натыкаюсь на такие явления, которые поражают своей грандиозностью, колоссальностью размеров сравнительно с Европой.
Любопытный, не лишённый остроумия и наблюдательности портрет американского обывателя нарисовал в 1963 году в стихотворной форме (на русском языке) Владимир Дукельский, которому принадлежит целый цикл стихов об Америке.
В Америке мне нравится добротность,
Радушие, наивность, беззаботность.
Для обывателя — «the sky’s the limit»,
При этом обыватель чисто вымыт.
Американец горд мускулатурой,
Новейшим ледником, древнейшим шкафом,
Кофейником, бассейном, фонографом,
Женой, детьми, ковром, автомобилем,
Несложным счастьем, ложным изобильем
(И дом, и всё, что в нём, купив в кредит,
Об этом никому не говорит).
Искусство для него — лишь гость незваный,
Зато усовершенствованы ванны.
У одних первые впечатления оставались неизменными, в то время, как у других претерпевали радикальные перемены. Например, Фёдор Шаляпин получил предложение (пере) издать мемуары в Соединённых Штатах. Однако артисту было поставлено условие — «Страницы из моей жизни» должны быть продолжены (изначально книга, написанная в соавторстве с Максимом Горьким, заканчивалась событиями Первой мировой войны). Новые главы были интересны описанием американских впечатлений. Они разительно не походили на воспоминания о первой поездке в Америку в 1907 году, в которых отчётливо звучали интонации горьковского «Города Жёлтого Дьявола». Теперь на смену гневным филиппикам о невоспитанности американцев пришли — пусть и необязательно искренне — новые интонации, желание осмыслить молодую цивилизацию, подчёркивалась её благосклонность к иммигрантам (Шаляпин познакомился там с известным импресарио Моррисом Гестом, тоже русским).
…Я понял одну из прекраснейших особенностей Америки — богатство почвы, служащей основой для общественной жизни в этой стране. Эта почва настолько плодородна, что на ней может расти любое растение — северное или тропическое. Передо мной был живой пример: на плодородной американской почве этот человек с усталым лицом… вырос из обыкновенного мальчишки, продающего на улице газеты, в крупного театрального деятеля…
Любовь американцев к труду, их приветливость и дружелюбие артист тоже не обходил вниманием, даже порой чрезмерным.
Чем больше я наблюдал за американской жизнью, тем больше убеждался в том, что в Соединённых Штатах мало говорят, но много делают. И ещё я заметил, что в Америке труд почитается не только необходимостью, но и удовольствием. Чем больше я ездил по этой стране, любуясь её чудесной силой и мощью, тем больше укреплялся в убеждении, что только труд, в котором присутствует дух сотрудничества, может сделать людей богатыми, а может быть, и счастливыми, хотя я бы не смог дать определение, что такое счастье.
…Я имел хорошую возможность наблюдать семейную жизнь американцев во всём её великолепии. Любезные хозяева делали всё, чтобы доставить мне удовольствие и развлечение, включая обед у них дома, завтрак в загородном клубе и даже весёлый мальчишник в известном городском мужском клубе.
В то же время, в личных письмах Шаляпина по-прежнему преобладали совсем другие, менее оптимистичные настроения, от небрежно-снисходительных («Ах, как скучно с этими, в сущности милыми, но наивными лиловым чертями. Они такие ещё желторотые — так мало смыслят, — но богаты и имеют хорошие намерения!..») до откровенно презрительных.
…Вот и ещё раз пишу Вам, чтобы обругать заморские края и прославить нашу матушку Россию. Чем больше черти таскают меня по свету, тем больше вижу я духовную несостоятельность и убожество иностранцев. Редко видел я таких невежд, как американцы севера и юга. Искусство для них лишь только забава…
Впрочем, как это часто бывало и бывает, деньги преодолевали любое препятствие, в том числе и морального и эстетического свойства, что в случае с Шаляпиным подтверждалось самим его образом жизни.
Я пока что отбываю свои каторжные работы и езжу из одного конца в другой по этой тёмной, но цивилизованной (внешне) Америке. Скука ужасная! Народ эгоистичный и крайне неразвитый… Но зато платят золотом.
Не без критичности смотрел на вещи и Сергей Прокофьев: «Единственно я боюсь, что американцы — снобы, и не пристало известному музыканту жить в лачуге». Кроме того, он считал американцев гораздо хуже воспитанными, по сравнению с европейцами, отмечал, что в Америке и в помине нет любезного обращения. Схожим образом был настроен и Джордж Баланчин: «Здесь, на Западе, к слугам куда более холодное отношение… В Штатах иногда видишь: господа даже к животным лучше относятся, чем к слугам своим».
Некоторый снобизм американцев подтверждался и конкретными эпизодами, а иногда даже оказывался сильнее их любви к доллару. Прокофьев долго пытался протолкнуть на чикагскую сцену свою оперу «Любовь к трём апельсинам», но по разным причинам постановка всё время откладывалась. Когда композитор попытался настоять на собственных условиях, ему было отказано. В дневнике он записал по этому поводу: «Вероятно, психология такая: лучше мы сожжём восемьдесят тысяч [затраченный бюджет постановки], чем позволим навязывать себе условия мальчишкой, которого мы же хотели выдвинуть». А вот у Николая Набокова сложилось совсем иное впечатление.
Что меня поразило, после в высшей степени элитарного европейского общества, так это необыкновенная открытость Америки — эгалитарная готовность её обитателей помочь друг другу и особенно помочь новоприбывшему, иммигранту. Едва сойдя на берег, нас захлестнула волна приглашений на обеды и вечеринки, уикэнды, предложения билетов в театры и на концерты или на открытия художественных галерей.
В основном, однако, отношение русских к Америке было более или менее положительным и последовательным, хотя и не лишённом порой иронии и некоторой двусмысленности (не стоит забывать, что относительно поздние взгляды, изложенные в мемуарах, могли выдаваться за более ранние, которым они вовсе не обязательно соответствовали).
…Америка утвердилась в моём сознании как страна неограниченных возможностей, населённая улыбающимися мужчинами и женщинами беспредельной доброты, рай для униженных, с которыми даже миллионеры обращаются как с равными, страна легко завязываемых дружеских отношений, сердечных рукопожатий и добродушного похлопывания по плечу, общество бесконечного взаимного доверия, где я мог бы снять квартиру без предоплаты и где никто бы не посмотрел на чужака с подозрением.
Более осязаемая составляющая культуры, собственно обычаи, пристальное внимание русских привлекала относительно редко. Мимоходом о них мог упомянуть Прокофьев: «Да, здесь встречают Новый год по-детски, глупо, весело и пусто. Может в этой детскости даже есть более глубокая бессознательная мудрость. Но нет поэзии». С куда меньшим одобрением описывал он церемонию похорон.
Похороны Mme Шиндлер, американские: быстрым темпом в автомобиле через весь город в крематорий. Я всегда возмущался, глядя на эту сумасшедшую скачку с гробом… в нашей процессии есть какая-то значительность отношения к событию, а здесь простой business — отвязаться в кратчайший срок. На это американцы возражают: сама процессия, как нечто внешнее о неискренности отношения.
Впрочем, кое-где знаменитая американская суета, напротив, могла быть очень даже удобной — по поводу устроения брака композитор писал: «В Америке это делается просто, в семь минут; в Deutschland’е же столько формальностей и тягучки, что и в семь недель не сварганишь». И это притом, что вообще возможность осуществления всякого рода амурных дел в Штатах Прокофьева мало вдохновляла: «Поручил… узнать, какие тут можно развить похождения романтического оттенка. А то с этой Америкой чистая беда!» «Радостная встреча [с подругой Стеллой], несколько сдержанная присутствием отдельной дамы, оберегающей этаж (о, идиотская Америка!)», — возмущался американскими порядками композитор и три года спустя.
Кстати, и американских женщин русские музыканты — все мужчины! — тоже не обошли вниманием. Кажется, что раскованность американок («…держат себя свободнее, заговаривают с мужчинами»), их «провокационная неряшливость» и вообще внешние данные сочетались с некоторым недостатком духовной глубины, эмоциональной обделённостью.
Прокофьеву русские друзья в Америке объясняли, что отношение к сексу спокойное (приехавший через два года Дукельский выразился ещё прямее: «Отношение — спортивное»), глаза закрываются почти на всё, но если возникнет возможность отсудить денег, то отсудят, вспомнят о пуританских нравах, обвинят в аморальности, а потом, отсудив денег и устроив скандал, ещё и заставят жениться. Собственные впечатления Прокофьев изложил так: «Вечером была американка, типичная для Америки: красивая, плоскогрудая и бесчувственная». Без чрезмерного энтузиазма относился к своим (новым) соотечественницам и Сол Юрок.
Наши нью-йоркские бизнес-девушки, шикарные, едкие, щеголяющие искусственным остроумием в духе Пятой Авеню — самые красивые в совокупности, но менее интересные по отдельности, по сравнению с европейскими женщинами. Простите меня, мои дорогие, мои редеющие волосы и растущий живот дают мне право критиковать — женись я на одной из вас, я бы чувствовал, что живу со столовым набором, вы все так похожи.
Один только Фёдор Шаляпин, известный своим любвеобильным аппетитом, пел хвалебные оды американской женщине, да и то лишь в автобиографии, для американского читателя и предназначенной: «В мой второй приезд в Америку, среди первых приятных неожиданностей, обративших на себя моё внимание, были американские женщины». Почти сразу же Шаляпину взялась помогать в качестве секретаря — и причём, бесплатно — юная американская журналистка Кэтрин Райт (позднее редактор той самой английской автобиографии Шаляпина 1926 года), что сильно удивило артиста, так как он «от всех только и слышал: в Америке ничто не делается из душевных побуждений, всё оценивается только в долларах».
«Теперь мне здесь ничто не страшно, — размышлял я, — потому что в Америке я встретил настоящих женщин!» Я в самом деле считаю, что женщина в Америке занимает совершенно особое место. Недаром я потом посвятил первую часть статьи, которую написал для одного женского журнала, американской матери.
Путешествуя по Америке от одного побережья до другого, я заметил, что в этой стране просвещение и моральная стабильность, кажется, целиком держатся на женщине. Мужчины в Америке работают всеми своими мозгами и мускулами, но управляют этими мозгами и мускулами именно женщины.
В общем, я должен сказать, что настоящая американская женщина — это сокровище и что на широких просторах этой страны, обильно засеянных пшеницей и кукурузой, женщина сияет, как никогда не увядающий цветок!
Наконец, если не первостепенным, то всё же немаловажным индикатором национальной культуры является её отношение к другим культурам, в данном случае, отношение американцев к русским (долгие годы понятия русского и советского были неразличимы).
Это был [1922] год, когда красный стал цветом зла, а назвать человека большевиком означало предать проклятию его бессмертную душу и отправить земное тело за решётку. Даже сейчас, в 1946 году, подозрение и недоверие к Советскому Союзу — сила, с которой нельзя не считаться в этой стране. Тогда же, в 1922, это было не подозрение, а всепоглощающий необъяснимый ужас, не подозрительность, а сильнейшая ненависть.
Впрочем, к тридцатым годам, наряду с ярыми противниками, у коммунистов появились и не менее ярые сторонники. Например, наблюдательный Николай Набоков писал в мемуарах об исключительной популярности советского коммунизма в Штатах, порой в довольно неожиданных кругах.
[Для многих негров] Ленин был героем и святым, чья роль в истории не подвергалась пересмотру. Но тогда, в 1930-е, не только чёрные придерживались подобных взглядов; некоторые из наиболее продвинутых будущих антикоммунистов находились в то время в тесных связях с коммунистическим движением.
Ефрем Аронович Цимбалист | Efrem Zimbalist

Скрипач, педагог, композитор.
Родился 9 (21) апреля 1889 года (по другим данным — в апреле 1890 года) в городе Ростове-на-Дону области Войска Донского (Российская империя; ныне — Российская федерация). Умер 22 февраля 1985 года в Рино, штат Невада (США).
С отличием закончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Дебютировал в 1907 году в Берлине, после чего постоянно гастролировал по Европе и, позднее, по всему миру. Эмигрировал в США в 1911 (гражданин — с 1916?).
С 1928 года преподавал в Музыкальном институте Кёртиса в Филадельфии, в 1941–1968 занимал там должность директора. В 1950-е почти полностью отказался от выступлений, продолжая преподавательскую деятельность. Был членом жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве в 1962 и 1966.
Его перу как композитора принадлежат опера, концерты, камерные сочинения, песни, а также мюзикл, поставленный на Бродвее в 1920 году.
VII. Работа и деньги
Любовь к деньгам и страсть к их преумножению являются, по-видимому, неотъемлемой частью самой человеческой природы, однако, не во всякой культуре эти качества рассматриваются в положительном свете. Особенность Соединённых Штатов Америки состоит в том, что этика труда и богатства как его результата была заложена в сознании первых переселенцев с самого начала. По точному наблюдению Артура Рубинштейна, «американцы вообще уважают работу, неважно, какую. Вопрос лишь в том, какой доход она приносит». Принимая во внимание традиционное известное русское отношение к труду и богатству, неудивительно, что русские эмигранты смотрели на финансовую страсть американцев и определявшейся ей бешеный темп жизни с неодобрением. Ещё Пётр Чайковский замечал, что «жизнь кипит здесь ключом, и… главный интерес её — нажива…» С тех пор мало, что изменилось.
Именно совершенная чуждость русскому характеру вызывала, вероятно, и пристальный интерес именно к этой стороне американской жизни. Сергей Рахманинов ещё во время первых гастролей называл Америку «проклятой страной, кругом только американцы и „дела“, „дела“, которые они всё время делают, когда тебя теребят во все стороны и погоняют». С русским музыкантом были «очень милы и любезны», он пользовался большой популярностью. И всё же — «надоели мне все ужасно, и я себе уже значительно испортил характер здесь». Америка — невыносимо прагматичная страна. Жизнь проходила в организации дел и зарабатывании денег. «…У Вас развивается какая-то медлительность, нерешительность и сонливость. Это не по-американски! Будете так продолжать, Америка съест Вас!», — писал в 1925 году уже быстро адаптировавшийся к новым условиям Рахманинов. Два года спустя в том же настроении пребывал и Фёдор Шаляпин, к тому времени живший в Штатах несколько лет.
Устал очень, потому что работать приходится в американском стиле, который так же различен с русским, как яблоко с солёным огурцом. Тяжело, ох, как тяжело. Но что же делать? По нынешним временам работать необходимо, а то… беда!
Впрочем, и Рахманинов, и Шаляпин и так зарабатывали вполне прилично и вовсе не испытывали насущной необходимости трудиться «в американском стиле»; свою роль здесь сыграла их любовь к хорошим гонорарам.
…А «работы» здесь в Америке — для всякого человека, кто бы он ни был и чем бы не занимался — «каторжные»… Хотя жаловаться не смею — американцы, если кому следует, платят хорошо… Здесь, в Америке, выдумывают, что хотят и что угодно.
Не все, однако, смогли или пожелали поддаться американской гонке и продолжали с разным успехом жить — на словах, если не на деле — более или менее в прежнем режиме, наблюдая за царящим вокруг безумием как бы со стороны.
Здесь, на Западе, любят так бежать — скорее, скорее, вроде белки в колесе, видимость движения есть, а где результаты? Русский человек говорит: не буду участвовать в вашей ярмарке тщеславия, лучше лягу на диван и отдохну.
Отношение русских музыкантов к американской денежной лихорадке было в основном негативное. И, похоже, как раз в связи с тем, что они были, во-первых, русскими и, во-вторых, музыкантами. Страсть к наживе не гармонировала с русской широкой душой (по крайней мере, по их собственному мнению, что, впрочем, не мешало предаваться этой страсти на практике) и зачастую ущемляло музыкальное, да и вообще любое, искусство. Помимо тонкого невозмутимо-космополитичного наблюдения Николая Набокова по поводу того, что «главная профессия Америки — делание денег [money-making]», можно встретить и более радикальные высказывания. «У американцев душа имеет форму доллара и даже честь завёрнута в бумажный доллар», — отмечал Сергей Прокофьев, добавляя, что «…американцы превосходно устраиваются. Деньги, деньги — вот, что нужно, а пока сиди смирно». Приблизительно в таком же ракурсе виделось окружающее и Шаляпину: «Итак, шесть дней прошло, а мне уже, немного хотя, но надоело быть здесь. Души тут ни у кого нет, а вся жизнь в услужении у доллара». С течением времени эта позиция только усиливалась: «…Художественные задачи смяты в рутинных театрах, валюта вывихнула у всех мозги, и доллар затемняет все лучи солнца».
Восприятие Шаляпиным этой стороны американской жизни вообще было крайне отрицательным, особенно, в его личной переписке. Утвердилось оно, по-видимому, едва ли не с самого начала.
Да, Америка скверная страна, и всё, что говорят у нас об Америке, — всё это сущий вздор. Говорят об американской свободе. Не дай бог, если Россия когда-нибудь доживёт именно до такой свободы, — там дышать свободно и то можно только с трудом. Вся жизнь в работе — в каторжной работе, и кажется, что в этой стране люди живут только для работы. Там забыты и звёзды, и солнце, и небо, и бог. Любовь существует — но только к золоту. Так скверно я ещё нигде не чувствовал себя.
Полтора десятилетия спустя критическая позиция Шаляпина ничуть не ослабла, а раздражение стало даже более заметным, притом, что — не стоит забывать — на практическую сторону его деятельности это всё, по сути, никак не повлияло.
…Какой продувной и жульнический народ живёт в Европе и Америке. Впрочем, все они называются благородным именем: «бизнес-мен’ы». Если где хапнул, например, то это будет значить: «сбизнесировал» — хорошее слово — оно и не похоже на «украл» а между тем так мило сохраняет тот же смысл.
Ясно, что все эти милые американские особенности находили отражение и в конкретных случаях. Шаляпина во время первых гастролей на пристани встречала целая толпа народа. А на следующий день каждый из встречавших предоставил артисту небольшой счёт за свои услуги, оплату которого, впрочем, знаменитый бас счёл совершенно излишней. Подобный деловой подход не преминул дать о себе знать и Прокофьеву.
Вообще, попав в Америку, я сразу соприкоснулся с целой системой контрактов, условий и договоров. Один менеджер предлагал двух- или трёхлетний договор на концерты. «Я знаю, что потеряю на вас в первый год, но надеюсь наверстать во второй».
Будучи на гастролях в Канаде, композитор сразу обратил внимание на разительные отличия в образе жизни двух стран: там, по сравнению с Америкой, «больше чинности, пахнет патриархальностью, меньше небоскрёбов и кипучести на улицах». О системности, уравнительности Америки говорил и Шаляпин: «…Я …впал в глубочайший анонимат, который мыслим только в эгалитарной Америке. Я стал жильцом, занимающим такой-то апартамент такого-то этажа. Я стал номером».
Предприимчивость американцев и их способность делать деньги нашли отражение и в забавном случае, который привёл в воспоминаниях Сол Юрок. По окончании первых гастролей, перед отплытием, в разговоре с репортёрами Шаляпин заметил, что лучшее место в Нью-Йорке — ресторан некоего Бардуша, тогда малоизвестный. Слова артиста мгновенно принесли хозяину заведения популярность, и уже через несколько лет это был один из самых фешенебельных ресторанов города — сила рекламы в действии. Расспрашивавших артиста репортёров его профессиональные качества в то же время мало интересовали, зато подробности его частной жизни, вплоть до того, какой он предпочитает сорт колбасы, вызывали неподдельный интерес. Эпизод, характеризующий рациональность американского мышления можно обнаружить и в автобиографии Прокофьева. В марте 1919 года композитор серьёзно заболел. «„Я думала, вы умираете, — оттого послала вам такие розы“, — сказала одна американка, слегка пожалев, что они пропали даром».
Одним из непосредственных проявлений, а вернее, материальных воплощений, национального характера и национальной культуры является, очевидно, организация быта и повседневной жизни. Америку часто обвиняли в бездуховности, вменяли ей незрелость в отношении искусства, но немногие отказывали ей в комфорте и высоком уровне жизни. По словам Владимира Дукельского: «Я нашёл американскую эффективность, последовательность и любовь к порядку неожиданно освежающими и стимулирующими». Приоритет именно этого аспекта — дело вкуса и индивидуальных предпочтений, но бесспорно, что как раз благодаря комфорту и, так сказать, самим условиям труда американцам удалось привлечь многое лучшее со всего света и построить, таким образом, на фундаменте материального благополучия прочное здание собственной культуры.
Особенность бытового комфорта в том, что он чаще замечается, когда его нет. Так и русские музыкальные эмигранты, похоже, не придавали ему большого значения. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, исходя из сравнительно небольшого числа упоминаний на эту тему. А может быть, дело в том, что гастрольная рутина и активная деятельность не оставляли на подобное ни времени, ни сил. Но для некоторых это было важно. Например, Пётр Чайковский был известен своим вниманием к деталям.
Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моём номере, так же как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватерклозетом; масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные не существующие в Европе условия комфорта.
И несколько десятилетий спустя американцы не утратили пальмы первенства — Чайковскому вторил Джордж Баланчин: «И насчёт комфорта — также и в моё время в Америке в этом смысле гораздо бóльшие достижения были, чем в Европе».
Коль скоро, зарабатывая себе на жизнь, многие русские музыканты по большей части разъезжали с концертами, неудивительно, что дела дорожные некоторым образом занимали их мысли. Впрочем, в оценке комфортабельности транспортных средств мнения могли и расходиться. «Американские вагоны совсем на других принципах, чем вагоны иных стран: ужасно просторные и самые удобные из всех, за исключением, пожалуй, русских, когда в России постараются», — замечал Сергей Прокофьев, добавляя: «Вагоны так хороши, что скорость совсем не даёт себя знать». Упоминал композитор и о «широкой, удобной постели американского вагона». В восторженных чувствах от продуманности и удобства пульмановских вагонов находился и Николай Слонимский.
У Фёдора Шаляпина стандарты комфорта были, видимо, несколько выше. В своих письмах он высказывался весьма патриотично: «…поезда американские довольно плохие сравнительно с нашими». Усталая раздражительность проявлялась у него и впоследствии:
…Если бы ты знала, какая тяжёлая каторга разъезжать, делая тысячи и тысячи вёрст по Америке. Скучно, и главное, неудобно — в вагонах то жарко, как в бане, то холодно, как на базаре. Чёрт их возьми с их цивилизацией!
Патриотические нотки иногда проскальзывали и у Прокофьева: «Помещение консерватории [в Чикаго] очень элегантно, но совсем крошечное, по сравнению с нашей». Впрочем, исключительно материальная сторона американского благополучия нареканий не вызывала. «Средний класс живёт здесь в довольстве», — отмечал композитор, добавляя, что «у Америки два преимущества: народ там здоровее и все чистоплотнее».
Иосиф Рувимович Хейфец | Jascha Heifetz

Скрипач, педагог.
Родился 20 января (2 февраля) 1901 года в городе Вильне Виленского уезда Виленской губернии (Российская империя; ныне — Литовская республика). Умер 16 октября 1987 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).
Один из крупнейших скрипачей-виртуозов в новейшей истории музыки, также — в период своей деятельности — самый высокооплачиваемый скрипач в мире. Обладатель множества наград и премий.
Начал выступать с концертами в шестилетнем возрасте, в России и за границей. Учился в Санкт-Петербургской консерватории. В 1917 году вместе с семьёй эмигрировал в США (гражданин — с 1925). С успехом гастролировал по всему миру, в том числе и в СССР (1934).
В течение исполнительской карьеры Хейфец активно занимался и преподаванием — с 1962 года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (позднее в Университете Южной Калифорнии), также давал частные уроки. В 1972 полностью оставил концертную деятельность, продолжая преподавать.
ЗВУКИ МУЗЫКИ
Настоящий художник приступает к следующему сочинению, потому что он не удовлетворён предыдущим.
Дмитрий Шостакович (1906–1975)
To achieve great things, two things are needed: a plan, and not quite enough time.
Leonard Bernstein (1918–1990)
VIII. Культура
Вполне закономерно, что культура — как профессиональная область деятельности, — да и духовная жизнь вообще, обращала на себя внимание иммигрантов-деятелей культуры. Кроме того, им было, с чем сравнивать, ведь многим довелось прежде жить и гастролировать не только на родине, но и в Европе.
Отношение к американской культуре в самом широком смысле этого понятия было лишено избыточного энтузиазма, хотя тональность могла различаться, от снисходительной до откровенно презрительной. «Максимальная доза Америки для культурного человека — это 2 месяца», — написал в письме к родителям в 1928 году Александр Черепнин. Во многих случаях явно прослеживалось наблюдение над невежеством американцев.
…Были в каком-то артистическом американском обществе, где «умные» американки говорили запутанные вещи и объясняли мне, какая звезда мне покровительствует. Но я произвёл на них атаку и доказал им, что они не знают элементарной астрономии.
Но если для одних такое невежество было отличным поводом, чтобы продемонстрировать собственную русско-европейскую интеллектуальность, то другим оно создавало вполне реальные неудобства.
Здесь, в Америке, Чайковского никто не понимает. Это такая благородная музыка! А им всё равно. Потому что они понятия не имеют ни о сказках французских или немецких, ни о русской музыке. Всё, что ни сделаешь, — «good enough» для них. А если сделаешь лучше, то они даже не понимают, что это лучше…
Об одном из конкретных случаев в связи с этим упомянул Сергей Прокофьев: «Первым, кто дирижировал в этом зале [Карнеги-холл], был Чайковский. Сегодня двадцать пять лет со дня его смерти, но… беспамятные американцы не потрудились его вспомнить».
Вообще, о просвещённости американцев, а вернее, о недостатке таковой, ставшей в Старом Свете своего рода стереотипом и притчей во языцех, русские отзывались часто пренебрежительно, открыто намекая на своё культурное превосходство. Порой, иначе, как справедливым, такое отношение и не назовёшь, во всяком случае, если верить впечатлениям эмигрантов, например, Фёдора Шаляпина.
…О России [американцы] представления не имеют никакого и в круглом невежестве своём продолжают думать, что страна эта заселена исключительно варварами. Как тяжко мне, русскому, скажу, в сравнении с ними — неимоверно просвещённому человеку, слушать их истинно варварские речи.
С другой стороны, сама система народного просвещения и его институтов была в Америке организована, по крайней мере, в чём-то, даже лучше, чем в Европе и России. Прокофьев читал в нью-йоркской библиотеке («американские библиотеки знамениты») биографию Шопенгауэра, которую невозможно было достать в России. Невежество жителей страны свободы определялось в большей степени простым отсутствием тяги к знаниям, но не отсутствием возможностей реализовывать эту тягу. К примеру, музыкальное образование — а оно по понятным причинам привлекало особенно пристальное внимание — находилось на исключительно высоком уровне.
Музыкальное образование в Америке поставлено хорошо. Я посетил консерватории в Бостоне и Нью-Йорке. Мне, конечно, показали лучших учеников, но и в самой манере исполнения видна хорошая школа. Это, впрочем, понятно — американцы не скупятся выписывать лучших европейских виртуозов и платить им колоссальные гонорары за преподавание. Да и вообще в штате профессоров их консерваторий 40% иностранцев.
Николай Набоков сам какое-то время преподавал в разных колледжах, имея, таким образом, возможность изнутри постичь особенности американского образования. В частности, его лекции (кстати, по темам, в которых он сам мало разбирался, но для американских студентов и этого было более, чем достаточно) должны были проходить в форме «лёгкого ненавязчивого разговора, приправленного по возможности анекдотами». Материал в такой форме, очевидно, лучше усваивался. В 1941 году композитор перешёл работать в довольно престижный St. John’s College в Аннаполисе, где обучение проходило посредством штудирования «ста великих книг», которые отбирались по не вполне умопостигаемым принципам. Но, несмотря на это, всё шло ОК.
Впрочем, подобный подход не мог не отразиться на культурном уровне студентов. Николай Слонимский, который тоже одно время читал лекции, став в 1929 году дирижёром оркестра Гарвардского университета, который назывался «Пиерийское братство» (Pierian Sodality), с удивлением обнаружил, что ни один из музыкантов не знал значения слов ни pierian, ни sodality. Позднее Слонимскому довелось преподавать русский язык, и он испытал нешуточное потрясение, когда понял, что его студенты не только не имели никакого чувства языка, но даже не были тверды в родном английском! Резко критически относился к меркантильно-развлекательному духу, господствовавшему в американском образовании, и Александр Зилоти, преподававший в Джульярдской школе в Нью-Йорке.
В то же самое время, несмотря на подобную прогрессивность (если так это называется), в некоторых аспектах американское образование и воспитание оставались крайне консервативными. Джордж Баланчин вспоминал, что к пониманию того, что балет — самостоятельное искусство «большинство людей только сейчас [1980-е] приходит. Я помню, американские родители считали, что балетная школа — это место разврата».
Каково же, по мнению русских музыкантов, было в итоге и в целом отношение американцев к искусству? «По её [мадам Больм] словам, я ошибаюсь, считая Америку антихудожественной. Если искусство в ней ещё не родилось, то, безусловно, уже родилось страшное внимание к нему», — замечал в дневнике Сергей Прокофьев в 1918 году.
Чисто художественная сторона искусства американцев мало привлекала, искусство в их представлении было скорее некой особой формой бизнеса, а успешные артисты — бизнесменами, которые вызывали интерес не своими талантами, а именно своими успехами, коммерческими, разумеется. Например, один хорист труппы, давно живший в Новом Свете, как-то раз заметил, что американцев «мало интересует Шаляпин — великий артист и замечательный певец, но они считают необходимым поглядеть на человека, „делающего“ три тысячи долларов в один вечер». Судя по всему, с этим связана была и страсть американской публики к громким именам (в частности, и таким, конечно, которые сами по себе не требовали затрат на рекламу).
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.