
Роман «Арбат»
(сцены из жизни художников)
Часть I. Соприкосновение
Рецензии :
Роман «Арбат» посвящен интереснейшему и фактически не описанному в нашей литературе явлению духовной жизни России конца 80-х — начала 90-х годов XX века.
Повседневная жизнь артели арбатских художников, живущих в старинном здании на Староконюшенном переулке, неповторимая атмосфера их творческих будней и дружеских вечеринок, путешествия с диггерами по подземельям Москвы, поездки на пленэр и т. д. — всё это представлено в романе с истинным знанием среды и подчинено увлекательно построенному сюжету.
Второй, философско-религиозный план романа — история молодого художника по прозвищу Голубые Мечи, призванного противостоять силам зла и запечатлеть облик Махди (двенадцатого имама), который должен стать предтечей второго прихода Иисуса. То, как подается автором этот тонкий эзотерический материал — не только свидетельствует о знании восточной философии, в частности, ислама и зороастризма, но и дает возможность читателю взглянуть на события сегодняшней истории через призму многовековой мудрости, накопленной человечеством в области философии и религии.
Роман А. Санрегрэ «Арбат», на мой взгляд, является самоценным литературным произведением, художественная концепция которого привлечет всех, кто любит искусство и стремится к духовному совершенствованию.
Хайченко Е. Г.
Профессор кафедры зарубежного театра
РАТИ (ГИТИСа)
Проректор института современного искусства
Ведущий научный сотрудник
Государственного института искусствознания
Вы не задумывались, почему в современном мире наблюдается такой всплеск интереса к магии, астрологии и эзотерике? Наиболее популярные журналы и газеты буквально пестрят объявлениями об услугах доморощенных колдунов и магов. Особенно печально, что эта деятельность наносит ущерб здоровью и психике непросвещенных людей и часто — удаляет их от Бога. Вместе с тем если есть предложение таких услуг — значит есть и гигантский спрос: современный человек изменился и требует сакральных знаний, которые были переданы пророками человечеству, но так и не дошли до людей, будучи монополизированы клерикалами и тайными обществами.
Роман А. Санрегрэ «Арбат» — в этом отношении знаковое произведение современной российской духовной литературы, в котором автор на основе анализа наследия Заратустры (к сожалению, до нас дошли лишь фрагментарные сведения о его белой магии) дает оригинальную интерпретацию духовной и энергетической организации нынешней человеческой популяции, населяющей планету Земля. В книге помимо занятной интриги и прекрасного литературного языка на протяжении всего повествования щедрой рукой разбросаны философские идеи (также почерпнутые в зороастризме), которые интересны для каждого мыслящего человека: как и когда зарождается душа в человеке, на чем основаны «сверхъестественные» способности людей, что такое творчество с точки зрения биоэнергетики и энергоинформационного обмена.
Загрядский В. А.
Президент Ассоциации специалистов традиционной народной медицины и целителей (ОПМАСТНМиЦ), академик Российской Академии космонавтики, РАЕН, д.м.н., профессор.

Удар приняв, мой друг, не торопись
щеку другую подставлять…
Тем более — других учить,
к безропотности призывать…
Коль пред тобою зло — и в том уверен ты,
ответь: зло наказать способен ты?
А. Санрегрэ Сонет 4
Глава 1
Появление Голубых Мечей на Арбате. Знакомство с Николаем Викторовичем и Альтманом.
Был солнечный мартовский день. Яркое солнце и вешняя талая вода заполонили арбатские переулки. Неугомонное чириканье воробьев и воркование голубей где-то вверху, под крышами домов, дополнялись шумом просыпающегося большого города. Торговцы расставляли свой товар на раскладных столиках, посматривая на часы в ожидании первых посетителей.
Голубые Мечи вышел по Староконюшенному переулку прямо в центр Арбата и остановился, чтобы перевести дух, сняв с плеча тяжелый холщовый мешок с картинами. Перед ним стоял желтый одноэтажный домик — магазин «Цветы». Молодой художник облюбовал это место, чтобы выставить свои картины на широком мраморном подоконнике, защищенном сверху от непогоды закругленными маркизами. Оглядевшись по сторонам, он бережно распаковал свои детища, постелил на мрамор грубую холстину и принялся расставлять картины в соответствии с внутренним, понятным только самому художнику, эстетическим порядком. Важна была каждая деталь: как падает свет, каким должен быть наклон полотна, с какой точки зритель приближается к картине и т. д.
Через несколько минут «развеска» была завершена, и удовлетворенный хозяин, поставив шезлонг и усевшись в нем так, чтобы бледное лицо хоть немного могло позагорать под лучами весеннего солнца, сладко затянулся сигаретой. Нервная дрожь первого в его жизни вернисажа под открытым небом постепенно стала отступать. Однако в глубине души все еще оставался холодок: как встретят его живопись люди, не прогонит ли кто-нибудь с этого места, да и вообще — неужели на самом деле можно вот так просто прийти и в самом центре Москвы продавать свои картины? И хотя на эту арбатскую панель его привела нужда — в тот момент он, как это ни парадоксально, о деньгах не думал, как собственно и тогда, когда писал эти картины, и даже внутренне краснел от одной только мысли, что придётся называть какие-то цены и торговаться. Продавать он не умел, ему просто позарез нужны были хоть какие-то деньги, чтобы выжить и написать новые сюжеты, которыми переполнялась душа.
Это было 4 марта 1988 года, когда над Россией с ее необъятными просторами, и в особенности над центром Москвы на Арбате, ощутимо почувствовались первые дуновения ветра перемен. Что принесут они людям огромной страны? Как изменят их жизни и их самих? Как распорядится каждый из них предоставленной свободой? Что ждёт их там — впереди? А пока первые порывы этого ветра трепали на солнце русые волосы художника, заснувшего в своем старом шезлонге. Андрей Сафонов (именно таково имя нашего героя, прозвище Голубые Мечи ему дадут несколько позже новые друзья, с которыми его познакомит Арбат) беззаботно спал в кресле, сраженный усталостью последних бессонных ночей и нервным напряжением, вызванным отчаянным шагом в его жизни — выходом на вернисаж под открытым небом со своими картинами. А тем временем над Арбатом стайками пролетали ожившие от морозной спячки московские голуби, а еще выше — в голубой лазури неба над колокольнями и башенными кранами — проплывали огромные белые облака…
В фиолетовом мареве закатного неба над пустынным плоскогорьем обозначились первые звезды. Вдали всё более ярким пятном пульсировало золото купола мечети аль-Акса на фоне погружавшихся в вечернюю бирюзу оранжевых строений. Восходящие потоки воздуха от нагретой в течение знойного дня земли делали очертания пейзажа дрожащими, и они постепенно исчезали в быстро сгущавшихся сумерках. Безветрие и мертвая тишина лишь изредка нарушались пролетом одинокой вечерней птицы или блеянием овец в долине.
Татьяна отложила заскорузлые кисти и палитру в сторону, смахнула пряди волос со лба и, прищурившись, долго всматривалась в пейзаж. Она делала по холсту, наверное, уже двадцатую прокладку — на сей раз к написанному больше нечего было добавить, наконец-то переход от одного цветового пятна к другому удерживал внимание зрителя. Самые искушенные искусствоведы никогда не поверили бы, что автор этого полотна никогда не был в Иерусалиме, а видит его постоянно практически воочию в своих ночных видениях.
Забытьё Голубых Мечей было прервано нараставшим шумом оживлявшегося Арбата. К своему удивлению, он обнаружил, что вокруг его холстов стояла уже достаточно внушительная толпа зрителей, время от времени бросавших недоверчивые и оценивающие взгляды в его сторону, как бы сопоставляя картины и облик странного субъекта, спавшего в замызганном кресле. Первыми к художнику стали подходить женщины бальзаковского возраста, желая узнать, является ли он автором и что хотел отобразить в своих работах.
— Скажите, пожалуйста, — поинтересовалась женщина с голубыми глазами приблизившись к шезлонгу и указывая на картину с изображением короля Артура, — этот меч… почему он воткнут в камень?

— А кто этот рыцарь? — спрашивала другая.
— А почему здесь разбивается кувшин? — указывал зонтом пожилой мужчина на картину по сюжету Благовещения, на которой за спиной архангела Гавриила автор, действительно, изобразил разбивавшийся кувшин как символ драматической развязки непорочного зачатия.
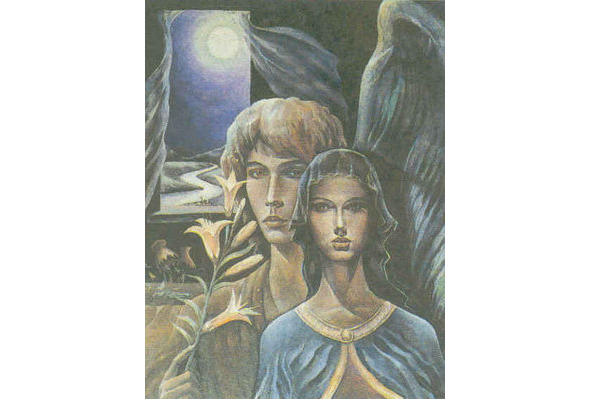
Набравшись терпения и понимая, что здесь, на улице, не в пример выставочным залам и галереям, по всей видимости, нужно «опуститься» до зрителя и немного разжевать эстетику своих художественных «блюд», Андрей поначалу принялся давать некоторые пояснения, однако уже через час понял, что надолго его не хватит. Мало того, он стал чувствовать какое-то самоопустошение в результате этих вербальных контактов. «По сути, — думал он, — мало того, что вышел на панель, ещё вынужден каждому поперечному рассказывать о самом сокровенном, что вынашивал в ходе написания картины».
Постепенно наплыв посетителей стал нарастать. Состоятельные пары, не спеша прогуливавшиеся по весеннему Арбату, чередовались семейными группами, короткими перебежками передвигавшимися от ларька к ларьку, а также стаями молодёжи, шумно рассекавшими арбатскую толпу в разных направлениях. Притулившись на парапетах и ступенях бутиков, бродячие музыканты заполнили воздух звуками разнообразных инструментов и пением уже нетрезвых голосов. Музыка и песни были слышны повсюду, и от этого возникало ощущение праздника. Вдали — около ресторана «Прага» — загрохотал весёлый джаз-банд. Прямо напротив магазина «Цветы», прижавшись к фонарному столбу, девочка лет десяти играла на флейте классические пьесы, время от времени робко перелистывая ноты на деревянном ящике.
Взгляд Голубых Мечей выхватил из скопления людей, находившихся около его холстов, фигуру высокого худого мужчины с репортерской сумкой на плече. Он подходил ранее, а теперь задержался уже на добрых полчаса, рассматривая картины с разных точек: то присев на корточки около них, то отойдя на некоторое расстояние, когда толпа рассеивалась. Подойдя наконец к Андрею, он энергично пожал ему руку и представился:
— Николай Викторович, журнал «Чудеса и приключения». Разрешите сфотографировать ваши картины?
— Пожалуйста, — выдавил из себя Голубые Мечи неожиданно охрипшим голосом. С удовлетворением он отметил профессионализм, с которым журналист достал свой аппарат и быстро, оттирая зевак, принялся фотографировать картины.
— Вы знаете, я не из праздного любопытства, — как бы извиняясь, начал Николай Викторович, — я хотел бы написать статью о вашем творчестве. Кстати, я бы не рекомендовал разрешать незнакомым людям снимать ваши картины. Они — ст`оящие. На Арбате подобных я не видел.
— Это потому, что профессиональные художники сюда не приходят, — скромно начал заступаться за всю художественную братию Андрей, — я вот первый раз сегодня вышел.
Они разговорились. Николай Викторович делал пометки в маленьком блокноте, деликатно вытягивая из художника понемногу необходимый материал для статьи. Как выяснилось, он в детстве тоже бредил рыцарской тематикой, зачитываясь произведениями Вальтера Скотта, Стивенсона, древними скандинавскими сагами о боге Одине, легендами о рыцарях Круглого Стола, описаниями походов крестоносцев в Палестину… Он был интересным собеседником, хорошо владел знаниями символики раннего христианства, на которой развилось искусство средневекового Возрождения. Как и Голубые Мечи, он предпочитал духовную мощь и внутреннюю силу раннего Северного Возрождения напыщенному и пёстрому позднему итальянскому «чинквеченте». Он рассказал о своей поездке в Германию, и, в частности о посещении знаменитого Эйзенхеймского алтаря в Грюневальде. Революционная по тем временам роспись этого собора была прямым протестом против погрязшего в роскоши Юлия II, изображая «мир, который сошел с ума…». Это был диалог двух людей, с полуслова понимавших друг друга и в художественном плане — единомышленников.
Невольно Голубые Мечи боковым зрением отметил молчаливое участие в их разговоре третьего лица. Это был со вкусом одетый пожилой мужчина с седой шевелюрой и такими же серебристо-снежными усами, который, судя по всему, давно уже слушал их беседу. Не по-московски загорелое лицо и одежда выдавали в нем человека, недавно приехавшего из-за рубежа. Однако заговорил он практически без акцента:
— Извините, что вмешиваюсь в вашу интересную беседу, можно вас на минуту, — и жестом попросил Андрея подойти поближе к картинам. Николай Викторович тактично отошёл в сторону и закурил.
— У вас есть каталог или фотографии ваших остальных работ?
У Голубых Мечей не было каталога, лишь альбом с фотографиями отдельных картин. После беглого просмотра портфолио мужчина кивнул в сторону стоявших под навесом картин:
— А эти работы сколько стоят?
— По тысяче каждая, — набрав воздух в лёгкие, разом выпалил художник, отводя взгляд в сторону. Несомненно, разговор с Николаем Викторовичем прибавил уверенности и даже некоторой наглости. Ему теперь было всё равно, что ответит покупатель.
— Ого, а мне говорили, что на Арбате невысокие цены, — искренне удивился Седой и откинулся назад, широко расставив ноги и глубоко запустив руки в карманы бежевого кашемирового пальто. По-хозяйски осмотрев все картины еще раз, он решительно прочеканил:
— Молодой человек, я неплохо разбираюсь в живописи. У меня большая коллекция и здесь, в Москве, и за рубежом. Я точно скажу, сколько на сегодняшний день вы можете получить за эти картины. Предлагаю прямо сейчас наличными три тысячи за все пять холстов, только необходимо снять рамы: они никуда не годятся.
Прикинув в уме, во что обошлись рамы, которые делал столяр из мастерских Большого Театра, Голубые Мечи, ничтоже сумняшеся, согласился, но как затравленный зверь посмотрел в сторону Николая Викторовича, опасаясь, что тот услышит, как легко художник согласился на столь низкую цену. К счастью, тот стоял достаточно далеко и оживлённо беседовал с полной дамой, которую на тонком поводке вывел прогуляться по Арбату черный карликовый пудель.
Обрадованный седовласый покупатель вытащил из внутреннего кармана бумажный конверт с деньгами и, повернувшись к стене, быстро отсчитал нужную сумму. Предусмотрительно вложив конверт с деньгами в свежий номер «Московского комсомольца», он протянул его художнику:
— Здесь вся сумма Чтобы не привлекать внимание милиции, поместите все холсты без рам в свой мешок, и не сочтите за труд — поднесите вон к той машине Алексею, моему водителю, — он указал в сторону запаркованной на углу Староконюшенного переулка темной иномарки, — А я с женой вернусь через десять минут.
С этими словами он крепко пожал руку художнику и пошел по направлению к «Праге».
Еле справляясь с дрожью во всем теле, Голубые Мечи быстро положил газетный свёрток в спортивную сумку. Он достал отвертку, плоскогубцы и принялся методично отделять рамы от подрамников, стараясь не повредить холсты. Через десять минут всё было готово. Оглянувшись по сторонам, художник с сожалением отметил, что Николая Викторовича уже не было.
Аккуратно погрузив все картины в багажник старенького «Ягуара», седоволосый записал координаты художника и дал ему свою визитную карточку, на которой были лишь несколько телефонов и имя владельца, выведенное тиснёными вензелями: «Альтман Александр Лазаревич». Единственная просьба автора — дать возможность в дальнейшем сфотографировать картины для каталога — была встречена Альтманом с энтузиазмом. Он пообещал, что предоставит их в любое время не только для фотосъемки, но и для солидных выставок по первой просьбе автора.
— Вы мне понравились… от вас исходит хорошая энергия, — сказал Альтман на прощание, усаживаясь на заднее сидение автомашины, где его ожидала миниатюрная брюнетка. По своему облику и возрасту она больше походила на дочь, нежели жену седоволосого коллекционера.
Связав рамы проданных картин веревками и водрузив их на плечо, Голубые Мечи подхватил сумку с шезлонгом и направился к метро…
Только вечером, добравшись до мастерской на окраине города и устало упав на жесткую тахту, он раскрыл сумку и вытащил заветный газетный сверток. Ему не терпелось открыть конверт и пересчитать деньги еще на Арбате. Однако многолюдность толпы, среди которой могли быть «люди в штатском», а также солидность покупателя подсказывали ему, что не стоит волноваться по поводу содержимого конверта. Он быстро раскрыл его — и ахнул… Это были не рубли, а доллары — три тысячи долларов! Новенькие, пахнущие краской купюры весомой колодой лежали в его ладони.
Новые творческие горизонты рисовались ему, когда он, расстелив постель, залез под одеяло и уставился в закопчённый потолок, разглядывая на нём еле различимые трещины и пятна. Постепенно замысловатые узоры на потолке стали сплетаться в причудливые очертания пейзажей и таинственных фигур, сменявших друг друга. Усталые веки сомкнулись, а фантастические картины продолжали чередоваться в его сознании, наслаиваясь на цветовые ощущения истекшего дня, перемежаясь со звуками и запахами весеннего Арбата. Он глубоко и радостно вздохнул… и заснул крепким сном.
Глава 2
Встреча с Вождём, Царевичем, Горбачевым, Цыганом
На следующее утро Андрей несся на Арбат на крыльях любви. Любви к жизни, свободе и искусству. Он был готов обнять и расцеловать всех людей, стоявших на платформе метро, по-братски плотно зажавших его в вагоне, толкавших на эскалаторе и на выходе станции «Арбатская».
Сам Арбат, как и все праздные люди, только просыпался после бессонной ночи, лениво потягиваясь и приводя себя в порядок. Дворники в оранжевых безрукавках суетливо работали мётлами, «сбивая с ритма весь квартал». Уборочные машины подметали асфальт от остатков льда и снега. Стояла на редкость дружная весна. На солнечной стороне улицы в нескольких окнах женщины протирали стёкла и рамы.
Расставив на подоконнике цветочного магазина свои новые картины, Голубые Мечи взял в ближайшем ларьке кофе, бутерброды и, поглядывая издали на свой маленький «вернисаж», принялся завтракать.
Из соседнего переулка, тяжело груженный двумя мешками с картинами, появился огромный черноволосый мужчина в сопровождении двух человек, которые также несли большие холсты. Они двигались в направлении цветочного магазина и остановились чуть левее экспозиции Голубых Мечей — около обшарпанной красной кирпичной стены. Ловкими привычными движениями его спутники вытащили из ниш между кирпичами длинные ржавые гвозди, старенький молоток и стали развешивать картины. По всему было видно, что они уже не первый день на Арбате.
Тем временем черноволосый подошел к картинам Голубых Мечей и принялся их рассматривать.
— Твои? — спросил он у вернувшегося к своему шезлонгу Андрея. Тот кивнул ему молча, вынул пачку «Марлборо» и машинально протянул коллеге.
— Спасибо! — ловким движением достав сигарету из пачки и зажигая спичку, черноволосый наклонился к Голубым Мечам, закрыв большими ладонями огонь от ветра. Круглое скуластое лицо и узкие глаза выдавали в нем выходца из Якутии или Бурятии. Чёрные как смоль волосы разметались по плечам. Тёмная широкополая шляпа явно была арбатским трофеем, скорее всего заполученным от чужеземных туристов. Иностранцы всё чаще заходили на Арбат, превращавшийся в одну из достопримечательностей столицы. Серое потёртое пальто было этому колоритному гиганту явно мало и практически не сходилось на груди. Впрочем, пуговиц на нём всё равно не было. Ярко-белый свитер с высоким отворотом добавлял экзотичности облику хозяина, дополнительно защищая его от мартовских заморозков и ветра. Он удачно контрастировал с чёрной шевелюрой, освежая лицо художника, уставшее от бессонных ночей в прокуренной мастерской. Тёмно-синие вельветовые штаны и стоптанные ботинки, заляпанные разноцветными каплями масляной краски, завершали одеяние арбатского исполина.
— Вождь, — представился черноволосый, улыбнувшись всем лицом и, чувствуя замешательство Андрея, добавил: — Или просто Сергей Васильев.
— Вождем его прозвали потому, что он похож на того индейца, который у Милоша Формана в конце фильма «Полет над гнездом кукушки» унитаз выворачивает, — пояснил подошедший худой парень в шинели — А я Валера.
— Не Валера он, а Царевич, его тут все так зовут, правда, не знаю почему, наверное, на мультик похож, — шумно выразил свое несогласие Вождь и начал, как в замедленном кино, изображать апперкот. Царевич был худым, коротко стриженым парнем лет двадцати. Под расстёгнутой шинелью на нём был длинный, почти до колен чёрный свитер, вытертый и вытянутый местами, отчего скорее напоминал кольчугу из шерстяных узелков. Чёрные джинсы и стоптанные кирзовые сапоги на несколько размеров больше усиливали ощущение пренебрежения этого человека к одежде. В чертах его лица: гордом взлёте бровей, прямом, чуть с горбинкой, носе и презрительном изгибе губ — чувствовались сила воли и даже аристократизм, которые только усиливались ветхостью и убогостью одежды, в которую Царевич был облачён.
Он быстро подхватил игру Вождя и так же медленно, как в балете, кошачьим движением нанёс приятелю прямо в живот удар ребром стопы — йоко-гери. Девственная белизна свитера была нарушена грязным сапогом Царевича, и, начав всерьёз меряться силами, оба повалились на кучу грязного талого снега.
Третий участник их компании, который представился как Горбачёв (в то время, на заре горбачёвской эры, это действительно показалось Андрею остроумным, однако, как потом выяснилось, это была его настоящая фамилия), некоторое время осуждающе смотрел на них:
— Эээх, балбесы!
Затем, недолго думая, он слепил снежный комок и метров с десяти точно попал в копчик нагнувшемуся за своей шляпой Вождю.
Вождь, Царевич и Горбачёв — герои Стены, где они развешивали свои картины — стали первыми друзьями Голубых Мечей» на Арбате.
Холсты Вождя были масштабными, как и он сам: метр на два, а то и два на три метра. Живопись была мощная — крупный мазок, большие цветовые пятна. Чувствовалась Суриковка, из которой, правда, как потом рассказали друзья, его отчислили с третьего курса за прогулы, пьянки и дебоши в общежитии. Сам Васильев был родом из Якутии (тут интуиция Андрея не подвела). Писал он гигантскую сирень, парадные, во весь рост, портреты, мазистые натюрморты, чувственные этюды обнажённой натуры. Во всём чувствовалась неуёмность и широта его натуры.
У Царевича, напротив, в основном превалировали мрачные пейзажи, в которых на первом плане, как правило, были изображены развалины средневековых готических сооружений, металлические кровати, между которыми бродили люди-призраки в коричневых капюшонах, держа в руках свечи. А на фоне — обязательно серое стальное море, придавленное грозовым небом, и только на горизонте — просвет или иногда одинокий белый парус…
Писал он на старых деревянных спинках от кроватей, панелях тумбочек и шкафов, потому что денег на холст или картон не было. К тому же полированные боковые части этих элементов мебели создавали естественное обрамление его необычных картин. Он отправлялся на свалки, а также выискивал выброшенные обломки мебели в арбатских двориках. Как правило, это была старая, высушенная годами мебель, нуждавшаяся в дополнительной обработке. Он грунтовал её поверхность или, когда не хватало времени, писал прямо по старой полировке.
Горбачёв по натуре был прагматик и до этого работал кем придется: грузчиком, посыльным, занимался частным извозом. И только с «приходом демократии», когда свои произведения было разрешено продавать сначала в Битцевском парке, а затем в Измайлово и на Арбате, он решил «попробовать» себя в живописи. Сначала он рисовал разноцветные кубики величиной в один-два квадратных сантиметра, по нескольку сотен на каждой картонке. Затем начал писать натюрморты и бытовые сценки, беря уроки у Вождя и работая с ним в его мастерской. Он обожал Васильева и повсюду следовал за ним, держась при этом с достоинством и достаточно независимо. Обладая недюжинным здоровьем и будучи в состоянии выпить ведро водки, он зачастую после очередной попойки взваливал быстро хмелевшего Вождя на плечи и тащил его в мастерскую — благо, это всё происходило недалеко — на самом Арбате.
Этот день Голубые Мечи запомнил на всю жизнь: герои Стены дополняли не только друг друга, но и его самого. Будучи достаточно замкнутым, он был рад новому знакомству. Эти художники несли в себе такой заряд энергии и безудержного веселья, когда собирались вместе, что хотелось без оглядки слиться с ними, забыть о мелких рутинных проблемах. Дух Арбата жил в них, и Андрей начинал ощущать, как этот непередаваемый дух Арбата вселялся в него… и это — навсегда.
Подход каждого потенциального покупателя к холстам у Стены завершался тем, что зритель невольно проникался атмосферой их общения, втягивался в неё и уходил, если не купив картину, то «заражённый» творческой средой, арбатской свободой общения непосредственно с авторами выставленных картин. Это в дальнейшем, как правило, приводило его к Стене вновь и вновь. Те из посетителей, которые покупали картины художников, затем приезжали неоднократно, приобретая новые холсты или приводя знакомых, благо диапазон живописи, каждый день выставлявшейся у Стены, был достаточно широк.
Голубые Мечи быстро сдружился с этой троицей. После полудня мартовское солнце стало по-настоящему припекать, и все вместе они принялись дружно «разминаться» пивом под весёлые прибаутки и разделывание воблы на газете прямо на мостовой. Время от времени к ребятам «со Стены» подходили художники, выставлявшие свои картины на других отрезках Арбата, портретисты, работавшие у театра имени Вахтангова и «Праги». Начинало темнеть. Мартовский холод быстро спускался в переулки Арбата. Друзья стали бросать жребий, кому идти за водкой. Необходимо отметить, что в тот период ещё чувствовались отголоски кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом — достать водку, особенно после семи вечера, было делом нелёгким.
Чувствуя необходимость «прописаться» в новом коллективе, Голубые Мечи выступил с «конструктивным предложением», которое было принято товарищами с пониманием. Горбачёв и Царевич, запихнув за пазуху деньги, выданные Андреем для осуществления ответственного задания, оглянулись по сторонам, как народовольцы-химики, и скрылись в сумерках в направлении Смоленского гастронома.
В течение продолжительного времени, пока они отсутствовали, Вождь успел продать иностранцам две маленькие картины Царевича. После долгого шушуканья с другим покупателем снял со стены свой огромный натюрморт с букетом роз и принялся откреплять холст с подрамника.
Позади послышалось шумное приближение целой компании. Это были Царевич с Горбачёвым в окружении двух девушек и крепкого парня с гитарой. Одна из девушек была тёмнокожей, но говорила без малейшего акцента.
— Анжелка! — завопил на весь Арбат Вождь, сгребая афро-россиянку в охапку.
Он поднял ее, как пушинку, и закружил, распугивая прохожих. Круглая, как шар, прическа тёмнокожей девушки, действительно, делала ее похожей на Анжелу Дэвис. Она махала в воздухе ногами, визжа и умоляя якута вернуть её на землю. Парень с гитарой подошел к «Голубым мечам» и протянул руку:
— Сергей, а это — Алёна-портретист.
Худенькая Алёна с этюдником через плечо и початой бутылкой пива в руке сделала легкий реверанс и улыбнулась.
— Ну, это дело надо обмыть, — Вождь мягко приземлил Анжелу, удерживая стройную тёмнокожую девушку левой рукой. Одновременно он запустил правую пятерню в большой пакет, который цепко держал двумя руками Горбачёв.
— Сегодня гуляют все! — громко декларировал он, извлекая литровую бутылку «Столичной» и озираясь по сторонам в ответ на беспокойные взгляды прохожих, напуганных его громоподобным голосом.
— А где мои малявочки? — робко поинтересовался Царевич судьбой двух своих картин.
— Их милиция конфисковала и искала автора, — тупо пошутил Вождь, вынув из кармана брюк «дубликатом бесценного груза» две помятые пятидесятидолларовые бумажки.
— Цыган, помогай! — обратился Горбачёв к Сергею с гитарой.
Сам он вместе с Царевичем принялся снимать оставшиеся картины со стены, передав пакеты со снедью Анжеле и Алёне. Вскоре, оказав помощь и Андрею в упаковке его картин в мешок, вся компания отправилась в мастерскую к Вождю.
Глава 3
Квартира «Синяка». Встреча с Ольгой. История про «Трёх медведей».
Логово якута оказалось совсем рядом — на шестом этаже здания, стоявшего прямо на углу Староконюшенного переулка и Арбата. Крыша этого дома, увенчанная высоким куполом, напоминавшим планетарий, была видна из любого конца улицы и являлась хорошим ориентиром. Войдя в подъезд, пропитанный сыростью, запахом человеческой и кошачьей мочи, шумная толпа стала грузиться в видавший виды лифт, жалобно скрежетавший всеми своими частями от натиска молодёжи. Набив лифт до отказа картинами и усадив туда девчонок, ребята бодро пошагали через две ступеньки на шестой этаж.
Дверь на три звонка отворило существо женского пола неопределённого возраста по прозвищу «Синяк». Эту кличку художники дали ей за то, что, не просыхая от алкоголя ни на минуту, эта женщина при дневном свете имела иссиня-фиолетовую физиономию. Иногда её лицо, помимо перманентно синего цвета, мейкировалось легкими разноцветными фингалами (попеременно то слева, то справа), поставленными собутыльниками-«визажистами». Но в целом это была достаточно беззлобная, но стойкая женщина. «Вольно и невольно», в результате многочисленных разводов с предыдущими мужьями, скандалов и мордобоя с соседями, она осталась единственным старожилом в огромной шестикомнатной коммуналке общим метражом около ста сорока метров и теперь сдавала её художникам под мастерские.
Шумная толпа побросала картины в гигантской прихожей, напоминавшей скорее камеру хранения арбатских шедевров, чем жилое помещение. Несмотря на огромное количество холстов и всякого хлама, сваленных около окон, размеры этой комнаты и длинного коридора, уходившего направо, практически позволяли кататься по ним на мотоцикле. Этим, по всей видимости, и занимался четырнадцатилетний сын Синяка — Антоша, который к моменту прихода художников практически полностью разобрал своего «стального коня» со сверстниками, разбросав его закопчённые конечности по всей прихожей.
Старинные потолки, четыре с половиной метра, с торчавшей из разломов обвалившейся извёстки деревянной обрешёткой и остатками массивной лепнины, а также трапециевидный эркер с высокими окнами и мраморными подоконниками делали эту комнату торжественной и зловещей одновременно. Некоторые окна были разбиты и заделаны на скорую руку фанерой, из-под которой на подоконники высыпались струйки снега. Грязные подтёки воды с чердака застыли сталактитами грязных сосулек под потолком. Однако сквозь уцелевшие стёкла окон открывался замечательный вид на угол залитого золотистым светом ночных фонарей Арбата и Староконюшенного переулка, а выше — через аптеку напротив — на светившиеся вдали колокольню Ивана Великого и рубиновые звёзды Кремля.
Весёлая компания устремилась по длинному коридору в следующую за прихожей комнату, в которой обитала Синяк. Это было квадратное, метров тридцать, помещение с большим столом посредине, над которым, похоже еще со сталинских времен, висел огромный оранжевый абажур с бахромой. От его света всё помещение наполнялось каким-то несказанным уютом и теплом, которые помнят русские люди, заставшие тот период. При малейшем колебании розовые блики лампы гуляли по комнате. Удерживая интерьер в полумраке, абажур позволял свечению лампы падать лишь строго вниз, заливая ярким светом всё, что располагалось на столе. Далее же, ближе к углам комнаты, освещение становилось мягче, выхватывая из темноты очертания мебели и стоявшие у окна огромные деревья-фикусы в кадках.
Такой абажур весьма располагал к неспешному и приятному общению: лица сидевших вокруг стола попадали в тень и свет не так сильно бил по уставшим за день глазам. Вместе с тем из любой точки комнаты хорошо было видно, что происходит за столом: например, сколько водки осталось в бутылке или поровну ли налита она в стаканы…
Тем временем компания по-деловому разбилась на две группы. Прекрасный пол, прихватив с собой Горбачёва, удалился на кухню нарезать колбаску, хлеб и открывать консервы. К ним присоединились две «поклонницы» Вождя — Ляля и Оля, спавшие до этого в обнимку на его тахте в соседней комнате, являвшейся мастерской якута.
Ляля, как объяснили потом ребята, была за последний месяц самой близкой подругой Вождя, выполнявшей по совместительству роль натурщицы и материализованной музы художника. Он постоянно писал её обнаженной, закрываясь в мастерской иногда целыми днями. Это была девушка невысокого роста лет девятнадцати с карими глазами и длинными светлыми волосами. Увидев её, любой мужчина, тем более художник, понял бы Васильева: её полную грудь не мог скрыть даже пушистый чёрный кардиган и широкая коричневая блуза, надетая поверх потёртых джинсов.
Ольга, являвшаяся её школьной подругой, работала на телевидении. Как поведал Андрею Царевич, после любовной ссоры со своим сослуживцем по работе она взяла отпуск и перебралась на время к Ляльке, чтобы залечить раны «душевной драмы». Живописный беспорядок коротко постриженных светло-русых волос гармонировал с её стройной спортивной фигурой. Голубые глаза, прямой тонкий нос и удлиненное лицо создавали образ хрупкого интеллектуального существа, случайно оказавшегося в этом арбатском бомжатнике.
На ходу застёгивая джинсы и извиняясь за свой внешний вид, Ольга последовала вслед за Лялей на кухню, чтобы помочь накрыть на стол.
Тем временем мужчины, руководимые Синяком, сконцентрировались вокруг стола под абажуром, расчищая на поверхности замызганной клеёнки пространство для импровизированного ужина. В ярком свете оранжевого абажура, подобно шахматным фигурам, сначала появились «ферзи» — запотевшие с холода бутылки водки. Вслед за ними были расставлены фигуры «полегче» — пузатые бутыли портвейна и целая батарея пива… Затем ровными рядами выстроились несколько свежесполоснутых лафитничков и мутных гранёных стаканов.
Через некоторое время этот чисто мужской натюрморт был украшен двумя банками венгерских огурчиков и лечо, которые Царевич открыл локтем. Накромсанная крупными кусками докторская колбаса из знаменитой когда-то арбатской «Диеты» и початая банка с горчицей переполнили терпение Вождя, который решительным движением взял первую бутылку водки и зубами сорвал «бескозырку» на «Столичной». Разлив был быстрым и безукоризненно точным: никто не был забыт, и дозы были выверены как в аптеке.
Цыган, развалившись по-хозяйски в кресле на расстоянии вытянутой руки от рюмок, настраивал гитару, небрежно поддерживая уголками губ сигарету, пепел которой догорел уже до половины. Смуглое лицо с прямым и длинным носом, а также шевелюра густых вьющихся чёрных волос, действительно, делали Сергея похожим на цыгана. Однако, как потом узнал Голубые Мечи, он на самом деле не относился к «малому египту» (т.е. цыганам), хотя прекрасно играл на гитаре и великолепно пел. Эту кличку ему дали ребята на Арбате по его фамилии. Ничего не поделаешь — Nomen est Omen! По всей видимости, когда-то люди неслучайно дали такую фамилию его предкам… Несмотря на атлетическое сложение, у него были длинные и тонкие пальцы, которые выдавали в нём человека искусства — музыканта и художника.
Кутаясь в шаль и улыбаясь широкой, не сходившей с сизого лица улыбкой, Валя Синяк одобрительно следила за чёткими действиями ребят и уже пускала пузыри в предвкушении хорошей поддачи.
Радостное известие, принесенное Горбачёвым с кухни о том, что селедочка с лучком уже практически готова, а картошка в мундире «на подходе», мужская братия встретила дружным вставанием и, шумно чокаясь «за удачу» и «за Синяка», махнула по первой, не дожидаясь девчонок.
Синяк со словами: «Дамам можно сидя!» выпила из своей персональной эмалированной кружки и смачно крякнула, подцепив гнутой вилкой кильку в томате из банки, которая стояла на столе ещё до прихода честной компании. Вождь, не успев прожевать солёный огурец, нанизал на вилку огромный, как мухомор, кусок докторской и презентовал его через весь стол Синяку. Брызгая слюной на Царевича и Горбачёва, он воскликнул:
— Валя, ну почему я в тебя такой влюблённый!
Глаза Вали Синяка засветились искорками вселенской любви после первого разлива. По-прежнему продолжая улыбаться, она молча подставила свою кружку для новой порции водки.
Далее последовал торжественный внос дымящейся картошки, селёдочки, яичницы и прочей незатейливой гастрономической импровизации. Художники с гиканьем встретили возвращение девчонок с кухни. Путь к сердцу мужчин был проложен на скорую руку, но умело — и все шумно выпили за это.
Голубые Мечи быстро хмелел не столько от водки и выпитого перед этим пива, сколько от дружеской обстановки за столом. Комната то и дело взрывалась от хохота: Горбачёв рассказывал историю о том, как он неожиданно для себя продал копию незабвенной картины Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу» северным корейцам.
— … Я им толкую: животных, мол, не рисую. А они мне: а лес? Лес, говорю, пишу, но сейчас у меня ничего такого не осталось… а потом сам вспоминаю, что у Петровны в чулане уже год лежат эти «Медведи» — только место занимают, ядрён корень! Полтора метра на два. Я по ним еще летом прокладочку сделал и холст в двух местах подклеил…
— А дальше что? — нетерпеливо спросила сидевшая на колене у Вождя маленькая, но местами пухленькая Ляля, судя по всему далёкая от искусства. Однако чувствовалось, что Шишкин и особенно его «Три медведя» (как их называют в народе) были ей близки.
— Ну, тащу их к Петровне. Она пока чайку сообразила, я этих «Медведей» быстренько пиненом протёр от пыли, в мольберт зарядил и тряпочкой так аккуратненько прикрыл. В этот момент Горбачёв был удивительно похож на главный персонаж картины Перова «Охотники на привале»: широко раскинув руки и растопырив для пущей убедительности пальцы, он горящим взглядом охватывал всех собравшихся за столом. Его чуть горбатый нос, лукаво поднятые брови и две «дымящиеся» от пламенного взора глубокие глазные впадины говорили об азартном и увлечённом характере. Мощные надбровные дуги и точёные, как из кремня, скулы свидетельствовали о недюжинной воле и целеустремлённости. Длинные, местами слипшиеся, тёмно-русые волосы были откинуты назад, придавая его облику несколько демонический вид. Старенькие чёрные штаны, разорванные местами, были подпоясаны толстым темным шнуром, завязанным сбоку тугим узлом, отчего Горбачёв ещё больше походил на героя каких-то охотничьих сказок.
— А они что? — затаив дыхание, поинтересовалась Синяк, делая умное лицо.
— Они заахали, сказали, что это — как раз то, что они уже давно искали на Арбате. Спросили, я эту картину написал сам или нет. Ну, я честно сказал, что эту картину — написал самолично.
— А они купили? — не выдержал Цыган.
— Согласились купить за пятьсот баксов, только попросили ещё несколько медведей подрисовать…
— А ты?
— Я им так чётко высказал: «Это денег дополнительных будет стоить». Они мне: мол, Сколько?. А я, не будь дурак: «По пятьдесят долларов за штуку!»
— Ну а дальше, дальше что было? — вся компания уже начала давиться от хохота.
— Ну а дальше — мы с ними по рукам ударили, я им говорю: «Приходите завтра к полудню, работа будет готова». А сам — к Вождю: мол, так и так, давай акрилом, чтоб долго краске не сохнуть, рисуй, ебёнть, этих медведей.
Тут все взоры обратились к Вождю, и тот охотно продолжил повествование о северных корейцах и медведях:
— С первым медведем, конечно, пришлось повозиться, но потом, как этот, — пальцем указывая на Горбачёва, — мне сказал, что платить будут за каждого медведя, я разошелся и штук восемь их забабахал.
— Ну а корейцы что? — раскрыла рот Оля.
— Корейцы пришли вовремя, да как увидели столько медведей — им аж дурно стало. Перебор, говорят, давай убавляй! У меня даже в глазах потемнело. А самый старый, такой толстый кореец всё причмокивал: «Йой, йой, йой» — да и забрал за восемьсот пятьдесят…
— А почему за восемьсот пятьдесят, а не за девятьсот? — быстро в уме подсчитала Синяк.
— А потому, что он за двух маленьких согласился только по двадцать пять долларов заплатить, — захохотал Царевич, стоявший в дверном проёме со стаканом в руке и любовно поглаживавший купол своей короткостриженой головы.
Римский профиль и чуть поднятые вверх уголки глаз делали его лицо одновременно и античным, и авангардно-стильным для того времени, когда короткие причёски ещё только входили в моду, и их позволяли себе только люди, опережавшие моду. Огромный, заплатанный на локтях тёмный свитер был явно с чужого плеча и спускался почти до колен, а выглядывавшие из-под него тонкие длинные ноги в узких джинсах делали всю его фигуру похожей на какое-то большое насекомое с оторванными крыльями.
Обнимая его сзади за талию, к нему прижималась Анжела, которая хотя и была на полголовы выше Царевича, но из-за своей худобы и природной стройности смотрелась с ним очень гармонично. Она сняла свой широкий белый свитер, оставшись в лиловом топике с узкими бретельками и тёмно-красных брюках в обтяжку, которые эффектно сочетались с шоколадным отливом её смуглых плеч и ярко-фиолетовой помадой, подчёркивавшей чувственную полноту губ…
Тем временем портретистка Алёна, развивая бессмертную тематику И. И. Шишкина и «Медведей», уточнила:
— Смех смехом, а Шишкин на самом деле столько с этой картиной мучился… Медведей-то он рисовать не умел, да и не думал он их вовсе изображать. А какой-то покупатель попросил… Художник Савицкий, по-моему, к нему в мастерскую пришел и дописал медведей. А народ только эту картину в основном и вспоминает: «Шишкин — да это тот, который „Трех медведей“ написал!» Хотя там, на самом деле четыре медведя изображены… и картина-то называется совсем по-другому: «Утро в сосновом лесу»…
Цыган, у которого Алёна сидела на подлокотнике кресла, отложил гитару в сторону, обнял её правой рукой за талию и, привлекая к себе, нежно сказал:
— Всё-то ты знаешь, везде-то ты побывал, Василий Иванович! Такой исторический экскурс — достоин Третьяковской галереи… Чтобы народ всю правду о своих любимых «Трех медведях» знал…
Алёна, не сопротивляясь, скатилась с подлокотника кресла на колени к Цыгану и, устроившись поудобнее, обвила руками его шею. Несколько смутившись оттого, что все перевели взгляды именно на неё, она капризно скривила брови и маленькие губки. Затем артистично взяла со стола свой бокал и высоко подняла, мысленно чокаясь с каждым присутствующим. Её светло-русые волосы были стянуты в тугой валик на затылке, отчего и без того длинная шея казалась лебединой. Бордовый свитер, надетый на голое тело, и голубые джинсы очень шли ей и смотрелись контрастно на фоне одетого во всё чёрное Цыгана.
— Не знаю, как Щишкин, но то, что Горбатый, — Вождь запустил руку в длинные волосы Горбачёва, — у нас теперь самым большим специалистом по медведям станет, — это факт! Он уже вторую копию «Медведей» пишет, но моих шедевральных восемь медведей — теперь уж никогда повторить не сможет!
Уязвлённый Горбачёв скрылся в тёмном коридоре и достаточно быстро появился вновь, радостно неся новую версию «Медведей». Равнодушно на это нельзя было смотреть, и вся компания дружно грохнула от хохота: «олимпийские миши» ползали по деревьям, широко улыбаясь в ожидании появления на Арбате новых посланцев Северной Кореи.
Глава 4
Опохмелительный этюд. Грибник.
Утро для Голубых Мечей было мучительным: голова раскалывалась от дикой смеси выпитого накануне. Ему смутно вспоминались не только водка и пиво, с которых всё началось но и принесённые кем-то по капризу дам вермут и шампанское, а также портвейн, на этикетках которого были нарисованы тёплые пейзажи Крыма. Эти изображения и остались последним, что он, собственно говоря, помнил о вечеринке…
Он был под впечатлением картин Вождя в его мастерской, которая располагалась в конце коридора. Развешанные по стенам большие полотна выхватывались из полумрака лампой, которая нависала над огромным деревянным станком посредине мастерской. Потом зажгли свечи, курили по кругу «косяки», ловко скрученные Царевичем, и долго пели под гитару…
Ему не хотелось просыпаться: так интересно было досмотреть красивый сон, который он никак не мог вспомнить. Веки сомкнулись, и он опять погрузился в сладкую утреннюю дремоту.
Каменистая дорога пролегала через апельсиновую рощу. Седоволосый старик, с головой накрытый от знойного солнца белой куфией, продавал у родника сочные и холодные от ледяной воды дикие апельсины.
Убыстряя шаг и с трудом сдерживая учащающееся дыхание, Татьяна стала спускаться по белым плитам-ступеням, углубляясь в прохладу изумрудной зелени хмеля и дикого винограда. Повеяло сыростью, и скоро каменистая тропинка привела ее к роднику Афродиты. С вертикальной скалы тоненькие струи живительной влаги ниспадали вниз — в естественную каменную купель с кристально чистой водой. После слепящих лучей солнца бирюзовые и лиловые тона купальни Афродиты с нависавшей над ней густой зеленью листвы давали отдых глазам и телу. Вокруг не было ни души. Лишь птицы дружелюбно порхали с ветки на ветку и скакали по тёплым каменным плитам. Не в силах совладать с собой, она робко оглянулась, скинула лёгкую одежду и вошла в воду…
Сон Голубых Мечей был прерван грохотом падения Горбачёва с огромной кровати, на которой в обнимку лежали Вождь, Ляля и Оля. Женская часть этого трио явно не желала «новых членов в свой коллектив». Они безжалостно вытолкали ногами и руками обнажённого Горбачёва, безуспешно пытавшегося пристроиться сбоку к тёплой компании. Упав с кровати на пол, Горбачёв так и остался лежать в живописной позе, прикрытый лишь газетой «Труд».
С неимоверными сложностями найдя свои ботинки, но не будучи в силах справиться с длинной шнуровкой на них, Голубые Мечи нащупал какие-то разорванные домашние тапочки и прошлёпал в ванную. Эта комната, как и все остальные, представляла собой ещё один шедевр архитектуры середины девятнадцатого века. Она была правильной овальной формы с полукруглым окном над просторной ванной. Мраморные львы с вмонтированными в них кранами (один над самой ванной и другой над умывальником) придавали комнате аристократический вид. Несмотря на запущенность интерьера, уродливую газовую горелку для подогрева воды, которая портила старинный, местами обвалившийся флорентийский кафель, подвешенные под потолок лыжи, санки, тазы и корыта, комната эта по-прежнему хранила непередаваемый дух старой арбатской эпохи.
Казалось, мраморные львы с частично отбитыми носами и клыками помнили всех посетителей этой комнаты и могли бы многое поведать, будь тот, кому адресовано их повествование, в состоянии понять их красноречивое молчание. Большие, чуть раскосые глаза львов с любопытством смотрели на нового посетителя. Глубоко вырубленные в мраморе зрачки неотрывно следили за ним, в какую бы часть ванной комнаты он ни перемещался. Это был известный приём, часто применявшийся старыми мастерами. Достаточно поместить зрачок в центр глаза — создавалось ощущение постоянного неотрывного взгляда, преследующего зрителя в любой точке. Превозмогая утреннюю лень, Андрей, по-солдатски широко расставив ноги, ополоснулся по пояс ледяной водой, громко фыркая и бодро напевая какую-то песенку. Его правая рука потянулась к футболке, которой он был намерен протереться но, к своему удивлению… нащупала пушистое махровое полотенце… В дверях ванной стояла Оля, задумчиво улыбавшаяся и наблюдавшая за ним.
— Доброе утро, monsieur, — на французский манер сказала она.
— Merci bien, mademoiselle, — принимая полотенце, подхватил он интригу общения — C’est tres jolie `a vous!»
— Pas de quoi — игриво ответила Ольга, наклонив голову и заглядывая ему в глаза.
Андрей почему-то был уверен, что Ольга знает французский. Но её прекрасное произношение удивило его. На секунду их взгляды пересеклись. Андрею показалось, что он тонет в бездонных голубых глазах. Они лучились в утреннем солнце, переливаясь множеством лазурных и изумрудных оттенков. Взгляд Ольги скользнул по его раскрасневшемуся от холодной воды торсу. Она нежно сняла безымянным пальцем левой руки каплю влаги с плеча юноши и медленно поднесла к губам.
Их взгляды пересеклись вновь, но, не желая затягивать неловкую паузу, Ольга со смехом выдернула полотенце у молодого художника и вытолкала из ванной. Утреннее кокетство обаятельной девушки пробежало приятной волной по телу. Оставшись в одних джинсах, он направился, пританцовывая, к кухне в надежде приготовить кофе и принести его даме прямо в ванную.
Эти возвышенные помыслы были неожиданно прерваны зрелищем, которое он застал на кухне. На старом покошенном табурете посреди закопчённого помещения сидел человек в военной форме периода Великой Отечественной войны, Выцветшая гимнастёрка была уже практически бежевого цвета, видавшие виды брюки-галифе заправлены в яловые сапоги. Широко расставив ноги и наклонившись над не менее выцветшим вещмешком, человек из прошлого сортировал какие-то диковинные грибы и коренья.
— Познакомьтесь, — широко улыбаясь, не вынимая «Беломор» изо рта, сказала Валя Синяк, — это Грибник.
— Иван Семёнович, — протягивая жилистую руку Голубым Мечам, промолвил Грибник.
— Он круглый год по грибы ходит. Смотри, какие диковины где-то под Белгородом накопал, и это ж всё за валюту у него японцы покупают, -Синяк держала в руках чагу и сморчки.
— А-аа, — одобрительно протянул Грибник, — они в этом деле понимают, настои всякие делают. У меня уже почитай три года несколько клиентов из их посольства постоянно заказывают это… — он ткнул маленьким острым ножиком в разложенные на газетах грибы.
Голубые Мечи с интересом рассматривал Грибника и его добычу. Помимо грибов, кореньев и чаги, на полу лежал большой целлофановый пакет с огромным шматом парного мяса, из которого сочилась алая кровь.
— А это сохатого ребята завалили… Вот, угостили, — поймал любопытный взгляд Андрея Грибник, кивая на свёрток, — Сейчас мы с Валей котлеты будем крутить.
Несмотря на глубокие морщины, лицо Грибника было свежим, даже немного загорелым. Загар сходил на нет уже ближе к расстёгнутому вороту гимнастёрки, в разрезе которого виднелся крестик и ладанка на чёрном шнурке. Дымчатые волосы на висках серебрила седина. Весь он был крепко сбитым и поджарым, словно вытесан из дерева.
Андрей начал таинство приготовления волшебного напитка в эмалированном кофейнике, бухнув в него для верности побольше молотого кофе «Арабика». Отыскав среди горы грязной посуды две чашки и тщательно отмыв их вместе с ложками от многослойной грязи, он поставил их вместе с кофейником на старый поднос. С похмелья немного покачивало. Однако он, как моряк, широко расставляя ноги, осторожно понёс импровизированный кофейный сервиз на кончиках пальцев в мастерскую Вождя.
В углу мастерской Васильева на большой тахте мирно спали Цыган и Алёна. До утра играя на гитаре и распевая песни, обитатели этой комнаты позже всех легли спать. Несколько толстых свечей в тяжёлых кованых напольных подсвечниках беззвучно догорали в утренних лучах солнца. Раздвинув ветхую китайскую деревянную ширму так, чтобы солнце не мешало им спать, Андрей загородил спавших от остального пространства мастерской. Он сгрёб в сторону живописный натюрморт из старинных бутылок и остроконечных морских раковин, стоявший на круглом столе в углу, и освободил пространство для подноса с кофе.
В этот момент открылась дверь ванной комнаты и оттуда вышла Оля. Жадно вдыхая запах кофе, она закрыла глаза и, вытянув вперёд руки, как «зомби» двинулась к столу. Волосы были перетянуты полотенцем наподобие тюрбана. Только сейчас Андрей понял, чем был вызван таинственный вид девушки: кроме легких тапочек и его футболки на ней больше ничего не было…
Она медленно села к нему на колени. Жадно втягивая ноздрями плывший по мастерской пряный запах кофе, медленно сделала глоток и потянулась к первой утренней сигарете. Стараясь до конца оставаться джентльменом, молодой художник ловким плавным движением извлёк из кармана джинсов зажигалку. Сделав затяжку, Ольга передала сигарету ему. Начало было более чем многообещающим… Левая рука Андрея робко обнимала ее талию. Под хлопковой тканью нежное тело дышало влагой…
— О…«Автопортрет с Саскией», Рембрандт! — шумно вошёл в мастерскую «Вождь». Он был в халате и шлёпанцах. В глазах его Андрей не прочитал ни капли ревности. Васильев бесцеремонно схватил первый попавшийся немытый бутафорский сосуд, плеснул туда кофе и сделал несколько жадных глотков.
— Хорошо у вас тут, — взглядом он кивнул на кофейник и ширму, за которой сладко спали Серёга Цыган и Алёна, подошел к кровати и, взяв гитару, лежавшую у них в ногах, принялся, невпопад перебирая струны, что-то напевать, взирая на Ольгу, живописно сидевшую на коленях у Андрея.
Вдруг Вождь прервал свое античеловеческое музицирование и замер на мгновение. Затем ринулся в угол мастерской, где стояли картины, и вытащил оттуда здоровенный холст с незаконченным натюрмортом. Развернув против света большой академический станок, являвшийся настоящим украшением мастерской, он вставил в него холст. Схватив большой шлиц, взлохмаченный Васильев принялся мощными мазками набрасывать сидящих в прежней позе Ольгу и Андрея. Левая рука гиганта-якута была некоторое время вытянута к ним с поднятым указательным пальцем. Этим жестом он как бы просил их не шевелиться. Так прошло минут десять-пятнадцать. Движения его стали более решительными. Мощные мазки шлицем были похожи на глухие удары барабана. Холст тяжело гудел под его рукой.
Вождь то отходил на некоторое расстояние, прищуривая глаза, то радостно набрасывался на холст вновь, молниеносно размешивая краску на большой овальной палитре, находившейся рядом на табурете. Краска разлеталась в разные стороны, забрызгивая халат и пол вокруг. Несколько капель попало на круглое смуглое лицо якута, но он не замечал этого в порыве вдохновения.
Ольга, слегка наклоняясь, чтобы отпить немного кофе, тут же возвращалась в прежнюю позу, виновато моргая глазами. Голубые Мечи восторженно следил за Вождем, видя по его глазам, что набросок получается. Когда Ольга в очередной раз нагнулась, Васильев набросился на неё в гневе:
— Всё, ты провинилась, снимай майку и тюрбан этот дурацкий.
Видя, что он не шутит и вот-вот вцепится в неё своими заляпанными краской руками, Ольга повиновалась, и остатки её одежды были сброшены на стоявшее рядом кресло. Надо сказать, что сделала она это не без удовольствия, сжигая замершего в прежней позе Андрея своим вызывающим взглядом.
— А ты, давай тоже… раздевайся, — потянула она за ремень на его джинсах, пытаясь одновременно расстегнуть застёжку-молнию. Ну… так нечестно, — встретив машинальное сопротивление Андрея, она обидчиво скривила маленький ротик, ожидая поддержки у Вождя.
— Ну ладно, садись быстрее, — Васильев неистово махал кистью, ещё больше разбрызгивая краску вокруг.
Дело пошло веселее: Вождь, подобно якутскому шаману, бесновался около холста, стремясь не упустить прилива вдохновения. Для удобства он взял палитру в левую руку, и «полёт» кистей ускорился. Голубые Мечи, стараясь совладать с возбуждением, вновь обнял Ольгу за талию и пытался придать своему лицу как можно более беззаботное выражение. Странное дело, но беззастенчивость её поведения лишила ситуацию какой-то интимной тонкости. Вместо этого в нём загоралось животное чувство. Осязание женщины, находившейся рядом, всё более возбуждало его. Жаркое тепло, зародившееся где-то под солнечным сплетением, теперь уже разливалось по всему телу, и, видимо, это стало передаваться Ольге. Повиливая бедрами, она плотнее прижалась к его животу, и долго так позировала Васильеву, практически не меняя позы.
Ситуацию разрядили вошедшие Царевич и Анжела.
— Вот это мы нормально отдыхаем, — задорно приветствовал всех Царевич, — ещё и десяти утра нет, а Вождь уже нетленку «забабахивает»!
— Оль, а ты так не замёрзнешь? — спросила Анжела.
Экзотический туалет Анжелы тоже был достоин кисти живописца: он состоял лишь из топика и узкого полотенца, затянутого вокруг бёдер наподобие туники. Острые соски весело подрагивали под тонким шёлком при каждом движении пластичной афро-россиянки.
— Ну что ты, он такой горячий… — рука Ольги, лежавшая до этого на плече Андрея, скользнула вниз по спине, как бы невзначай плотнее прижимая полный бюст к его груди.
Тем не менее Анжела заботливо прикрыла фрамугу и подняла портьеру на подоконник, чтобы тепло от старинных батарей полнее согревало обнажённую натурщицу.
— Отойди от света! Идите все… сами знаете куда, — зарычал неистовый Васильев, указывая кистью на выход из мастерской.
— Да ладно, мы тут в углу тихонечко посидим, мешать не будем, — Царевич забрал с подноса на столе кофейник и, отпивая прямо из его носика остатки кофе, плюхнулся в кресло, усадив Анжелу себе на колени:
— Эй, Андрюха, с непривычки, наверное, всё затекло? В этом деле практика нужна, а то так можно статический вывих получить!
Анжела и Ольга переглянулись и ухмыльнулись.
— Между прочим, — продолжал делиться своими знаниями по затронутой теме Царевич, — скульптор Мухина, когда лепила рабочего и крестьянку с серпом и молотом, всё никак не могла побороть его могучую эрекцию. Натурщицу для крестьянки такую фигуристую нашли, что у этого натурщика постоянно от неё возбуждение наступало. Ничего с этим поделать не могли. Потом Мухина придумала: между ними простынку натягивала, чтоб он эту самую крестьянку не видел.
— Да ладно, болтать-то, — махнула рукой Анжела.
— Нет, он правильно говорит, — вмешался Васильев, не отрываясь от работы, — у этого натурщика была поистине гигантская грудная клетка… Да и всё остальное… Кто его только не лепил, все наши академики с ним работали. Он потом целую книгу воспоминаний издал — и там этот эпизод, действительно, описан.
— А я в это очень даже верю, — вновь кокетливо повиливая бедрами Ольга ещё плотнее прижалась Ольга к Андрею. Голубые Мечи густо покраснел, закатив глаза, и все дружно расхохотались. Провокационно наполовину расстёгнутая до этого Ольгой «молния» на его джинсах окончательно разошлась, и он с трудом застегнул её под восторженное гиканье художественной братии.
— Ребятушки, добро пожаловать к столу, — в мастерскую вошла Синяк с дымящейся картошкой в кастрюле. Увидев происходившее действо, она раскрыла рот от изумления:
— Батюшки мои, ну ты, Васильев, и талантище! Жуть люблю смотреть, как он пишет!
— Все, достаточно для начала, — тяжело выдохнув, сказал Вождь, — пойдемте, закусим чем Бог послал.
Он отошёл от мольберта на три шага, прислонив кулак с зажатой в нём кистью ко лбу. Сильно прищурившись, Васильев вглядывался в холст, уже не обращая внимания на натуру. Затем сделал несколько завершающих ударов кистью и, отшвырнув палитру в сторону, принялся оттирать пятна краски с халата, рук и ног.
Разминая затёкшие конечности, Голубые Мечи подошел к станку и взглянул на холст. Увиденное превзошло все его ожидания: это был не набросок и не шарж… Перед его глазами предстал практически завершённый этюд. Работа была совершенна по цвету. Автор сумел взять от обнажённой постановки самое главное — тональное и цветовое отношение двух тел. Мужской торс, как и тело девушки был тоже изображен обнаженным, (таким домыслил его автор). Тела были настолько колоритно высвечены и переплетены в нежных лучах утреннего солнца, исходивших от окна, что казались живыми, плоть их дышала. Одновременно создавалось ощущение уюта комнаты: тёплые тона интерьера дополняли нежность объятий, переданную художником. Чувство этой теплоты было особенно явственным на фоне холодного, хотя и солнечного, пейзажа за стеклом.
Крепко пожав руку автору, Андрей обнял Вождя. В этот момент в душе его сложилось отчётливое ощущение, что в нем нет ни капли зависти или ревности к этому человеку, и он чувствовал, что это полностью взаимно.
Глава 5
Ночное явление в мастерской.
Последующую неделю Голубые Мечи практически не возвращался домой, а провёл её с новыми друзьями на Арбате. Дня три компания дружно уплетала жёсткие, но потрясающе вкусные котлеты из лосины, приготовленные Грибником. Каждое утро за картинами приходил хромоногий Саша, сын Петровны, которая была подругой Синяка, и вместе с Антоном и другими подростками уносил шедевры художественной братии для развески на Арбате. Заработанные деньги постепенно уже давали возможность художникам перейти к работе в мастерской, а не стоять целыми днями со своими картинами на улице.
Валя Синяк согласилась сдать Голубым Мечам сравнительно небольшую комнату (метров двадцать) справа от ванной комнаты в конце коридора — напротив мастерской Васильева.
Март и апрель были на редкость удачными, продавцы по нескольку раз в день приводили покупателей-иностранцев в квартиру Синяка. Васильев, быстро опрокинув стопку, бежал в мастерскую и изображал «активное творчество». Иностранцам нравилось бывать непосредственно в мастерских художников. К тому же было намного спокойнее принимать от них деньги в квартире, не опасаясь переодетых в штатское сотрудников «горячо любимого» всеми художниками Арбата пятого отделения милиции. Арбатские стражи порядка таскали авторов и продавцов картин в участок «за нарушение правил торговли», но особенно рьяно охотились за теми, кто принимал за свои картины валюту от иностранцев. Сопроводив «нарушителей» до первой же подворотни, милиционеры великодушно отпускали их, соглашаясь не составлять протокол. При этом они оставляли у себя подчас не только доллары и рубли, но и сами произведения искусства, понравившиеся им. Особенно обнажёнку.
Голубые Мечи затеял небольшой ремонт в новой мастерской: сорвал вместе с Царевичем и Цыганом обои, а также принялся скоблить старинный паркетный пол. Под несколькими слоями обоев нашли наклеенные газеты, датированные 1875 годом. Царевич, сгорбившись и не выпуская бычка изо рта, внимательно рассматривал пожелтевшие «Петербургские ведомости», прижимая местами оторванные клочки газет к стене пальцами.
— Ну, эту прелесть мы тебе оставим… для связи времен, — он вопросительно посмотрел на Цыгана, откинувшегося в кресле-качалке и утиравшего пот со лба, и получив одобрительный кивок, повернулся к Голубым Мечам:
— Чтоб лучше творилось на новом месте!
Андрей также был восхищен увиденным. Старые пожелтевшие газеты царских времен, сохранившиеся под толстым слоем «советских» обоев, несли в себе, как ему казалось, глубокий символический смысл. Они были наклеены так прочно, что не смывались водой и плохо отскабливались от стен, в то время как обои и газеты более позднего периода отслаивались легко. Наверное, как и всё, что делалось при «советах», вершилось наспех и временно, в надежде на то, что по-настоящему, накрепко, можно будет всё сделать когда-то потом — с наступлением «светлого будущего».
Закончив косметический ремонт и дождавшись, когда новые обои через несколько дней окончательно просохли, Голубые Мечи приступил к мытью окон и стал потихоньку перетаскивать свой скарб в новую мастерскую. Собственно, кроме раскладушки, этюдника, кучи кистей, холстов и коробки с красками, у него практически никакого имущества не было. Пара свитеров, джинсы да чёрная военная куртка. Книги по искусству он решил пока не перевозить — слишком тяжёлые. Взял только любимых «Джотто», «Мазаччо» и потертый альбом «Галерея Уффици».
Первая ночь, проведённая в новой мастерской после ремонта, запомнилась Андрею надолго.
Он несколько часов ворочался на продавленной раскладушке, обдумывая композицию картины Мадонны с младенцем, которую он уже давно хотел написать. Его не устраивали слащавые традиционные сюжеты Итальянского Возрождения, авторы которых, в погоне за фактурой тканей и экспрессией женских торсов, зачастую выхолащивали саму идею Непорочной Девы, её бесконечной любви и самопожертвования ради людей. Одну за другой он отвергал приходившие к нему в подсознании композиции будущей картины.
Наконец, около четырёх утра художник погрузился в глубокий сон… и вдруг неожиданно проснулся — от ощущения, что он в мастерской не один…
Открыв глаза, Андрей почувствовал холодный озноб по всему телу. В левом тёмном углу, рядом с портьерой, у окна безмолвно стояла высокая мужская фигура, укутанная в светлые одеяния. Она не была рельефна — она белела в темноте, как висевшее в пространстве пятно…
Голубые Мечи закрыл глаза и открыл их вновь: фигура находилась на том же месте… Это не было галлюцинацией, вызванной испарениями красок. Он явственно различал очертания плеч, скрытых под складками мантии, капюшон, закрывавший лицо…
Поначалу ему казалось, что она была перетянута путами, теперь же было отчётливо видно, что верёвки исчезли, и руки таинственного посланца скрещены на груди. Сам он был чуть сгорблен и стоял, развернутый правым боком к центру комнаты.
Не произнеся ни слова, Андрей мысленно обратился к незнакомцу… и тут же получил безмолвный ответ: левая рука фигуры медленно поднялась на уровне плеча, закрывая широкими складками плаща часть стены в углу. Затем таинственный незнакомец поднял руку выше — и из-под складок его одеяния взору художника предстала светящаяся картина.
…Из тёмного мрака по Млечному Пути миллиардов колеблющихся огоньков величественной поступью спускалась совсем юная девушка, бережно державшая на руках младенца. Достигнув крон деревьев, она на секунду остановилась и посмотрела на малыша. Тот держал в левой руке маленькую зажжённую свечу и всецело был поглощён наблюдением за её светом. Затем дева продолжила спуск — и вошла на большую поляну, озарённую бесчисленным количеством мерцающих свечей. Ступая по ним, она вышла на передний план и остановилась, прижимая ребёнка к груди. Над их головами отчетливо был виден светящийся подобно нимбу терновый венец…
Голубые Мечи благодарно закрыл глаза и погрузился в сон.
Глава 6
Собор князей Тьмы в пещере Джетта Гротто. Асмодей и Лилит. Вельзевул, Астарот и Велиал. Подношения демонов, оргия. Пророчество о Махди. Забавы Асмодея и демоницы Веррье.
Шелест крыльев под сводами гигантской пещеры Джетта Гротто возвестил о прибытии повелителя демонов Вельзевула со своей свитой. Все остальные князья Тьмы были в сборе и явно тяготились привычкой Повелителя Мух нарочито опаздывать даже на самые важные собрания Магистров.
На своих паучьих лапах, с тремя головами, человечьей, кошачьей и жабьей, старец был страшен и несколько неповоротлив одновременно. Но каждый знал, что это ощущение обманчиво. Он представал в своём истинном обличье только перед самыми приближенными демонами, не боясь казаться им старомодным. Стоило ему почувствовать что-то неладное, он мгновенно преображался и проявлял своё могущество во всей первозданной силе.
Вельзевул был основным идейным вдохновителем, теологом и живым воплощением религии рыцарей чёрного братства. Ходячей реликвией, которую они оберегали и в то же время боялись. Ему прощали чудаковатость и странные привычки: сидеть под Деревом Смерти и звонить в Колокола Семи Смертных Грехов, которые могли напугать разве что простых смертных, и без того запуганных многочисленными запретами.
Сила и могущество Вельзевула коренились в безраздельном влиянии, которое он имел на Императора Люцифера — Рафаэля Блистательного. Вместе с Левиафаном, они трое стояли у истоков великого заговора серафимов, перевернувшего старый порядок. Они увлёкли своими идеями Сатанаэля, который убедил Отца-Создателя в необходимости отказаться от идеи единородного человека и приступить в неслыханному эксперименту — созданию двух начал: мужчины и женщины на Земле.
Наделив их мужским и женским «фарр», а также способностью к «вселенской любви», тот в свою очередь не только сделал людей «подобными богам», но и невольно положил начало разрушительному кровосмешению божественных существ, окружавших Создателя, с земными людьми. В итоге это привело к драматическому изменению баланса между силами Света и Тьмы, поставившему под вопрос весь замысел и суть божественного чертежа.
Каждый знал, что по рангу дряхлый Вельзевул в иерархии высших сил Тьмы стоит на следующей ступени после Люцифера и Сатанаэля, но на самом деле по коварству и изобретательности — ему нет равных.
Его помощник Инфериус, подобострастно пригибаясь и расчищая проход для своего хозяина, подвёл старца к малому трону. Свита несла многочисленные напитки и яства, без которых Вельзевул не мог обходиться. Он что-то ел или жевал постоянно, любя говорить, что это помогает ему думать.
— Император выразил сожаление, что не может присоединиться сегодня к нашей встрече, — все три головы Повелителя Мух окинули присутствующих пристальными колючими взглядами… По залу прошёл лёгкий ропот.
— Поэтому все вопросы, которые нам сегодня предстоит рассмотреть, вы можете обсудить непосредственно со мной. Паучьи лапки «кардинала» ловко вскарабкались на малый трон, куда он поместил своё толстое мохнатое брюшко.
— Лучезарный Сатанаэль также может прибыть только завтра, ваше святейшество, — громогласным голосом возвестил любимчик Вельзевула, неунывающий Асмодей. Он, как и все остальные князи Тьмы обязан был являться на встречи Магистров в человеческом облике, однако, пользуясь симпатиями верхушки триумвирата, постоянно забавлялся тем, что позволял себе «мерцать» — переливаться фантастическими вспышками из своего естественного образа в обличие других лиц, о которых шёл разговор. Вот и сейчас его строгий тёмный камзол, расшитый серебром, и фиолетовый плащ озарялись оранжевыми всполохами, а густые тёмные кудри время от времени зажигались огненной шевелюрой, в которой нетрудно было распознать Сатанаэля. Образованность и острота ума, тонкое восприятие искусства, а также непреодолимая тяга к драгоценностям, особенно необычным камням, поражали старших по рангу и вызывали зависть остальных Магистров.
Асмодей с гордостью носил на правой руке магический перстень царя Соломона, который в своё время выманил у последнего в обмен на секрет червя Шашура о том, как рассекать камни. Поистине энциклопедические знания в сфере астрономии, геометрии, математики и прикладных искусств, умение давать правильные ответы на любые вопросы, заглядывать в «Книгу Судьбы», способность делать людей и предметы невидимыми, а также разыскивать клады — снискали ему известность среди различных народов. Поэтому у него, как ни у кого в иерархии тёмных сил, было много имён и прозвищ. На древне-персидском его звали Айшма-дэйв («дух гнева»), в Индии и внутренней Монголии — Синодай, у мусульман — шайтан Сахр, отобравший у повелителя джиннов Сулеймана (Соломона) его трон на сорок дней.
Изменчивый и постоянно перевоплощавшийся Асмодей был олицетворением похоти. Немногие в царстве Луны догадывались о причинах того, почему ему так благоволила верхушка. Он был первым плодом кровосмесительного грехопадения между ангелами и земными людьми: Сатанаэлем и первой созданной женщиной, в которую тому было поручено вдохнуть «фарр», — Лилит. Творение было столь совершенным, и Сатанаэль вложил столько души в него, что, влюбившись в прекрасную Лилит, он нарушил запрет Отца, предав бесконечным мучениям и терзаниям доселе гармоничный мир, созданный Творцом. Ещё более исковерканной была жизнь самого незаконнорождённого Асмуса (как его называли в детстве). Страсть и желание отмщения, переполнявшие душу, вели его по жизни. Будучи изгнан архангелом Рафаилом из рая и превращён в верховьях Нила в змею, он всё-таки смог жестоко отплатить за своё унижение. Обученный Лилит и Сатанаэлем искусству соблазна и искушения, он стал Змеем-Искусителем, сыгравшим роковую роль в первородном грехе Адама и Евы, за который все последующие тысячелетия пришлось расплачиваться человечеству.
Лилит не любила посещать собрания Магистров. Она незримо была представлена на них своим сыном Асмодеем, ставшим впоследствии её супругом. Он был достаточно умён и прозорлив, чтобы повернуть любое обсуждение в нужное ему и его клану русло.
Тем временем под сводами пещеры прозвучал гонг Великого Канцлера и Председателя Верховного совета демонов Адрамелеха. Он возвестил о начале заседания. Пещера Джетта Гротто была излюбленным местом собраний Магистров. Расположенная в Финикии (ныне — Ливан), в живописных горах, нависавших над Бейрутом (в древние времена — Библос), эта система пещер была удобна со всех точек зрения. Верхние гигантские залы вмещали большое количество гостей. Пожалуй, ни одна из пещер мира не была столь огромна и изящна одновременно.
Многочисленные боковые провалы, камерные подземелья, примыкавшие к основным залам, а также замысловатые переходы и лазы, соединявшие их с нижней подводной пещерой, позволяли различным группам проводить кулуарные встречи после пленарных заседаний, а также спускаться вниз для отдыха. Подводная река уносила свои воды внутрь горного массива — к глубинным, подземным озёрам, и далее — непосредственно в Средиземное море и прилегающие ущелья ливанских горных массивов. Стены пещеры Джетта Гротто видели многое и многих. Базальт и диабаз хранили информацию для будущих поколений. Открытие системы пещер англичанами в пятидесятые годы двадцатого столетия не повлияло на привычки сил Тьмы собираться здесь. Подобно излюбленным местам, где проводились их встречи, эта пещера оставалась ареалом обитания Зла, была полностью в их власти и распоряжении. И если поначалу некоторых представителей тёмных сил раздражало появление в этой пещере отдельных исследователей, а затем и целых туристических экскурсий, то позднее они даже стали получать удовольствие от того, что могли проводить свои встречи, несмотря на присутствие рядом с собой в параллельном мире туристов-ротозеев. Силы Тьмы оставались невидимыми и неосязаемыми, хотя те проходили сквозь них. К тому же большой заряд негативной энергии, которым были пропитаны стены этого прекраснейшего из подземных сооружений, не мог не воздействовать на каждого, попадавшего сюда. Люди уходили подавленными, терявшими веру в свои прежние убеждения…
С отчётным докладом выступил Астарот, главный казначей ада. Чёрно-белые тона его одеяний подчёркивали торжественность момента. Подготовленный его помощниками Саргатанасом и Небиросом финансовый баланс был рекордным за последние двадцать лет. Поступления «фарр» от новых видов деятельности тёмных сил росли в геометрической прогрессии. Это вело к укреплению его, Астарота, личных позиций в Верховном совете. Все знали, что он спит и видит, как оттеснить престарелого Вельзевула в глазах Люцифера и занять его пост в империи. Согласно географической иерархии, Астарот отвечал за Запад. А именно там, особенно в Америке, успехи империи были наиболее внушительными за последние годы.
— Распространение разработанных нами «альтернативных» идеологий и сект в Западном полушарии свело до минимума позиции традиционных религий в этом регионе, — громогласным голосом вещал он. — Это позволяет нам в нынешних условиях контролировать в той или иной степени генерирование «фарр» практически каждым индивидуумом. Практически восемьдесят процентов «светящихся» в Западном полушарии работают полностью по заданной нами программе.
— А как это отражается на выработке ими «фарр»? Меня интересуют абсолютные цифры, любезнейший герцог, а не риторические рассуждения, — скрипучим голосом перебил его Вельзевул, явно пытаясь сбить волну пафоса в выступлении Астарота.
Тот, ничуточки не смутившись, учтиво ответил:
— Ваше Святейшество, Вы абсолютно правы — «светящиеся» вырабатывают подавляющее количество «фарр» в этом регионе — цифры в разбивке по типам «светящихся» и видам производства «фарр» приведены на странице одна тысяча девятьсот восьмой отчёта, розданного нашими помощниками перед началом заседания.
— Каковы основные наиболее доходные статьи по Западному полушарию? — нетерпеливо задал явно подготовленный заранее вопрос друг и соратник докладчика Асмодей. Именно в содружестве с ним Астарот разработал за последние годы целый ряд программ в Америке, которые дали поразительные результаты. Целью друзей было добиться для Астарота полного курирования всего Западного полушария, а в дальнейшем и Европы. Это означало, что полмира перейдет к ним под контроль.
— Ну, прежде всего, — Астарот ещё раз учтиво поклонился в сторону Вельзевула, — это традиционная линия на проведение массовых стихийных бедствий (тайфунов, наводнений и т.д.) — надёжное и проверенное средство, заставляющее людей страдать и вырабатывать большие количества «фарр» — душевной энергии. Очень успешной была в этом году программа засухи и стихийных пожаров. Это, кстати, относится и к другим регионам мира. Но основной прирост валового продукта мы получили от новых технологий влияния на психику и переживания людей. К ним в первую очередь относятся программы воздействия через Интернет, развитие шоу-бизнеса, телевидения. Неожиданный эффект мы получили от распространения экстремальных видов спорта хотя абсолютные цифры пока незначительны, по темпам распространения эта эпидемия намного опережает СПИД. Надо сказать, что психоз, вызываемый реальной угрозой жизни, — наиболее эффективный путь к инициации мощных выплесков «фарр». И в этом отношении любые эпидемии заболеваний локализуются быстрее, чем социальный удар по психике. Закрепление природных страхов, а также культивирование новых являются проверенным средством постоянного увеличения прироста «фарр» в различных регионах. Так, например, угроза терроризма или войны, вернее её массированная инициация по телевидению или радио, неизмеримо труднее искореняется из психики, чем угроза СПИД или других болезней, хотя, подчас эпидемии гриппа уносят намного больше жизней, чем мировая война. При этом все последующие поколения постоянно вспоминают именно войну, но не эпидемию.
— Хорошо, с западным направлением более-менее понятно — вновь перебил Астарота Повелитель Мух, — а что у нас происходит на восточном?
Великий теолог решил повернуть ход обсуждения в сферу своих интересов и компетентности.
— Прежде всего, Ваше Святейшество, здесь нужно отметить прозорливость Ваших рекомендаций по инициации войны религий. Ни засуха и другие стихийные бедствия, ни болезни не дали на Ближнем и Среднем Востоке таких впечатляющих результатов, как религиозные и национальные распри. Это даёт нам основания активнее там присутствовать. Регион, ставший некогда колыбелью мировых религий, на глазах превращается в их могилу.
Сказанное вызвало удовлетворённую улыбку-оскал на триедином лике Вельзевула. Его жабья морда поглотила очередной бокал вина. Он оглядел всех присутствующих торжественным взглядом и перешёл к следующему вопросу повестки дня:
— Предлагаю заслушать доклад министра юстиции Велиала.
Не любившего перевоплощаться в безобразных чудовищ, а предпочитавшего являться в человеческом обличии, мягкотелого Велиала Вельзевул использовал как противовес укреплявшему свои позиции Астароту и всегда хвалил «адвоката ада» Велиала на собраниях, пытаясь разжечь вражду между ним и сторонниками Астарота. Однако пламя вражды не разгоралось. Внутренняя пустота, отсутствие необходимых волевых качеств, а также содомитские наклонности Велиала вызывали у Астарота лишь презрение и сарказм. Он не видел в Велиале достойного противника.
— Шаги, сделанные мудростью нашего Триумвирата за истекший год, привели к дальнейшему юридическому расширению позиций империи, — учтивым и немного хриплым от волнения голосом начал Велиал, — более двенадцати процентов новых территорий было присоединено к ареалу обитания всемогущего Зла. Заключено свыше шестисот миллионов новых контрактов, из них двенадцать миллионов — со «светящимися» первой категории и миллион восемьсот тридцать два — со «светящимися» второй категории. Достигнут значительный прогресс в международно-правовом переговорном процессе глобализации…
Велиал, тщательно скрывая свой возраст, любил появляться на публике в обличии юного ангела, обладавшего приятными манерами и вкрадчивым голосом. Вот и на этот раз он избрал образ юного женоподобного ангела смерти, облачённого в изумрудные с чёрным одежды, которые подчёркивали бледность его лица. Он был признанным эстетом ада, умевшим искусно одеваться, а также обустраивать феерические балы и маскарады, которые так любили Люцифер и Сатанаэль. Вместе с канцлером Адрамелехом, ответственным по совместительству за гардероб Сатанаэля, Велиал продумывал до мелочей новые одеяния для Люцифера и его окружения. Таланты в изобретении и насаждении среди человечества «порочных искусств», модельного и порнобизнеса снискали ему лавры князя Тьмы, наиболее динамично расширявшего своё влияние в империи за последние десятилетия за счёт освоения новых сфер. Но основными направлениями его деятельности были развитие азартных игр и извращенного секса — в этих сферах ему не было равных.
Доклад Велиала, как хорошо продуманное шоу, был построен по восходящей. Он рассказал о новом своде законов, регламентировавших права вассалов-неофитов на вновь завоёванных территориях, переданном на утверждение в Верховный совет. Подробно остановился на новых правилах регулирования и налогообложения в сфере торговли и залоговых операций с «фарр» в империи. С нескрываемым торжеством в голосе доложил об успехах в переговорном процессе с силами Света по признанию новых линий демаркации, а также в подписании договоров о нейтралитете с большинством правителей островных и подводных территорий.
— Таким образом, можно констатировать, что истекший год привёл к важному достижению, которым будут гордиться наши потомки, — господство нашего противника на морях и океанах устранено. От нейтралитета до полного господства Империи на пространствах Водной стихии — один шаг!
Далее, получив несколько записок из зала, Велиал перешёл к самому главному вопросу. Вопросу установления полного легального контроля над человечеством. Триумвират не хотел открытой войны с силами Света и последние годы делал акцент на активном использовании «невидимых» рычагов власти, устремляя свои усилия на проникновение в умы людей, расшатывая и опровергая в их душах прежние религиозные идеалы. Ставка делалась в конечном итоге на легальный захват реальных рычагов власти в мире — как в системе государственного руководства, в сфере финансов, так и в лидирующих отраслях промышленности, определяющих научно-технический процесс.
— Можно утверждать, что процесс юридического адаптирования наших функционеров в высших эшелонов власти как на страновом уровне, так и в ведущих международных организациях практически завершён. Эпоха великого Смешения достигла своего апогея. И от того, сколь разумно мы используем это нынешнее превосходство, — будет зависеть судьба последнего исторического цикла!
По залу прошёл гул одобрения. Аббадон, Бегемот и другие рыцари Тьмы шумно забряцали оружием и подняли кубки. Велиал был непревзойдённым оратором и мастером дискуссий. Вельзевул не ошибся, сделав его речь завершающей. Последние звуки голоса адвоката ада утонули в овациях, сотрясших стены гигантской пещеры Джетта Гротто.
Официальная часть заседания была закончена. Все участники были приглашены в верхний «воздушный» зал пещеры для торжественного принесения даров верховным демонам и оргии.
Верхний зал представлял собой гигантскую овальную пещеру, своды которой, смыкаясь в середине потолка на высоте около двухсот метров, были украшены огромными остроконечными сталактитами, возраст которых составлял около ста двадцати миллионов лет. Вельзевул любил добротные старинные сооружения. Насыщенность первозданным «фарр», замечательная акустика и скульптурное разнообразие творений различных эпох удовлетворяли вкусу самых требовательных и капризных демонов. Боковые провалы глубиной до трёхсот метров создавали ощущение бесконечности интерьера. В дальнем левом углу основного зала пещеры возвышался массивный сталагмит, своими остроконечиями достигавший почти самого потолка. На многочисленных его площадках-ложах в порядке сложной иерархии размещались кресла и столы рыцарей Ордена Мухи и других орденов. Ближе к середине вершины сталагмита размещались большой и малые троны Триумвирата. Вельзевул занял один из них, распорядившись зажечь факелы около большого трона Люцифера и трона Сатанаэля в знак того, что собравшиеся считают их присутствующими на торжестве.
Все верховные демоны приняли присущий им облик, перевоплотившись в свои истинные звериные и получеловеческие обличия. Вино и наркотические вещества (подававшиеся скорее как дань традициям черного братства) делали их всё более раскованными и весёлыми, но не терявшими контроля в присутствии вышестоящих соратников.
Прозвучали фанфары, и в зал стали вносить многочисленные подарки, привезённые вассалами. В отсутствие остальных членов Триумвирата демоны дарили самые необычные подношения непосредственно Вельзевулу. Они знали, что даже если бы они сопровождали свои презенты дарственными надписями, адресованными императору (Люциферу) или премьер-министру (Сатанаэлю), его святейшество Вельзевул ни за что не передал бы подарок по назначению. Жадность и клептомания, присущие ему, не знали границ. Он, как малое дитя, не мог устоять перед искушением присвоить даже последний золотой в отсутствие императора. По жадности и скупости с ним мог сравниться лишь Маммона. Верховные демоны прощали ему эту маленькую слабость, но жестоко карали за подобные проделки всех остальных.
— О, Ваше Святейшество, позвольте преподнести Вам то, за чем мы так давно охотились, — эликсир жизни и порошок перевоплощения, приготовленный Чжун Ли-Цюанем в десятом веке до эры Сына Человеческого. Мы нашли эти средства и записи магического алхимика в глубинном высохшем колодце в пустыне Гоби, — указал закованной в сталь рукой рыцарь Абраксас на поднос в руках демоницы-травницы Веррье. Из-под шлема в форме головы петуха на Вельзевула смотрели горящие глаза Абраксаса с петушиными веками. Человеческий торс, закованный в доспехи, заканчивался двумя извивавшимися мощными ногами-змеями, покрытыми кольчугой. Демоница второго уровня Веррье была стройной брюнеткой с огромными умными глазами, одетой в живописную драную дерюгу. Многочисленные разрывы на платье черноволосой колдуньи щедро открывали для постороннего взгляда её несомненные достоинства.
— Приношу к Вашим ногам ключ от Миранды, о, святейший, — обратился к Повелителю Мух рыцарь Барантер, соратник и помощник верховного судьи подземного мира Радаманта, — теперь эта луна Урана принадлежит Вам. Чтобы Вы могли время от времени отдыхать на этой планете от дел земных. Ведь оттуда — такой захватывающий вид на Уран. Какие там волшебные восходы и закаты!
Далее шла череда подношений морского демона Тритониуса. Сам Тритониус возлежал на инкрустированных жемчугом и перламутром носилках с балдахином, которые несли преданные ему сирены. Человеческая голова, покрытая густыми зелёными волосами, с широкой незакрывающейся пастью, усыпанной звериными зубами, и жабрами около ушей — контрастировала с мощным, подобно панцирю краба, торсом атлета, покрытым шипами и переходившим в хвост дельфина. Он всегда приезжал с огромным количеством подарков: редких минералов, бесценных картин на срезах марганцевых конкреций, насчитывавших несколько миллиардов лет, золота затонувших легионов, древних манускриптов и культовых ценностей, разысканных на глубинах океанов его морскими демоническими силами.
Демон Араквиэль, предводитель Ордена наблюдателей, которые сожительствовали с «дочерьми человеческими», прислал красивейших наложниц для жертвоприношения Триумвирату. Опьянённые инкубами лёгкими наркотиками, чтобы не падать то и дело в обморок от увиденного, девушки еле стояли на ногах и вынуждены были держаться друг за друга. Повелитель мух выбрал самую красивую из них и привлёк к себе, обхватив мохнатыми лапами за талию.
Сидевшие за большим рыцарским столом рядом с тронами Триумвирата верховные князья Эврином, Плутон, Молох, Ваал и Бельфегор восприняли это как знак к началу оргии. Подзывая жертвенных рабынь к столу одну за другой, они также выбрали понравившихся им девушек и усадили их с собой. Зазвучала волшебная музыка, и на нижней площадке пещеры, представлявшей собой подобие каменной сцены, появились танцовщицы. На пир прибывали всё новые демоны — в преображённом после официального заседания обличье и в окружении своих свит. На неофициальную часть было разрешено приглашать гостей. Зал быстро заполнялся. Верхние ярусы и боковые провалы пещеры были заняты музыкантами и обслуживающим персоналом — ведьмами, бесами, вурдалаками и вампирами, ловко летавшими время от времени на большой скорости между сталактитами, разнося яства и напитки гостям.
Наблюдая за торжествами, сам Вельзевул время от времени поворачивал то одну, то другую голову в сторону Астарота и Асмодея, чьи кресла стояли рядом чуть ниже тронов Триумвирата. Как и все демоны, он обладал способностью читать мысли и слышать слова на расстоянии — но на этот раз ему не удалось распознать ни слова из отрывков той абракадабры, которые долетали до него. Слишком осторожны и изобретательны были эти два князя тьмы, умевшие защищать свои тайны. Они разговаривали с Зарахом, братом Люцифера, что не могло не насторожить Вельзевула. Через своего помощника Инфериуса он вызвал к себе Асмодея, а тем временем присоединился к рыцарям ордена, веселившимся за массивным столом.
Под дружные аплодисменты всех собравшихся Бельфегор в такт музыке сотен тимпанов и флейт пустился в пляс в окружении жертвенных наложниц. Девушки, охмелевшие от изысканных вин, разрозовелись и, более не страшась окружавших их чудовищ, самозабвенно танцевали вокруг него. Мощный обнажённый торс Приапа плавно двигался в такт музыке. Его борода, высунутый розовый язык и гигантский хобот, которым он поочерёдно касался тел каждой из девушек, больше не пугали их. Забыв стыд, как под гипнозом, не отрывая взгляда от него и его гигантского фаллоса, каждая из них ждала, чтобы он уделил именно ей своё внимание. Наконец, выбрав жертву, Бельфегор поднял девушку мощными руками и стал медленно вводить огромный фаллос в её лоно, продолжая кружиться в танце. Поначалу, делая это медленно и плавно, повиливая в такт музыке бёдрами, он добился взаимности и самозабвения жертвы. Затем, крепче сжимая её в своих объятиях, он продолжил движения, вводя член всё глубже. Стоны и крики беззащитной жертвы перекрывали звуки музыки, но это ещё больше заводило собравшихся, присоединившихся к всеобщей оргии.
Асмодей, явившийся сознанию Вельзевула сквозь забвение веселья, вопросительно глядел ему прямо в глаза. Жабья морда Повелителя Мух продолжала поглощать еду и напитки, кошачья — облизывать наложницу, которую он крепко сжимал своими паучьими лапами. Он знаком попросил Асмодея нагнуться и, обдавая его зловонными испарениями, прошептал:
— Мне нужен облик Махди. В пророчестве сказано: твой художник первым отобразит его. Не упусти момент!.
— Ваше Cвятейшество, — не дрогнув ни одним мускулом под пристальным взглядом мутных глаз Повелителя Мух, промолвил Асмодей, — я помню… Мои люди расставлены вокруг него. Но всему своё время! Никому не дано переставить строчки в Книге Мироздания.
Отстранив руку от лап Вельзевула, впившихся в рукав камзола, он в почтительном поклоне удалился от трона и вернулся к своим друзьям, сохраняя беззаботную гримасу на лице, но хмель и веселье начисто вылетели из его головы.
Асмодей взглядом искал в толпе маскарада демоницу-травницу Веррье. Хоть общаться на виду у всех с демоницей второго уровня считалось плохим тоном, он часто пользовался исключительностью своего положения при дворе для того, чтобы снять усталость или головную боль с помощью существ более низкого уровня. Традиционная вакханалия с обильными возлияниями и употреблением наркотиков была данью эпохе Смешения, когда большинство князей Тьмы, находясь большую часть времени среди земных людей, кичились друг перед другом своей способностью перевоплощаться в человеческие образы и предаваться земным утехам. На самом деле многие из них тяготились обычаем являться на заседания Верховного совета в человечьем обличии и делать вид, что им нравится участвовать в пирах, устраивавшихся Вельзевулом. Каждый из них имел свою стихию и только в ней находил изощрённые удовольствия, приносившие истинное наслаждение. Маскарад был условностью. После массовой оргии и удовлетворения плотской похоти должны были последовать жертвоприношения. Асмодею изрядно надоели эти забавы, в которых каждый из участников пира стремился показать наибольшую изощрённость в своей жестокости, чтобы доказать лояльность Триумвирату.
Асмодей мысленно обратился к возлежавшей у ног рыцаря Абраксаса демонице Веррье с приказом спуститься в нижний грот. Та, шепнув что-то на ухо своему повелителю, покорно направилась к нижнему ярусу пещеры, где начинались ступени в подводные лабиринты. Абраксас одобрительно кивнул и сдержанно улыбнулся под пристальным взглядом Асмодея. Сила этого взгляда ещё приковывала рыцаря к его ложу, на котором он продолжал лежать, не в силах пошевелить ни единым мускулом, а Асмодея уже не было в пещере. Уподобившись дыханию подземного ветра, он устремился вниз по ступеням грота, настиг Веррье, закружил её в немыслимом танце и увлёк по переходам к подводной реке. Беззвучно шептал ей нежнейшие слова, проникая тёплыми струями воздуха под её одежды, горячил кровь юной демоницы. Достигнув длинной сводчатой пещеры, по которой река с шумом неслась куда-то вниз, девушка скинула одежды и, подняв руки, потянулась всем телом, полнее отдаваясь утончённым ласкам Асмодея.
Как всегда непредсказуемый, он перед самым спуском к реке вдруг перестал быть воздухом, жарко ласкавшим девушку, а стал прохладной водой и увлёк её вниз, пронизывая кожу миллиардами иголочек. Всё тело демоницы вспыхивало и переливалось в темноте водных потоков. Она сделала глубокий вдох и устремилась вместе со своим спутником в глубины преисподней…
Над расколотой мечом Люцифера грядой ливанских гор разыгрывалась небывалая гроза, озарявшая всю ночь окрестные хребты и поверхность Средиземного моря нескончаемыми молниями и оглушающими раскатами грома. Дождь лил как из ведра, загоняя насекомых, животных и людей в расщелины, пещеры и жилища. Под утро зарницы и всполохи молний стихли, замерев перед приближением гигантского грозового зарева, надвигавшегося со стороны Атлантики к ливанскому побережью. На встречу демонов в окружении своей огромной свиты наконец-то прибыл сиятельный Сатанаэль.
Глава 7
«Траходром». «Алора-алора».
— Вставай, ну вставай же — лицо без глаз широко улыбалось беззубой улыбкой. Приснилось что-то? Так потом досмотришь!
Голубые Мечи долго вглядывался в склонившуюся над ним физиономию, пытаясь понять, где он и кто его так неистово тормошит, продолжение это кошмарного сна или не менее ужасная явь. Он был весь в холодном поту, пряди волос прилипли ко лбу, мешая рассмотреть существо, которое тянуло к нему руки… Художник вскочил с постели, перевернув стоявшую рядом табуретку.
Перед ним была Валя Синяк, с заплывшими от пьянок последних дней глазами, переливавшимися свежими фингалами. На её физиономии застыла улыбка, медленно переходившая в маску недоумения:
— Что с тобой, Андрюша? Бог с тобой, ты что — меня не узнаёшь?
Голубые Мечи по-прежнему стоял подле кровати, прикрываясь скомканным одеялом и смотря в пространство — куда-то сквозь хозяйку квартиры. На нём, действительно, не было лица. Он был бледен как полотно и беззвучно трясся, прижимая одеяло ко рту.
Валя Синяк обняла его и усадила на раскладушку, поглаживая по спине:
— Ну ладно, ладно… Тш-ш, тш-ш, тихо, тихо, не плачь, ну мало ли что приснится. Это же не на самом деле. Это же — сон!
При этих словах Андрей бросил на неё тревожный взгляд и уткнулся в синяковое плечо. Нечто необъяснимое, приснившееся во сне, настолько поразило его, что он даже не мог произнести ни слова. Только холодный озноб по-прежнему тряс его всего.
— Ну успокойся, ну всё… всё…
Он ещё раз посмотрел на Синяка, не веря, что страшный сон уже позади, и вновь уткнулся в плечо хозяйки квартиры. Как ребёнок. Но даже в детстве с ним ничего подобного не случалось.
— Вот, я тут тебе меблишку сосватала, а ты расклеился…
— Какую меблишку? — сам не узнав своего голоса, спросил Андрей.
— У тети Нюры с третьего этажа, помнишь, я тебе говорила? Они всё равно собирались выбрасывать…
Тронутая чистоплотностью художника, устроившего ремонт в своей новой мастерской, и аскетизмом обстановки в его комнате, где кроме раскладушки, табуретки и этюдника никакой мебели не было, Валя Синяк действительно выпросила у соседей с третьего этажа круглый стол на гнутых ножках, книжный застеклённый шкаф и этажерку. Эти предметы будто бы перенесли обстановку всей его комнаты в 30-е годы двадцатого столетия, откуда они сами были родом.
Размещая свою первую мебель в мастерской, Голубые Мечи оставил большое пространство в левом углу у окна свободным от каких-либо предметов… Он втайне надеялся на возможный приход ночного призрака, указавшего ему сюжет картины мадонны с младенцем…
Продолжение сна, столь поразившего его, он никак не мог восстановить. Только ощущение чего-то необъяснимого и жуткого не покидало его. Будто бездна чего-то потустороннего разверзлась перед ним…
Около месяца он продолжал спать на продавленной раскладушке. И вот однажды один из предприимчивых продавцов картин Лёшка, который тоже занялся живописью, предложил за пятьдесят долларов уступить Голубым Мечам свой «траходром».
«Траходром» представлял собой большую угловую тахту, которая при необходимости раскладывалась, превращаясь в просторное лежбище размером три на три метра. Алексей, рослый парень с постоянным розовым румянцем на щеках, взахлеб рассказывал Голубым Мечам о том, что все его друзья, затаскивая подруг на эту тахту, ощущали необычный прилив энергии и побивали все мыслимые рекорды по «трахательному» марафону. Поэтому тахту и прозвали «траходром». Последним достижением, по словам Алексея, было пребывание его друга Игоря на «траходроме» с подружкой Мариной в течение трёх суток. При этом все остальные участники пирушки, находившиеся в соседних комнатах, как он утверждал, постоянно слышали поскрипывание тахты и крики юных марафонцев, прерываемые лишь на час-другой коротким сном или перебежками в ванную для принятия душа.
Голубые Мечи, не выспавшийся после очередной бессонной ночи, смотрел слипавшимися глазами на полненького беззаботного Алексея, столь увлечённо рассказывавшего о своих и чужих достижениях в области физической любви, что на мгновение его короткостриженая голова да и все его округлое тело показались Андрею похожими на большой фаллос с выпученными глазками и розовым румянцем на щеках. Он даже чуть нагнулся и заглянул Алексею в ухо. Тот отпрянул в удивлении:
— Ты чего это?
— Да так, смотрю… у тебя из ушей сперма не течет… от избытка?
Алексей засмеялся и ничуть не обиделся, восприняв это как комплимент. Ему, по всей видимости, очень хотелось притащить свою тахту сюда, в мастерскую Голубых Мечей, и «на халяву» «трахать» подряд всех арбатских девчонок… Заодно еще содрать с Андрея пятьдесят баксов. Понимая это, тот всё же согласился на предложение. На следующий же день радостный Лёха, в сопровождении ещё двух ребят, привез на машине Игоря «траходром» для продолжения его бурной сексуальной жизни — теперь уже на Арбате.
По квартире Синяка ходили хороводы иностранных туристов, жаждавших проникнуться атмосферой творчества художников, посмотреть, как они работают, живут, какие работы пишут. После осмотра мастерской Васильева покупатели заодно приобретали картины Царевича и Горбачёва, а также другие полотна, развешенные в остальных комнатах и складированные в огромной прихожей. На всё это авторами делалась дополнительная скидка. Сделав по просьбе иностранцев дарственные надписи на картинах, художники, потирая руки, пересчитывали деньги и посылали «гонца» в кооперативный магазин, который открылся совсем недавно прямо внизу — на первом этаже. Иногда, чтобы сэкономить время, кто-то высовывался из окна, громко крича продавцам картин внизу, что нужно купить. Затем деньги вместе с тяжелой металлической шайбой и авоськой, привязанными к верёвке, спускались вниз.. Шайба некоторое время ждала внизу в одиночестве, а затем поднималась вверх вместе с авоськой, набитой спиртным и закусью.
Многие туристы, особенно итальянцы и поляки, не ленились подниматься на шестой этаж сугубо из корысти: они уже знали от своих соплеменников, что в мастерской можно купить картины намного дешевле, чем на вернисаже, где картины продавали перекупщики. Один раз Серёга Американец, который продавал картины ребят у Стены вместе с Лёхой и занимался потихоньку перекупкой картин у других художников, пал жертвой итальянской «предприимчивости».
Притащив «Алора-алора» (как звал итальянцев за глаза) в прихожую, где хранилось около двадцати холстов, купленных им на все вырученные за последний год деньги, он долго шептался с ними, а полчаса, радостно потирая руки и поглядывая на остальных с некоторым превосходством, вернулся в комнату Синяка, присоединившись к вечернему чаепитию художнической артели. Ничего никому не сказав, Серёга улегся на диване в углу комнаты и долго пересчитывал толстую пачку денег. Лицо его было мечтательным и немного задумчивым. Ещё раз сосчитав деньги, он вдруг с некоторой тревогой спросил у Цыгана:
— Cлушай, Цыган, а чего это американские доллары такие маленькие?
Дело в том, что Серёга Американец, получивший такое прозвище за свой внешний вид «положительного героя» американских фильмов, как это ни парадоксально, никогда до этого не видел настоящих долларов, как впрочем, никакой другой иностранной валюты. В тот период демократия и всяческие связанные с ней свободы лишь только витали в воздухе. В основном это ограничивалось робкими попытками свободно мыслить про себя, а также высказываться на кухне или с близкими друзьями в курилке. Ну максимум — что-нибудь прокричать в специально отведенном месте — скажем на Арбате. Словом, прихода «тотальной демократии», как это произошло позже, ещё не наблюдалось. Тем более не наблюдалось тогда и долларов в карманах наших граждан. Как, впрочем, наверное, и сейчас…
Поэтому видели или держали настоящие доллары в руках в те годы лишь немногие, «опережавшие своё время» люди: дети партийной и государственной элиты, фарцовщики, спекулянты, работники Внешторга, МИДа и представители творческой интеллигенции. Американец только вливался в эту «элиту» — потому не имел опыта «валютных операций», сурово каравшихся в то время законом.
Цыган заинтересованно подошел к лежавшему на тахте Американцу, взял несколько купюр из его рук и для верности посмотрел их на просвет, повернувшись к абажуру.
— Да, какие-то маленькие… непонятно, — он протянул их Голубым Мечам, который был единственным человеком в их компании, кто неплохо знал английский и французский языки.
— Поздравляю, это — игрушечные доллары для игры в «Monopoly». Смотри, видишь тут мелкими буквами напечатано: «Playing money for children», — с искренним сочувствием промолвил Андрей.
— Да не может быть! — Американец вскочил с тахты, достал из заднего кармана брюк ещё целую пачку таких же купюр, протянул Голубым Мечам: — И эти тоже, по-твоему, игрушечные?
— Да!
Серёга Американец схватил куртку и помчался вниз искать в ночной темноте недобросовестных «Алора-алора» по всему Арбату. Через час он вернулся тихий-тихий и с горечью рассказал друзьям, что своими руками снял с подрамников восемнадцать картин и «продал» их итальянцам по шестьдесят «игрушечных» долларов за холст…
Глава 8
Гарик Чернуха. «Залаз» на Гончарах.
За летние месяцы Андрей обзавелся большим количеством знакомых на Арбате. Среди них были такие необычные художники, как Сабир, Пашка «Дали», Донна Роза, скульпторы Володя Павинский, Олег Ромашкин, Андрей Калашов, искромётный шаржист «Зелёный» и замечательный портретист Алик Загоян, вокруг которых собирались целые толпы зрителей. Друзьями ребят со Стены были мимы-акробаты, брэйк-дэнсеры, поэты и музыканты, приходившие на Арбат, чтобы исполнить свои произведения. С этими людьми было интересно и легко общаться — потому, что если они и приходили сюда ради денег, то это была не только продажа того или иного произведения, но и общение между творческими личностями.
Но постепенно на Арбате стали появляться и люди сугубо меркантильные: перекупщики, продавцы прикладного искусства, сувениров, антиквариата. Одним из таких людей, с которым Андрея свела судьба на Арбате, был Нос — продавец икон. Это был долговязый худой парень лет тридцати. Кличку ему дали за тонкий и длинный нос, которым он постоянно шмыгал. По образованию реставратор, он хорошо разбирался в технике иконописи и истории иконографии. Не в состоянии найти работу по профессии, Нос работал на группу каких-то барыг, постоянно привозивших старинные иконы на Арбат. Царевич, который неплохо разбирался в иконописи, часто вместе с Андреем приходил к нему посмотреть на вновь появлявшиеся редкости. Он постоянно удивлялся, откуда берутся такие диковинные иконы, и предупреждал Носа:
— Старик, ты же сам реставратор. Лучше меня знаешь: нельзя старинными иконами торговать! Они — намоленные, в них такая энергия, аж скручивает! Плохо это кончится…
Однако Нос, по всей видимости, находился в какой-то зависимости от хмурых парней, на которых работал. Судя по всему, не от хорошей жизни он взялся за это дело. И вынужден был продолжать свой неправедный «бизнес». Он уже не боялся не только абстрактной «кары божьей», но даже бандитов, не раз подходивших к нему, «ментов» и конкретной буквы уголовного кодекса. Каждый день в помощь Носу хозяева икон присылали двух-трёх парней, которые помогали ему расставлять иконы около магазина «Самоцветы», куда часто захаживали иностранные туристы. В течение дня они охраняли своего продавца-искусствоведа и драгоценный товар, а вечером помогали отнести иконы на квартиру, которую снимали для хранения.
Однажды Нос познакомил художников с ещё одним колоритным типом — Гариком, который был «чёрным археологом» и иногда приносил на продажу антикварную утварь с подземных раскопов. Термина «диггер» тогда ещё толком не знали и поэтому за глаза его называли «чёрный человек» или попросту: «Чернуха». Несмотря на своё зловещее прозвище, Гарик Чернуха был достаточно весёлым, спортивного сложения парнем. Копна непокорных тёмных волос была связана сзади тугими резинками в косу. Прямой, чуть с горбинкой нос, густые брови и глубоко посаженные карие глаза с демоническим блеском выдавали в нём натуру романтическую и увлечённую. Его некогда ультрамариновая ветровка и джинсы настолько впитали в себя грязь и пыль подземелий, что превратились в нечто бурое, засаленное на локтях и коленях. Кожаные армейские сапоги хранили следы въевшейся белёсой пыли.
Гарик был подвинут на «залазах» — самодеятельных экспедициях в катакомбы Москвы. Подобные погружения под землю, зная место и время, в те годы можно было осуществить практически в любом районе центра столицы. По его словам, как всякая импровизация, «залаз» должен быть хорошо продуман заранее. Самое главное — запастись болотными сапогами и одеждой, не боящейся сырости и грязи. И обязательно — взять побольше бухала и закуси…
По словам Гарика, Москва обладала самыми глубокими подземельями из всех существующих городов мира.
— Отвечаю, я месяца два назад встречался с одним из лидеров московских диггеров Вадиком Михайловым. Он авторитет в этой области. Его ребята были в США, Западной Европе, сейчас собираются побить рекорд по подземной проходке — едут в Адлер. Там, говорят, самая глубокая пещера в мире — Воронья. Вадик туда спускался. Только тогда у них не было аппаратуры и международных представителей, чтобы зарегистрировать мировой рекорд. Так вот он говорит, что в Москве насчитывается двенадцать основных уровней, Лондоне — восемь, Нью-Йорке — семь, Питере — пять, Париже — четыре. В Москве наши «диггеры» спускались до отметки в семьсот двадцать метров.
Однажды его рассказы о таинственных подземельях, секретных станциях «Метро-2» и привидениях всё-таки возымели действие на художников. Как-то раз, распивая пиво во дворике на бывшей «собачьей площадке», они решили вместе с Чернухой исследовать холм у Гончарной набережной, что на Таганке. Особенно настойчиво хотел присоединиться к диггерам Царевич, любивший всякую чертовщину и страстно желавший увидеть подземные привидения. Горби и Цыган понимающе кивали головой. Они уже здорово выпили, и им вообще уже было всё равно: прыгать на спор с крыши на крышу на Арбате или пойти отбивать девчонок у бродячих музыкантов. И то, и другое они уже проделывали не раз, но в катакомбы ещё не спускались. Вождь и Андрей колебались. Но когда Гарик стал рассказывать о Белой Даме, огромном Чёрном Коте, колдуне Якове Брюсе и других привидениях, которых можно повстречать в подземельях Москвы, заинтригованные, они, наконец, согласились пойти с Чернухой.
На вопрос, нельзя ли пригласить девчонок на подземную экскурсию, Гарик, немного посомневавшись, всё-таки допустил такую возможность:
— Ну, если они сами захотят и если крыс не боятся — то на «Гончары» слазить можно. Там есть что показать, им понравится. Главное, чтоб под землёй не визжали и не скулили…
Вернувшись в мастерскую, ребята весь вечер возбуждённо обсуждали подготовку к путешествию. Девчонки в один голос согласились. Пришедшая в гости к Синяку на чай Петровна, услышав краем уха их разговоры, всплеснула руками:
— Да бог с вами, куда вас несёт!
В ответ на пересказы монологов Чернухи о подземных привидениях Петровна запротестовала:
— Да врёт всё ваш Гарик! Не мог он Брюса видеть в подземелье. Брюс — летает, а не по подземельям мается.
— Как это, летает? — узкие глаза Вождя расширились от удивления и стали доверчиво-большими, как у лошади.
— А так, летает! Мне мать моя из первых уст, что называется, со слов академика Щусева, рассказывала. Ну… Алексей Викторович Щусев, который архитектор, он ещё Казанский вокзал построил, мавзолей Ленину… Он же здесь, на Арбате, в Гагаринском переулке жил… Мать у него в услужении домработницей была при Сталине.
— И чего она тебе рассказывала? — c пренебрежением, но заинтересованно процедил Царевич, раскуривая сигарету.
— А то, что этот самый Яков Брюс храм Василия Блаженного спас! — выпалила Петровна, улавливая заинтересованные взгляды молодёжи, собравшейся у стола под оранжевым абажуром.
Яков Вилимович Брюс был одним из сподвижников Петра Первого. Юный царь часто советовался с ним и поручал самые щепетильные задачи, в том числе расправиться с Донной Луной, колдуньей из окружения Софьи. Брюсы были потомками шотландских королей. Приехав в Москву, они обустроили «Брюсову слободу» (ныне — Брюсов переулок, выходящий на Тверскую — напротив Елисеевского гастронома), где заложили англиканскую церковь. Сам же загадочный граф и генерал-аншеф Яков Брюс, переводчик, астролог, физик, математик, дипломат, «русский Фауст», слывший колдуном и чернокнижником, снискал себе славу самого могущественного эзотерика, когда-либо жившего в Москве.
Он очень любил Москву и часто говорил, что его дух будет охранять первопрестольную после его смерти. Так оно и случилось. Не раз его дух в облике крупного чёрного орла являлся в ответственные моменты истории государства российского — и в дни подхода Наполеона к Москве, и во время массового сноса храмов и церквей в Москве при «Советах».
В тридцатых годах ХХ века, после сноса Сухаревой башни (которая являлась «обителью» чернокнижника), Брюс снова появился в городе в образе живого орла.
Сталин уже собирался подписать приказ о взрыве храма Василия Блаженного, как к нему пришёл архитектор А. Щусев, принёсший письмо с подписями И. Грабаря и целого ряда других академиков с просьбой не делать этого. Но вождь был непреклонен. Он намерен был реализовать грандиозный план реконструкции Красной площади и набережной Москвы-реки, предполагавший снос всех старинных и церковных построек. Вдруг у окна его кабинета послышался шум крыльев и скрежет когтей по карнизу. Сталин отодвинул портьеру и увидел огромную чёрную птицу. Несколько секунд он, как загипнотизированный, смотрел на орла, который не улетал, сверля вождя немигающим взглядом… Подверженный мистике, Сталин был под сильным впечатлением от этого символического знака и в тот же день отменил приказ о сносе Покровского собора.
Несмотря на все уговоры, художники всё же договорились идти в подземелья на Гончарной слободе. Был конец июня, и в городе стояла жуткая жара. Прихватив водку и продукты, ребята прибыли к одиннадцати утра на Таганку. Встретившись у цветочного магазина с Гариком, они прошли дворами к Гончарной улице. За металлическими гаражами между раскидистых тополей был удобный для «залаза» колодец. По команде Чернухи все начали облачаться в принесённую рабочую одежду. Гарик извинился перед девчонками и отозвал ребят в сторону.
— По нашей традиции, первым делом надо махнуть по сто и обоссать какой-нибудь ствол.
— А этот подойдёт? — Царевич, докурив бычок, деловито метнул его в сторону одного из тополей.
— Да, годится!
Ловким движением откупорив бутылку водки, Вождь протянул её Гарику для первого глотка. Чернуха был не промах. По тому, как аккуратно он отпил ровно по метке, обозначенной его большим пальцем правой руки, в которой была зажата бутылка, чтобы столько же осталось остальным пятерым начинающим спелестологам, и при этом даже не поморщился, было понятно, что парень умеет пить и знает норму. Ребята пустили бутылку по кругу. Цыган протянул колечко солёного огурца Гарику с ножа. Ритуал диггеров был соблюден безукоризненно, и девчонки грохнули от хохота, когда мальчишки окружили толстый тополь, по снайперски направляя молодецкие струи, чтоб не окатить друг друга.
Первым в «залаз» полез Гарик. Следом спустили девчонок. Последним шёл Цыган, который должен был аккуратно закрыть за собой тяжёлый люк. Спустившись по железным скобам колодца, они попали в длинный сухой тоннель. Включили фонари. Разбились на пары. Впереди быстро продвигался Гарик, у которого фонарь был вмонтирован в оранжевый горняцкий шлем, расписанный диггерским граффити.
Сначала, как он выразился, шла сплошная «техногенка» — городские коммуникации, подвалы зданий, иногда многоуровневые. В них нужно было вести себя тихо, чтобы не напороться на м`онтера (так на диггерском языке назывались их злейшие враги — обходчики). Некоторые боковые отводы были забутованы или забраны крепкими решётками. Они вели к подвалам и погребам магазинов или частных учреждений, которые в тот период, арендуя здания, уже планировали их дальнейшую приватизацию и поэтому моментально «прихватывали» всё, что можно было «освоить» не только на поверхности, прилегавшей к зданиям, но и под землёй.
Спустившись по просторному вентиляционному грибку ещё на один уровень вниз, они попали в довольно современную теплосеть. Трубы шли по правой стороне, а в потолке время от времени попадались лампочки ватт по сорок, еле освещавшие путепровод. Дойдя до очередного вентиляционного грибка, друзья обнаружили просторное бетонное помещение, в котором пересекались несколько теплопроводов. Между переплетениями труб были разбросаны грязные матрацы и прочее имущество бомжей. На трубах сушилась одежда и носки постояльцев, отлучившихся наверх.
Свернув метров через сорок направо и упершись в очередную забутовку, Гарик несколькими ударами ноги выбил нижние кирпичи и принялся разбирать кладку. Это был его личный «залаз», который, по словам Чернухи, он открыл два года назад. После того, как все проползли в образовавшуюся узкую щель, он аккуратно изнутри поставил кирпичи на место, восстановив кладку. Ветхая теплосеть вела куда-то вниз, и вскоре Чернуха открыл очередной проход в одном из левых «карманов». В сыром тоннеле, где они очутились, стоял затхлый запах сероводорода и плесени.
— Тут надо немного потерпеть, — обратился он к девчонкам, — пройдём по канализационным стокам до четвертого уровня, но потом будет клёво!
Что в понимании Чернухи было «клёво», никто не знал, но Вождь первый начал канючить:
— Старик, мы девчонкам с твоих слов так всё расписали. Но чтоб говно месить, мы не договаривались…
— Да нет, — проглатывая слова от волнения, начал оправдываться Гарик, — здесь только водопроводные стоки. Только запах. А первый зал — уже недалеко. Минут через двадцать будем на месте.
Двинулись дальше. Уже на первой развилке тоннеля впереди послышался визг Ляльки, ухватившейся за Вождя. В обезвоженном байпасе, уходившем направо, пробежало несколько здоровенных крыс. Ольга, державшаяся за Андрея, только крепче сжала его руку, но не издала ни звука. Далее запах усилился, и Гарик, достав какой-то прибор, долго рассматривал движение его стрелок в слабом свете фонаря. Содержание метана было в норме, и они пошли вперёд быстрее. Девчонки держали у лиц платочки, стараясь не кричать при виде крыс, которые попадались всё чаще.
Впереди отчётливо послышался звук низвергающейся воды. Шум нарастал, и вскоре они достигли пролома в кирпичной кладке, сквозь который справа можно было видеть поток воды, уносившийся куда-то вниз под канализационный тоннель, по которому они шли.
Окутанные клубами липкого тумана, они прошли по металлической платформе, представлявшей собой нечто вроде моста над подземной рекой. Метров через двести в правом тоннеле Гарик наконец-то обнаружил каменную лестницу, о которой он несколько раз говорил во время пути. Сложенная не из кирпича, а из тёсаного камня лестница была узкая и крутая, поэтому они шли гуськом. Андрей видел перед собой только ноги Ольги в чёрных джинсах и закатанных болотных сапогах. Потянуло сухим воздухом, и наконец они очутились в сводчатом помещении, напоминавшем старинные купеческие погреба.
По почерневшей, местами покрытой мхом кладке сочилась влага. В стенах были аккуратные прямоугольные ниши, заполненные песком, в которых видны были осколки разбитых бутылок.
— Это бывшие винные погреба. Бутылки с вином должны лежать в нишах под определенным углом. Каждые полгода их поворачивали, чтобы сохранить «тело вина», — с учёным видом комментировал Гарик. Пройдя по галерее винных погребов, они спустились по такой же узкой лестнице вниз. На этот раз спуск был намного дольше. Он время от времени прерывался выходом на горизонтальные площадки. Пройдя по камерным тоннелям метров двадцать, Гарик вновь находил очередную лестницу, уводившую вниз.
Наконец утомительный спуск закончился, и ребята оцепенели от восторга. Они очутились в огромной каменоломне высотой метров десять. С одной стороны стены и потолок были выложены белым камнем, потемневшим от времени и местами закопченным от факелов, которые прикреплялись в нескольких местах к стенам. Частично белокаменная кладка внизу дополнялась кирпичной, более поздней. Кирпич тоже различался по форме и цвету. Старинный, более узкий, был темным и закопчённым. Более поздняя кладка — темно-красного цвета, и кирпич покрупнее, как современный. Дальняя необорудованная часть каменоломни больше походила на пещеру, уходившую куда-то вниз. Для укрепления потолков проходчики оставляли посредине штольни невыработанную породу, наподобие колонн, которые подпирали своды.
Девчонки захлопали в ладоши от восхищения и стали рассматривать надписи на стенах. Некоторые из них принадлежали недалёким предшественникам: «Пётр и Роман зимовали здесь. 1924 г.»; «Александр + Анастасия = Любовь. 1962 г.». Надписи раннего периода, сделанные самими рудокопами, были более лаконичными: «Ермил. 1897»; «Тобольск. 1834». Многочисленные же наскальные тексты и рисунки современников, в основном генитального свойства, несколько портили общее романтическое впечатление от увиденного.
В каменоломне жило эхо, которое трудолюбиво повторяло каждое слово и шорох гостей. Особенно забавно было улавливать слова тех, кто ушёл в нижнюю часть пещеры и переговаривался между собой полушёпотом: наверху всё было слышно до мелочей. Девчонки отправились туда для того, чтобы привести себя в порядок. Ребята, раскрутив три лёгких спальника, принесённых Чернухой, повалились на них перекурить.
Гарик, не зная отдыха, как заведённый, гоношился около миниатюрной печки с сухим топливом, поставив на неё котелок с водой. Ребята достали пластиковые бутыли с питьевой водой, которой они заранее запаслись по просьбе Чернухи. Цыган бережно вынул из рюкзака бутылки водки. По указанию Гарика он стал расставлять их одну за другой на ровной каменной плите, которая, по всей видимости, не один год служила посетителям этого зала пиршественным столом.
Для Чернухи пятачок, на котором они расположились, был любимым местом, и он знал каждую нишу в стенах и валунах. Удалившись на несколько минут, он принёс пять сплющенных гильз от снарядов, служивших обитателям пещеры со времён войны керосиновыми светильниками. Фитили были в сохранности, Гарик долил в гильзы керосину, и вскоре ребята могли уже выключить свои фонари. Пространство вокруг их застолья было романтически освещено чуть подрагивавшим пламенем импровизированных светильников, стоявших на разных уровнях вокруг каменного стола. От этого острые ниши стен штольни и сводчатые потолки ожили, отражая колебания пламени.
Девчонки нарезали колбаску, хлеб и овощи. Стаканов не было, поэтому бутылку водки пускали по кругу, как трубку мира. Почувствовав себя хозяином положения, Гарик принялся рассказывать о пещерах и подземельях, в которых ему довелось побывать.
— Самое разнообразное по рельефу и неожиданности место — это Сретенка… Сретенский холм. — буквально изобилует старинными подвалами и подземельями… Вот там-то я душу отвёл…
— В смысле своей «чёрной археологии»? — ухмыльнулся Цыган, сладко затягиваясь сигаретой и поправляя котелок на спиртовке.
— И в этом смысле тоже. Пожалуй, там мы нашли самые интересные вещи.
— Например? — поинтересовалась быстро захмелевшая Ляля, прижимаясь к Васильеву.
— Много разного, — уклончиво ответил Чернуха, потупившись на пламя светильника, стоявшего по центру каменного стола, — я тогда салагой был, мне мало что перепало, а вот ребята с месяц что-то таскали. В общем, нельзя мне об этом рассказывать, слово дал.
— А что там за подземелья? — настаивал Царевич.
— Особенно ближе к бывшей Сухаревской башне… там такое творится…
— Ну не томи, рассказывай, — толкнула его локтём Ольга, сидевшая между Гариком и Андреем.
— Там нормальному человеку делать нечего… труба… крышу мигом снесёт. То сгустки такие серые вдоль проходов летают, колются, всё тело от них наэлектризовывается… Или видения приходят: то в одном углу высветятся, то в другом… А однажды со мной разговаривал старец. Ребята говорят: это сам Брюс мне явился…
— Да брехня это всё, Брюс птицей оборачивается, он в подземельях не бывает, — авторитетно заявил Вождь, оглядывая всех хитрым взглядом.
— А вот и неправда! Это в простонародье так принято считать. Он — дух и может принять любое обличье. Он там свою подземную мастерскую охраняет. Отпугивает лохов. А меня научили: духов не надо бояться, тем более бежать… Тогда в Кащенко сто пудов попадёшь. Нужно смело им в глаза заглянуть и спокойно спросить: мол, кто ты, чего от меня хочешь? Он либо растворится, либо в доверительный контакт с тобой войдёт… А это — лучше любого клада!
— Так он с тобой в контакт и вошёл? — недоверчиво спросил Вождь.
— Представь себе, вошёл, — зло огрызнулся в ответ Васильеву диггер, — но только себя он так и не назвал, его кто то другой из темноты позвал: то ли Архипом то ли Агрипом…
— Агриппа? — воскликнул Царевич, и глаза его осветились вспышкой неимоверной догадки.
— Да, вроде Агриппой, — оживился Чернуха, — а ты откуда знаешь?
— А собака, такая чёрная, была с ним?
— Да и не собака это была вовсе, а тот самый сгусток тёмный возле него всё висел… А с чего ты взял, что собака должна была быть с ним?
— Так, из сказок друидов, — уклонился от ответа Царевич, делая глубокую затяжку и выпуская дым из носа. — А всё-таки, о чём он тебе говорил?
— Молитве одной научил…
— А какой? — в один голос вопросили девчонки.
— Не скажу! Нельзя! — отрезал Гарик, и в пещере повисло тягостное молчание. Андрей по-прежнему хранил молчание, обнимая за плечи Ольгу и оглядывая своды пещеры.
— Ну ладно, расскажи чего-нибудь ещё, — впервые вошёл в разговор Горбачёв.
— Да там столько всего, что и за месяц не расскажешь… Один раз мы пробили кладку примерно в середине Большой Лубянки и попали в гигантский колодец. Такой вони я в жизни не помню. Оказалось — подземное кладбище Лубянской тюрьмы. Там скелетами этот колодец забит до половины. Метров сто глубиной. Представляешь, сколько людей загубили? Причём, наверное, не самых плохих людей, старик!
— А вас там кэгэбэшники не сцапали? У них за такую находку — сам туда упасть можешь, — выдохнул Горби.
— Да что колодец, мы там один раз вообще через какую-то вентиляцию попали в подземный переход между домом номер два (Старое здание КГБ на Любянской площади) и домом номер четыре (новое здание, такое чёрное, рядом с «Детским миром»). В щель смотрим: а там люди в галстуках ходят с папочками красными. Вот тогда мы конкретно обосрались, рады были, что ноги унесли…
Ребята долго ещё травили байки о секретных линиях «Метро-2», «Д-6» и спецметро, уходивших до Раменок и Домодедова. На некоторых Гарику удалось побывать самому, о других, «законсервированных», таких как Советская Площадь, Волоколамская — ему рассказывали более опытные спелестологи.
— Некоторые станции — как обычные, только на них платформы без облицовки. По другим линиям спецметро вместо поездов с рельсами ходят троллейбусы. Платформ там нет, просто большие площадки. На некоторых — какие-то склады. Постоянно чего-то возят и перегружают. Склады охраняются собаками. Поэтому мы постоянно таскали с собой НЗ — колбасу или сыр, чтобы с ними разойтись по-хорошему. Главное — их не бояться. Тогда тут же станешь своим.
Андрей смотрел на Гарика, а сам продолжал думать о его рассказе про встречу со старцем. Внутренне он верил диггеру. По интонации голоса и лицу рассказчика чувствовалось, что тот говорил правду.
Пора было собираться в путь. Чернуха обещал вывести другим путём — через стоки к Москве-реке. Продолжив спуск по каменоломне вниз, они прошли ещё два-три зала и попали в тоннель с узкоколейкой. Через несколько минут упёрлись в кирпичную стену.
Справа под насыпью был лаз, и пришлось проползти метров двадцать по-пластунски. Острые камни резали локти, пыль забивала ноздри, но все, наконец-таки выбравшись в просторный тоннель, весело отряхивались и шутили.
Помогая Ольге стряхнуть белёсую пыль с ветровки, Андрей невольно вновь ощутил её упругое тело под свитером. Она не сопротивлялась, стояла в полумраке и лишь проводила руками по его волосам. Затем неожиданно прижалась к нему всем телом, обхватив шею. Остальные ребята уходили по тоннелю всё дальше, а они замерли, слившись в долгом поцелуе…
Глава 9
Букинист. Вторая встреча с Альтманом.
Месяцы, проведённые на Арбате, летели, как птицы. После жаркого лета наступила золотая осень с частыми, но непродолжительными дождями. После летних отпусков жители Москвы возвращались в столицу. Улицы города постепенно наполнялись людьми и машинами. Арбат вновь был полон посетителей и днём и ночью. После некоторого летнего «затишья» картины художников со Стены вновь стали активно продаваться.
Голубые Мечи много писал и днём, и ночью. Может быть, дополнительную энергию давал ему «траходром», понемногу возвращая заряд, вложенный в него секс-марафонцами и их подругами. Во всяком случае, он практически полностью высыпался за два или четыре часа. «Лишь бы количество часов было чётным», — отметил он как-то про себя, смотря утром на будильник.
Подобно снежному кому, Андрей быстро обрастал знакомыми на Арбате. В основном это были художники или продавцы картин. Но встречались среди них и люди, одержимые другими страстями.
Однажды он увидел на углу Серебряного переулка и Арбата человека с большими раскрытыми чемоданами, в которых были разложены старинные книги. Молодой художник долго стоял около них, внимательно разглядывая потемневшие от времени обложки.
Он с детства любил книги. Уже к десяти годам перечитал всю библиотеку приключений, являвшуюся украшением коллекции отца. Это был не стандартный набор книг в одинаковом переплёте, которые покупали обыватели для украшения интерьера. Отец подбирал книги на свой вкус. В основном, антикварные книги с прекрасными гравюрами, переложенными папирусной бумагой. Частично — сборники фантастики и приключений различных годов, издававшиеся собраниями по двенадцать — двадцать томов.
Будучи офицером военно-морского флота, отец создал научно-техническую библиотеку по истории военного судостроения, развития российского и зарубежного флота. Основу её составляли научные исследования с массой таблиц и чертежей. Но также на полках в кабинете отца стояло много литературы на английском и немецком языках, которые он знал в совершенстве. Как правило, иностранные издания были хорошо оформлены и содержали красивые цветные иллюстрации, изображавшие историю военного судостроения со времён Трои до Второй мировой войны. Когда отец отправлялся в дальние командировки, маленький Андрей любил заходить в его кабинет и брать книги не только из застеклённого шкафа, который был для него «разрешён», но и со стеллажей рядом с рабочим столом, где стояли толстые тома энциклопедии и книги по искусству.
— Вас интересует что-то конкретное или вы так, посмотреть? — вежливо поинтересовался человек средних лет в бежевом вельветовом пиджаке и потёртых джинсах.
Казалось, он был покрыт вековой пылью, как и его древние фолианты, лежавшие в старых фибровых чемоданах. На Арбате все его звали Букинист. Родом он был из Пензы, но уже много лет как поселился в Москве и занялся перекупкой книг, благо сам любил литературу и хорошо в ней разбирался. Нуждавшиеся в деньгах пожилые люди приносили ему книги, и он обстоятельно разговаривал с каждым, стараясь не обманывать, а называть истинную стоимость старинных фолиантов в отличие от букинистических магазинов, предлагавших сущие гроши. Поэтому из месяца в месяц клиентура его росла. Со временем Букинист снял комнату на Арбате и нанимал местных ребятишек, чтобы они помогали ему каждый день управляться с росшей как на дрожжах коллекцией книг, которая уже не умещалась в его семи огромных чемоданах. Звали его Николай.
— Да, я такое вижу в первый раз, поэтому сначала нужно рассмотреть всё, как следует, — потирая ладони и не спуская глаз с книг, сказал Андрей. Из завернутых в целлофан старинных изданий его взгляд выхватил книгу на английском языке «Paradise Lost», на тёмно-серой тиснёной обложке которой были лишь инициалы автора: J. M. Ниже было написано: «A Poem in Ten Books. Printed and to be sold by Peter Parker. London 1668.». Андрей замер в восхищении.
— Это на самом деле издание «Потерянного Рая» Джона Милтона 1668 года?
Продавец понимающе заулыбался.
— Да нет, это английская перепечатка двадцатых годов. Вот, смотрите, — он раскрыл титульный лист, внизу которого мелким шрифтом было написано: Monesuch Press. London 1926, — Но сделана весьма добротно. Вот, посмотрите какая замечательная печать, ручной переплёт, тиснение, свиная кожа. Иллюстрации — акварели Вильяма Блэйка. Если бы это был подлинник первого издания 1668 года, разве я стоял бы здесь…
Голубые Мечи попросил разрешения посмотреть книгу. Николай открыл обложку и аккуратно, чтобы не переламывать переплёт — стал показывать иллюстрации. В своё время Андрей впервые услышал об этом произведении Дж. Милтона от преподавателя английского языка Роны Авраамовны (которая, кстати, жила на Арбате, куда он приходил брать частные уроки). От неё он узнал о вещах, которые показались ему кощунственными и завораживающими одновременно: о восстании ангелов в раю, о том, что его поднял Сатанаэль — старший сын Бога против тирании своего Отца. Что якобы тот поручил ему создание людей — существ материального мира. Сатанаэль вылепил тело Адама, а Бог вдохнул в него душу. Затем он создал Еву, а Бог — её душу. Сатанаэль был членом Божественного совета, на него было возложено ежечасное наблюдение за всеми человеческими созданиями. Отец заставлял его делать самую ответственную и в том числе наиболее грязную работу — в частности, исполнять зло, назначаемое грешникам от Бога. В дальнейшем, после восстания ангелов, когда Сатанаэль был низвергнут, он потерял божественное окончание «эль» в конце своего имени (коим обозначались все приближенные Бога-Отца) и стал именоваться просто Сатана.
Кровь в висках застучала сильнее. Андрей остро ощутил состояние «дежа-вю». Он уже когда-то стоял вот так, перед такой же раскрытой старинной книгой и сквозь неё видел картины, представшие его взору когда-то очень давно, возможно, в прежней жизни. Он вдруг отчётливо вспомнил детали сна, который пережил в одну из первых ночей в своей арбатской мастерской, когда ему явилось белесое привидение в углу комнаты, затем картина Мадонны, ступающей среди многочисленных свечей, а в завершение — страшный и длинный сон о собрании князей Тьмы в пещере Джетта Гротто. Да, они называли его именно Сатанаэль. Рона Авраамовна тоже произносила это имя полностью — с божественным окончанием «эль». А Люцифера они называли вторым именем — Рафаэль Блистательный… Какие там ещё были имена… Вельзевул… Асмодей… Астарот…
Голубые Мечи передал книгу Николаю, а сам стал судорожно искать в карманах куртки маленький блокнот и карандашик, с которыми не расставался никогда. Образы существ, виденных во сне, вставали один за другим. Цепочка имен, всплывавших в памяти, продолжилась: Лилит, Велиал, приап Бельфегор, рыцари Барантер, Абраксас, Бегемот… демоница Веррье. Сознание выхватывало лишь отдельные картины сна и наиболее колоритные образы.
Андрей быстро записывал всплывавшие в памяти имена. Некоторых из них он не помнил, но отчетливо видел внутренним зрением образы демонов, быстро набрасывая их в блокноте. Существо с жабрами, панцирем в шипах и хвостом дельфина… Весь зеленый… Как его звали? Ведь он повелитель морских стихий… Кажется, Тритон, или вернее Тритониус… Да, да… Тритониус!
Молодой художник громко произнес последнюю фразу вслух и испуганно оглянулся. Букинист заинтригованно смотрел на его зарисовки в блокноте.
— Я смотрю, вы в теме, молодой человек…
Андрей хотел, было, поделиться с незнакомцем своим воспоминанием о необычном сне, но осекся на полуслове и спросил:
— Э-э…м-г-г… Скажите, а сколько стоит эта книга?
— Просил полторы тысячи. Но вам могу уступить…
— Рублей?
Букинист ухмыльнулся, отчего Андрею стало неловко.
Видя разочарование в глазах художника, Букинист добавил:
— Это роскошное издание, возможно для вас слишком дорого. Я понимаю… У меня такие книги покупает один коллекционер. Постоянный клиент. Хоть и эмигрант, но в русской литературе, да и вообще в искусстве разбирается.
— Эмигрант?
— Да, он во Франции живёт, но здесь часто бывает…
— Седой такой?
— Да, — оживился продавец книг.
— Альтман?
— Да, Александр Лазаревич, а вы тоже с ним знакомы?
Андрей утвердительно кивнул головой, продолжая рассматривать книгу. Букинист понимающе посмотрел на него. Порывшись в своих волшебных чемоданах, он через минуту радостно вытащил ещё одну книгу.
— А вот то, что вам наверняка подойдёт. Сытинское дешевое издание. В нём обе поэмы — «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», посмотрите…
Андрей взял пыльную книжечку с пожелтевшими страницами, на титульном листе которой было написано: «Потерянный рай и Возвращенный рай» Поэмы Iоанна
Милтона. Е. Т. Типография Высочайше утвержд. т-ва И.Д.Сытина. Москва, 1910»
Андрей вспомнил слова, произнесённые когда-то Роной Авраамовной, доставшей из старинного шкафа в своём кабинете книгу с сочинениями Джона Милтона:
— Ещё А. С. Пушкин, прочитавший в своё время «Потерянный рай» и «Возвращённый рай» Дж. Милтона в подлиннике, сказал, что эти поэмы — достойное продолжение творений Гомера и Вергилия, но написаны достаточно сложным для понимания языком, даже для людей знающих английский.
Улыбнувшись, она добавила:
— Вот поэтому-то, дорогой мой и нужно учить английский как следует. Тогда сможешь прочесть и понять многое, что недоступно пока в нашей стране…
И действительно, найти перевод этой книги, или прочитать где-либо нечто подобное в те годы было практически невозможно.
Теперь же перед ним была книга с переводом. Ведь английский первоисточник — немыслимо сложный. Перелистав текст поэмы, и пытаясь вчитаться в строчки, записанные женой и дочерью автора давным-давно в семнадцатом веке под диктовку слепнущего от глаукомы Джона Милтона, Андрей понял, что и при его нынешнем уровне знания английского эта задача — не из легких. Хорошо, что в сытинском издании есть и подстрочник и перевод в стихах. Заодно можно и язык подучить по параллельным текстам.
— Тут и английский текст, и перевод Е. Кудашовой в стихах, — не унимался Букинист, — Ведь первый перевод архиепископа Амвросия был просто подстрочником, к тому же сделан с французского. Книга замечательная. Правда без иллюстраций… За сто баксов отдам…
— Как же это так, художнику и без иллюстраций, — послышался сзади знакомый баритон.
Андрей повернул голову налево — рядом стоял Альтман, пахнущих дорогим парфюмом, в тёмном плаще до пят с перекинутым через плечо белым кашне и зонтом-тростью в руке. Улыбаясь своей голливудской улыбкой, он поздоровался с Букинистом и Голубыми Мечами. Узнав в чём дело, он предложил:
— Я и сам присматривался к этой книге, — он указал на серый фолиант, — но возьму, пожалуй, не менее роскошное издание А. Ф. Маркса 1885 года с иллюстрациями Гюстава Дорэ. Так, что эту книгу — уступаю вам, Андрей.
— Мне такая редкость пока не по карману.
— Мне нравится слово «пока» в вашей фразе, мой дорогой художник. Правильно! Для творческой личности не должно быть никаких преград. Sans frontières, как говорят во Франции! Ведь эта книга нужна вам, как никому… поверьте, я то лучше знаю. Да что там, — вижу по глазам!
С этими словами Альтман обнял Андрея за плечи, покровительственно обратившись к Букинисту:
— Коленька, упакуй обе книги как полагается.
Андрей всё же попытался возразить:
— Александр Лазаревич, но я не могу принять от вас такой дорогой подарок…
— Давайте считать это предоплатой за последующие картины, которые я намерен купить у вас.
Голубые Мечи переглянулся с Букинистом и радостно пожал протянутую Альтманом руку.
— Тогда годится! Спасибо, Александр Лазаревич. Может, пойдём в мастерскую, и вы сразу выберете, что вам нравится? Тут совсем рядом — вот в этом доме на углу со Староконюшенным, — Андрей указал на противоположную сторону улицы..
— О, у вас теперь своя мастерская на Арбате?
— Да я уж полгода здесь снимаю угол с другими художниками.
— Замечательно, только сегодня никак не могу. У нас с моими партнерами сегодня завершилась одна крупная сделка, и я должен спешить на встречу. Но в ближайшие дни загляну. Мне нравятся ваши портреты, композиции людей. Откладывайте их для меня. Раз в месяц буду всё покупать. Вообще есть такая идея каталог ваш издать…
— Коленька, — вновь обратился Альтман к Букинисту, — Гроция и Вондела достал?
— Пока только Гроция. Только он на латыни…
— Так он и должен быть на латыни, дружище… мне эти ублюдочные поздние переводы ни к чему, — расхохотался седовласый коллекционер, распечатывая банковскую пачку долларов и отсчитывая необходимую сумму.
Привычно закрывая плечом деньги от взглядов вечерних прохожих, он немного наклонился к Букинисту и о чём-то оживлённо перешёптывался с ним некоторое время. Затем добавил заранее заготовленную пачку купюр, перетянутую резинками и вложил всю сумму в неизменный «Московский комсомолец».
Через минуту Букинист вынес из-за своего прилавка два увесистых свертка в чёрных пластиковых пакетах. Принимая свой пакет, Альтман удивился:
— А чего это он такой тяжёлый?
— Вы ведь сами сказали, что возьмёте издание А.Ф.Маркса 1885 года. Вот я его вам и упаковал…
— Ну, ты, пензюк, молодец… далеко пойдёшь, — седовласый коллекционер остановился, передал свёрток Голубым Мечам, и долго отсчитывал купюры на ветру, заслоняя их раскрытым зонтом от первых капель начавшегося дождя.
Андрей ранее знал, что из Пензы вышло большое количество учёных, знаменитых писателей и поэтов (Лермонтов, Радищев, Белинский, Салтыков-Щедрин, Лесков, Мейерхольд, Столыпин, медики Филатов, Бурденко и др.). Но то, что довелось услышать о книгах и истории литературы за полтора часа от этого, невзрачного на первый взгляд, человека, просто поразило его. Он ещё раз убедился, что выходцы из Пензы — глубоко просвещённые и необычайно начитанные люди. Андрей с уважением смотрел на предприимчивого Букиниста, радостно потиравшего руки от удачной сделки. Тот, широко улыбаясь, на прощание добавил:
— Приходите ещё. Кстати, мне на следующей неделе принесут гравюры А. Дюрера к «Потерянному раю». Лейпцигское издание, 1895 год. Полиграфия — просто закачаешься!
Альтмал поднял вверх указательный палец, а затем, переводя его в сторону Голубых Мечей, обратился к Букинисту:
— O, кстати, Николай — обязательно отложи их для Андрея. И вообще, всё что ему понравится — под мою ответственность… Этому замечательному художнику отныне я открываю безлимитный кредит — Le compte ouvert, как говорится!
С этими словами Альтман обнял Андрея за плечо, и они пошагали к углу Староконюшенного. Только сейчас Голубые Мечи понял, что седовласый коллекционер был немного под шафэ. Он шёл, опираясь на художника, чуть покачиваясь и широко жестикулируя. Дождь усиливался. Дойдя до подъезда, где жил Андрей, Александр Лазаревич сказал:
— Хорошо, теперь буду знать, где расположена ваша мастерская. Не сочтите за труд, пусть эти две книги тоже побудут у вас. Боюсь испортить их под таким дождём. Заодно почитайте на досуге. Я зайду на следующей неделе. Созвонимся.
Голубые Мечи записал для него телефон квартиры Синяка на заветном блокноте. Протянув оторванный лист, художник удивился выражению на лице коллекционера: деланная улыбка ещё не сошла с его уст, но глаза были серьёзны и устремлены на карандашный набросок Тритониуса на предыдущей страничке блокнота, который Андрей сделал во время беседы с Букинистом.
— Здорово схвачено, — оправившись от оцепенения, вновь улыбнулся Альтман, — Это откуда-то срисовано, или как говорят в народе «из головы»?
— По памяти, — уклончиво ответил Андрей, принимая из рук коллекционера тяжеленный сверток с книгами.
— Прекрасно. Я в вас не ошибся. Вы — настоящий талант. Ну что ж, пора прощаться, спокойной ночи, художник, — с этими словами Александр Лазаревич крепко пожал руку Андрею и пошагал в сторону «Праги».
Открывая дверь подъезда, художник ещё раз оглянулся. Фигура Альтмана смотрелась как арбатский мираж двухсотлетней давности и даже как гротеск: седые кудри, взлохмаченные порывами ветра, белое кашне, длинный чёрный плащ с поднятым воротником и большой зонт, по которому барабанили капли сентябрьского дождя.
Глава 10
Свадьба Вождя и Петровны
Быстро наступившая непогода несколько охладила эйфорию Голубых Мечей относительно первых успехов на Арбате. Дождь как из ведра в октябре и снег с дождём в ноябре свели до минимума продажи картин на Стене. Начавшийся ремонт всего покрытия на улице превратили Арбат в сплошную стройплощадку. Вождь со своими ребятами вынужден был каждый день носить картины к самому ресторану «Прага» и развешивать их на заборе, чтобы с трудом заловить одного-двух покупателей в неделю. Его колоритная внешность, чёрная широкополая шляпа и потертый кожаный плащ, который он выменял с наступлением сезона дождей на Арбате — невольно притягивали туристов к картинам, у которых он стоял целыми днями. Но «притягивал» он не только покупателей — сотрудники доблестного пятого отделения милиции, переодетые в штатское, неустанно следили за ним и при первой же продаже отбирали у него последние крохи. Васильев не имел московской прописки, и это давало повод стражам порядка таскать его в участок просто так, «для профилактики», каждый раз получая с художника мзду за глоток свободы. Поэтому, ребята попеременно дежурили у картин целыми днями вместо того, чтобы писать новые работы. Большинство продавцов картин, от которых летом не было отбоя, чувствуя, что в октябре-ноябре на Арбате «ловить нечего», под разными предлогами перестали появляться в квартире Синяка. Благо, хозяйка квартиры Валя, понимая сложность ситуации, не требовала оплату за аренду мастерских, а была согласна подождать до лучших времён.
Голубые Мечи почти полностью израсходовал запас финансов, образовавшийся за весну-лето (слава богу, ещё хватало старых красок) и вынужден был также стоять у картин с друзьями, время от времени бегая погреться в кафе «Арбатский дворик». Когда у кого-то продавалось хоть что-то, везунчик «проставлялся» остальным. В тяжёлые зимние месяцы, когда приходилось делиться с друзьями последним куском, ребята сдружились по-настоящему.
Но даже когда в кармане не было ни гроша, и Голубые Мечи вынужден был несколько недель жить лишь на чае и «Беломоре», у него не было мысли продать диковинные книги, которые остались у него после встречи с Альтманом. Сам коллекционер за это время на Арбате не появлялся, а по телефону, который значился в его визитке, никто к трубке не подходил. Голодными ноябрьскими вечерами Андрей раскрывал книги и перечитывал полюбившиеся отрывки поэмы. Так и засыпал в обнимку с серой книгой, подаренной Альтманом. Странное дело, но голод необычайно раздвигает сознание и совершенствует память. Голубые Мечи смог в деталях восстановить свой необычный сон о собрании демонов в пещере Джетта Гротто. Он сделал несколько новых пометок и зарисовок в своей записной книжке.
Однажды, когда Голубые Мечи, продрогнув от холода в своей джинсовой куртке на тоненьком искусственном меху, стоял с Царевичем у забора, на котором были вывешены их картины, к ним подошла группа упитанных американцев. Один из них, высокого роста, нёс на плече большую профессиональную кинокамеру. Остановившись около художников, они попросили разрешения снять картины. Не спеша, с расстановкой начав съёмки и сопровождая их пространными комментариями о перестройке в СССР и «русском Монмартре» — Арбате, они решили взять интервью у Царевича. Андрей скромно стоял в стороне, не желая попадать в кадр, но готовый помочь в переводе, если потребуется. Царевич был одет в свою неизменную потёртую солдатскую шинель и кирзовые сапоги. По всей видимости, его внешний вид соответствовал стереотипам американских киношников о России и её жителях. Переведя камеру на его готические картины с развалинами храмов, разбросанными по снегу металлическими кроватями и бродячими между ними странными людьми в капюшонах со свечами в руках, американцы долго снимали крупным планом эту мрачную аллегорию разваливающейся империи, время от времени переводя объектив на автора, то и дело смахивавшего снег со своей бритой головы. Затем репортёр на ломанном русском языке обратился к Царевичу:
— Скажите, все ваши картины на этих досках, они… есть такие мрачные, страшние… Почемьюу?
— Это — мои сны, — не вынимая «Беломор» изо рта и подняв повыше воротник шинели, гордо ответил Царевич.
— О, какие ужасные сны…
— А жизнь — ещё хуёвее!
Американские журналисты оживлённо закудахтали между собой, переваривая сказанное, и удалились
В декабре, накануне Нового года и Рождества продажи пошли веселее. Часть мостовой — от ресторана «Прага» до магазина «Цветы» — была выложена новенькой брусчаткой, и художники вновь стали вывешивать свои картины на Стене. Жизнь понемногу стала налаживаться, они рассчитались с долгами и стали иметь больше времени для работы в мастерской. Благо, и продавцы в предвкушении рождественских продаж, вернулись на Арбат.
Васильев поведал Андрею, что хочет прописаться в Москве, поэтому решил жениться на шестидесятилетней Вере Петровне, которая жила по соседству — в доме, где на первом этаже располагалась аптека. Петровне было жалко художника, являвшегося своего рода «рекордсменом» по продажам своих картин на Арбате, но которому «менты» совсем не давали жизни из-за отсутствия прописки. Она понимала, что в определённой степени рискует, прописывая у себя в крохотной квартирке на Арбате своевольного и бесшабашного художника, но понимала, что в глубине своей души Васильев был как ребёнок. Ей нравились его картины, она считала его гением. Поэтому, обдумав за февраль-март предложение Вождя, дала своё согласие.
«Молодые» подали заявление в районный ЗАГС, и Вождь с утроенной энергией стал днём и ночью писать картины, чтобы собрать денег на свадьбу, назначенную на начало мая. Остальные ребята по мере сил помогали ему в этом. После некоторого застоя в феврале, весной продажи пошли лучше.
Друзья быстро накапливали сумму, необходимую для организации свадьбы Вождя, которая должна была состояться в начале мая. При этом они старались держать свои приготовления в тайне от Петровны. Она часто приходила в квартиру Вали Синяка вечером на чай.
Петровна была добрая женщина, искренне жалевшая Вождя и всех художников на Арбате. Сквозь толстые линзы очков она радостно смотрела на новые произведения Вождя, особенно любила наблюдать, как он работает. Петровна понимала, что парню просто нужна была московская прописка, и не строила иллюзий относительно их будущего брака. Ей даже немного льстило, что у неё такой молодой и видный «жених», который всегда поможет по хозяйству, а также несколько скрасит (материально и морально) её пенсионное существование.
Немаловажным было также то обстоятельство, что эта свадьба давала ей отличную возможность «утереть нос» всем своим подругам на Арбате, особенно соседкам по дому. Вождь своим поведением в присутствии посторонних давал для этого все основания: был внимателен, учтив, дарил цветы, постоянно обнимал и целовал её на глазах всего Арбата. Он купил ей французское платье из серебристых кружев и такую же элегантную шляпку. Дама в таком возрасте, считал он, должна идти под венец обязательно в шляпке, привезенной прямо из Парижа.
Шафером со стороны жениха был выбран Горбачёв. Ему на Новом Арбате был приобретён тёмно-синий двубортный английский костюм в полоску и такого же цвета шёлковый галстук. Сам Вождь нарядился в белоснежную батистовую рубашку с широким воротником, в которой походил на молодого Бальзака, и взял напрокат у костюмеров вахтанговского театра чёрную смокинговую пару. Несколько потёртые лакированные ботинки на тонкой подошве одинакового фасона, выданные там же жениху и его свидетелю — Горби на время торжества, дополняли их туалет.
Подготовка к свадьбе протекала в обстановке постоянных шуток, подколок и розыгрышей со стороны друзей. Горбачёв с Царевичем купили комплект подушек и перин для новобрачных и долго бегали по квартире Синяка, не зная, где спрятать это добро до свадьбы. Остальные художники скинулись и сняли одно из первых кооперативных кафе — на первом этаже дома номер двадцать семь на Арбате.
Когда-то это пространство представляло собой высокую подворотню, длинным тоннелем шедшую с Арбата во двор. Предприимчивый грузин Вахтанг зачистил стены от штукатурки, обнажив красивую кладку, и сделал из такого же кирпича сводчатые арки. В боковых нишах, которые когда-то были окнами, выходившими в подворотню, художники нарисовали ему фальш-окна с голубым небом и далёким морским горизонтом — чтобы Вахтанг мог ощущать себя, как в своём родном Батуми. Кухня у Вахтанга была изумительная: от запаха сациви и сацибели у входа в кафе останавливались даже искушенные французы и итальянцы. Его жена готовила густой суп из баранины — чихиртма, ароматное блюдо чакапули (кусочки ягненка, пережаренные в горшках с большим количеством зелени и чеснока), мужужи из поросячьих ножек на вине и мцвади — грузинский длинный шашлык. Одним из фирменных блюд семейства Вахтанга были нежная ачма (паста из трех-четырех слоев теста и сыра, отдаленно напоминающая итальянскую лазанью) и, конечно, воздушный хачапури по-батумски — наподобие лодочки с зажаренным внутри сыром и плавающей в луночке яичницей-глазуньей, в которую воткнут кусочек сливочного масла.
Тот, кто бывал в Аджарии, на границе с Турцией, знает, что предметом особой гордости местных жителей является кофе по-батумски. Нет, это не тот кофе, который нальют нашим туристам в турецких кафе у Босфора. Монотонный поток туристов и жажда наживы все более мешают турецкой душе быть влитой в каждую чашечку этого божественного напитка. Лишь в глубинке этой страны можно испробовать настоящий кофе по-турецки, сваренный не торопясь, на хорошей воде, с душой. Именно так и делал свой кофе Вахтанг. Не прошедшие экстракцию, привезённые контрабандой из Турции в Батуми (а затем — на Арбат) зелёные зёрна кофе, он сам лично жарил в специальной жаровне. Затем они тщательно и долго размалывались… И непременно вручную. В каждую турку помещалась не только положенная порция молотого порошка, но и часть кофейной пыли, собиравшаяся со стенок верхней части кофемолки. Процесс самой варки кофе, за которым любил наблюдать Андрей во время отдыха в кафе у Вахтанга, представлял собой настоящее колдовство. Во всяком случае, Вахтанг мог приготовить не менее десяти видов кофе только за счёт процесса самой варки и ещё столько же — путём добавления в напиток особых специй. Более всего Голубым Мечам нравился кофе по-арабски с добавлением щепотки соли и зёрнышка кардамона.
Вахтанг любил художников и… джаз. По его убеждению, настоящие художники и джазмены — люди, которые по определению не могут быть плохими. Даже на зоне, где он отсидел в своё время «за спекуляцию», по его словам, люди искусства, особенно художники и музыканты, были «в законе» и пользовались покровительством со стороны старых авторитетов. Узнав, что Вождь и Петровна женятся и что свадьбу решено праздновать в его кафе, он обещал выкатить из подвала как «подарок от заведения» пятидесятилитровый бочонок кахетинского вина, привезённого родственниками из Грузии.
В день свадьбы Голубые Мечи не поехал со всеми друзьями в ЗАГС на регистрацию, а остался распорядителем по накрытию стола у Вахтанга. Синяк с накрашенным до неузнаваемости лицом и куча соседских ребятишек помогали ему.
К назначенному времени — ровно в два пополудни — шум на улице и взрывы петард возвестили о прибытии новобрачных. Васильев был в своем репертуаре: на удивление всему Арбату он отыскал где-то кабриолет с запряжённой парой гнедых и прямо от ресторана «Прага», не торопясь, проехал с Петровной по всей улице до кафе Вахтанга. Анжелка, Алёна, Лялька и Ольга стояли на подножках колесницы, держась за поручни. Карета утопала в цветах. Торжествующие Царевич и Горбачёв, уцепившись сзади за повозку, ехали, зычно распевая с Васильевым песни и размахивая початыми бутылками шампанского. За бричкой бежала приличная уже толпа арбатских знакомых Вождя, а также прохожих, туристов и просто халявщиков. Чуть поодаль шла толпа кришнаитов, примкнувшая к процессии. Бритоголовые улыбающиеся юноши и девушки в оранжевых одеждах лихо приплясывали, дубасили в барабаны и цокали маленькими латунными тарелочками.
Вся кавалькада эффектно притормозила у кафе Вахтанга. Соседские детишки щедро осыпали молодожёнов конфетти, лепестками цветов и мелкими монетками. Васильев подчёркнуто театрально поднял Петровну на руки, и новобрачные, склонив головы друг к другу, вошли вовнутрь помещения под весёлые крики толпы.
Там их ждал сюрприз, подготовленный Голубыми Мечами. Это был классический скрипичный квинтет выпускников Гнесинского училища, к которым Андрей давно присматривался в одном из переходов метро и вот сейчас — пригласил сыграть на свадьбе своего друга. Будучи настоящими воспитанниками славной советской музыкальной школы, эти ребята, несмотря на свой юный возраст, уже были настоящими «Виртуозами Москвы», только без Владимира Спивакова. Они плавно перешли от ритуального марша Мендельсона к зажигательному чардашу. Васильев, не переставая кружить Петровну в воздухе, опустил наконец-таки её в кресло за свадебным столом под бурные аплодисменты друзей.
Веселье началось. Вождь, будучи уже до этого под хорошей «мухой», поднял подряд несколько бокалов «за моё солнышко», «за мою ласточку» и « золотце самоварное», имея в виду Петровну. Со своей стороны Вера Петровна вела себя очень тактично: почти не пила, всё время улыбалась и послушно выполняла каждый очередной призыв художественной братии: « Горько!»
Целовались они с Васильевым по старинной русской традиции: до брачной ночи жених не должен обнимать и тискать молодую жену на свадьбе во время поцелуя. Молодые, протерев губы салфетками, как по команде, медленно поднимались с кресел и с серьёзными лицами наклонялись друг к другу в целомудренном поцелуе («без рук!», — как высказался Царевич). Это заводило публику. Хоть Вождь и уже был «хорош», но головой соображал и соблюдал этот ритуал безукоризненно.
Заиграли знаменитый вальс Штрауса, и «молодые» закружились в танце. Петровна при этом проявила незаурядную пластичность и достоинство, ведя своего молодого супруга в танце и не давая неуклюжему Вождю наступать себе на белые новенькие туфельки. Устав перебирать в такт своими большими ногами, Васильев сгрёб Петровну в охапку, поднял в воздух и закружил в последних звуках вальса.
Все были довольны. Горбачёв, сидевший по правую руку от Вождя, деловито подливал шампанское молодожёнам. Его задача на сегодня ему была знакома: не дать Васильеву «перебрать» и не напиться раньше времени самому, хотя бы до проводов молодых на «брачное ложе». Синяк, находясь подле Петровны, отдавала распоряжения официантам и в полном смысле слова чувствовала себя в своей тарелке: несколько раз заехала рукой в салат, а затем и перевернула всю тарелку с сациви на себя, оставаясь до конца вечеринки посыпанной солью, чтобы соус не впитался в платье.
Вдруг все обернулись от неожиданности: томный звук баритон-саксофона в руках Вахтанга придал пирушке новый… джазовый поворот. Все зааплодировали. Чуть прикрыв глаза, он играл «Green, green grass of home». Ребята из Гнесинки тут же подхватили эту забытую смесь джаза и спиричуэлс: контрабасист отложил смычок и превратился в джазового исполнителя, виолончелист сел к роялю, а остальные использовали свои скрипичные инструменты как щипковые, добавляя остроты в музыкальное произведение, бережно и нежно исполнявшееся Вахтангом.
Зал взорвался аплодисментами, прохожие на Арбате останавливались, быстро образуя большую толпу перед входом в кафе, двери которого были распахнуты. Прибежали даже продавщицы из соседнего магазина «Сувениры». Вахтанг под крики и просьбы поиграть ещё, хитро прищурив глаза, начал «Серенаду солнечной долины», прижимаясь правым боком к плечу растроганной Петровны. Он играл ровным и сильным звуком, всей своей фигурой передавая и повторяя каждую ноту. Это был хороший человек, с большим сердцем…
Голубые Мечи от усталости за день и нервного напряжения быстро хмелел. Он смотрел на этих простых и талантливых людей, так искренне чувствовавших настоящее искусство, принимавших жизнь такой, какова она была, умевших радоваться мелочам, сделать самим себе праздник, если судьба не столь добра к ним, как хотелось бы.
«Та же Петровна, — думал он, — преждевременно потерявшая первого мужа, вся больная, со зрением плюс девять, с хромоногим сыном Сашей, прожившая вовсе не сладкую жизнь в своей крохотной квартирке на Арбате, — какой всё-таки у неё талант сострадания к другим людям! Сколько доброты и всепрощения! Разве она не достойна была счастья в своей жизни? Ведь она — глубоко верующая женщина, выполняет все обряды и учит молодых, как держать пост, как поступить в сложной ситуации. Откуда в этом простом человеческом существе, не имеющем высшего образования, такое тонкое восприятие живописи, музыки… всего истинно красивого. Она так чувствует любую фальшь — у Стены не раз по секрету делилась с Голубыми Мечами своими впечатлениями о картинах, выставляемых на Арбате».
По щекам Петровны из-под запотевших линз очков покатились слезы. Она взяла Васильева под руку, прижалась к нему. Да так нежно и трепетно… Будто благодарила его за то, что он устроил ей такой праздник. Все художники смотрели на них и, наверное, подумали о том же, о чём думал Андрей. Вождь тоже смотрел на всех. Лик его был чистым, как будто хмель прошёл. В твёрдом взгляде его читалось: «Ребята, я не подведу, Петровну в обиду никому не дам!»
Вахтанг закончил играть. Петровна с Васильевым встали и обняли его в знак благодарности. Все захлопали в ладоши. Аплодировали и прохожие на улице. Покачиваясь, к Вахтангу подошла Синяк и, безуспешно пытаясь отодвинуть мешающий их сближению саксофон, громко чмокнула его в щёку, оставив на ней густой отпечаток губной помады.
— Дорогой Вахтанг, — с дальнего конца стола раздался театральный голос, которым обычно говорят актеры, или дикторы-чтецы — позвольте вас поблагодарить за истинное удовольствие, которое вы только что доставили всем нам…
С высоко поднятым бокалом в конце стола стоял Донна Роза — известный всему Арбату художник-буквалист. Термин «буквалист» достаточно условен — для простоты понимания. На самом деле это был славный художник-реалист в лучшем понимании этого слова. Голубые Мечи не раз видел замечательные натюрморты, которые Донна Роза выписывал до такой степени, что зрители, долго ходя вокруг его холстов, даже заглядывали за раму, пытаясь найти там ответ: «Ну как же можно так живо отобразить самые обычные предметы, что они выглядят лучше, чем на фотографии?».
— Если позволите, я закончу, — брезгливо обращаясь к шумно переговаривавшимся между собой Ляле и Ольге, продолжил свой тост Донна Роза, — Мы, все здесь находящиеся, в действительности очень разные… Но высокое искусство, — при этих словах мизинец его руки, державшей бокал за самый низ тонкой ножки, по-старинному был отведён в сторону, — настоящее искусство… оно воистину сближает всех людей… Я предлагаю за это поднять тост!
Живописец галантно подошел к молодожёнам, чокнулся с ними и с видом фокусника извлёк свой презент — маленькую миниатюру в старинной элегантной раме. Петровна и Васильев обняли его.
Стареющий уже Донна Роза был похож на персонаж из сказок Гофмана: седоволосый, крючконосый, с глубокими морщинами на скулах, он был подтянут, сухощав и одет во всё чёрное. Лишь ворот белой рубашки, выставленный из-под джемпера, добавлял свежести его лицу с небрежной трёхдневной седоватой щетиной.
— За искусство! — присоединился к тосту Донны Розы Вахтанг, бережно отложивший в сторону свой саксофон.
— Да… — несколько рассеянно протянул Донна Роза, — за искусство… и за любовь… Пожалуй, это и есть те два тоста, за которые я всегда готов поднять бокал… Спасибо вам, — ещё раз, обращаясь к Вахтангу, промолвил седовласый художник и пожал ему руку.
Сценарий дальнейшей вечеринки, разработанный Голубыми Мечами, прошёл как по маслу. После горячего подали красивый десерт, внесли огромный белый торт из «Праги», от которого молодые откусили по куску, после чего стало легко определить, кто будет в новой семье хозяин: испачкав до лба все лицо в креме, Васильев откусил кусок, раза в три превышавший скромный укус его новой жены. Моргая своими раскосыми глазами сквозь крем и сахарную пудру, Вождь был похож на большого ребёнка, нашкодившего, но уверенного, что ему простят баловство. Окинув всех хитрым взглядом, он повернулся к Петровне, не успевшей еще стереть крем с губ и подбородка, обнял её и крепко, под крики «Горько!» поцеловал. Теперь оба окончательно перепачкались в креме. Васильев вновь поднял Петровну, как пушинку, и понёс её на улицу, приказав выкатывать бочку с вином на Арбат — угощать всех музыкантов и засидевшихся допоздна художников.
Всё закончилось массовым сборищем бродячих музыкантов и публики на тротуаре напротив кафе. Вокруг все танцевали и пели. Каждый музыкальный коллектив по очереди играл любимые вещи по просьбе молодожёнов, пытаясь перещеголять других музыкантов. Такого веселья Арбат, наверное, не видел никогда. Толпа танцующих и поющих людей уже простиралась до театра имени Евг. Вахтангова. Карета Вождя с бочкой вина, из которой Горбачёвым наливалось каждому желающему, медленно дефилировала то в одну, то в другую сторону — от аптеки, где жила Петровна, до Дома актёра, углы пятого этажа которого украшали тёмно-серые скульптуры рыцарей с мечами.
Андрей невольно поднял голову, вглядываясь в эти зловещие фигуры. Сегодня они не казались ему такими мрачными и суровыми, как обычно. Тёплый свет фонарей Арбата мягко освещал их снизу. Однако не только это придавало им необычную торжественность и загадочность в тот вечер: вышедшая из-за облаков полная луна серебристым светом как нимбом озаряла их головы и плечи. Арбатские рыцари стояли в торжественном молчании, приоткрыв забрала и чуть склонив головы — безмолвно наблюдая за происходящим внизу…
Глава 11
«Распределятели». Первая кровь.
Сильная жара в начале мая сменилась обычной для Москвы июньской погодой: с утра яркое солнце, после обеда — небольшой дождь. Яркая весенняя зелень деревьев и кустарников превратилась в сочную листву, для написания которой природа уверенно взяла тюбик с надписью: «кадмий зелёный тёмный».
Зная наперёд, что с наступлением лета из салонов-магазинов и складов МОСХа напрочь исчезнут краски зелёных и землянистых тонов, Голубые Мечи помчался на Верхнюю Масловку, дом девять — запастись материалом. Здание мастерских Союза художников, построенное на этой улице еще в сталинские годы, олицетворяло собой ту заботу партии и правительства, которой были окружены советские художники 30-50-х годов. Сам Климент Ефремович Ворошилов, после посещения Центрального ипподрома или футбольного матча на стадионе «Динамо», любил наведываться к художникам в мастерские с бутылочкой армянского коньяка и неизменным лимоном — посмотреть, как работают художники-монументалисты, отражавшие величие и масштабность строительства нового светлого общества.
Лаврентий Павлович Берия, хотя любил в основном симфоническую музыку и оперу (втайне, по всей видимости, все-таки больше балет), часто присоединялся к нему. Творческая обстановка в мастерских ему нравилась. Ведь, по сути он тоже был «большой художник», «творец»… и всегда мог по-дружески «помочь» художникам советом, подсказать «своевременную» творческую идею… Соратники Сталина любили позировать художникам-соцреалистам. Сквозь разноцветные стёклышки детских воспоминаний в памяти Андрея всплывала картинка, висевшая на даче деда под Звенигородом с изображением Берии, окруженного улыбающимися детьми с надписью:
«Отчего глаза его так радостно горят?
Лаврентий Палыч Берия смотрит на ребят!»
Краски и материалы вплоть до восьмидесятых годов распределялись, как вещевые пайки. Прежде всего — членам Союза художников, в первую очередь — членам правления. Каждый имел свой лимит и не мог передавать право на приобретение материалов третьим лицам. Заслуженные художники и академики пользовались всем необходимым без лимита. По существу, они уже жили при коммунизме: от каждого — по способностям, каждому — по потребностям.
Всякий раз, попадая в этот распределитель, Голубые Мечи ощущал себя на седьмом небе. Изобилие красок, банок с растворителями и льняным маслом, ровными рядами выстроенных на стеллажах, огромные рулоны льняного холста, листы ватмана и акварельной бумаги ручной катки, недостижимые для простого смертного колонковые кисти и многое-многое другое, радостно пульсировавшее в мозгу с пометкой «дефицит!», было доступно только для избранных, переступавших этот порог. Продавцы — тётя Маша и Валентина Сергеевна — не спеша, с достоинством перемещавшиеся между стеллажами в синих халатах, казались ему ангелами. Они могли выполнить практически любое желание художника: оставить на два часа холст, если не хватало денег, приберечь к следующей покупке немецкий торшон для портретов сухой кистью и даже… достать доступные только академикам голландские кисти или настоящие итальянские краски.
Теперь, в конце восьмидесятых годов, сюда мог прийти каждый и купить всё, что угодно, — лишь были бы деньги. «РаспределЯтели», как мысленно называл их Голубые Мечи, лишились былой власти, основанной на обладании дефицитом. Другие уже тёти маши и валентины сергеевны — не высокомерно, а услужливо и суетливо — обслуживали редких посетителей, радуясь каждому покупателю. На этот раз, приехав за покупками на машине с Лёхиным приятелем Игорем, Андрей выступил от души: набрал столько холстов и красок, сколько влезло в «Жигули». Подобно Пикассо, который в юности постоянно страдал от нехватки красок и позднее, когда стал состоятельным, буквально заваливал мастерскую горами тюбиков и банок, Голубые Мечи испытал почти физическое удовлетворение, когда, вернувшись к себе, заставил весь угол комнаты коробками с материалом.
В этот сезон он как никогда хорошо подготовился к лету, в наиболее плодотворные месяцы которого мог писать по холсту в день. В самом начале лета, продажи шли как нельзя хорошо, давая надежду на перемены к лучшему. Художники, выставлявшие свои картины на Стене, соорудили небольшой навес из полиэтиленовой пленки, чтобы капли послеполуденного дождя не попадали на картины. Царевич, Горбачёв и Цыган любили с утра позагорать у своего вернисажа и пообщаться с публикой, а после обеда, оставив картины на попечение продавцов, уходили работать в мастерские.
Изредка квартиру Синяка посещала Ольга. Ощущая её присутствие в соседней комнате, когда она приезжала в гости к своей подруге Ляльке с ночёвкой, Андрей все же не решался сделать первый шаг. Он вспоминал их первый поцелуй во время подземного «залаза» на Гончарах. Казалось, они были так близки… Но какая-то непреодолимая преграда встала в его душе на пути их дальнейшего сближения. Он чувствовал, что её отношения с прежним любимым человеком на телевидении носили сложный характер, и не хотел опережать события. Ольге нужно было некоторое время, чтобы разобраться в своих чувствах.
Он понимал, что ведёт себя глупо, но, когда она заглядывала в его мастерскую, продолжал работать, делая вид, что занят. На самом деле только и ждал, чтобы она вновь постучалась в дверь. В те редкие моменты, когда всё-таки это происходило, его сердце готово было выпрыгнуть из груди. Он бежал на кухню заваривать кофе. Курил с ней одну сигарету за другой, присев на краешке «траходрома» и тупо уставившись на развешенные по стенам холсты…
Утончённый романтический настрой, с которым Ольга рассматривала и комментировала его картины, помогал Андрею взглянуть на свои работы по-новому, другими глазами… Каждый раз после её ухода в мастерской становилось пусто и неуютно… Но он интуитивно чувствовал, что их уже соединяет какая-то невидимая нить. Не только физическое влечение, но глубокая духовная связь.
Алёна с Анжелой рисовали портреты у Стены, где они чувствовали поддержку своих друзей и защищенность от обид со стороны прохожих и конкурентов. Конкуренция на Арбате становилась все более жесткой и исходила она в основном не от художников, а от рэкетиров, торговцев прикладным искусством и перекупщиков, пытавшихся привнести на Арбат свои барыжные законы.
Несколько раз к Стене подходили крепкие ребята, судя по повадкам и говору не московские, и даже не из Подмосковья. Пытались выяснить, почём живопись, кто хозяин картин, кто «главный» на Стене. При этом, нервно жестикулируя и непрерывно сплёвывая на мостовую, они пытались объяснить художникам простую и трактуемую ими по-своему заповедь: что «нужно уметь делиться» с теми, кто менее наделён талантом, «не жидиться». Намекали на то, что картины — это «хрупкий товар», могут «поломаться», или, скажем, «порезаться».
Вслед за ними, как в пошлом голливудском кинофильме появлялись местные арбатские рэкетиры, которые предлагали «избавить» художников от этих залётных отморозков и взять на себя разборки с приезжими бандитами. На душеспасительные разговоры с ними выходил Горбачёв, поскольку у Вождя и Царевича явно не хватало терпения и их участие в таких разговорах заканчивалось скандалом. Горбачёв и Цыган, напротив, вели разговор уверенно, спокойно, но твёрдо. И, как правило, выигрывали каждый раз, ставя самодеятельных аль-капоне на место.
— Обкладывайте данью торгашей и перекупщиков. Художники никогда никому не платили и платить не будут. Ни вам, ни тем, — цедя сквозь зубы, кивал Горбачёв на бритоголовых иногородних ребят в широких грязных клешах, — ни налоговой инспекции, ни ментам. За спиной Горби стоял Цыган, посматривая по сторонам, а чуть подальше — Лёха, Американец и еще несколько ребят со Стены.
Арбатские рэкетиры уходили несолоно хлебавши, напоследок пустив как отравленные стрелы, несколько тихих, неслышных остальным, угроз в адрес лично Горбачёва, который отвечал:
— Да сколько угодно… И вам тем же концом…
Некоторое время угрозы эти так и висели в воздухе… Однако в конце июня к Стене подошли совершенно незнакомые иногородние ребята и потребовали Горбачёва «на разговор». Вскоре Горби подошёл вместе с неизменным Цыганом, который постоянно сопровождал его по Арбату, как тень.
В нишах за картинами Горбачёв и Цыган хранили свои незамысловатые орудия «антирэкета»: пару молотков с приваренными железными рукоятками и металлическую трубу.
Сходу оценив ситуацию и поняв, что наконец-то пришли «конкретные люди», Горби, не останавливаясь, пружинистой походкой подошел к Стене, привычно запустил руку в нишу и незаметно засунул свой любимый молоток сзади за ремень, прикрыв его курткой. Цыган, делая вид, что перевешивает картину, сделал то же самое.
«Молоток — не статья!» — говаривал он в своё время, когда объяснял всем, почему он постоянно возит его в своей машине или носит под курткой по Арбату.
С деланно-удивлённым видом Горби выслушал Лёху, доложившего, что пришли люди «на разговор». Отходить в сторону «для разговора» Горбачёв отказался, резонно исходя из того, что здесь, при людях, братва ножи вынимать не будет.
«… Окрестные холмы озарились первыми лучами солнца. Лишь бряцание оружия и храп коней нарушали безмолвную тишину утра. Туман постепенно сползал с возвышенностей в сонные лощины… Затаив дыхание, стоявшие на Светлом холме вглядывались в горизонт, уже ощущая приближение полчищ противника по нарастающему гулу земли. Утренние птицы, беззвучно вспархивая над росистой травой, разлетались в разные стороны, предчувствуя беду… И, наконец, разрывая клочья тумана, на холме появились первые отряды противника…
Ангелы, парившие высоко в небе, завершали последние приготовления к сражению. Держа в руках длинные светящиеся лучи, они руководили своими подопечными на земле. Те из них, которые управляли «светящимися», находились несколько выше других ангелов. Их одеяния светились сильнее, и они были крупнее своих собратьев, манипулировавших «погасшими», «поднимающимися к светящимся», а также «спускающимися к погасшим»… Одеяния ангелов и свечение вокруг них — были неповторимы. Во всей Вселенной — не найти двух одинаковых по цвету и свечению…
Гулкий топот тяжёлой конницы, спускавшейся в долину с левой и правой частей холмистого горизонта, отдавался серебряными колокольчиками в сердцах стоявших на Светлом холме и с напряжением всматривавшихся в густой туман над низменностью.
Вдруг на некоторое время всё замерло. В пространстве над головами «управляющих светящимися» пронеслись гигантские тени крыльев Белого и Чёрного архангелов… и битва началась.
Отойдя от огромного полотна как можно дальше — на самую середину ангара, Татьяна вновь осматривала весь холст целиком. Цветовые пятна внизу, на поле боя, были плотными, похожими на сгустки запёкшейся крови в клубах пыли… Серое небо пронизывали яркие светящиеся «стики» в руках ангелов, огненными шарами метавшихся над сражением…»
Зевакам, проходившим мимо Стены, не было слышно, о чём говорили рэкетиры с художниками, однако чувствовалось, что напряжение нарастает. Не вынимая правой руки из кармана чёрной просторной кожаной куртки, «старший» всё ближе прижимался к Горбачеву, что-то отрывисто говоря и брызгая слюной. Горби не отходил ни на шаг и, сверля «старшего» глазами, спокойно отвечал ему. Судя по всему, это вывело последнего из себя. Разговор достиг пика, и стоявший слева от «старшего» короткостриженый парень изо всей силы ударил Горбачева в правую челюсть невесть откуда взявшимся кастетом. Горби припал на правое колено. На камень мостовой хлынула кровь…
Цыган молниеносно ударил тяжёлой сталью молотка по руке «старшего». На брусчатку со звоном упал нож. Бандит отскочил назад, матерясь и зажимая сломанную руку, а Цыган уже набросился на ударившего Горбачёва парня и, схватив за рукав, нанес ему подряд несколько ударов по голове молотком, пока тот не упал. Остальные ребята Стены ринулись на бандитов и долго гнали их по Серебряному переулку до самого Калининского проспекта, распугивая прохожих.
Всё произошло так неожиданно и молниеносно, что когда они вернулись, то ужаснулись: около Стены стояла огромная толпа народу, а на брусчатке лежало тело раненого бандита с пробитой головой. Вокруг были лужи крови. Девчонки смачивали носовые платки в водке и зажимали окровавленную щёку Горбачева, в которой зияла целая дыра от удара кастетом.
Договорились, что Цыган до вечера должен исчезнуть с Арбата. На всякий случай. Пока всё прояснится.
Через некоторое время раненого бандита увезла неотложка. Он так ни разу в себя и не пришёл, но врач сказал, что пульс есть и вроде –жив!
На расспросы следователя в пятом отделении милиции, куда потом потащили всех для составления протокола, ребята и девчонки отвечали, что никто не видел, кто и как ударил этого бандита, и что он сам виноват: первый напал на Горбачева. Алёне с Анжелкой удалось сохранить кастет, который был приобщен к делу как вещдок. Нож бесследно исчез, но всеми свидетелями он был описан одинаково: c чёрно-белой пластиковой наборной ручкой, как зебра.
А тем временем тётя Глаша, ответственная за этот участок дворничиха, по распоряжению старшего сержанта Николаева принесла опилки и посыпала ими сгустки крови на мостовой. Через час Арбат, подобно реке, уже забыл о случившемся и разнёс прилипшие к подошвам прохожих опилки с впитанными в них каплями крови практически по всей Москве. По брусчатке Арбата, коврикам личных автомобилей и такси, резиновым покрытиям троллейбусов и автобусов, по ступеням эскалаторов и платформам метро — от Преображенской площади до Юго-Запада и от Щёлковской до Планерной…
Глава 12
Пятно. Рассказ Грибника.
Произошедшее ошеломило Вождя. Придя на Арбат вечером, он поверил в случившееся только тогда, когда увидел опухшее лицо Горбачёва, вернувшегося из травмопункта с наложенными швами. Голубые Мечи приехал из Звенигорода ещё позже — к девяти вечера.
Созвонившись с Цыганом, попросили его не приезжать пару дней: нужно было уточнить, каково состояние раненого бандита. Из клиники Склифософского ответили, что он по-прежнему в реанимации и его состояние «крайне тяжёлое».
Вечером собрались в комнате Синяка без девчонок, которых отправили на кухню готовить ужин. Посовещавшись, решили на следующий день выходить к Стене несмотря ни на что. Подтянуть дополнительные силы знакомых ребят с Арбата и расположить их на квартире у Синяка и в прилегающих переулках. Особо красноречивыми были Лёха, говоривший про знакомых «мастеров спорта по боксу», и Игорь, обещавший привезти друзей «на нескольких иномарках». Алёна, Ляля и Анжелка остались на ночь в мастерской Вождя, выражая свою солидарность с ребятами. Приготовив им поесть, они допоздна курили на кухне вместе с Синяком.
Рано утром пришел Грибник. Его появление несколько разрядило обстановку. Помимо своей традиционной добычи он привез пяток зайцев, пойманных им в силки где-то под Москвой. Один из них был жив и, будучи выпущен из мешка, смешно бегал по коридору. В конце концов он забился в прихожей за грудой наваленных в углу картин. Назвали его Вася.
После лёгкого завтрака ребята вместе с пришедшими продавцами направились развешивать картины на Стену, а девчонки — рвать траву во дворе для Васи.
Вождь в чёрной рубахе и чёрных джинсах стоял около Стены, с вызовом смотря на прохожих сквозь солнцезащитные очки. В каждом мужчине он видел потенциального лазутчика со стороны неприятеля. Особенно это касалось тех, кто подходил к картинам. Горбачёв с перебинтованной головой гордо сидел в шезлонге, подставляя лицо пригревающему летнему солнышку. Положив ногу на ногу, он постукивал молотком плашмя по левой ладони, сканируя левым глазом (правый был закрыт повязкой) всех, кто приближался к Стене, время от времени отхлёбывая портвейн прямо из горла бутылки. Всё ещё испытывая боль от наложенных швов, он решил «размяться» пролетарским «Кавказом» прямо с утра.
В это утро к Стене приходили практически все художники с разных концов Арбата. Услышав о происшедшем, они сочли своим долгом выразить ребятам свою солидарность. Многие, кто покрепче, предлагали свою помощь, и во второй половине дня недалеко от Стены уже тусовалось около тридцати добровольцев, пришедших продемонстрировать свою поддержку. Каждого из них в своё время так же, как и художников со Стены, пытались подмять рэкетиры, и они понимали, что выстоять можно только сообща.
Ребята даже не ожидали такой поддержки. Кроме того, Игорь привёз своих людей на трёх иномарках. Алексей привёл двух крепких, немолодых уже спортсменов, по лицам которых можно было сразу определить, какому вида спорта они отдали лучшие годы своей юности. После обеда уставший от боли и портвейна Горбачёв, пошел в мастерскую. Все поздравления и проявления солидарности остался принимать Вождь. В этот день никто из противников Стены так и не появился.
Лишь через несколько дней к Васильеву и Горбачёву подошел старший из числа арбатских «бойцов» (так называли рэкетиров, которые обосновались в кафе «Снежинка» посредине Арбата). «Бойцы» не признавали понятий воровских авторитетов, ранее контролировавших этот район, и силой устанавливали свой контроль над улицей. Сутуловатый парень с серым лицом по кличке «Пятно», в присутствии пяти своих подопечных, прищурив глаза-щёлочки, сказал художникам, что их дело — дрянь, и придется отдать Цыгана тульским ребятам. По его словам, раненый бандит принадлежал к тульской группировке, его состояние в больнице ухудшилось и он вот-вот «отдаст концы». С этими словами он повернулся и ушел.
— Люди его пошиба — мастера сеять в душах страх, — сказал Горбачёв Вождю.- Это единственное, что они умеют…
— Хрен с ним. Тварь! Пойдём к Вахтангу, посоветуемся, — взбодрённый внезапно пришедшей хорошей идеей, ответил Вождь.
Вахтанг был в курсе ситуации. Выслушав новую информацию насчёт тульских, он заинтересовался и обещал всё выяснить.
На следующий день, зайдя к нему, как было условлено, к пяти вечера, ребята, к своему удивлению, выяснили, что тульские к этому случаю никакого отношения не имеют. Из Склифа сообщили, что состояние пациента улучшилось. По словам Вахтанга, Пятно специально нагнетал обстановку, чтобы запугать Стену, а потом, выступив «защитником» художников от чужаков, обложить их данью.
Это несколько меняло ситуацию. Вахтанг, будучи опытным в таких вопросах человеком, подробно проинструктировал друзей о том, как построить следующую беседу с Пятном, заставил их выучить наизусть несколько кличек малоизвестных, но серьезных авторитетов, на которые можно было бы сослаться. В дополнение ко всему он достал кусок перфорированной бумаги, похожий на распечатку со старых компьютеров, и сказал с видом фокусника:
— А это вам джокер в колоду, на закуску! — видя их недоумение, пояснил: — Это объективка на парня, который, — он, играя, прочертил кулаком в направлении распухшей щеки Горби, — тебя разукрасил…
Из клочка бумаги явствовало, что Липунов Вячеслав Николаевич, 1958 года рождения, проживающий в Рязани… адрес… был судим в 1979 году по статье… за разбойное нападение, номер судебного постановления АК/123–24; отбывал наказание в учреждении номер ЖХ 28873… Мордовского территориального отделения ГУИН…
— Ну и что, — не выдержал ничего не понимающий Васильев, — ему же лучше стало! Он живой?
— Да живой!
— Ну и что эта бумажка нам даёт?
— А она вам в данном случае и не должна ничего давать. Забудьте про неё… Просто «Пятно» и «Липа» оба из Рязани, оба проходили по этому делу, и оба сидели на одной и той же зоне ЖХ 28873… в Мордовии. Его это ребята… Тульских он к этому делу приплетает для отвода глаз. Он своих, рязанских, на самые крутые разборки выписывает в Москву, благодаря им так и поднялся за год…
— Горбачев и «Вождь» переглянулись, потом обняли Вахтанга:
— Дорогой ты наш Вахтангушка, Батона Вахтанги, вай вай! Матлоб!
Следующая встреча с Пятном была назначена через два дня в шашлычной «Риони», недалеко от театра имени Евг. Вахтангова. Информация, изложенная Горбачёвым и Вождём в ходе беседы с Пятном, спокойный тон, с которым они высказали ему свою позицию, были настоящим попаданием в яблочко. Памятуя о том, что «короля играет свита», Пятно взял с собой на эту встречу двух своих приближенных… и пожалел об этом. В их присутствии его авторитет был поколеблен. Художники практически послали его… и при этом назвали несколько фамилий, при упоминании последней из которых помощники Пятна переглянулись и вопросительно посмотрели на своего «босса». Тот отшутился, пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре: мол, «ребята, вы такие имена называете, понятия даже не имеете, каких вы людей упомянули, вы, художники паршивые…»
Тогда, выдержав паузу и окинув взглядом его приближённых, Горбачёв притянул Пятно за ворот куртки и выпалил ему в лицо о Липе и рязанских пацанах. Деланно-шутливое выражение слетело с лица Пятна, как маска, и он, озираясь на своих подручных, начал громко материться, теряя самообладание. Разговор им был окончательно проигран. Пятно ушёл со встречи, по всей видимости, настолько расстроенный, что даже забыл на столе свои сигареты и зажигалку. Пачка сигарет была испещрена записями телефонов, и Горбачёв ловким движением смахнул её со стола в карман с видом победителя…
Вернувшись к себе на шестой этаж, они с радостью обняли Цыгана, нарушившего запрет и пришедшего на квартиру Синяка повидаться с ребятами. Горбачёв и Вождь рассказали о встрече с Пятном, и с удовольствием приступили к ужину с зайчатиной, добытой Грибником. Настроение у всех, порядком отравленное в последние дни, заметно улучшилось. За столом пошли шутки над Горбачёвым, который ещё не мог нормально жевать, хотя повязку снял на второй день после наложения швов. Но пить водку травма не мешала, за что и сдвинули стаканы. Ляля постоянно целовала его в заклеенную пластырем щёку, а Анжелка обещала разжёвывать пищу в случае необходимости.
Затем подняли тост: «За молоток!» При этом Цыган и Горбачёв, не сговариваясь, вытащили из-за спины каждый свой молоток и, скрестив их, изобразили нечто похожее на эмблему «Мосфильма» — по мотивам всё той же незабвенной скульптуры Мухиной. В отставленных назад руках каждый держал по рюмке водки.
Грибник молчаливо наблюдал за всеми этими выходками молодежи, а затем философски заметил:
— Да… Всё хорошо, что хорошо кончается… А ведь ты, парень, — он кивнул в сторону Цыгана, — мог человека убить…
Все замолкли, на секунду представив, какие могли бы быть последствия, если вместо вчерашнего сообщения об улучшении самочувствия этого рязанского парня пришло бы извещение о его смерти…
И тут «Грибник» рассказал всем присутствующим весьма печальную историю из своей жизни.
— Было это ещё до войны, мне тогда было всего пятнадцать лет. Без хвастовства скажу: был я парень ладный, лучший охотник на селе после отца, Семёна Ефремовича. И по плотницкому делу пособлял отцу, и на конях за колхозным стадом управлялся. Жили мы на Северном Урале, в местечке Игдель, что в переводе с местного древнего наречия означает «Чистая вода».
Ходил с отцом на соболя и на белку с двенадцати лет. А в четырнадцать Семён Ефремович уже брал с собой на медведя. Недюжинной силой был в отца наделён не по годам.
И вот прошёл слух, что в округе появился оборотень. Обличием был тот зверь похож на медведя. Только морда у него была, как у волка с большими клыками, а нос — кабаний. И ходил он на задних лапах, будто человек. И стал он драть скотину почём зря, а после — и на людей стал кидаться. Четырёх человек задрал, да что приметно — только горло перегрызёт — да и бросит…
Приехали тогда егеря из охотхозяйства, давай набирать добровольцев, чтоб весь лес прочесать и горы окрестные, где нечисть эту видели. И мы с отцом — тоже пошли: дело артельное, нужное.
По старому обычаю отлил отец семь пуль из серебра, а внутри — стальные наконечники. Закатал их в гильзы с капсюлями от карабина. Ночью поехали мы к батюшке в церковь в соседнюю деревню, за десять вёрст: освятить пули да и благословение получить. Днём нельзя было: времена-то советские, сами знаете… Едем назад — тайга кругом стеной, а луна полная такая светит, будто солнце днём… Вдруг… чу… — впереди человек черный стоит… прямо на дороге. Не шелохнётся. Да так одет диковинно. В шубе до пят и в шапке большой меховой. А из шапки перья такие большие торчат — словно рога! Постоял так немного. Только пар изо рта столбом к луне поднимается. Да и пошёл поперёк дороги — прямо в ели густые».
Тут наступила пауза, и в гробовой тишине Грибник, сделав последнюю затяжку, затушил свой «Беломор» в консервную банку, служившую пепельницей. У всех присутствовавших по коже отчётливо ползли крупные мурашки.
— Ну а дальше-то что? — Синяк воспользовавшись кратковременной передышкой, быстро налила себе и Грибнику по рюмашке. Тот, как правило малопивший, осенил себя крестным знаменем, махнул полстакана водки залпом и, закурив с ходу ещё одну папиросу, продолжил:
— Лошади встали как вкопанные да так как-то от этих елей сторонятся, вправо уходят, ушами прядут… Да как заржут, захрипят, аж жуть…
Отец давай заряжать патроны с серебряными пулями в карабин, а я за топор. Сам весь дрожу…
Вдруг из темноты елей оборотень этот как выскочит и во весь опор за нами на четырёх лапах. Лошади как сами рванули… Мы чуть с обоза не упали. Тут он нас настиг и бате сзади в шею как вцепится… Верите, до сих пор слышу хруст костей и скрежет зубов…
Я топором его по башке рублю, рублю, а он отца не отпускает — только рвёт его ещё больше в куски, будто чует, что у того в руках — его погибель, карабин с освящёнными пулями! Наконец остриё топора попало в мягкое –зверю под ухо! Он сразу жертву выпустил — и с саней долой. Кони меня спасли! Метров двадцать пронеслись, я патрон в затвор дослал, карабин вскинул и выстрелил, потом ещё, и ещё… Перезарядил ружьё, коней стегаю. Потом оглянулся — а тот посредине дороги лежит, не шевелится…
Домой примчался, батя хрипит, кровью исходит, руками-ногами не в силах пошевелить. Родня давай помогать. А я с егерями тут же назад, на трёх санях лёгких — чтоб нечисть эту добить.
Подъезжаем ближе, смотрим: лежит — не шелохнётся! Тут начальник нашего игдельского опорного пункта милиции товарищ Гончарок с передней повозки спрыгивает на снег с наганом. Смелый такой — ничего не боялся. Подбегает к зверю и кричит: «Руки вверх!» Я даже ушам не поверил. Думаю, как это он зверю-то? А Гончарок тело переворачивает и орёт мне на всю тайгу: «Ты кого, контра, убил? Ты товарища Савушкина убил!!!». Товарищ Савушкин — был большой чин НКВД, командовал всеми окрестными лагерями ГУЛАГ.
Утром, когда меня после ночного допроса отправляли в районный центр, на опознании трупа я даже вскрикнул от неожиданности: на голове убиенного были множественные удары топором, а за правым ухом — шея разрублена аж до самого плеча. В теле, как потом на суде сказали, нашли три серебряные пули (остальные — наверное, прошли мимо). Такие же две пули оставались в карабине. Опять же, баллистическая экспертиза — против меня.
Вышку могли дать, да возраст не позволял: мне тогда шестнадцать должно было исполниться только через три месяца. И пошёл я по этапу… на всю катушку. И всё думал — как же это могло произойти? Выходит, я человека убил? И так этот червяк меня изнутри грыз… Чуть с ума не сошел! По сравнению с этим, тяготы каторги на Читинских рудниках, а потом в Колымском крае — ничто! Так он у меня перед глазами и стоял всё время. И когда в штрафной батальон на фронт направили. И когда немцам в рукопашной голыми руками и зубами глотки рвал… Потом уже после войны отошёл малость…
Все присутствовавшие перевели дух. Цыган, до этого заворожённо смотревший на рассказчика, встал, разлил по кружкам водку и, по примеру Грибника, перекрестившись, выпил залпом полстакана, ни с кем не чокаясь:
— Ну ты, дядя Ваня… Это прямо сказки Бажова какие-то… Неужели это всё на самом деле было?
По выражению лица Сергея было видно, что он больше всех пережил за эти дни, думая, останется тот парень из Рязани жив или отдаст концы.
— Вот тебе крест! И ты знаешь, прошел всю войну до Берлина — и ни одной царапины. Контузия была, правда, но легкая.
Голубые Мечи смотрел на Грибника, всё ещё не в силах прийти в себя после услышанного. Перед его глазами стояли, как живые, сцены из истории, рассказанной Иваном Семёновичем.
Ложась спать, он долго размышлял над тем, как велика сила человеческого духа. С виду неприметный, сухощавый Грибник прошёл через такие тяжёлые невзгоды, а остался скромным, добрым человеком с золотым сердцем. Он не свихнулся, не спился, никогда не жаловался на жизнь. « Только вот странно, — думал сквозь сон Андрей, — что Грибник так и шатается один по лесам и летом и зимой… будто этот оборотень в него переселился…»
Глава 13
Пятое отделение милиции
На утро следующего дня в дверь Синяка раздался настойчивый стук Посмотрев на будильник, на котором стрелки остановились ещё в четыре утра, хозяйка квартиры прошаркала в своих стоптанных тапочках в прихожую и недовольно спросила:
— Кто там?
— Милиция!
Действия представителей закона были быстрыми и решительными. Всем, находившимся в квартире Синяка, было предложено предъявить паспорта. Цыгана и Грибника увели. Ребята сиротливо сели пить чай.
В отношении Грибника — картина была привычная. Его не раз таскали в милицию за нарушение паспортного режима и всегда выпускали через час-другой после выплаты штрафа. В отношении же Цыгана — это была явная подстава. Было ясно, что утренний шмон, устроенный ментами, сделан по чьей-то наводке. Через час, не дождавшись возвращения Цыгана, у которого паспорт был всегда при себе, Голубые Мечи пошел на разведку. Он смог убедить Вождя и других в том, что коллективный поход вольных художников к ментовской только будет красной тряпкой для стражей «порядка».
Пятое отделение милиции располагалось в тёмно-красном трёхэтажном доме в соседнем дворе. Вокруг и внутри казённого здания было всегда многолюдно, даже утром. Слишком активную жизнь вели москвичи и гости столицы, полюбившие Арбат для проведения своего досуга. Помимо обычных завсегдатаев этого учреждения, бомжей и спекулянтов водкой, взгляд Голубых Мечей выхватил среди небольшой толпы около красного здания несколько тёмных фигур, стоявших недалеко от «убитой» БМВ, припаркованной в конце дворика, в небольшом тупике под аркой. Одного из них он узнал: это был Пятно. Нагнувшись к машине, он о чём-то оживлённо беседовал сквозь приоткрытое окно с человеком, сидевшим рядом с водителем. Кисть человека была загипсована, и, по описаниям, он был похож на «старшего» рязанцев, которому сломал руку Цыган.
Судя по всему, они спорили. Пятно что-то предлагал, а тот левой рукой отрицательно жестикулировал, апеллируя к сидевшим сзади, чьих лиц не было видно. Они не знали Андрея в лицо, поэтому он подошёл ближе и, закурив, повернулся к ним спиной, заведя непринуждённый разговор со стоявшей рядом женщиной.
Мимо него по направлению к машине пробежал опер. Отведя Пятно и двух его помощников в сторону от автомобиля, ближе к тому месту, где курил Андрей, он отрывисто сказал:
— Ну, ты им сам объясни, не можем мы его выпустить, здесь при всех вам передать, уже уголовное дело заведено… тем более что шеф приехал.
— Погоди, а на поруки под подписку о невыезде?
— Ага, а на поруки ты его возьмешь? Тебе это надо?
— Ну, это мы мигом решим, вон Санёк заявление напишет, у него московская прописка и всё такое, — Пятно кивнул в сторону одного из своих подручных.
— Ну ладно, сейчас попробую, — нехотя проговорил опер, крутя по сторонам глазами.
В это время из-за угла красного здания появился Царевич. Голубые Мечи быстро подошел к нему, закрывая его спиной от иномарки. Было решено, что тот сходит за ребятами.
Плана не было. Лишь желание освободить Цыгана во что бы то ни стало. Голубые Мечи решил опираться на интуицию и свое умение находить со всеми людьми общий язык.
Зайдя в отделение, он уверенно спросил, как пройти к участковому Николаеву. Его кабинет находился на втором этаже прямо у лестницы. Старший сержант Николаев был совсем молодым милиционером, курсантом Московской высшей школы милиции. На розовых щеках его золотился лёгкий рыжий пушок. Густые каштановые волосы были коротко пострижены, на лбу проступила испарина. Видно, утро выдалось для него горячее.
— Слушаю вас внимательно, — дежурно буркнул сержант. По глазам было видно, что на самом деле ему было глубоко безразлично всё, что скажет художник.
— Вадим Александрович, — начал Голубые Мечи, присаживаясь на обшарпанный, обитый дерматином стул, на который указала рука участкового. В эту минуту он был готов провалиться сквозь пол. Он не знал, что говорить. Удручающая обстановка казённого заведения настолько давила и не оставляла никакой надежды, что он пожалел, что пришёл. Неожиданно кровь прилила к вискам, и Андрей выпалил:
— Вадим Александрович, вы за бандитов или за художников?
Тот откинулся и, подняв брови, вежливо осведомился:
— А вы, собственно, художник, если не ошибаюсь? Голубые Мечи представился, показал паспорт и рассказал о Пятне, Стене, Цыгане и стоявшей во дворе иномарке с бандитами.
— Значит, Пятно с Липатовым, говорите, вместе сидел? — начинающий пинкертон с задумчивым видом смотрел сквозь окно на двор, постукивая шариковой ручкой по столу. -Дело всё в том, что уголовными делами у нас занимается Сидоренко. Он это дело у нас забрал.
— Но это же на вашем участке?
— Да, но я тут человек новый, в эту кухню не лезу… Кстати, а как выглядел этот опер, что сейчас к Пятну подходил?
— Капитан, плотный такой!
— Это Сидоренко, он как раз сейчас к шефу пошёл… Знаете что, посидите здесь минут пять. Вот вам лист бумаги, пишите заявление о том, что берёте своего друга на поруки.
Голубые Мечи взял авторучку и начал было писать, но остановился в растерянности, начиная густо краснеть. Он не знал, каковы фамилия и отчество Цыгана. Прочитав по глазам Андрея его замешательство, Николаев подсказал:
— Цыганов Сергей Николаевич.
С этими словами он улыбнулся, взял папку с сейфа и вышел из комнаты. Минут через десять заявление было готово. Прошло ещё двадцать минут. Николаева не было…
Вдруг с улицы раздались крики. Подойдя к окну, Голубые Мечи увидел каких-то людей, которые дрались во дворе, бегая в разных направлениях по свежевскопанным газонам. По отделению милиции раздался топот сапог. Выбежав во двор, Андрей увидел дымившуюся перевернутую бандитскую машину и разбегавшихся от милиционеров во все стороны художников. Их насчитывалось человек двадцать. На грязном асфальте около иномарки — опять алела кровь. Чья?
Глава 14
Освобождение Цыгана. «Переписать холст заново…»
Вернувшись в мастерскую, Голубые Мечи узнал, как разворачивались события во время его пребывания в казённом доме.
Царевич быстро вернулся в квартиру Синяка, собрал всех ребят. Горбачёв, Вождь и другие ребята со Стены — пошли к милиции. Девчонки с Сашей Хромым и Американцем побежали поднимать художников с Арбата.
Рэкетиров насчитывалось всего семеро — двое с Пятном и четверо в машине. Силы были практически равны. Но нужно было вступать в драку только тогда, когда выведут Цыгана. Сдерживать Горбачева удавалось с трудом. У него чесались руки, глаза горели недобрым огнём.
Через несколько минут из милиции вышел Цыган в сопровождении Санька из группы Пятна и ещё одного незнакомого коротко стриженного парня. Они почти дошли до машины, когда Цыган, разгадав их план, повернулся, чтобы бежать. В это время из задних дверей машины вылезли два здоровых бугая, и вчетвером они потащили Цыгана к автомобилю.
Горбачёв рванулся вперед и первым, настигнув самого крупного из рэкетиров, нанёс ему удар ногой в пах. Выдернув из-за пояса свой любимый молоток с приваренной железной ручкой, он принялся махать им направо и налево, нанося удары бросившимся ему наперерез бандитам. Другие ребята Стены действовали не менее решительно. Царевич, вооруженный шилом, без разговоров воткнул его в переднее колесо машины. Игорь с Лёхой уже мутузили ногами «старшего», вытащенного ими из машины на землю. Шофёр, вылезший из-за руля с монтировкой, чтобы помочь своему шефу, тут же получил хороший удар от Цыгана прямо в нос и упал, обливаясь кровью.
В этот момент во двор ворвалась большая группа художников, вооружённых палками, обрезками труб и просто камнями. Бандиты были вмиг сметены в Калошин переулок, подальше от милиции. Ситуацию уже никто не мог контролировать. Машину перевернули. И, как часто бывает в таких случаях, нашелся некто (они обычно проявляются в конце драки, когда уже всё сделано), который достал пузырек с уайт-спиритом и поджёг машину. Это уже был перебор…
Усадив Цыгана в такси и дав ему с собой сколько было денег, пролетарии художественного труда шумной толпой вернулись на Арбат и стали распивать пиво у Стены.
Горбачёв, Вождь и Царевич, дождавшись Андрея в мастерской, наперебой рассказывали ему о случившемся. Участвовавший в беседе за столом Грибник, которого из милиции выпустили ещё два часа назад, молча слушал их разговор. Он сидел на табурете в галифе, голубой майке и невозмутимо покуривал свой любимый моршанский «Беломор».
Допили остатки водки. Горби перевесился через мраморный подоконник и выкрикнул очередной заказ стоявшему внизу продавцу картин, бросив ему бечёвку с авоськой. Банка лосося с картошкой под квашеную капусту и огурцы, три бутылки водки — хорошее успокоительное для мужчин после драки.
— А ты заметил, как Пятно обосрался? — победоносно смотря на Вождя и не переставая смачно жевать капусту, сказал Горбачёв, облизывая пальцы, — даже свалил втихаря, бросил своих ребят!
— Ты вот что, пример с Цыгана не бери. Чего так борзеешь, сразу молотком по голове… ты соизмеряй ситуацию… — начал наставлять Горбачёва Вождь, сам, по совести говоря, вовсе не имевший опыта уличной драки. — «Тебе вчера Иван Семёныч чего говорил?»
Грибник продолжал курить, молча смотря в открытое окно, за которым вдали под ярким солнцем светились золотые купола Кремля. Вся его чуть сгорбленная фигура и лицо выражали сожаление о том, что из его вчерашнего рассказа никто так и не извлёк никаких уроков.
Горбачёв потупил взор в тарелку с квашеной капустой. Правая его рука, локтём упиравшаяся в стол, держала стакан, на четверть наполненный водкой. Кристальная жидкость поблёскивала сквозь грани стакана в лучах полуденного майского солнца. Рукава его местами разорванной рубашки были закатаны до локтей, которые были в ссадинах и запёкшихся пятнах крови. Своей и чужой…
— Я тебя умом понимаю. За всё теперь придётся отвечать… Но единственное, что я знаю из своей прежней жизни, — это то, что звери… они только силу понимают. Они ведь как… смотрят на тебя и видят насквозь: бздишь ты или замочить можешь… Запах от человека что ли, или энергия какая-то исходит… Правильно, дядя Ваня?
Грибник глубоко вздохнул, затушил папиросу в пепельницу, медленно встал с табурета и молча вышел из комнаты.
После некоторой паузы Голубые мечи рассказал им о своей беседе с Николаевым. По его мнению, участковому можно было доверять. В ходе беседы Андрей понял это по его глазам. К тому же то, что он готов был отпустить Цыгана под подписку о невыезде и поручительство, а не отдавать бандитам или держать под стражей — говорило само за себя.
Вождь — был «за», Горбачёв и Царевич — резко «против».
— Ты же сам прекрасно всё понимаешь: менты тут все «запятнанные», Пятно их кормит, он же и наркоту на Арбате начал продавать. Ты думаешь, почему воры с ним справиться не могут? — выпучив глаза и растопырив пальцы в разные стороны, говорил Горбачёв. — Ну что сделает один твой Николаев, даже если предположить, что он нормальный мужик?
— Салага он, а не мужик, — вторил ему Царевич, — даже бабы на Арбате над ним смеются! Ходит с папочкой и бумажки только подшивает.
— Ну, все равно, своего человека в ментуре здешней надо иметь, — резонно возражал Вождь. -Чего теперь Цыгану — в бега пускаться? И из-за чего?
Друзья долго ещё спорили, допивая водку под крепкий чай, заваренный Грибником. Решено было, что Цыган должен месяц побыть в Переславле-Залесском — в Доме творчества художников. Пусть с Алёной там пейзажи попишут. А за это время всё уляжется.
— Жизнь сама всё расставит по местам, — сказал Грибник, заставший концовку их разговора. Отлив чифиря из кастрюльки, он вновь отправился в свою каморку, прилегавшую к кухне.
В старинных квартирах центра Москвы, помимо пожарного входа на кухню, по которому посыльные приносили продукты, такие каморки для прислуги были неотъемлемым атрибутом дореволюционной архитектуры. В этой маленькой комнатке с небольшим окном во двор всё было как бы перенесённым из прошлого века. Старинный кожаный диван с высокой спинкой, переходившей в деревянное обрамление небольшого, уже тусклого зеркала. Потрескавшийся сервант с застеклёнными полукруглыми дверцами. Венский стул у окна. Вот и всё убранство комнатки Грибника.
В углу, как привидение, темнела плащ-палатка, подвешенная за капюшон. Под ней стояли сменные сапоги, выцветший рюкзак с привязанным к нему рулоном асбестовой металлизированной ткани. Она использовалась зимой для ночёвки в лесу. Грибник раскладывал эту подстилку прямо на угли костра, а на неё — спальный мешок. И так спал даже в двадцатиградусный мороз.
Над изголовьем на стене красовались вырезки из «Огонька» периода пятидесятых — шестидесятых годов: фотографии Любови Орловой, Элины Быстрицкой, Тамары Сёминой и других актрис того времени. В застеклённой рамочке висел портрет Юрия Гагарина, а на стене — большой плакат, посвященный Дню победы.
Андрей, проходя на кухню с кружкой чая, задержался на минуту в проёме двери каморки Грибника. Взгляд его скользнул по выцветшей фотографии Гагарина и плакату… и память перенесла его в юность… Он вспомнил… тот неповторимый запах масляной краски, скипидара и фисташкового лака в детской изостудии, где он начинал свои первые шаги художника.
…Приближалось Девятое мая. Его первый учитель живописи сказал, что занятия в детской изостудии начнутся только в три часа дня, а утром предложил всем воспитанникам собраться около Большого театра — чтобы посмотреть на ветеранов Великой Отечественной войны. Иван Иванович Челноков, руководитель студии, инвалид войны, лишившийся на фронте практически всех пальцев на руках, был горд, что на эту импровизированную встречу пришли, не сговариваясь, практически все его ученики — даже те, которые давно уже закончили не только студию, но и высшие художественные заведения. Они все очень любили своего учителя и особенно хотели поздравить его в этот значимый для него день — День Победы.
Вернувшись после встречи у Большого театра в студию, воспитанники устроили для любимого учителя праздничный чай с домашними пирогами и тортом. Лишь самые упорные и готовившиеся к вступительным экзаменам студийцы остались после чаепития в мастерской. Иван Иванович, радостный и увлечённый, как всегда, делал замечания и помогал своим питомцам. Между делом рассказывал истории из нелёгкой солдатской жизни на фронте. Жестокая ирония судьбы: молодого художника Ваню Челнокова, у которого весь талант и мастерство — на кончиках пальцев — определили в сапёры… Когда от взрыва противопехотной мины он лишился практически всех пальцев на руках, мир, казалось, помёрк для него. Лишь огромная сила воли и неутомимое желание заниматься живописью — помогли совершить чудо. Он реализовался, стал замечательным живописцем — потому что был художником с самого рождения в душе. Его рассказы были увлекательны, сам он преображался, вспоминая молодые годы, казалось, на самом деле становился моложе.
Постепенно все воспитанники закончили работать и распрощались с учителем.
Лишь один маленький Андрюша остался в студии и упорно пытался выправить акварельный натюрморт с деревенским кувшином. Кувшин «разваливался», драпировка «не лежала», а топорщилась. Он очень волновался, нервно тыкая кистью в кусок ватмана (импровизированную палитру), на котором размешивал краску. Ведь скоро будет зачёт, а работа явно не удавалась. Иван Иванович подсел к нему, попросил разрешения у маленького художника взять его кисть. На правой руке учителя было только два пальца: большой и мизинец. Между ними была натянута тряпочка, в которую Иван Иванович упирал конец кисти, а двумя пальцами цепко схватывал её с обеих сторон. Движения учителя были стремительными и безжалостными — он решительно брал глубокий тон и переламывал всю композицию.
Губы подростка задрожали: ведь на его глазах окончательно уничтожался плод его двухдневной работы. Иван Иванович почувствовал это и замер. Затем, резко повернувшись к ученику, сказал фразу, которую Андрей пронёс потом через всю жизнь:
— Запомните, милостивый сударь, то, что я вам сейчас скажу. Настоящий Художник — это тот, который не трясётся над своим произведением, а кто в любой момент готов переписать холст заново! Я это говорю не каждому, приходящему в нашу студию. Вам я это говорю потому, что вы — бесспорно талантливы!
Фактически это был ключ к вере в бесконечность своих творческих возможностей. Ведь, на самом деле, каждую работу ты делаешь на более высоком уровне. Если работаешь на совесть… Ты как бы идёшь вверх по лестнице, ведущей в бесконечность.
А если чувствуешь: что-то не так — возьми и перепиши всё заново. Главное только — не бояться. И не терпеть компромиссов. Творческий компромисс — это либо лень, либо неверие в свои силы. Тогда — Художник умирает… Он начинает идти вниз по этой лестнице… ведущей вверх.
Покурив с Грибником в его каморке под стук молоточка, которым тот подбивал стальными подковами сапоги, Голубые Мечи побрел в свою мастерскую дописывать «Старца у родника».
Эта картина пришла к нему в одном из сновидений. На серебристо-зелёном мху подле ледникового камня, из-под которого струился родник, стоял старец в ветхом рубище и держал меч над святой водой, заряжая его энергией родника.
Выставив сильный свет, Голубые Мечи упорно работал у станка до самого рассвета. Под утро Андрей присел за круглый стол у открытого окна и закурил. Он долго любовался небом, розовевшим над безмолвной Москвой. Шпиль высотного здания на Смоленской озарился золотом. Художник, уткнувшись локтями в стол, положил на них голову на минуту… и заснул.
В утренних лучах, отраженных золотистой охрой от соседних зданий, на мир смотрела новорождённая картина, блестевшая свежим льняным маслом и лаком. За ночь она была переписана практически полностью. Серебристый меч, светившийся в руках старца, ожил в сиянии солнца, всё сильнее наполнявшего мастерскую… «Главное — не бояться переписать холст заново».
Глава 15
Рождение «Голубых мечей». Поездка в Дом творчества Д. Н. Кардовского.
Несколько дней прошли спокойно. Художников у Стены никто не трогал. Пятно и его люди не появлялись на Арбате.
Радостный Серёга Американец привел в мастерскую Николая Викторовича из журнала «Чудеса и приключения», с которым Андрей познакомился в первый день у магазина «Цветы». Тот извлек из репортёрской сумки пачку новых, ещё пахнувших краской журналов со статьей об Андрее и его живописи. Статья почему-то называлась «Магия голубых мечей». Американец схватил несколько журналов и побежал на Арбат.
Андрей присел на свою любимую деревянную скамейку, на которой он обычно работал за мольбертом, и с интересом стал читать статью. Как это обычно бывает, репортаж, написанный о тебе самом себе, несколько разочаровывает. Автор не согласовал ни заголовок, ни структуру работы. Даже названия иллюстраций, помещённых в журнале, не соответствовали названиям картин. Как потом выяснилось, это было «творчеством» главного редактора. Однако Андрей вежливо поблагодарил Николая Викторовича за его усилия. У молодого художника ещё не было каталога, и любая подобная публикация с репродукциями его картин, безусловно, была полезна для его «раскрутки». Польщённый журналист, стоя с сигаретой у мольберта со «Старцем», впился взглядом в новую работу Андрея.
— Прав я был — действительно «Магия голубых мечей»! На большинстве картин у вас изображены мечи, и все такие разные, диковинные какие-то. И это непередаваемое свечение… как же это у вас получается? — провел он рукой над холстом — от меча в руках Старца к роднику среди изумрудной травы.
Они отметили выход статьи бутылочкой токайского вина, извлечённого художником из тайника за мольбертом. Прежним хозяевам квартиры этот тайник, по всей видимости, служил сейфом. Он был вмонтирован в толстую кирпичную стену и закрывался крепкой металлической дверцей со сложным замком.
Долго разговаривали об их артели, выставлявшей картины на Стене. Андрей рассказал журналисту об их стычках с рэкетирами. Николаю Викторовичу это показалось очень интересным, и он стал делать какие-то записи в свой блокнот. Андрей попросил его обязательно согласовать с ребятами текст статьи: тема была весьма деликатная и одно неточное слово могло всё испортить. Тот понимающе кивал.
Договорились, что Андрей соберёт самые удачные картины для дополнительных фотосъемок — для каталога и использования на обложках журнала.
Дверь широко распахнулась, и в мастерскую ввалился нетрезвый уже Вождь с радостно светившимися глазами. Он держал экземпляр журнала «Чудеса и приключения» в руке:
— Эй, Голубые Мечи! А я и не знал, что ты — «Г о л у б ы е М е ч и»! Это надо же такую херню написать? «Голубыми» знаешь кого называют… Я бы на твоём месте этому журналисту зонтик в одно место засадил и там, внутри — раскрыл!
Андрей, будучи обескуражен таким поведением Васильева, почувствовал некоторую неловкость перед Николаем Викторовичем, который явно смутился и как-то съёжился с приходом крупного и вальяжного Вождя. Тем не менее, Андрей представил их друг другу — и теперь неловко стало Васильеву.
С этого момента, наверное, за Андреем Сафоновым и закрепилась эта кличка — «Голубые Мечи» или просто «Мечи». Выйдя на Арбат во второй половине дня, он то и дело выслушивал «поздравления» и подколки со стороны друзей, называвших его теперь только так и не иначе.
Погода стояла на редкость жаркая, продажа картин на Арбате шла вяло, и через несколько дней художники приняли решение навестить Цыгана и Алёну в Переславле-Залесском. Андрей часто бывал в Доме творчества в этом прекрасном месте во время обучения в Строгановке. Позднее он не раз приезжал сюда на этюды с друзьями или один, когда хотелось уединиться. Особенно живописен был Переславль осенью, когда деревья были покрыты золотом, или поздней весной, когда окрестные холмы на солнце охрились бурой прошлогодней травой, в низинах темнели живописные проталины в жухлом снеге, а воздух был наполнен живительной энергией просыпающейся природы.
Билетов на прямой рейсовый автобус со Щёлковской не было. Поэтому пришлось добираться до Сергиева Посада на электричке с Ярославского вокзала. В поезде все форточки были открыты и ветерок хорошо продувал вагон, в котором друзья разместили свои этюдники и рюкзаки. Был рабочий день, дачников ехало мало, поэтому молодые художники могли комфортно расположиться на деревянных лавках, смеясь и дурачась всю дорогу под строгими взглядами бабушек. Лялька с Анжелой то и дело упускали из корзинки зайца Васю, которого взяли с собой, чтобы выпустить на волю в Переславле, и дружно затем бегали по вагону, пытаясь поймать его до очередной остановки электрички. Наконец всё-таки, когда поезд остановился в Абрамцево, Вася исхитрился, рванулся что было сил между ног входивших пассажиров к выходу из вагона и был таков…
Дом творчества Союза художников в Переславле-Залесском — одно из самых романтических мест, где художник, если он не очень привередлив к быту, мог в те годы иметь всё необходимое для творческого счастья. Колорит этого места всегда притягивал художников, писателей и поэтов (таких, как А. Н. Островский, М. М. Пришвин, Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова).

Здесь они находили приют от шума большого города. Живописные берега реки Трубеж, этой деревянной Венеции средней полосы России, с перекинутыми через неё мостиками и мосточками, разноцветными лодками и смыкающимися над водой плакучими ивами… Загадочное Плещеево озеро, поглотившее за свою историю не одну сотню рыбаков. Древние церкви и монастыри, большей частью полуразрушенные в те времена, сказочный Берендеев лес и Синий камень, окружённые легендами и чудесами… притягивали во все времена творческую интеллигенцию, да и просто людей с чистым сердцем.
Дом творчества был построен в своё время замечательным рисовальщиком и живописцем, академиком Дмитрием Николаевичем Кардовским. Он знаком советскому зрителю в основном по иллюстрациям к произведениям А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, А.П..Чехова, А. С. Грибоедова, А. Н. Толстого, а также по исключительным в своем роде карандашным зарисовкам с натуры вождя мирового пролетариата В. И. Ленина.
Владимир Ильич, в отличие от своих соратников, не любил позировать, да и не имел времени на это. Поэтому выбран был опытный и талантливый Д. Н. Кардовский, который, не отвлекая вождя от работы, тихо сидел в углу комнаты и за несколько сеансов сделал гениальные живые наброски, которые легли в основу ряда полюбившихся всему народу картин с изображением Ленина. За это ему после звания академика, полученного в царские времена, в 1929 году присвоили ещё одно звание — заслуженного деятеля искусств РСФСР.
В дальнейшем именно зарисовки Д. Н. Кардовского легли в основу формирования канона, которому должны были соответствовать портреты В. И. Ленина, делавшиеся позднее советскими художниками. Ревностные хранители этого канона из числа академиков следующего поколения сформировали касту «допущенных» к этому ответственному направлению советской живописи художников. Только этим «избранным» разрешалось получать высокооплачиваемые заказы на портреты и картины с изображением «Лукича» (так любовно прозвали художники эту тематику), и затем множить их через худкомбинаты — для колхозов, промышленных предприятий, министерств, ведомств, Красной Армии и НКВД…
Однако не только и не столько этим известен и люб Дмитрий Николаевич русской художественной школе. Преподавая классический рисунок в Академии художеств, а затем во ВХУТЕМАСе, и воспитав не одно поколение художников, он, благодаря признанию властями, как выдающийся художник-реалист, имел возможность смело и настойчиво выступать за сохранение исторических памятников и реликвий изобразительного искусства, прежде всего принадлежавших русской православной церкви. Благодаря в том числе и его усилиям, был приостановлен грабёж и вывоз за границу советами древних икон и других святынь из монастырей Переславля-Залесского, Сергиева Посада, Ростова Великого и Ярославля. В дальнейшем из художественных ценностей Переславля-Залесского, экспроприацию которых ему удалось предотвратить, он собрал коллекцию художественного музея, расположенного и ныне в Горицком монастыре, рядом с Домом творчества.
Старый деревянный сруб, поставленный Д. Н. Кардовским на территории Дома творчества был дополнен в семидесятые годы ансамблем достаточно прогрессивной для того времени архитектуры. Круглое здание столовой, похожее на сторожевые башни окрестных монастырей, было соединено переходом с жилым двухэтажным корпусом. Чуть поодаль находился блок, в котором размещались живописные, а ещё чуть дальше — скульптурные мастерские. Художники постарались для себя. Однако оригинальная архитектурная идея и конструктивное удобство сооружения намного опередили финансовые возможности Союза художников по надлежащему уходу и поддержанию здания. Постепенно оно стало приходить в негодность, и в тот период, в конце восьмидесятых, из-за отсутствия тепла зимой и воды летом более двух недель в нем могли прожить лишь аскеты.
Каждому художнику или скульптору, помимо спартанской комнатки со сломанным, как правило, санузлом без тёплой воды, предоставлялась мастерская. Отопления в зимние месяцы, особенно в мастерских, было недостаточно. Не спасали даже массивные калориферы, привозимые самими художниками. Приходилось работать в тёплой одежде. Но были и плюсы. Небогатая, без разносолов, но здоровая деревенская кухня с кашами и борщами избавляла творцов от необходимости тратить время на приготовление пищи. В круглой башне-столовой из красного кирпича с очагом посредине они собирались на трапезу трижды в день. Даже самых необязательных из них, засидевшихся в мастерской и постоянно опаздывавших к обеду или ужину, сердобольные местные кухарки всегда находили чем покормить, «чтоб с голоду не помер, сердешный».
Часто бывало, что в студенческие годы, перед сдачей работ в конце цикла (1 — 3 месяца) некоторые из художников, и особенно скульпторы, работали без передыху в мастерской по 2 — 3 дня, даже толком не имея времени ни поесть, ни поспать. Становясь старше и будучи мастерами, они подвергали свой организм угрозе физического и нервного истощения уже по доброй воле, под воздействием самого мощного наркотика, всепоглощающую силу которого испробовал, наверное, каждый творческий человек — вдохновения свыше.
Не раз, особенно находясь в Доме творчества зимой, когда было мало постояльцев, Голубые Мечи ловил себя на мысли, что пребывание здесь очень напоминает «Солярис». Каждый творец на ночь запирался в своём номере или мастерской, куда мозг таинственной планеты присылал ему образ чего-то самого сокровенного. Это сокровенное материализовалось у каждого творца по-своему: в виде картин или рисунков у живописцев, в виде скульптур — у ваятелей. В них воплощались те идеи, образы или ночные видения, которые им приходили во время одиночества — в их творческих мастерских. По сути, так это и было творческое озарение или вдохновение — это и есть контакт с Разумом мироздания, или с мозгом таинственной планеты (как у С. Лема).
Чтобы настроиться на эту тонкую волну, чтобы «был контакт», как сказал один раз Царевич, художнику необходимо либо долго поститься, либо «принять на грудь», либо забить пару косяков или «ширнуться». У каждого по-своему…
По его теории, необходимо также каким-либо способом максимально ограничить влияние окружающих биополей на тебя в момент такого контакта: либо уединиться в каком-то отдаленном месте, либо работать поздней ночью, когда все окружающие спят… Именно поэтому Царевич не мог толком работать у Синяка, когда происходили какие-то сборища; Голубые Мечи — занимался живописью в основном глубокой ночью, а Васильев, Цыган и Горбачев без стакана за кисть не брались.
На этот раз задача была простая — немного отдохнуть на свежем воздухе, поработать на пленэре и пообщаться с Цыганом и Алёной, соскучившимися по арбатской художественной братии.
Отдельно от ребят должны были подтянуться на машине Игорь с Алексеем и Зелёным — весёлым парнем, который рисовал пастелью на Арбате шаржи, от которых публика буквально каталась по асфальту.
В начале июля обычно Дом творчества был забит до отказа, но, созвонившись с Андреем Самарой, директором заведения, Голубые Мечи узнал, что в ближайшие пять дней будет пересменка: прежняя группа уже уехала, а новая заедет только в следующую пятницу. Поэтому, прибыв в милый сердцу Дом творчества к полудню в понедельник, весёлая компания застала его практически вымершим. Немногочисленные оставшиеся постояльцы разбрелись на этюды. Только на кухне суетились поварихи, бодро напевая незатейливые песни. Взяв у администратора ключи от номеров, зарезервированных Самарой, и, побросав свои вещи, друзья налегке направились на реку в поисках Сергея и Алёны. Не пройдя и половины пути, они встретили Цыгана с местными рыбаками, нёсшими большой улов рыбы. Его штаны были закатаны до колен, на голове была заломлена соломенная широкополая шляпа, а в руках — два садка, набитые до отказа лещами и налимами:
— Наконец-то… а я вот — в ожидании вашего приезда — решил торжественный ужин приготовить, а то каша надоела…
Радости его не было предела, и, кинув садки на траву, он бросился к ребятам, тиская их поочередно в своих могучих объятиях. Свежий июльский загар уже покрыл его тело, на лице появилась густая поросль отпущенной бороды.
— Ну ты даёшь! — пиная ногой один из садков, восхищённо сказал Вождь. — Это где, на Плещеевом озере столько наловили?
— А где же ещё, в Трубеже — только плотва да карасики, а тут, смотри, — и он с ловкостью заправского рыбака вытащил за глаза ещё трепыхавшуюся трехкилограммовую щуку и толстого налима, — вон какие «животные»! У-уу!
При этом он стал пугать раскрывавшей пасть щукой Ляльку и Анжелку. Те дружно завизжали.
— А вообще-то, по правде сказать, это мы сетью с Федотычем, — он кивнул на стоявшего поодаль сухопарого мужичка в брезентовых штанах и военной рубашке цвета хаки навыпуск, — без него я бы столько и за месяц не выловил.
Мужичок, обрадованный возможностью вступить в разговор, заокал на местном певучем наречии:
— Для хороших людей озеро наше даров своих не жалеет, удачная сегодня рыбалка получилась, давно столько не налавливали.
Федотыч потянулся к нагрудному карману за куревом. Ребята наперебой стали предлагать ему свои сигареты, но он с улыбкой отказался, гордо вытащив «Беломор». Царевич, обратив внимание на надпись на пачке, радостно спросил:
— Тоже моршанский уважаете?
— Да, от другого — кашель. Да только последнее время не продают его нигде…
— А у меня в рюкзаке целая упаковка, я вам презентую, приходите к нам сегодня вечером. Как знал — с собой привёз, — обернулся Царевич к друзьям.
Ребята переглянулись. Все прекрасно знали, для чего Царевич возил с собой «Беломорканал». Он доставал его для Грибника и заодно — для себя. Однако сам он был не столько поклонником моршанского «Беломора», сколько косяков, которые прекрасно получались из этих папирос…
— А Алёна где? — спросила Ольга.
— На Трубеже, на этюды с утра пошла. К обеду вернётся.
Цыган с Федотычем пошли к лагерю, а компания незагорелых ещё и уставших с дороги художников — направилась на Трубеж окунуться. Увидев Алёну, прилежно трудившуюся на берегу реки у своего маленького этюдника, Вождь подкрался к ней сзади, неожиданно набросился на и, подняв на руки, понёс по деревянным подмосткам к воде. Это вызвало бурю радости деревенских ребятишек, сидевших, как воробышки, на длинных слегах — перилах мостков. Повсюду: в воде и на берегу — были разноцветные лодки. Алена брыкала ногами и визжала, но было поздно: Вождь с разбегу вместе со своей драгоценной ношей уже летел в речную воду. Беззубые бабки, сидевшие по обе стороны реки, дружно захохотали, показывая на чудаковатого Вождя и вынырнувшую Алену, которая тоже смеялась, хотя дала несколько хороших тумаков Васильеву. Потом все остальные друзья один за другим с разбегу кинулись в воду и вместе с местными ребятишками долго искали босоножку Алены, которую утопил Васильев.
Упав в душистую траву после купания, они некоторое время нежились под солнечными лучами, обмениваясь с Алёной новостями. Судя по всему, ей уже не было суждено закончить свой этюд в этот день. Солнце припекало, и пора было идти на обед.
Захватив этюдник и зонт Алёны, друзья направились к Дому творчества. Скошенная с вечера трава на поле перед Горицким монастырем пьяняще дурманила. Белые козы, с райским выражением в глазах и выцветшими на солнце ресницами, медленно пережевывали сочную траву, с любопытством глядя на шумную компанию москвичей.
Взбодрённые купанием, они весело ступали по древней земле, помнившей топот копыт полчищ Тохтамыша, Эдыгея, польских и литовских интервентов, шаги Юрия Долгорукого, Андрея Переяславского, преподобного Даниила Чудотворца, величественную поступь Александра Невского и юного Петра…
Глава 16
Шаржист «Зелёный». Скульпторы О. Ромашкин и А. Калашов. История о Синем камне.
Вечером приехали Игорь, Алексей и Зелёный, прихватившие скульптора Ромашкина на стареньком форде.
Перебравшийся в Москву из Питера шаржист Зелёный в любой из компаний непременно становился заводилой по части привнесения в вечеринку всяческих «смешинок» и безудержного веселья. Даже тогда, когда толком не было выпить, не то чтобы поесть, он мог согреть друзей добрым словом или шуткой.
Зелёный обладал живой мимикой и, начиная шарж, каждое движение сопровождал собственной гримасой, отражавшей ту часть лица его жертвы, которую он в данный момент рисовал. А поскольку его задача была — утрировать эту часть, то его гримаса и отражала это утрирование. Например, если у женщины была оттопыренная полная нижняя губа, Зелёный оттопыривал свою нижнюю губу до предела (на утеху публике), пока рисовал эту часть лица. Если были большие глаза — таращил свои до умопомрачения. Если у монгола были узкие щёлки глаз — он смешил его, прищуриваясь до боли в щеках, при этом глаза монгола становились ещё уже — и у натуры, и на шарже. Каждая такая ужимка и следовавший за ней точный штрих пастелью по бумаге сопровождались взрывом хохота публики на весь Арбат.
Прямой противоположностью вечно бледному и болезненному Зелёному был скульптор Ромашкин, олицетворявший собой гимн южному солнцу и красоте загорелого мужского тела. Скуластый и смуглый, выросший в Крыму Олег Ромашкин всю зиму отсиживался в Ялте, не перенося слякоти и сырости зимней Москвы, а начиная с мая перебирался в столицу. Одевался он прикольно. На этот раз его атлетическую фигуру обтягивала чёрная майка с нарочито оторванными рукавами, чтобы подчеркнуть его крепкие плечи и бицепсы. Широкие сатиновые шаровары, купленные на периферии за тридцатку (при цене пачки «Явы» в то время в двадцать рублей), и антикварные китайские кеды «прощай молодость» на босу ногу дополняли воссозданный им образ «хулигана-антикомсомольца» шестидесятых. Бритую голову венчала потёртая узбекско-дадаистская тюбетейка.
Он был горд тем, что в юности никогда не был не только комсомольцем или «пионэром» (как любил говорить, подражая незабвенной Фаине Раневской), но даже октябрёнком! Как ему это удалось в то время — трудно сказать. Одно было известно от ялтинских художников вполне определённо: из школы он вылетал раза три, что не помешало ему, тем не менее, получить среднее образование, а затем и блестяще окончить Строгановское художественное училище, в которое, по тем временам, простому смертному поступить было практически невозможно.
Друзья развели костёр в дальнем углу двора под вековыми липами и занялись приготовлением ухи. Ромашкин, как истинный крымский скульптор, быстро разделал рыбу. Он обмазал дюжину подлещиков в шамотной глине и, дождавшись появления углей, уложил своих глиняных болванчиков в горячую золу, после чего принялся делать шашлыки из налима, перемежая куски рыбы с помидорами и половинками луковиц белого репчатого лука. Царевич с Цыганом прикатили свежеспиленные кругляки липы разной длины и расставили их наподобие импровизированных табуретов и скамеек вокруг костра. Цыган, ловко орудуя топором, быстро снял чёрную кору, чтобы приятнее было сидеть на очищенных белых липовых стволах.
Вскоре на запах костра и ухи сбрелось несколько семейных пар художников, находившихся в лагере на постое: скульптор Андрей Калашов с женой Ольгой, детьми и огромной русской борзой по кличке «Арни», семья художников Сомовых, подслеповатый Попцов со своей девушкой и жирный, лысый и бородатый живописец Дельжанский. Известный халявщик, Дельжанский, приближаясь к костру и потирая руки, пропел своим оперным баритоном:
— Утомлённое солнце нежно с морем прощалось… В этот час ты призналась…
— Что нет любви! — дружно хором ответили Лялька, Анжела и Ольга, сделав акцент на слове «нет», пытаясь тем самым дать понять Дельжанскому, чтобы без бутылки он к костру не приближался.
Придя, в отличие от всех других, даже без бутылочки пива, толстый халявщик пытался снять пробу с ухи, которая уже была практически готова, но был прогнан алчными женщинами в магазин «за сухим вином для дам».
Пикник удался на славу и из туристически-скромного рыбного ужина с напеванием песенок для детей под гитару перерос в настоящую вакханалию после приезда Игоря, Лёхи и Зелёного, выгрузивших из своей машины ящик водки и два ящика пива, не считая нескольких бутылок шампанского и вина, как сказал Зелёный, для «Оленек». «Оленьками» питерские «Митьки», с которыми начинал свою карьеру карикатурист Зелёный, называли всех женщин — для простоты и удобства. Часть своего питерского слэнга он принёс с собой на Арбат, который, как подметил один раз Царевич, «как губка впитывает в себя всё самое лучшее», а потом, после небольшой паузы добавил: «и самое худшее — тоже!»
Однако слэнг Зелёного не шёл ни в какое сравнение с элитарной феней, на которой говорил Ромашкин.
— Свои понты дороже мыла! — одобрительно кивнул он, наблюдая как ребята гордо выставляли перед девчонками ящики со спиртным на фоне полбутылки сухого белого, принесённой интеллигентным Олегом Попцовым и бутылки сидра, бережно выставленной Сомовым.
— Какого мыла? — не поняла Ольга, которая хоть и работала на телевидении, но не слышала ничего подобного.
— Да это на зоне мыло считается самым ценным, но гордость или престиж — важнее, — перевёл фразу Ромашкина бывалый и опытный Калашов.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
