
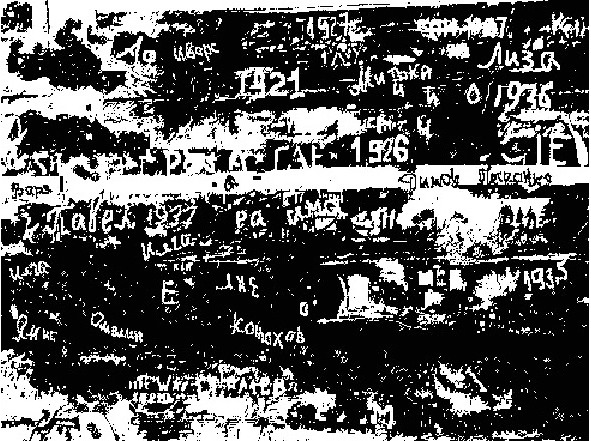
В качестве иллюстраций в романе использованы фотографии и рисунки автора.
От автора: Любое сходство с реальными людьми, названиями и событиями являются случайными.
Пролог
1921 год
По палубе стоявшего у причала парохода «Соловецкий» то и дело сновали люди. И чем меньше оставалось времени до его отхода, тем быстрее передвигались заключенные, тем суетливее становились действия их охранников. Одни с мешками и ящиками, семеня ногами в драной обутке, торопливо сбегали на берег по пружинящим под их весом деревянным мосткам. Другие, обливаясь потом, катили им навстречу огромные бочки, от которых шел ни с чем несравнимый запах соленой рыбы.
Несколько выделялась от всей этой серо-черной массы заключенных троица солагерников, державшаяся от остальных чуть в стороне. И не только тем, что одежонка на них была чуть поновее, чем у остальных, а ботинки не рваные и не штопанные. Отличались тем, чем они занимались. Вернее то, что носили на борт. С поклажей троица следовали только в одном направлении — на пароход, а обратно спускались чуть не бегом, налегке. Груз был сложен на причале отдельно от всего прочего и нет, нет, да и поблескивал сквозь щели деревянных ящиков в лучах майского солнца.
Церковная утварь, погрузкой которой и занимались эти заключенные, была привезена на берег лишь после того, как накануне округу огласил протяжный гудок подходящего к причалу корабля. Груз хоть и не советский, и как говорил начальник лагеря, «бестолковый» и «антинародный», а все одно требовал учета и аккуратного отношения. А потому собранные за прошедшую зиму с монастырских подвалов храмовые принадлежности, были заблаговременно самым тщательным образом переписаны и упакованы в ящики, мешки и корзины. И теперь, когда потребовались, также бережно перегружались на палубу парохода.
Как правило, с причала на судно ставили два трапа. Один — для выгрузки привезенного на остров груза, другой — для погрузки, того, что предназначалось для доставки на большую землю. Но в этот раз второго трапа на пароходе не оказалось. Как не досчитались согласно накладной и части продовольствия, и нескольких заключенных, вероятно в спешке забытых в распределительном пункте в Архангельске.
Из-за неожиданно теплой для этих мест весны, навигацию в Белом море открыли на две-три недели раньше обычного. И лагерное начальство, планировавшее погрузку первого судна на конец мая и даже начало июня, оказалось к этому не готово. Известие о том, что «Соловецкий» уже стоит у архангельского причала, работников местного ГубЧКа застало врасплох. К тому же в тот же день был звонок из центрального аппарата ВЧК, после которого стало понятно, что Москва в курсе происходящего и заинтересована в развитии лагеря на Соловках. А значит, задержка с погрузкой и доставкой груза и арестованных на Соловки была чревата для руководства архангельского ГубЧКа серьезными последствиями. Стараясь как можно скорее отрапортовать московскому руководству об успешном открытии навигации и отправке первого в нынешнюю навигацию судна, местное руководство заметно спешило с загрузкой парохода. В результате после его убытия на причале в Архангельске помимо всего прочего остался лежать и второй грузовой трап «Соловецкого», а из барака для пересыльных забыли отправить с десяток осужденных.
— Давай, пошевеливайся, мать вашу! — кричал каждому, кто пробегал мимо его, стоявший рядом со сходнями рыжебородый мужчина в фуражке-бескозырке и накинутом поверх бушлата овчинном тулупе.
Нелепый наряд, казалось, ничуть не смущал его владельца, хотя на улице и было под двадцать градусов. Стоять несколько часов на ветру удовольствие для него было не самое приятное, а старое потертое сукно бушлата его совсем не грело. Глядя, как вокруг снуют почти раздетые разгоряченные матросы и грузчики из числа заключенных, мужчина еще больше запахнул на себе полы тулупа. И если бы не затерявшаяся неизвестно где зимняя шапка, наверняка бы одел и ее. Капитанскую фуражку в таких случаях он одевал редко — сдует и тогда не в чем на берег в городе сходить будет. А с бескозыркой все надежнее — ленточки запихнул под бушлат, и стой себе спокойно. Дальше шеи все одно не улетит. Ну, а улетит, не жаль. В каптерке их десятка два разных размеров.
— Не замерз, капитан? — несколько вызывающе спросил подошедший молоденький боцман в расстегнутом бушлате и сдвинутой на затылок бескозырке.
— Ну, ты… цыц, салага! — не оглядываясь на помощника, и не спуская глаз с заключенных, стоявших внизу у трапа рядом с огромным ящиком, проговорил рыжебородый. — С женкой своей будешь в дружков играть и шутки шутить!
Капитан, было, замолчал, но тут же добавил:
— Если женишься.
После чего обернулся, оглядел того с головы до ног и громко скомандовал:
— А ну марш в каюту! Привести себя в порядок и обратиться к капитану корабля как положено!
Дождавшись, когда бритый наголо помощник скроется за дверью кубрика, он снова повернулся к трапу и что есть мочи закричал стоявшей на причале троице:
— Ну, что встали, олухи! Давай тащи ящик наверх! Отходить пора, а они все телятся!
Мужики, решившие было перевести дух, сноровисто подхватили на плечи последний самый большой ящик за выступающие с краев доски, и устремились к трапу. Конечно же, вчетвером такие ящики таскать было сподручнее, но после утреней разнарядки старший охраны все поменял. Ранее назначенных на эти работы четверых заключенных он отправил на выгрузку привезенных строительных материалов, а эту троицу поставил на погрузку церковного имущества.
Сопровождавший их белобрысый охранник только-только раскурил самокрутку и дернулся, было, следом, но тут же остановился. Бросать такой «жирный» окурок было жаль, а курить на судне не разрешалось никому кроме капитана. «Да, куда они денутся, — подумал он и, втянув в себя очередную порцию дыма, уселся на лежавшее неподалеку бревно».
Когда громоздкую поклажу кое-как занесли на борт корабля, от стенки палубной надстройки, отделилась мужская фигура в кожаной куртке. Широкоплечий с легкой сединой брюнет лет сорока или чуть старше проследовал за ними на корму. После того, как те донесли ящик до места и положили на палубу, он указал пальцем на двоих заключенных.
— Ты и ты, задержитесь, — он указал на небольшого роста смуглого мужчину и его высокого почти под два метра ростом напарника. — Вон те ящики двиньте ближе к середине, — брюнет кивнул в сторону левого борта.
Затем, после небольшой паузы, обращаясь к третьему худощавому русоволосому заключенному, добавил:
— А ты, на берег давай.
Голос с характерным прибалтийским акцентом показался одному из тех, на кого указал моложавый чекист, знакомым. Вчера, сразу после прибытия парохода, кто-то остановил его перед входом в барак и сообщил, что завтра они должны быть готовы покинуть остров. Хотя на улице было светло — как-никак белые ночи, лица говорившего он разглядеть не успел. Тот стоял, отвернувшись от заключенного, и сразу после сказанного поспешил удалиться.
И вот, сейчас, когда тот же голос отправил их солагерника на берег, черноволосый лет двадцати пяти-тридцати, коренастый мужчина, больше походивший на цыгана, пристально посмотрел на обладателя приятного баритона. Лицо чекиста ему тоже показалось знакомым. Он явно когда-то его видел. И встречались они не здесь на острове, а раньше. Чернявый сморщился, пытаясь что-то вспомнить, но стоявший перед ним мужчина в кожаной куртке снова заговорил, не дав ему сосредоточиться.
— Слушайте внимательно, — негромко произнес тот все тем же приятным голосом, дождавшись, когда они остались втроем. — Справа по борту шлюпка. Видели?
— Ну, — кивнул тот, что помоложе с необычным шрамом над правым глазом, успев про себя окрестить говорившего «латышом».
— Я сейчас отойду к капитану. С того места, где он стоит, лодку не видно. Когда сниму фуражку, спокойно идите к ней и сразу залазьте под брезент. И сидите там тихо, пока пароход не отчалит. Я потом за вами приду, — добавил латыш, глядя, как отпущенный им грузчик, вместе с другими заключенными, сходит на берег. — Да, и вот еще. В шлюпке в сюртуке провиант на первое время и конверт с письмом от нашей общей знакомой.
Напарник чернявого, высоченный мужик, хотел было спросить о том, когда отходит корабль и долго ли им тут сидеть, но передумал. Он глубоко вздохнул, посмотрел на свою широкие мозолистые руки и, будто не зная, куда их деть, взлохматил седые давно не мытые волосы.
Чекист, какое-то время постоял, словно пытаясь понять, дошло ли до заключенных сказанное, затем отступил в сторону и, скользя ладонью по отполированному сотнями рук поручню ограждения, направился в сторону капитана.
— Митрич, — обратился он, подходя к рыжебородому. — Вроде к концу идет, — чекист кивнул в сторону спускавшихся по трапу заключенных.
— Да, немного осталось, — согласился тот с обладателем черной кожаной тужурки. — И кому нужен весь этот церковный хлам? Зарыли бы тут и дело с концом.
Он хотел еще что-то добавить, но вовремя сообразил, что не стоит говорить подобное в присутствии людей из органов и громко закашлялся.
— Никакого порядка тут у них, — произнес чекист, не обращая внимания на ворчанье капитана. — Заключенные сами по себе. Каких их тут охраняют? Разбрелись по берегу, словно в своем огороде.
— А у них тут и так, как в огороде. Только вместо забора море кругом. Чего их тут пасти…
— А сбежит кто? — перебил его брюнет. — Думаете, море когда-то служило надежной оградой?
— Матросики мои получше здешней охраны. Судно осмотрят перед отходом — мышь не спрячется, — самодовольно произнес капитан. — А с острова куда убежишь. Побегаешь-побегаешь, а жрать захочется, так в лагерь и прибежишь.
— Трудно не согласиться, но такое разгильдяйство недопустимо. Их же по штату тут столько набрано, — проговорил чекист и, сняв фуражку, почесал пятерней коротко стриженую голову.
Они постояли еще какое-то время, глядя на бредущих и скрывающихся за монастырскими воротами заключенных.
— ТЫ чего тут спать собрался? — крикнул капитан оставшемуся в одиночестве на причале охраннику.
Молодой, еще почти мальчишка, нехотя встал, для чего-то поплевал на окурок и щелчком пальца выбросил его в море.
— Так, кабыть, не все еще сошли, — громко отозвался тот. — Кабыть, еще остались на пароходе. Я бдительность проявляю согласно распорядку.
— Экой ты громогласный. Тебе бы вместо горла луженого глаза зоркие! Все уж за воротами скрылись, — загоготал капитан. — Вам не лагерников охранять, а коров пасти. Хотя от таких пастухов и коровы разбредутся, — не унимался он.
— А энти? Ну, которые ящык последний несли…, — глаза белобрысого забегали по палубе.
— Ты с какой деревни будешь, энти? — передразнил тот охранника. — Лагерные ваши уж, поди, все в столовке. А ящык, как ты говоришь, вон, — и, повернувшись, махнул рукой в сторону кормы.
Охранник посмотрел в сторону лагеря, затем быстрым шагом прошелся вдоль корабля, внимательно всматриваясь в опустевшую палубу.
— А ты чего по берегу-то бегаешь? На пароход зайди. Вместе с моей командой все и досмотрите.
Парнишка шагнул было в сторону трапа, но в нерешительности остановился.
— Не. Один не могу. Не положено. Без старшого и комиссии нельзя, — и повернулся в сторону лагеря. — А вон они и идут. Сейчас с ними досмотрим, — обрадовано заключил охранник, увидев вдалеке знакомые силуэты.
Капитан тоже бросил взгляд на приближающуюся процессию и покрутил головой, словно пытаясь кого-то отыскать среди находившихся на палубе моряков. Заметив выходящего из рубки заметно преобразившегося помощника, улыбнулся, обнажив удивительно ровные и белые зубы.
— Боцман, двоих в досмотровую комиссию, остальным готовиться к отходу, — крикнул он приближающемуся помощнику и, слегка понизив голос, спросил у стоявшего рядом чекиста:
— Как насчет соточки под хороший борщец? Через два часа отчаливаем.
— Не окажусь.
И заметив оживление в его глазах, заметил:
— Только, когда комиссия закончит работу.
Часть первая
Июнь 1925 год
Погода в этом году крестьян радовала. Зима была холодной, но не такой лютой, как в прошлом году. И весна не запоздала и пришла вовремя. Не растянулась надолго и к концу апреля согнала весь снег с полей. Уже к середине мая поля повсеместно обсохли, и весь имеющийся в деревнях гужевой транспорт был задействован в полях. Первые дни июня тоже не подкачали и по всей Северо-Двинской губернии тоже выдались по-настоящему летними: солнечными и теплыми.
Посевная в Ачеме прошла спокойно и быстро. И не только благодаря погоде. На настроении сельчан сказалось и то обстоятельство, что еще в начале весны были отменены все волостные и сельские сборы. К тому же перед самым севом все натуральные налоги заменили денежным эквивалентом. Чувствуя послабления властей, крестьяне с невиданным в последние годы желанием взялись за соху. Доставая из закромов зерно, засеяли все, что можно. Под сэкономленные из-за отмены налога семена даже пришлось в спешном порядке распахивать новые пашни. От того и работы прибавилось и времени на себя почти не оставалось.
Лошадей в деревнях не хватало. В гражданскую войну все крестьянские дворы их подчистую лишились, а новыми обзавестись успели далеко не все. К тому же взрослое поголовье было малочисленным, а недавно объезженный молодняк к труду и земле еще не привык. Потому в полях вместе с разномастной лошадиной тягой трудились только-только отведавшие первой весенней травы коровы. И надо отдать им должное: бороны и плуги они таскали не хуже лошадей. Энтузиазм и невиданный доселе подъем среди крестьян сделали свое дело — все хозяйства отсеялись в прежние сроки.
Июньское солнце уже почти скрылось за лесом, когда Лизка Гавзова пришла с работы. Войдя в дом, обессилено опустилась на лавку и, откинувшись к стене, прикрыла глаза. Сил стянуть надоевшие за день сапоги не было никаких. Только и смогла, что расстегнуть у кофты верхнюю пуговицу и стянуть с головы платок. А спустя мгновенье она уже спала. И если бы не голос сына, возможно, не проснулась бы до утра.
Митька был в дальнем конце огорода и видел, как мать подходила к дому. Он хотел уже бежать к ней, но упавшая на плечо тяжелая рука деда его остановила.
— А кто коня поить будет? — Тимофей Петрович слегка потянул мальчишку за ворот рубахи.
— А че я то? — попытался отговориться внук. — Я может не меньше твоего устал.
— Устал он. А в бубушки свои играть не устал? За девять годов жизни уже успел устать. А ись не устал еще? — тут он ослабил хватку и отпустил мальчишку. — Карюха уж рассупоненная стоит. Сейчас хомут скину и поезжай.

Митька понял, что встретить мать у крыльца, как он любил, сегодня не получиться. Уговаривать, а тем паче спорить с дедом не стал. Знал, что без толку. Тот от своего не отступит, хоть что делай. Вот с бабушкой у него договориться всегда получалось. Анна Гавриловна хоть и ворчала постоянно на внука, но тот к этому привык и значения особого тому не придавал. Потому как ворчание ворчанием, а только она сызмальства баловала Митьку и в отличие от Тимофея Петровича старалась оградить его от хозяйственных дел.
Мальчишка с сожалением вздохнул и повернулся к лошади. Карюху Митька любил. Добрая кобыла была у них. Уж год он верхом на ней ездит, а та ни разу даже попытки не сделала, чтобы скинуть с себя мальца. Наоборот, ступала аккуратно и дорогу выбирала поровнее, будто старалась не запнуться и не уронить паренька. А когда тот оказывался с ней совсем рядом, не упускала возможности, чтобы его не облизать. Видать и животине мальчишка пришелся по нраву. Митька дождался, когда дед снимет хомут и шлейку, затем проворно вскочил на стоящую рядом телегу и уже с нее забрался на лошадь. Та сразу поняла, что нужно делать и послушно зашагала к реке.
Спустя полчаса Митька вернулся обратно. Карюха привычно ткнулась мордой в верельницы, отчего верхняя жердь соскочила с опоры и упала на землю. Лошадь перешагнула через нижнюю загородку и шагнула в огород. Мальчуган доехал до крыльца, ловко спрыгнул на землю и быстро вбежал в дом. Распахнув дверь, он уже было открыл рот, чтобы позвать мать, но увидев предостерегающий жест бабки, осекся.
— Ба, давай я ей сапоги сниму? Я очень тихо сниму. Ну, очень тихонечко. Она не проснется, — негромко проговорил Митька и умоляюще посмотрел на Анну Гавриловну. — Давай?
Та кивнула головой, и тот кинулся к матери. В это время Лизка, словно почувствовав намерения сына, проснулась и открыла глаза.
— Вы тоже пришли? — от души зевая, устало проговорила она.
— А куды мы денемся, — ответил с печи Тимофей Петрович. — Все, слава Богу, отсеялись. Завтра за двором овса еще немного досею и все.
Митька опустился перед Лизкой и, обхватив ее колени, прижался к ней.
— Ты, матери дай хоть разуться, — проговорила Анна Гавриловна.
— Да, ладно, мам. Успею, — Лизка обняла припавшего сына и поцеловала.
— Успеет она. Скоро уж петухи запоют. Нам то что, выспимся, а тебе же в твой совет нужно, — ворчала Гавзова. — Разувайся, давай, да ложись, коли есть ничего не будешь.
Лизка приподняла сына и, стянув сапоги, поставила их к порогу.
— Мам, а мам? А почему «Разбойничья слуда» с больших букв оба слова начинаются? — спросил Митька, присаживаясь на лавку. — Толька Уткин говорит надо оба слова с заглавной писать, если где доведется.
— Отстань ты от матери! Не видишь, уходилась вся, — прикрикнул Тимофей Петрович на внука. — Вам в школе кроме как об угорах не о чем писать больше?
— Да ладно, папа, — улыбнулась Лизка. — Интересно видать, вот и спрашивает.
— Беда интересно! И только сейчас о том и говорить! — не унимался Гавзов-старший.
— Ты, чего тут разошелся? — вступилась Анна Гавриловна и повернулась к Митьке. — Слуду ту и нужно с главной, большой буквы писать. Потому как слуд на реке много, а Разбойничья одна. То давняя история. Я тебе потом расскажу.
— Ну, ладно, — согласился Митька и откинулся к стене.
Лизка потянулась и, повернувшись к матери, сказала:
— Завтра с утра мне никуда не нужно. С обеда в Архангельск еду, на курсы.
— Куды? Куды? — подал голос с печи Тимофей Петрович.
— В Архангельск. На краткосрочные курсы сельхозартели председатель отправляет. Сама вчера узнала.
— Ой, Лизонька! Ты так говоришь, будто в Архангельске этом не раз уже была. Будто туды сходить, как в лес по ягоды. То зачем ехать? — спросила Анна Гавриловна.
— Ох, мама, а я знаю? — вздохнула Лизка. — С района распоряжение пришло. На курсы. Там чему-то видать учить будут. Не знаю точно.
— А чего в Архангельск, а не в Устюг? То же не наша губерния. Или в Верхнюю Тойму хотя бы? Все ближе. Или токо там грамотеи есть? — удивился Тимофей Петрович. — И чего тебя. Других больше в деревне нет? Девки перевелись?
Лизка покачала головой и прошла за заборку. Вернулась спустя минуту оттуда, натянув на себя нательную рубаху.
— Я вообще в почтальоны на днях стала проситься. Надоел этот сельсовет. С утра до ночи как собака носишься, бумаг куча, а толку от того? — проговорила она, расправляя кровать. — А он сегодня говорит: «В город поедешь». Словно в отместку…
Лизка еще что-то хотела добавить, но отец громко закашлялся и перебил ее.
— Кто — он то?
— Да, кто еще, коли не председатель! Щуров же, конечно. Перед Тонькой неудобно. Вроде ее хотели учиться послать. А теперь что? Двоих же не пошлют. Кто работать будет?
— Ну, коли Петруха говорит, надо ехать, — глубоко вдохнул Тимофей Петрович и снова закашлялся.
— Он только и умеет, что говорить, да обещать. Мне, если честно, кажется, что ему не место в председателях. Ну, зачем не обратишься, ничего не знает. Только и может, что в районе спрашивать. Без района ничего не делает.
— Ты все о своей худосочной Фокиной беспокоишься. Пусть дитя своего воспитывает подружка твоя. Вот ее занятие, а не по городам шататься. Распустила космы свои рыжие…
— Отец!
— Ты, Лизка, не ерепенься, — откашлявшись, произнес Тимофей Петрович. — Нынче не то время, чтобы кочевряжиться. Раз сказал председатель, так слушать надо.
— А когда оно — то? Время ваше, — возмутилась Лизка. — Когда жить-то? Тридцать один год уже, а жизни нет. Маета одна.
Анна Гавриловна подошла сзади и обняла дочь.
— Она, дочка, такая и есть жизнь. Если будешь ждать ее, то не дождешься. Вот она жизнь-то твоя, — мать указала на притихшего на лавке Митьку. — Был бы Пашка живой…, — глаза у нее заблестели.
— Ну-ко, хватит в доме сырость разводить. Спать давайте. Утром договорим, — повысил голос Тимофей Петрович и посмотрел на внука. — Ты кобылу привязал?
Лизка тоже повернулась и посмотрела на Митьку, который свернувшись калачиком, безмятежно спал на лавке. Глядя на улыбающегося во сне сына, она в очередной раз убедилась в правоте матери. На душе стало спокойно, и появившееся раздражение тут же исчезло. «Наверное, рыбу большую поймал, — подумала Гавзова и, подхватив Митьку на руки, отнесла на лежанку к печи». Она еще какое-то время посидела возле него, а затем прошла к своей кровати и залезла под одеяло.

Лизка проснулась от крика деревенского пастуха. Не открывая глаз, прислушалась к доносившимся с улицы звукам.
— Сы, сы, ш-ла! — услышала она голос Коли Тяушки. — Сы, ш-лма, — кричал что-то нечленораздельное тридцатилетний парень.
— М-му-у, — вторили ему коровы, нарушая деревенскую тишину.
Николай Чупров по прозвищу Тяушка в раннем детстве перенесший неведомое для ачемян заболевание, тогда же перестал говорить и слышать. Со слухом со временем более или менее наладилось, а вот с речью проблемы остались большие. Не каждый мог разобрать то, о чем «мычал» взрослый парень. Вместо первой мировой угодил в пастухи. И вот уже более десяти лет каждый день пас местных коров. Но это было летом. А вот осенью и зимой его в деревне увидеть было трудно. Охотником он был незаурядным и мало кто из других ачемян мог с ним в этом сравниться. Кое-кто подшучивал над ним, связывая такой успех с тем, что он говорит со зверем на одном языке. В прочем и домашний скот его тоже слушался с «полуслова».
Ачем был одной из тех немногих северных деревень, где испокон веков домашний скот всей деревни пасся в одном стаде. Утром пастух пройдет по деревне, соберет стадо, и угонит на ближайший общий луг. А вечером тем же путем прогонит по деревне обратно. Коровы — животины умные. Свой двор знают хорошо. И редко какая, проходя по деревне, не узнает и не остановится у своего дома. Разве что кто-нибудь из молодых телушек забудется и пробежит мимо. Но со временем и те научатся, и у своих верельниц всегда будут останавливаться. Какие-то коровы сами способны калитку открыть и во двор зайти. А те, кто не обучен или у кого запоры посложнее, так и стоят, дожидаясь пока кто-то из хозяев не запустит.
— Митя, Митя, ты дома? — едва открыв глаза, спросила Лизка.
— Удить уж убежал, — донесся из-за заборки голос Анны Гавриловны. — Вставай, поешь чего. Старик с утра полрыбника харисов съел. Последние дни по ночам перестал вставать. А то раньше ночью наестся и утром ничего не хочет. А Митька молока только попил…
— Мам, ну чего ты отца стариком все зовешь. Он еще некоторым, что помоложе, нос утрет, — зевнув, Лизка потянулась и свесила ноги с кровати. — И удить то чего? Вода еще большая — не клюет харис еще. Или сон приснился?
— А как не старик, коли восьмой десяток идет, — мать вышла из-за заборки с кружкой молока. — А про сон ты как узнала? Он и, правда, сказал, что сон видел хороший. Обещал с уловом вернуться. Кормилец подрастает, — с какой-то особенной теплотой и гордостью, какая может быть, наверное, только у бабушек, проговорила Анна Гавриловна.
— Ой, мама, восьмой десяток, — пропуская мимо ушей хвастовство бабушки и внука, выпалила Лизка. — Трифону Ретьякову пятый пошел, а посмотришь со стороны, так будто уж сто лет живет — ходит еле-еле душа в теле.
— Трифона пожалеть нужно. Как Зинка померла, так один Гришку поднимает.
— Ага, один. Глашка их, может и поднимает. А Трифон только по Зинке своей все убивается, — не унималась Лизка.
— Не гневи Бога! Ешь лучше иди. Сочни и каравашик на столе под полотенцем и вот, — Анна Гавриловна поставила на стол кружку. — Молока попей. Потом все дела. Пока не поешь, никуда не пойдешь.
— Мама!
— Не мамкай, а ешь.
Лизка еще раз потянулась, почесала руками голову, взъерошив волосы, и пошла к рукомойнику.
— А кипятка нет? — спросила она.
Мать подошла к столу и потрогала медный бок самовара.
— Теплый еще. Старый уже, а долго не остыват. Ты бы сходила на реку, да намыла его, — она слегка потерла пальцем надпись на самоваре. — Чего на нем написано, Лизка?
Дочка подошла к столу, приподняла полотенце и, отломив кусок от каравашка, прочитала:
— «Самоварная фабрика наследников И.Ф.Капырина».
— Ка пы ри на, — протянула Анна Гавриловна. — Поди, умный мужик, коль такой аппарат сделал.
— Ой, мама, ты о чем? — вздохнула Лизка. — Какой самовар?
— Настоем разбавь, чего один кипяток пить. На шестке чугунок стоит, возьми, — заботливо проговорила мать. — Морковного нынче заварила. Кабыть, брусничный уж приелся.
— Эх, я бы сейчас меевник съела, — проговорила дочка. — Прямо ужас, как охота.
— Ты как батько. С утра рыбу подавай, — усмехнулась Анна Гавриловна. — Меевник она вспомнила… Еще на святки меев доели. Прошлый год мало совсем побродили. Сейгот, как кулиги образуются на реке, и вода нагреется, с вами бродить пойду. Тыкать не замогу, так меев почищу.
— Или ягодников с брусникой. А еще лучше с жаламудой и кисилицей, — не унималась Лизка.
— Размечталась. Не июль месяц, чтобы жаламуду собирать… — она вдруг замолчала. — А ты случаем не…
— Мама!
— Не дай Бог кого в подоле принесешь…
— Мама, чего еще не придумаешь!
— Чего, чего. На соленое да кислое потянуло, вот чего!
— И что?
— Да ничего! Что ты вяжешься к каждому слову. Сказала и сказала. Коли не так, так ничего и не случится.
На мосту послышался кашель Тимофея Петровича, и тут же входная дверь распахнулась.
— Проснулась, — заметил он с порога. — Трифон с Гришкой уж спрашивали, — шаркая босыми ногами, старик прошел к окну и присел на лавку.
— Чего хотели? — удивилась Лизка. — Вчера же договорились с обеда у сельсовета собраться.
— Не беспокойся, не свататься. Ни свет, ни заря женихаться не ходят, — отец вытер тыльной стороной ладони запотевшее окно и посмотрел на улицу. — Чемодан принес. На крыльце лежит. Где и взял такой шельмец. Так надолго в Архангельск? Митька и так мать не видит. Спать токо приходишь домой. Не дай Бог, что в дороге случиться. Что с мальцом тогда будет?
— Отец, не нагнетай почем зря. Председатель говорит, что на неделю. Ну и на пароходе сколько еще… Дня два в одну сторону. Да, вы не беспокойтесь. Я же не одна еду. Конюхов Гришка тоже едет. И Трифон с ним. Ходят слухи, что скоро наш район к Архангельской губернии присоединят. Говорят, в качестве эксперимента. Наверное, их потому туда и отправляют. Сегодня у нас уж шестое. Ну, значит, до пятнадцатого вернусь.
— Экспериментаторы… И Трифон? Тот-то, что там забыл?
— Не знаю. Он с Конюховым договаривался.
— И что столько времени там делать будете?
— Учиться. Хотя, если честно, то не хочется, — Лизка собрала крошки со стола и отправила в рот. — Говорят, скоро единоличных хозяйств совсем не будет. Одни артели и коммуны. У нас под нее избу смекают. Теперь все вместе работать будут. Все общее будет. И скот и земля. Председатель говорит, что без учебы с такими артелями не управиться. Счетное дело и учет новый будет. Теперь налоги деньгами же платить надо. А кому сколько, никто толком и не знает.
— Как так все общее? Срам какой! Так кто же мою корову накормит, коли не знает ее? Лошадку Карюху даже в гражданскую не забрали, а тут заберут? Может и баня будет общая? Одна на всех? Вот грязи разведут! И ты этому учиться собралась? — не на шутку разошелся старик. — Может еще косматкой решила стать? Али сразу коммунисткой?
— Комсомолкой, — поправила Лизка.
— Да, какая разница! Все одно — антихристы!
— Ты чего разошелся? Девку с утра донимаешь? — не выдержала Анна Гавриловна. — Лучше за вениками сходил.
— Ты, мать, чего, того? Кто сейчас веники заготавливает!
— Ну, тогда…
— Тогда… Вот тебе и тогда! Дочка с чертом дружбу заводит, а она… эх, да, что говорить!
— Ты чего это тут раздухарился! Ножонками топает тут!
Лизка удивленно уставилась на мать.
— Ну, я чего. Я так, по-отцовски, — уже спокойно проговорил Тимофей Петрович. — Дочь как-никак.
— Да, ладно, мама. Пусть говорит. Я не в обиде. Самой порой и не то в голову придет, — Лизка встала из-за стола и потянулась.
— Лизка! Безбожница! Кто ж за столом вытягивается! — зашикал на дочку старик. — Вон, снова твои провожатые идут, — глядя на улицу, уже спокойным голосом заметил он.
«Ах, вы мои любимые родители, — с нежностью подумала Лизка и, посмотрев в окно, побежала за заборку одеваться».
Григорий Конюхов уже второй год работал в милиции. Поначалу на службе особых проблем не было. Все как обычно: то молодежь подерется, то мужики по пьянке подебоширят. А в начале этого года приехало с района начальство разное. Как выразился старший из той делегации, приехали, чтобы помочь должникам с государством рассчитаться. И его к тому делу тоже привлекли. А как же без милиции? Кто продналог заплатить не мог, у того из личного хозяйства изымали то, что было. Поначалу было непривычно и неприятно этим заниматься. Хотя Конюхов жил на Высоком Поле — хуторе, что в двух верстах от Ачема, но все равно все ачемские считали его своим. У одной реки жили, по одним тропам и дорогам ходили. И у своих земляков силой забирать то корову, то овцу, удовольствие не из приятных. Но уже в следующий приезд такой делегации он поймал себя на мысли, что все происходящее ему отчасти нравится и доставляет удовольствие. И не потому, что за правое дело боролся, и о стране своей беспокоился, а потому, как почувствовал, что он не как все. Понял, что он власть. И неважно ему было советская она или еще какая. Главное, что власть.
В прошлом месяце в его деревне случился пожар. Да такой, что от Высокого Поля ничего не осталось. Вся деревня сгорела. И у Конюховых оба дома: родительский и его. Народ в то время весь в поле был. Заметили слишком поздно — когда все полыхало. Кто говорит, молния в дом попала. Днем гремело и сверкало крепко. Ждали грозы, но сверху так ничего и не упало. Кое-кто, правда, о поджоге поговаривал. Конюхов сам для себя тоже решил, что кто-то из недовольных крестьян дом его спалил. Хотел, видать, только его, а сгорела вся деревня. Все восемь домов.
Родителей Григорий в Ачеме тем же днем расселил в пристройке к сельсовету. Две больших комнаты в добротном доме пустовали. Хотели их под контору будущей коммуны отдать, но чего-то передумали и для нее с помещением в сельсовете решили повременить. Сеня Федулов после смерти жены умом слегка тронулся и крепко захворал. Каждый день помирать собирался. Обещал председателю свой дом отдать, как помрет. Один он последний год в пятистенке жил и не хотел, чтобы дом после смерти без надзора остался. Хотя зря он переживал. Сельсовет тогда все и так прибирал, что без хозяев оставалось.
Там же в пристройке Конюхов-младший и сам пока поселился. Была у него когда-то жена, да умерла при родах еще в восемнадцатом. С тех пор семью не заводил, один и жил. Все ждал, когда Лизка Гавзова про своего пропавшего мужа Пашку Гавзова забудет и на него внимание обратит. Остальные погорельцы у родственников да знакомых в Ачеме разместились. Когда пришли в себя после случившегося, решили у Высокого Поля больше не селиться, а обустраиваться в Ачеме.
Конюхов насчет пристройки с местной властью договорился, и та пообещала вскорости ее на него оформить. Да в придачу еще и четверть десятины земли, что окружала дом. К зиме и сельсовет собирался отсюда съехать, так Григорий планировал и освободившуюся часть к себе забрать. Потому и забор с отцом так поставили, что сельсоветовская часть у них в огороде оказалась. Две недели не прошло после пожара, а Конюховы зажили, будто в Ачеме всю жизнь провели.
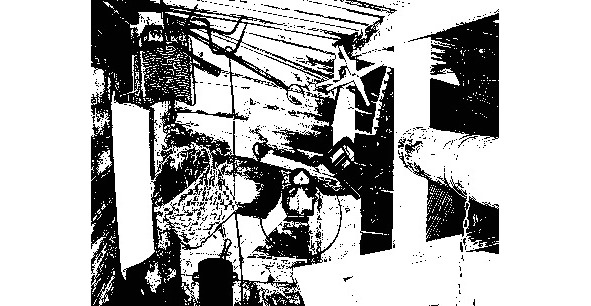
Лизка вышла во двор, когда Конюхов с Ретьяковым подходили к крыльцу.
— Ну, что выспалась? — снимая милицейскую фуражку, спросил Григорий. — Час назад хотел зайти, да батька твой не пустил. Старый-старый, а как гаркнул, так я и забыл, что власть милицейская. Только и позволил чемоданчик оставить, — он вытер рукавом уже заметную на темечке лысину и громко рассмеялся.
Лизка, не особо обращая на него внимания, пригнулась и погладила подбежавшую собаку.
— Карик, а ты чего с Митькой не пошел? Кто за мальцом присмотрит, а?
Собака, словно почувствовала за собой какую-то вину, завиляла хвостом и отвела в морду в сторону.
— Они с Уткиным младшим и моим Гришкой к Сараве ушли удить, — заметил Трифон.
— Ага, сколько им и сколько Гришке твоему, — хмыкнула Лизка. — Чего ему двадцатилетнему с малолетними рыбачить?
— Шестнадцать всего, — поправил Ретьяков.
— Шестнадцать…, — передразнила Гавзова.
Она недолюбливала Трифона. Сама не понимала, почему мужик с постоянно взъерошенными волосами, ей не нравится. А тут еще и сынок его с ее Митькой на рыбалку отправился.
— Чего ты, Лизка, привязалась, — оборвал ее Конюхов. — Сеструха его с ними пошла, Глашка. Тоже, нашла время беспокоиться. Лучше познакомься!
Гавзова выпрямилась, легонько отпихнув ногой собаку, и обернулась.
— Ты подумала…, — Конюхов снова засмеялся. — Да, вот с ним познакомься, — он похлопал Трифона по плечу.
— Знакомы, кабыть, — буркнула Лизка.
— Не-е. То ты с Трифоном знакома. А теперь он — помощник старшего милиционера Ачемского сельского совета.
Лизка посмотрела на Трифона, потом на Григория.
— Не поняла. Шутишь что ли?
— Какие тут шутки. Документы уже на него оформлены. Мне одному, сама понимаешь, в свете происходящего в стране, управляться сложно. Лето в помощниках будет, а потом в наши ряды примем. Так Трифон?
— Наверное…
— Не «наверное», а «есть»! Привыкай к дисциплине, — поучительно проговорил Конюхов.
«Совсем с ума посходили, — подумала Лизка. — Если оболтусы в милиции работать будут, то к какому коммунизму мы придем. Главное, когда? И дойдем ли? Тришка на пятом десятке тоже власти захотел? Паразит, прости меня, Господи».
— Ну, в общем, Трифон повозку мою к двум запряжет. Подходи к моему дому и поедем. Пароход поздно вечером приходит. Успеем как раз, — Григорий повернулся и уже хотел идти, но передумал. — Ты, председатель сказывал, в почтальоны просилась?
— Просилась.
— Ладно, с городу приедем, попробую помочь, — произнес он небрежно. — Как чемоданчик? А? Ручку у него покрепче привязал. Надежно, теперь, можешь не сомневаться. Замок работает, — он самодовольно улыбнулся и протянул маленький ключик.
— Не видела еще. Спасибо, коли так. А то совсем не с чем в город ехать, — она только сейчас заметила чемодан на крыльце и дотронулась до его гладкой ручки.
— Германский. С фронта с ним пришел. В госпитале однополчанин отдал. Пользуйся, — Конюхов кивнул Трифону и, подтолкнув в спину своего помощника, направился к калитке.
Лизка, хотела было спросить о причине такой заботы о ней, но вовремя спохватилась и промолчала. Ответ был ей ясен и без него. А вот о том, зачем Конюхов едет в Архангельск, узнать не мешало. «Дорога длинная, — решила она, сам расскажет, не утерпит».
***
Девятого июня одна тысяча девятьсот двадцать пятого года в середине дня у городской пристани было немноголюдно. Человек двадцать, скорее всего случайных прохожих, да четверо мужчин в милицейской форме стояли вдоль городского причала, вглядываясь в очертания показавшегося вдали парохода. А тот будто зная, что встречающих немного, казалось, и не торопился, лениво попыхивая дымком из единственной трубы. О том, что он все-таки движется, а не стоит на месте, можно было судить по поблескивающим на солнце брызгам, отскакивающим от бортов судна, и по его увеличивающимся размерам.
Словно желая лучше разглядеть не ухоженную архангельскую набережную, он замешался и немного повернулся на фарватере. После небольшой паузы пароход, качнувшись на зыбкой речной глади, снова развернулся в сторону пристани, и сверкающий речной вал вновь покатился впереди остроносого корабля. Выплюнув столб черного дыма из когда-то белоснежной трубы, он издал протяжный гудок. Затем, будто очнулся от громкого сигнального звука и что есть мочи заработал гребными винтами.
— «С-субботник» что ли? — слегка заикаясь, произнес худощавый парень, поддерживая руками широкие не по размеру штаны.
— Да, не-е-е, какое там «Субботник», — протянул небольшого роста седой старичок лет семидесяти в сдвинутой на затылок тюбетейке. — «Субботник» же еще на той неделе вернулся. Я видел его. Красавец. А это — «Сосновец». Больше некому. Неуклюжий тихоход. Он такой у нас один, — заметно «окая» со знанием дела добавил он.
— Не-е, не похож, — небрежно произнес еще кто-то из стоящих рядом с ними зевак. — У «Сосновца» труба выше и наклонена больше. И корма не такая…
— Товарищи, — смешно картавя, прервал рассуждения местных знатоков приземистый еврей в маленьких круглых очках. — Вы на флаг посмотрите. Не наш флаг, не рассейский.
Мужчина возбужденно тыкал рукой в сторону корабля, поочередно оборачиваясь то к заике, то к старику. Для пущей убедительности он вытянул обе руки в сторону парохода и даже подпрыгнул от усердия. Он еще какое-то время жестикулировал, не замечая, как вокруг все стихло. Перестали скрипеть сапоги у переминающихся с ноги на ногу милиционеров. Все время кашляющий и стоящий чуть поодаль от всех мужичок на какое-то время тоже затих. Даже с шумом бьющиеся о причал волны и те пропали, растворившись в двинской бездне. Лишь оголтелые чайки пронзительно кричали, нарушая установившуюся на причале тишину. Наконец затих и очкарик.
— Как на кладбище, — нарушил молчание чей-то голос.
И тут же толпа снова ожила, загалдела, то и дело указывая руками в сторону приближающегося морского красавца. Пароход был уже достаточно близко, когда все тот же тучный мужчина в очках с удовольствием выделяя букву «р», произнес:
— Иностранец пришел! Красавец! До чего хорош!
— За лесом п-пришел. Красив, з-ззараза, — поддержал собеседника заикающийся мужичок, подтягивая съезжающие с худых бедер штаны. — Но наша «Аврора» к-к-красивше.
— А ты ее видел? — спросил старичок, сморкаясь в серый застиранный платок. — Видел ли «Аврору»?
— А к-как не видел! П-прошлым августом вот т-тут же возле Соборной п-п-ристани и стояла! — горделиво воскликнул худощавый.
— Правильнее — у Октябрьской пристани, — поправил парня очкастый еврей, будто нарочно подбирая слова со своей любимой буквой р.
— Ну, то с-сейчас кабыть Октябрьская, а тогда Соборной была, — не уступал заика.
— У Октябрьской, — не уступая, настойчиво повторил очкастый.
— А как бы было к-красиво, коли ее бы, к примеру «К-красной» назвали, — мечтательно заметил худощавый, не обращая внимание на очкарика.
— Тебя, милок, как зовут то? — поинтересовался старик, разглядывая пароход.
— Леонид Моисеевич Шиловский, — бойко ответил толстячок, слегка приподнимая рукой свои очки.
— Да, не тебя, — отмахнулся обладатель необычной для этих мест тюбетейки. — Я у него вот спрашиваю, — он ткнул парня кривым пальцем.
— С-савелий, — отозвался худощавый, и покосившись на коротконогого еврея, добавил:
— П-петрович. С-савелий П-петрович Кокин. А т-т-ты кто? Т-т-тебя к-как з-зовут?
— Демьян Пантелеевич Кривошеин, — старик ловко выпрямился и кивнул головой в приветствии. — Если что ты, Савелий Петрович, тут и видел, то никак не «Аврору». Тут тогда «Комсомолец» был. «Ком-со-мо-лец». А «Аврора» на Экономии стояла. Ей тут мелко, не пройти. Они вместе прошлый год в Архангельск приходили. Не путай.
Слева совсем рядом раздался протяжный гудок идущего вниз по реке другого парохода.
— Наш родимый к пристани п-поворачивает. «Г-гоголь», как бы не п-п-помешали д-друг д-дружке, — Савелий внимательно вглядывался в сторону начинающего разворот перед пристанью судна.
— Вы меня извините, товарищ Кокин, но какой это «Гоголь»? То «Желябов»! С Котласа пришел. Они очень похожи. Только названием и отличаются. У «Желябова» на правом борту заплата. Отсюда не увидишь. С того борта она. От союзничков снаряд прилетел еще в девятнадцатом, — со знанием дела проговорил Леонид Моисеевич.
— И все-то ты знаешь, — язвительно заметил Кривошеин.
— Посмотрите, сколько народу на палубах. Деревенских опять понаехало… Просто тьма, — не обращая внимания на замечание старика, продолжил Шиловский.
— Вот-вот, с-столько народу, — обеспокоенно проговорил Савелий.
— За «иностранца» не думай. Не помешает ему «Желябов». Этот, — еврей указал на приближающее иностранное судно. — Он на рейде встанет.
Они бы возможно рассуждали еще долго, если бы в разговор не вмешалась единственная среди собравшихся на пристани женщина.
— Ну, раз пароход иностранный, тогда точно не пристанет. Конечно же, на рейде встанет. Нечего и ждать. Не увидеть красоту заморскую. Зря тут ждем, — разочарованно проговорила она.
— Жаль, к-конечно, — согласился Кокин.
— Пойду хоть на наш пароходик посмотрю, — чувствовалось, что женщина потеряла интерес к происходящему. — Тоска, нечего тут делать и ждать, — она быстро зашагала в сторону причалившего «Желябова».
Следом за ней из толпы собравшихся зевак к пристани поспешили еще несколько человек. Глазеть на сходящих по трапу мужиков с мешками и баб с корзинами, вероятно, им было интереснее, чем ждать иностранцев.
— А мы и не ждем! — крикнул в след уходящим очкарик. — Дождались уже. Сейчас шлюпки скинут и к нам.
Тем временем заморский пароход, не дойдя до причала сотню метров, сбавил ход и поплыл по инерции. Когда позади кормы пенная круговерть постепенно растворилась в речной глади, тут же с грохотом в воду упал носовой якорь. С капитанского мостика раздались громкие крики на незнакомом языке и фигурки матросов оживились на палубе. Спустя мгновенье послышался скрежет корабельных лебедок и две шлюпки устремились вниз. Издали удерживающие их тросы были невидимы и, казалось, лодки спускались на воду сами по себе.
От оставшихся зевак отделился молодой парень в черно-белой в полоску футболке и, сплюнув себе под ноги, устремился следом за женщиной. Спустя минуту разошлись и остальные. Вскоре на причале остался стоять лишь обладатель тюбетейки, да все та же четверка милиционеров. Было видно, что сами иностранцы старика интересовали явно больше, чем их корабль.
— Смотрите, морячки уже в шлюпки садятся, а комиссии с губисполкома что-то все нет, — произнес смуглый не высокого роста милиционер лет сорока пяти с нелепым, похожим на небольшую картошку, носом.
— А чего, Микола, им спешить? Пароход еще на Экономии досмотрели. Сутки же там стояли пока селедку с местного парохода выгружали. Ты, Дымов, лучше сапоги сходи помой в реке пока комиссия не пришла. Начальник у них суровый. Грязных сапог и не застегнутых пуговиц не любит. Огребешь взыскание и не видать тебе сейгот твоей деревни, — ответил самый старший из милиционеров страж порядка.
— Не видать, не видать, — проворчал Микола Дымов, разглядывая сапоги и вытирая рукавом гимнастерки пот со лба. — Все-то ты, Петренко, знаешь. И про селедку, и про начальство. На пять лет старше, а гонору…, — произнес он, уже направляясь к реке.
— На десять, Микола, на десять. А все знать, то — работа у меня такая. Скажи спасибо, что не с обеда здесь околачиваешься. Если бы не я, то спеклись бы вы тут все на жаре! — крикнул он вслед Дымову.
Петренко хотел еще что-то сказать, но не успел. Из-за угла ближайшего к ним пакгауза показались пятеро мужчин в черных костюмах и молодая женщина в ярко синем платье.
— Петрович, начальство, — один из милиционеров тронул его за рукав и кивнул в сторону идущих людей.
— Вижу. Дымова догони и верни, — проронил тот и расправил под ремнем гимнастерку.
Не дойдя до милиционеров с десяток шагов, процессия остановилась. Сергей Петрович Петренко привычным движением дотронулся до безукоризненно сидящей на нем фуражки, поправил вылезшую прядь черных волос и сделал два шага вперед. Скользнув взглядом по мужским фигурам, он узнал почти всех и сразу определил среди подошедшего начальства того, к кому следует обратиться с докладом. «Вроде не выходной, а как вырядились, — успел он подумать, приставляя правую руку к фуражке». Несмотря на то, что сегодня все они были одеты не совсем обычно, знакомые лица он отметил сразу.
С нынешним начальником губернского отдела ОГПУ Иварсом Озолсом он познакомился пять лет назад. В то время Сергей работал в городской тюрьме и по долгу службы часто встречался с сотрудниками ЧК. А несколько лет назад их взаимоотношения стали более тесными. Когда с Соловецкого лагеря сбежали двое заключенных, Петренко в числе других красноармейцев был командирован на остров для разбирательства. Возглавлял ту комиссию именно Озолс. Ходили слухи, что попал тогда Сергей Петрович в нехорошую историю, а Иварс помог ему. Но, правда это или нет, никто толком не знал. Однако после той поездки время от времени снабжал он большого начальника какой-нибудь городской информацией и время от времени выполнял его поручения.
А вот с заместителем председателя губисполкома знаком не был, но по роду службы видел Сергея Аркадьевича Гмырина регулярно и наслышан о нем был не мало. «И этот, конечно же, тут. В каждую дыру свой нос сунет, — неприязненно отметил милиционер, мысленно подбирая слова для предстоящего доклада». Переводчицу Нину Зельцер Петренко тоже сразу узнал, отметив, что и она сегодня одета не так как всегда. Обычно стянутые на затылке черные волосы сегодня были распущены и выглядели очень привлекательно. А вместо каждодневного затертого черного пиджака и вылинявшей серой юбки на ней развевалось элегантное летнее платьице. Молодая тридцатилетняя девица помимо всех ее внешних достоинств обладала самым главным, выделявшим ее не только среди женского полу. Сколькими иностранными языками она владела, никто точно не знал. Поговаривали, что не меньше десятка. Правда, проверить это было сложно, да и не кому. В городе лишь единицы могли общаться на английском языке и еще меньше на немецком. О знающих в Архангельске, да и пожалуй, во всей губернии другие языки, вообще ничего не было известно. Поэтому ее нахождение в составе делегации встречающей любых иностранцев было необходимо и оправданно.
Еще двоих мужчин он видел лишь однажды, когда в прошлом году ему довелось сопровождать в Москву какой-то секретный груз. Правда ехали они в соседнем купе и за все время даже ни разу не переговорили. А вот пятого мужчину Петренко видел впервые. «Надо будет поинтересоваться у Озолса, что за „фрукт“, — решил он». Петренко уже было открыл рот, намереваясь отчитаться перед начальством, как услышал шепот подошедшего Дымова.
— Спасибо, товарищ старший милиционер, — проговорил Микола.
Сергей Петрович замешкался и тем самым избавил себя от роли докладчика.
— Петренко, давай без лишних формальностей, — спокойный голос Озолса с никуда не девшимся за все годы, проведенные в России латышским акцентом, заставил милиционера опустить руку и незаметно выдохнуть.
Сергей покосился на Дымова, затем повернулся в сторону приближающихся к берегу лодок и произнес:
— Да, -то, все без происшествий. Судно встало на рейд. Шлюпки с делегацией уже на подходе.
Петренко бросил взгляд на реку, пытаясь убедиться в правоте сказанного.
— Вот-вот причалят, — заключил он.
Озолс одобрительно кивнул, и слегка наклонив голову в сторону исполкомовского начальника, что-то негромко сказал. Гмырин, выслушав его, кивнул, почесал вспотевший нос и достал из кармана сложенный листок.
— Ниночка, — обратился он к переводчице. — Они хоть на каком языке говорят?
— На английском, Сергей Аркадьевич. Кое-кто на немецком, — любезно ответила та.
— Ну, в принципе и не важно. Вот держи документ, — Гмырин протянул ей листок. — Зачитаешь им в качестве приветствия. От себя ничего добавлять не надо. А то знаю я тебя!
— Сергей Аркадьевич! — с наигранной обидой воскликнула девушка.
— Цыц! — Гмырин выразительно посмотрел на нее. — После этого я капитана заберу с собой. Ниночка с нами тоже. Вы, Степан Егорович, тоже, — обратился он к незнакомому Петренко мужчине.
— Да, конечно, — сухо ответил тот.
— Я сам капитану город покажу. На всю береговую церемонию пять минут хватит. А то еще ляпну чего не нужно, — Гмырин повертел головой. — Зеваки нам тут лишние ни к чему. Молодцы, что лишних удалили. Все-таки иностранцы, — он посмотрел вслед удаляющейся толпе.
— Да, тут энтих иностранцев токо родящиеся не видывали. В гражданскую их тут было столько, что русская речь в диковинку была, — голос Кривошеина прозвучал так неожиданно, что замгубисполкома невольно вздрогнул.
— Это еще кто? — удивился Озолс.
Он только сейчас обратил внимание, что старик все это время стоял рядом и мог слышать то, о чем тут говорили. Дымов быстро сообразил, что обладатель тюбетейки может не за что пострадать от начальства, и взяв старика под руку, потащил в сторону складов. Деда он знал давно. здесь тот частенько бывал и Миколе не раз с ним доводилось общаться. Родом старик с Вологды. Где только за всю жизнь он не побывал и чего только не повидал. Жил какое-то время и в Москве и в Санкт-Петербурге, но большую часть жизни провел в деревне. Лет пять назад приехал по делам в Архангельск, а через полгода перебрался сюда насовсем. Безобидный начитанный дед. Потому и не хотел Дымов, чтобы у него какие-то сейчас неприятности случились.
— Вечно ты, Демьян Пантелеевич, так и норовишь куда-нибудь вляпаться со своим языком. Не видишь, кто перед тобой? — ворчал Микола, отводя старика подальше от реки.
— Да, я-то чего? Уж сказать ничего нельзя стало! Вот же жизня нынче…, — обиделся тот.
— Молчи! Язык свой прикуси, — оборвал Дымов. — И домой ступай! Начальство тут. И не в духе, — он указал рукой в сторону ближайшего пакгауза, слегка подтолкнул Кривошеина в спину и стал смотреть на удаляющегося старика.
Ожидая, пока тот отойдет подальше, увидел, как со стороны реки наперерез старику шли люди. «Рейсовый видать пришел, — подумал Дымов, вглядываясь в прибывших пассажиров». Заметив среди них незнакомого милиционера, он стал рассматривать следующих рядом с ним людей. Мужик с огромной копной не прибранных волос его не заинтересовал, а вот шедшая позади молодая женщина привлекла его внимание. У Миколы появилось ощущение, что ему уже когда-то доводилось с ней встречаться. Он попытался вспомнить, но ничего не получилось. Дымов смачно сплюнул, развернулся и пошел обратно к причалу.
— Кто таков? — снова спросил Озолс, кивая в сторону удаляющегося Кривошеина.
— Да, случайно он тут. Безобидный старикашка. От безделья каждый день на набережной прохлаждается, — спокойно ответил Петренко. — Наш он. Тут недалеко и живет.
— Вот и я о том же, — снова заговорил Гмырин. — Пять минут на все про все и в автобус. Не хватало еще толпу собрать. А если какая провокация случится? Говорил оцепление выставить, так нет!
— С оцеплением точно народу бы много собралось. А так внимание не привлекаем. Все буднично, — спокойно заметил Озолс. — Вы же и сами видите: никого нет.
— Хорошо, — согласился Гмырин. — Сколько иностранцев в делегации?
— Капитан и должно быть десять матросов, — ответил Озолс. — Да, точно десять. Вот список, — и протянул руку с желтым листом бумаги.
— Не надо, — отмахнулся Гмырин. — Десять, так десять.
Он хотел еще что-то сказать, но громкий крик с одной из причаливших шлюпок остановил его.
— Пора, Сергей Аркадьевич, — произнес Озолс и шагнул к пришвартовавшимся лодкам.
Гмырин с Ниночкой тут же последовали его примеру. Когда до гостей оставалось с полсотни метров, Иварс окинул взглядом прибывших иностранцев. Оставшись довольным увиденным, он одобрительно хмыкнул и замедлил шаг, пропуская Гмырина с Ниночкой вперед.
Как только лодки отчалили от корабля, Павел стал внимательно всматриваться в находящихся на берегу людей. Озолса и Гмырина он узнал еще до того, как его шлюпка ткнулась носом в причальную стенку. Случайную встречу с ними он предполагал и быть узнанным не боялся. Вряд ли они запомнили его за те короткие встречи, что были несколько лет назад. Сколько таких, как Павел, прошло мимо них в круговерти событий. Он лишь один из многих, многих тысяч свидетелей того времени. К тому же узнать в бородатом иностранном моряке бывшего красноармейца было сегодня не так просто.
Увидев Дымова, Павел обрадовался. Со стороны вряд ли кто заметил, как едва заметная улыбка пробежала по его лицу. Найти Миколу он, конечно же, хотел и планировал по прибытии в Архангельск сделать это незамедлительно. Без Миколы намеченный план реализовать было бы куда сложнее. Все-таки близких людей кроме Илги у него в этом городе не было. На помощь Дымова Гавзов рассчитывал. Однако он и предположить не мог, что найдет его так быстро и без особых усилий.
Но вскоре радость сменилась тревогой. При таких обстоятельствах встречаться с Дымовым не хотелось. Уж больно Микола был не предсказуем и эмоционален в своих поступках. По крайней мере раньше. Увидев сейчас Павла, вряд ли сдержался бы, чтобы не выдать их знакомство. Но тот к счастью отошел с каким-то стариком и ситуация сама собой разрешилась. Видя, что бывший приятель не спешил возвращаться обратно, Павел облегченно вздохнул. «Теперь бы поскорее в городе оказаться, — подумал он, занимая свое место в парадном строю на причале».
Он все еще смотрел в сторону Дымова, когда громкий возглас Гмырина прервал его размышления.
— Здравствуйте, товарищи моряки! — что есть мочи прокричал тот и покосился на переводчицу.
Ниночка, слегка откашлявшись, виновато улыбнулась и быстро перевела гостям сказанное Сергеем Аркадьевичем.
— Мы — граждане молодой советской республики, очень рады в рамках первого дружественного визита встретить на нашей советской земле лучших зарубежных представителей и гостей, — тут он слегка замешкался, и не глядя на девицу, прогнусавил в ее сторону:
— «Лучших» не переводи. Обойдутся.
Зельцер понимающе хмыкнула и тут же затараторила на незнакомом для всех остальных языке. После этого Гмырин минут пять говорил о значении данного события в рамках нашей и их страны, а также для скорой мировой революции и мира во всем мире. Свою пламенную речь Сергей Аркадьевич более не прерывал, не давая возможности Ниночке хоть что-то сказать. Та же стояла, придерживая развевающийся на ветру подол платья и смущенно улыбаясь разглядывающим ее морякам. Закончив говорить, оратор повернул голову в ее сторону и произнес:
— Скажи, чтобы все садились в автобус.
— А это? — она подняла листок с записью его речи.
— Дай-ка сюда, — Гмырин забрал у нее бумагу и сделал несколько шагов в сторону краснолицего лет пятидесяти с огромными черными усами капитана.
Ниночка быстро перевела на английский приказ начальника и тоже подалась вперед. Капитан выслушал перевод и наигранно улыбнулся. Затем громко произнес что-то нечленораздельное, и матросы еще выше задрали головы, вытягиваясь в струнку. Окинув их взглядом, он взглянул в сторону руководителя советской делегации и, приложив руку к фуражке, шагнул ему навстречу.
Остановившись в шаге от Гмырина, капитан громко, почти срываясь на фальцет, что-то прокричал.
— Он счастлив побывать на нашей северной земле, — проговорила Ниночка. — И рад провести сегодняшний день с нами.
Сергей Аркадьевич мило расплылся в улыбке и, подойдя к «усатому», пожал тому руку. «Ах, ты рыжый таракан, — подумал он, беря того под руку. — Рад он. А сам, небось, еще совсем недавно готов был нас утопить в море крови».
Вслух же любезно произнес:
— Прошу вас…
— Господин, — угадав причину замешательства, подсказала Зельцер.
— Прошу вас, господин капитан, отобедать с нами, — продолжил говорить Сергей Аркадьевич. — Мы с вами немного побеседуем, после чего все вместе направимся в наш лучший ресторан северной кухни. А потом, конечно же, я лично покажу вам наш город. Ну, а сейчас вся ваша делегация может сразу отправится на небольшую экскурсию после чего присоединится к нам к обеду, — не обращая внимания на перевод Зельцер и пытаясь увлечь усатого капитана за собой.
Однако тот приветливо улыбаясь, невозмутимо остался стоять на месте. Слегка повернув голову в сторону стоящих на вытяжку матросов, «таракан» произнес несколько слов, после чего не сопротивляясь, пошел рядом с Гмыриным. Следом за ними потянулись и остальные граждане советской делегации.
Павел видел, как Дымов подошел к автобусу и насторожился. «Неужели мое везенье закончилось? — подумал он и отвернулся от окна». К тому времени все матросы уже расселись на сиденьях, специально замененных по такому случаю на новые и мягкие. Дверь в салон еще была открыта, но водитель уже запустил двигатель. Микола слегка запыхавшись, скользнул взглядом по окнам и подошел к двери. Заглянув в салон, он тронул за рукав сидевшего тут же Петренко.
— Слушай, Петрович, — проговорил Дымов. — Я, может, не поеду с вами? Умотаюсь за день, а мне сегодня всю ночь дежурить. Матросики иностранные не нашенские оболтусы. Сидят спокойно и в окошки поглядывают. Вы тут и без меня управитесь. Честное слово уже сил нет, — он с надеждой посмотрел на старшего милиционера.
— Ладно, только дома будь. Мало ли что. А то Нифанина тоже отпустил в прошлый раз, а он на рыбалку ушел, — услышал Павел голос Петренко.
— Так дома. Где же, как не дома, — обрадовано ответил Микола. — Высплюсь хоть, а то ноги уже не держат совсем.
— Ты, кажись, на Поморской же теперь живешь? И ничего не сказал.
— На Поморской, на Поморской, — согласно закивал Дымов. — Не успел еще сказать.
Он сделал несколько шагов от автобуса, затем повернулся и крикнул:
— Дом прямо напротив нашей «стекляшки».
«Есть Бог на свете, — подумал Павел, видя, как Дымов отходит от автобуса. — Миколу нашел и адрес узнал. Не зря меня маменька везунчиком в детстве звала». Он откинулся на сиденье и приготовился рассматривать город. Дверь громко хлопнула, и автобус не спеша покатил по булыжной мостовой.
***
До дежурства оставалось еще полчаса и Микола, лежа на оттоманке, пребывал в сладостной полудреме. Ему удалось хорошо отдохнуть и даже недолго поспать, но вставать все равно не хотелось. Закинув руки за голову, он вытянулся во весь рост и вспоминал вчерашний визит соседки Граньки. То, что соль была лишь предлогом, он понял еще вчера. Однако, при всем желании должного внимания уделить не мог. Работа, как всегда помешала его холостяцкой жизни. Решив, что нужно в ближайшие дни исправить оплошность и навестить Граньку, он довольно ухмыльнулся.
Микола оставил в покое соседку и открыл глаза, когда понял, что в дверь стучат. По тому, как никто вслед за стуком не вошел в дом, для него означало, что стоящий за дверью, пришел к нему впервые. Все, кто знал Дымова, знали и то, что тот дверей даже на ночь не запирал, потому как не любил открывать. И знакомые, зная о такой причуде хозяина, входили в дом без излишних церемоний: сам постучал, сам открыл дверь и вошел.
— Кого там нелегкая принесла? — крикнул Микола, вставая с дивана. — Заходите! Не закрыто же.
Стук повторился и Дымов, чертыхаясь и шаркая босыми ногами, отправился открывать. По пути щелкнул в коридоре выключателем и снова выругался — электричества опять не было. Он отдернул пошире занавеску, прикрывающую проход в комнату и уличный свет слегка осветил прихожую. Поправив выехавшую из штанов рубаху, он подошел к двери и распахнул ее почти настежь.
— П-п-п, — только и смог произнести Микола, уставившись на гостя.
Он потер глаза и, взглянув на стоявшего за дверью мужчину, перекрестился.
— Здравствуй, Микола, — негромко проговорил Павел. — В дом-то пустишь?
Не дожидаясь, когда тот придет в себя, он сжал руку Дымова и слегка подтолкнул старого знакомого внутрь дома. «Хорошо, что на причале не встретились, а то точно выдал бы себя и меня, — подумал Гавзов и облегченно вздохнул».
— П-пашка! Ты? Не может быть! — выдохнул, наконец, Микола. — Ты разве…, — не решился он закончить фразу.
— Да, живой, живой, как видишь, — Гавзов сгреб старого приятеля в охапку. — Рад тебя видеть. Очень рад. Ты даже представить не можешь, — шепнул он ему на ухо и отпустил.
— А то? А тогда что? — Дымов постепенно приходил в себя и суетливо закрутил головой. — Но, ты же погиб. Все говорили. Бежал и во время побега погиб. И как меня-то нашел?
— Не торопись, приятель, не торопись. Ты, кажется же, на дежурство собирался. Ты сходи, а я тебя подожду. Служба не должна страдать. Тем более из-за воскресшего мертвеца, — Павел улыбнулся. — У тебя и подожду, если, конечно, ты не против, — и по привычке потрогал свой шрам над правой бровью.
— Оставайся, конечно. А у нас, вот, свет опять отключили. Центр города называется…, а ты проходи, Паша. В комнату проходи, — затараторил он. — Так ты и про дежурство знаешь? Ну-у дела…
Неожиданное воскрешение Гавзова настолько потрясло его, что от нервного потрясения он бы возможно еще долго говорил и говорил, если бы тот его не прервал.
— Старший матрос, Тони Линдгрен.
— Чего? — оторопел Дымов.
— Зовут меня так.
Не успел Микола отойти от первого потрясения, как старый приятель ошарашил его новым признанием. Он открыл рот, не зная как отнестись к тому, что услышал.
— Вернее, звали, — пояснил Павел.
— А-а-а, — только и смог вымолвить Дымов.
— О дежурстве ты же сам днем сказал. Забыл?
— А-а-а, — с трудом понимая происходящее, протянул Микола.
Он с интересом разглядывал воскресшего приятеля, глядя поочередно то на начищенные до блеска кожаные ботинки, то на изумительно белую, без единого пятнышка морскую форму. Наконец, Микола чуть успокоился и стал рассматривать знакомое и в тоже время незнакомое лицо. Его взгляд остановился на огромной черной почти окладистой бороде, которая закрывала без малого половину Пашкиного лица.
— Так ты, это…, — Микола ткнул крючковатым пальцем в грудь морского гостя. — С того корабля? С иностранного?
— С того, того, — улыбнулся Павел. — Морской волк.
— Чего?
— Корабль так называется: «Морской волк».
— А-а, ну, да.
Пока хозяин приходил в себя, Гавзов уже успел рассмотреть нехитрое жилище хозяина, отметив для себя, что тот, скорее всего, живет один. Не удивился он и тому, что на подоконнике лежали аккуратно сложенные фильдеперсовые чулки. «А дамочка-то есть, все-таки, — и отвел от них взгляд».
— Так это Нинка… или Гранька. Да, точно, Гранька. Знакомая моя, наверное, оставила, когда за солью заходила. Или нет, за корзиной. Делать то нечего вечерами, вот корзины иногда и плету, — пояснил Микола. — У нас таких чулок в городе нету. Ну, я не видел по крайней мере. Не знаю где и взяла.
— Я смотрю, ты не плохо устроился. И Гранька и Нинка, — усмехнулся Гавзов. — Ну, да дело твое. А чулки мог кто-нибудь из моряков привезти, — равнодушно заметил он.
— Может у моряков. У нас с Госторгфлота пароходы стали часто за границу ходить. В Германию, Норвегию. И оттуда тоже ходят. Не часто, но бывают.
С улицы донесся негромкий звон колокольчика. Он все приближался, становился все громче и громче.
— Петюня молоко с вечерней дойки развозит. Значит, уж к восьми время. У нас хоть и город, а порой как в деревне живем, — пояснил Дымов и взглянул на часы.
Он на мгновенье задумался. Нужно было уходить: время дежурства неумолимо приближалось. «Опоздать никак нельзя. Но как же быть с ним?»
— Ты, это… ну, временем каким располагаешь? — спросил Дымов.
Павел присел на край стула рядом с потертым, но добротным дощатым столом и снял форменную фуражку.
— Я насовсем, Микола.
— То есть как насовсем? — Дымов непонимающе посмотрел на приятеля.
— Остаюсь я. Но то между нами, сам понимаешь. Знаешь об этом теперь и ты.
— А как же…? Тебя же хватятся, — на носу-картошке Миколы выступили капельки пота.
Павел заметил лежащую на полу скомканную газету, поднял и расправил на столе. Пробежав глазами по странице, прочитал:
— «Сегодня в наш город с первым дружеским визитом прибывает норвежское судно. Предполагается дружественный обед с командой с показом главных мест города. К ночи судно уйдет обратно в Норвегию…»
— Читал, когда на оттоманке дремал, — пояснил Микола. — Так хватятся же тебя, — не унимался он.
Гавзов свернул газету и отложил в сторону.
— Не беспокойся, не хватятся, — очень спокойно, с налетом некой небрежности, ответил он. — У меня с капитаном уговор. Ты с дежурства когда освободишься?
— В восемь. К девяти дома уж буду.
— Ну, вот и хорошо. Вернешься, обо всем и поговорим. Надеюсь, ты в своей милиции обо мне не будешь говорить.
— Да, ты чего, Пашка! Я же в милиции — по нужде, а по душе я вольная птица, — воскликнул Дымов. — Можешь быть уверен во мне. Если чем помочь, ты говори чем. Я с превеликим, так сказать.
— Удовольствием, — закончил Гавзов.
— Ну, да.
Павел встал, подошел к окну, и чуть сдвинув занавески, выглянул в окно. На улице было светло. Солнце стояло еще высоко и будто не думало прятаться за горизонт. Время белых ночей было в самом разгаре. Со стороны реки донесся протяжный пароходный гудок, затем следом еще три коротких. «Наш отходит, — Гавзов по характерному звуку узнал свой корабль и вытащил из кармана часы».
— Ну, вот. Все прошло без заминок и происшествий, — проговорил Павел, глядя циферблат. — Корабль отходит. Все хорошо пока.
— Тогда до утра? — Микола надел фуражку и направился к выходу.
— До утра, — ответил Павел.
***
На трап Лизка ступила почти последней. Оглядываясь по сторонам, и стараясь не смотреть на немногочисленных встречающих, она быстро сбежала на берег по пружинящим причальным доскам. Едва не наткнувшись на неспешно шагающего впереди Григория Конюхова, остановилась, всматриваясь в неизвестный ей город.
Его Лизка видела впервые. Не только Архангельск, а вообще, город. Нет, конечно же, она представляла, какой он. Даже сыну Митьке рисовала городские пейзажи не раз. Но, то все по рассказам от парней и мужиков. От девок да баб слышать что-то о городской жизни ни разу не довелось. Да и откуда им знать о ней, если в городе не бывают. Чего им в городе делать? У них в деревне дел невпроворот. А мужики, то с армии или войны возвращались, а то еще по какой надобности там бывали. Как Никифор Ластинин или муж ее. Из-за прошлой войны им в Архангельске бывать приходилось. Все, что знала о городской жизни, от них и наслушалась. Правда, то было давно, еще до их ареста. И за прошедшие пять лет город мог сильно измениться. Тем интереснее для нее все было.
Раньше еще часто на рынок мужики торговать ездили. Но в последние годы торговать не кому. Вернее, мужики то есть, да вот продавать нечего стало. Все излишки на налоги уходят. Да, и какие там излишки. То, что на пропитание запасают, порой туда же приходится отдавать. Потому и в город нынче никто не ездит. Не с чем. А из баб Лизка почитай первая за последние годы собралась. По-крайней мере, никого других она не припоминала. Желания большого ехать не было. Да и страшновато в город незнакомый. Хотя и не одна, с милиционерами ачемскими, но все одно, беспокойство не отпускало. И если бы не приказ председателя, то она бы ни в какой город, да еще в такой огромный, как Архангельск, не отправилась бы.
Но рассказы рассказами, а увидеть своими глазами — совсем другое дело. Город ей сразу показался необъятным. Домам всяким конца и края не было видно. Красивые дома. Видно, что у них хозяева крепкие были, не из бедных. А среди кирпичных и деревянных зданий купола бывших церквей выглядывали. Без крестов, но все одно красивые. Одни краше других. Краем глаза Лизка увидела на реке какое-то движение и повернула голову. К причалу подплывали две большие лодки. Каждая намного больше, чем их деревенский карбас для переправы через Нижнюю Тойгу. Сверкающие чистыми белыми боками и искрящимися на солнце каплями брызг, шлюпки очень ей понравились. И если бы не шедший сзади Трифон, то неизвестно сколь долго она бы любовалась за дружно гребущими веслами матросами в ослепительно белой форме.
— Лизка, ты пошто на дороге встала! Лодок не видела? — раздался сзади голос Ретьякова. — Пороню же!
Женщина отступила в сторону и пропустила Трифона вперед себя, одним глазом не переставая глядеть на матросов. Ей очень хотелось и она, наверное, обязательно подошла бы поближе, чтобы рассмотреть их, но голос Конюхова вывел ее из задумчивости.
— Лизавета! Гавзова! Давай, быстрее! Будет еще время, успеешь насмотреться.
— Да, иду я, иду, — Лизка еще раз оглянулась на швартующиеся неподалеку лодки и поспешила к Конюхову.
— Я тебя сначала в «Доме крестьянина» определю на постой, чтобы знала где ночевать. Потом отведу, где учиться будешь, — проговорил Григорий.
— А вы куда? Уйдете? — встревожилась Лизка.
Он взглянул на женщину и снисходительно улыбнулся. Его одновременно забавляла и раздражала ее какая-то детская боязнь остаться одной в городе. В который уж раз за последнее время та проявляла беспокойство, и каждый раз ему приходилось ее как-то успокаивать.
— Да, не трясись ты, дурёха. Отведу, чтобы знала и приведу обратно. А мы с Трифоном будем жить там же. Только на первом этаже, — соврал он.
Жить в «Доме приезжих», или как стали с недавних пор называть, в «Доме крестьянина», Конюхов не собирался. Ретьякова, конечно же, там же, где и Лизку определит, а вот сам с запиской от зазнобы с Нижней Тойги к ее дядьке хотел на постой податься.
Он повертел головой и, увидев, то, что искал, указал рукой на стоящее вдалеке и заметно выделяющее на фоне береговых складов и пакгаузов красивое кирпичное здание.
— Вон там учиться будешь. «Домом труда», кабыть, нынче обзывается. Или даже дворцом величают. У попов эти хоромы экспо… эспорпи…
— Экспроприировали, — помогла Лизка.
— Ага. Сведу туда тебя. Но чуть позже, — Григорий поправил фуражку и, подхватив у Лизки знакомый ему чемодан, шагнул вперед. — Давай за мной. Тут через склады быстрее дойдем, — не оглядываясь, бросил он.
Гавзова двинулась следом. Трифон же немного приотстал, пытаясь справиться с неудобным свертком.
Из-за ближнего склада, постоянно оглядываясь, появился небольшого роста старик. Поравнявшись с Трифоном, он едва с ним не столкнулся. Стянув с головы тюбетейку, тот представился, заметно выделяя букву о:
— Кривошеин. Демьян Пантелеевич.
— Трифон, — ответил Ретьяков.
— Прошу прощения-с, товарищ, не заметил, извинился старик.
— Да, что ты отец, извиняешься, — проговорил Трифон и, неудержав, выронив из рук большой сверток. — Это мы идем, ничего не видим. Сами виноваты, — Ретьяков наклонился к земле и стал поднимать упавшую поклажу.
— Не обеднела еще деревня добрыми людьми, — проговорил Кривошеин. — Не то у нас в городе.
— Всяко бывает. В деревнях тоже не ангелы живут, — Трифон поднял сверток и устремился за ушедшими вперед земляками.
Прибавил шагу и Кривошеин.
— Никак прясницу везешь, мил человек? — не отставая, спросил он. — Коли продавать, так я бы помог. У меня на рынке, тут, сразу за Театральной, знакомый торгует. Он много чего купить может.
Трифон так резко остановился, что Демьян еле успел от него отвернуть. А вот от свертка увернуться не смог, и тот опять оказался на земле.
— Ну, что ты… — только и произнес Ретьяков, повернувшись к Кривошеину.
Он про себя выругался, а вслух раздраженно добавил:
— Все то тебе скажи! А кто ты таков, чтобы я с тобой говорил? Я от своих и так отстал.
Ему очень хотелось сказать, что дед прав. И что прясницу на продажу прихватил, а кому продать не знает. Стоять на рынке же не может — все-таки при милицейской должности теперь. А тут и покупателя искать не нужно. Но сказал совсем не то, что хотел бы.
— Да, я чего, я — ничего, — было видно, старик совсем не обиделся. — Я до вечера на рынке буду. Так что, если надумаешь, найдешь меня легко. В городе то, вижу, что не бывал. С Виноградова на Театральную или Поморскую свернешь. Нет не Театральную. На Володарского. Так нынче Театральная зовется. Ну, а там рынок увидишь. Демьяна Кривошеина, то есть меня, спросишь. Всяк покажет. Ну, если один не укажет, другого спросишь, — он посмотрел по сторонам и пошел к стоявшей неподалеку лоточнице.
Не прошло и двух часов, как Ретьяков, предупредив Конюхова, отправился на поиски старика. О том, чтобы продать прялку или обменять ее на товар, разрешение у Григория он спросил еще в деревне. Но не только затем ему нужно было на архангельский базар. Уж много лет в город выбраться собирался, да возможности никак не было. От отца осталось несколько николаевских золотых червонцев — вот их-то и хотел он обменять на что-то существенное. В деревне в последние годы на деньги-то ничего нужного было не купить, а тут не нынешние деньги, а золотые червонцы одна тысяча восемьсот девяносто пятого года выпуска. От того, что они на наземе спрятаны, толку никакого в хозяйстве не было. Ни пахать они не помощники, ни сеять. О деньгах Трифон, конечно же, никому не говорил. Понимал, что, если узнает кто, то неприятностей не избежать. Потому как объяснить, откуда они у него, вряд ли смог. А оказались они у Ретьяковых необычным, если не сказать, не законным путем. Порфирий Федорович, отец его, перед смертью все, что, когда-то досталось в четырнадцатом году от грабителей, сыну отдал. А прясницу Трифону нужна была лишь, чтобы скрыть основной свой замысел.
Рынок Трифон нашел сразу. Не понадобилось для этого ни у кого ничего спрашивать. Ни с чем несравнимые ароматы, что шли из-за домов, закрывающих набережную, без каких либо сомнений указывали на то, где находится городской рынок. Дующий со стороны реки ветерок, разносил за несколько кварталов запахи соленой рыбы вперемешку с душком перекисших солений, дегтя и конского пота.
Дощатые ларьки и прилавки вместе с огромными, в несколько рядов деревянными бочками и корзинами расположились вдоль набережной на добрых полверсты. И всюду люди. Кто продать, кто купить, а кто и время провести и со знакомыми поболтать заглянул. Атмосфера здесь тоже особая, отличная от других городских мест. Только тут царит анархия свободного рынка, где сам процесс больше сравним с игрой, чем с обычной куплей-продажей. И зачастую победителем в ней выходит тот, кто больше преуспеет в этом искусстве.
Подойдя к рынку, Ретьяков, глядя на торговую суету, поначалу растерялся. Но уже минуту спустя, прижав покрепче к себе завернутую в тряпицу прялку, направился к крайней лавке. Сидящий на крыльце с рябым лицом мужичок живо подскочил, увидев в нем покупателя на свой товар.
— Заходи, к Кузьме дружок. Купишь новый сапожок. Посети мою ты лавку и купи в придачу шапку, — зычно продекларировал он, всем своим видом приглашая Трифона внутрь ларька.
— Доброго здоровьица, вам, — произнес Ретьяков, остановившись у крыльца. — Верю, что шибко дородный у тебя товар. И непременно бы купил, но вот пока не на что. Но это временно. У меня у самого товар. Покупателя вот ищу, — он похлопал свободной рукой по прялке.
Торговец сразу как-то сник, но интерес к Трифону не потерял.
— Вижу, прясницу продать хочешь, — он кивнул на сверток. — Тут у нас этого добра достаточно и скоро не продашь.
— Мне бы Кривошеина Демьяна найти. Не подскажешь ли где? Договаривались мы с ним. Продам вещицу — к тебе вернусь за обуткой непременно.
По лицу мужичка пробежала легкая усмешка. Видно было, что тот знал старика и знал неплохо.
— А-а-а, вон ты чего, — понимающе выпалил рябой. — Так ты это, до лавки, где антикваром торгуют, иди. Тут недалеко, — указывая рукой направление, проговорил он.
— Благодарствую, — обрадовался Ретьяков.
— Там его и найдешь. Большими буквами написано будет: «Антиквариат». Там он. Я видел, как он туда шел.
Трифон не зная, как поблагодарить любезного продавца, неловко поклонился. В следующее мгновенье он стянул с головы шапку и, пятясь назад, произнес:
— Спасибо, мил человек.
— Кузьма Иванович Карнаухов, — проговорил рябой и даже чуть приосанился.
— Да, да, буду знать.
Не зная, что еще сказать, Ретьяков повернулся и тут же скрылся в людской круговерти. Нужную лавку он нашел быстро. Вбежав на крыльцо, не раздумывая, толкнул дверь. Звон колокольчика над головой слегка напугал его. Трифон неуклюже отпрянул и, задев свертком за косяк, уже в который раз за день выронил прялку.
— Экой ты, батенька, неловкой, — услышал он знакомое окание. — Голова надумала, а руки не слушают.
— Да, вот, — словно оправдываясь, проговорил Ретьяков, поднимая с пола упавший сверток. — Надумал.
Управившись с ним, Трифон поднял голову и прямо перед собой увидел улыбающегося Кривошеина.
— Вы уж поаккуратнее, мил человек, — проговорил тот.
— Да, уж, — ответил Ретьяков, покосился на затихший колокольчик и снова взглянул на старика.
Позади него заметил долговязого седовласого мужчину лет пятидесяти явно еврейской наружности. В черном изрядно помятом костюме, тот стоял у прилавка, слегка опираясь на него. Он смешно щурился одним глазом, пытаясь удержать монокль. Линза была несколько меньше, чем нужно, а потому пользование ею доставляло ее владельцу некоторые неудобства. Он приподнял веко, и стеклышко упало, повиснув на тонкой цепочке.
— Яков Самуилович Зимин, хозяин лавки, — представился седовласый, выглядывая из-за Демьяна Пантелеевича. — Что изволите, товарищ? — на его лице появилась дежурная улыбка.
— Здравствуйте, — ответил Трифон, с нескрываемым любопытством разглядывая нового знакомого.
Кривошеин отошел в сторону и указав рукой на Ретьякова, проговорил:
— Товарищ прясницу продать желает. Я о нем тебе недавно рассказывал.
Улыбка сползла с лица хозяина лавки. Торговля у него последнее время шла не очень успешно. Барахло, как отзывался об антиквариате его приятель Кривошеин, нынче мало кому нужно и покупалось неохотно. Его несли и несли, довольствуясь любыми деньгами. Вещи пылились и лежали тут же в лавке. Из-за низкого спроса Зимин перестал покупать их совсем. Брал лишь на реализацию и только то, что не занимало много места. «Людям хлеб нужен. А еще лучше с мясом. Дешевыми побрякушками и низкосортными картинками их не накормишь, — говорил он».
А тут опять вместо хоть какого-нибудь покупателя пришел продавец. Стало быть, не с деньгами пришел к нему, а за ними. И ладно бы, если что-то стоящее принес, а то прясницу.
— Ну, показывай свою диковинную деревяшку, — равнодушно произнес Яков.
Трифон оглянулся по сторонам. Увидев у дальнего окна двух болтающих между собой женщин, смутился.
— Да, то торговки местные. Не обращай внимание. Они уже уходят.
— Хорошо, хорошо, — согласился Ретьяков.
Зимин повернулся к женщинам и, в подтверждение своих слов, громко крикнул:
— Матрена, вы бы разговоры говорить шли бы хотя бы крыльцо. Вы мне мешаете делать продажу. У меня клиенты нервничают из-за вас.
Ретьяков, подошел почти вплотную к нему и положил сверток на прилавок. Затем встал спиной к женщинам и сунул освободившуюся руку за пазуху. Немного там пошарив, вытащил небольшой мешочек.
— Вот, — проговорил Трифон, вытаскивая из него золотую монету.
— Ого! — не смог скрыть удивления хозяин лавки.
То, что монета редкая, он разглядел сразу.
— Империал? — спросил Зимин.
— Чего? — не понял Ретьяков.
— Монета так зовется. Тиража малого совсем. Не больше сотни, — проговорил еврей и тут же пожалел о своих словах.
То, что перед ним дилетант, ему стало понятно сразу, и рассказывать о достоинствах царской чеканки ни к чему.
— Наверное, — неуверенно проговорил Григорий, не особо вникая в характеристику монеты.
— А у тебя, откуда она?
Ретьяков не стал ничего придумывать для объяснений, боясь запутаться и отпугнуть покупателя.
— От отца достались.
— Достались? — сделав акцент на множественном числе, спросил Зимин. — Так у тебя еще есть?
— Есть.
— Ну, хорошо. Обменяю на сегодняшние деньги. Или товаром желаешь взять? У меня тут несколько знакомых торговцев. Сможешь в счет монет товаром у них взять. Прялку тоже куплю. На реализацию возможно выгоднее было бы, но вам же деньги сейчас нужны. Потому много за нее не смогу дать. Время, сам понимаешь, какое.
— Хорошо, — согласился Григорий и перевел дух.
***
Павел спал долго и проснулся, когда солнце было уже высоко. Вероятно, сказалось напряжение последних дней. Он с удовольствием потянулся. Затем какое-то время безмятежно лежал на хозяйской оттоманке, слегка покачивая из стороны в сторону головой и разминая затекшие за ночь руки. От шума выскочившей из часов кукушки, Гавзов вздрогнул и окончательно проснулся. Она бойко отмерила девять ударов, после чего дверка закрылась, скрывая птичку от посторонних глаз.
— Ах ты, зараза! — выругался он, вставая с дивана. — Чуть сердце не выскочило.
Потом усмехнулся собственной глупости и улыбнулся. В ту же минуту в замке наружной двери что-то щелкнуло и она словно вздыхая, отворилась.
— Есть, кто дома? — донесся с коридора бодрый голос Дымова и, не дожидаясь ответа, добавил:
— Я тебя закрыл, на всякий случай.
— Чтобы не украли? — усмехнулся Павел, выходя навстречу. — Умыться бы.
Микола посмотрел на него оценивающим взглядом и махнул рукой в конец коридора.
— Там умывальник, за занавеской. Бритва тоже там, коль решишь помолодеть.
— Надумаю, надумаю. Но только не в этот раз.
Пока приятель приводил себя в порядок, Микола разогрел на сковороде вчерашнюю картошку. Примус у него был надежный, шведский. Нечета тем, что выпускались в Союзе. Советские часто засорялись и сильно коптили. От того процесс приготовления пищи мог растянуться надолго. Был у Миколы такой. Ох, и намучился. Зачастую из-за его капризов голодным оставался. Месяц не попользовался, как он с ним расстался. Не продал, не выбросил, а просто засунул под печь. Любил он всякий хлам про запас оставлять.
Когда с Левого берега Двины сюда перебирался, то оставил новому хозяину столько «добра», что тот неделю выгребал. Взял с собой тогда помимо одежды лишь старый самовар да примус шведский, выменянный в порту на водку еще в первую мировую у иностранного моряка.
— Это чем тут так вкусно пахнет? — отвлек Миколу от воспоминаний голос Павла.
— Сейчас вот еще рыбки к картошке с подпола достану и поедим. Промотался всю ночь по городу. Только под утро уж кипяточку с шаньгой удалось перекусить, — пожаловался Дымов.
— А что так?
— А-а-а, — лишь отмахнулся тот. — Всяко бывает. То спишь на дежурстве, то глаз не сомкнешь.
Вскоре они уже сидели за столом. Две большие соленые селедки лежали посреди него на расправленной для этой цели газете.
— Ты, Микола, вот что, — Павел не договорил, встал из-за стола и прошел в коридор.
Когда вернулся, то держал в руке кожаный портфель, с которым вчера и пришел к приятелю. Он достал из него увесистый сверток и развернул. Из рассыпавшейся пачки советских купюр отсчитал двадцать штук и передвинул их по столу в сторону Дымова.
— Вот, возьми. Поесть чего нужно, купи. Ну и так, на первое время, — после чего Павел закрыл портфель и бросил его на диван.
Микола с удивлением уставился на пачку денег.
— Да тут же… Куда так много? По «три червонца»…
— Лишними не будут, пригодятся, — оборвал приятеля Павел. — И помельче поменяй, лучше сегодня. В губернии у вас с таких и сдачи не сдадут.
— В губернии? Ты никак в деревню, домой собрался? Зря. И дня не проживешь. Сразу арестуют. Сейчас милиция стала…, — он не нашел подходящего слова. — О-го-го! Быстро сообразят, что к чему.
— Вместе с тобой, Микола. Только вместе, — улыбнулся Гавзов. — Ты мне одежку тоже сегодня справь. Не броскую, но и не абы какую. Ну, к примеру, выходной костюмчик чиновника средней руки. Пиджачок, брюки, ботиночки. В морской форме расхаживать, сам понимаешь, не могу себе позволить. Вот, кстати, посмотри, — он достал из нагрудного кармана фотографию и показал Дымову.
Дымов посмотрел на Павла с легкой настороженностью.
— Что-то похожее?
— Желательно.
Миколе было как-то не по себе. Вчерашнее удивление от неожиданного воскрешения приятеля прошло. На смену ему где-то еще глубоко в душе, но уже отчетливо зарождалось чувство опасности. Давно он такого не испытывал. Пожалуй, с того дня, когда в далеком двадцатом сидел в коридоре, ожидая допроса у Озолса. Но тогда, слава Богу, пронесло. И даже с выгодой для него обернулось. Но сейчас. Сейчас, все как-то по-другому. Где-то внутри у Миколы появился страх, напомнив о себе легким ознобом и враз вспотевшими ладонями.
— Ты, чего это, дружище, загрустил? — Павел укоризненно посмотрел на приятеля, чувствуя, что с тем что-то происходит. — Нечего раньше времени волноваться. За меня не беспокойся. Документы у меня качественные, подлинные. Ляпин Федор Григорьевич теперь я. Российскими органами документы выписаны. Да и внешне, как ты заметил, я уже далеко не тот Павел с румяными щеками, — проговорил он, стараясь успокоить Дымова и с аппетитом обсасывая хребет селедки.
Начиная с того момента, как Микола вчера оставил Гавзова дома и ушел на дежурство, тревога в его душе все нарастала. Понимая, что Гавзов не поступил бы опрометчиво и не пренебрег бы мерами безопасности, Дымов все равно продолжал накручивать себя, мысленно представляя, как снова оказывается на допросе в ОГПУ. Хорошо, что на службе за всю ночь никто не обратил внимания на его странное состояние.
От последних слов приятеля, а особенно от созерцания, как тот с аппетитом и безразличием к кажущейся ему опасности, обсасывает рыбьи кости, Дымов почувствовал огромное облегчение. От добродушного и какого-то домашнего Пашкиного взгляда ему стало спокойно, а сжимающий всю грудь холодный страх отступил. Напряжение спало, а на его лице проступила едва заметная улыбка.
— Ну, и очень хорошо, — произнес Павел, увидев в Дымове такие нужные для него перемены.
— Ты как с Соловков тогда сбежал? — неожиданно и довольно небрежно спросил Микола. — Говорили, что погиб при побеге. И где жил-то все это время?
— Хороша рыбка. Я вот в Норвегии сколько жил, сколько рыбы там переел, а такой вкусной не доводилось, — будто не обращая внимание на вопрос Миколы, произнес Гавзов.
Он с удовольствием облизал маслянистые пальцы и подмигнул Миколе.
— Люблю с утра поесть. Ты, картошку-то сам садишь?
Дымов покосился на приятеля и промолчал.
— Да, ты не обижайся. Дай мне немного в себя прийти и с мыслями собраться. Все расскажу, — Павел слегка повернул лежащую перед ним газету. — Особо-то нечего про прошлое рассказывать. А вот о будущем… о будущем поговорим.
Он хотел еще что-то добавить, но, заинтересовавшись заметкой в газете, отвлекся.
— Сталинград — это где? — спросил неожиданно Гавзов.
— Сталинград?
— Да. Тут написано, — он ткнул пальцем в жирное пятно на газете. — «Скоро из Сталинграда ожидаем представительную делегацию по изучению историко-культурных ценностей…»
Микола ненадолго задумался, мысленно перебирая названия городов и, хлопнув себя по лбу, воскликнул:
— Так то — Царицын бывший. Нынче с названиями беда. Все меняют: улицы, поселки, города. Попробуй тут запомнить, — он чуть придвинулся к приятелю и, оглянувшись по сторонам, словно боясь быть кем-то услышанным, в полголоса добавил:
— Да, что там улицы, фамилии мужики меняют!
— Держишь дома козу, терпи и козлов под дверьми, — проговорил Павел.
— Чего?
— Да, это я так. В Норвегии так говорят. Пословица у них такая есть.
— А-а-а, — протянул Микола.
Гавзов ненадолго задумался, неспешно отхлебывая остывший чай.
— Чай-то вроде неплохой.
— Нинка принесла. Английский или индийский. Не помню, что сказала. На пачке то написано, только я не понимаю по ихнему. У нас такого нет. Опять же у моряков достала, — словно оправдываясь, пояснил Дымов.
— А ты, Микола, тут-то как оказался? Степан сказывал, что вас с ним вместе тогда арестовали, да отпустили. Я же хотел тебя по прежнему адресу искать, — Павел оторвал клочок от газеты и вытер ладони.
Дымов махнул рукой и встал из-за стола.
— Нас со Степаном в двадцатом на допрос вызвали. Все про тебя спрашивали, да про убитую… ну, сестру его в монастыре. Я с тех пор его и не видел.
Миколе не хотелось вдаваться в подробности того допроса. Ведь после него Степан на Соловки отправился, а он — домой. И не просто домой, а с направлением на работу в милиции. Как направление получил, вспоминать не хотелось. Но не сказать о том жизненном эпизоде тоже не мог. Знал, что Павел и Степан вместе были на Соловках. Вместе оттуда бежали. А потому наверняка Рочев рассказал об их аресте, после которого тот и угодил на Соловки.
— Да, ладно не мнись, Микола. Знаю я все твои тайны. ты не переживай, я же тебя не о них спрашиваю, а о том, как тут оказался.
— Илга? — еле выдавил из себя Микола.
Павел потянулся к своему портфелю, ухватил его за край и положил на колени. Открыв его, сунул руку в одно из многочисленных отделений и вытащил слегка помянутую фотографическую карточку.
— Илга, — согласился он, аккуратно дотронувшись до лица изображенной на ней девушки. — Завтра с ней увижусь.
— Дай Бог ей здоровья, — Микола мысленно перекрестился. — А в этом доме я месяца как три живу. Хозяина за убийство посадили. А чего дому пустовать? У нас так часто бывает — помрет кто безродный, али вот как тут — осудят, ну и отдают жилье нуждающимся. А мне с Левого Берега каждый день через реку на службу добираться, да потом обратно несподручно было.
— Ты на службу, кстати, когда? — прервал приятеля Павел.
— Ну, так-то выходной сегодня после дежурства, но нужно бы все одно забежать в участок.
Гавзов привычно пригладил бороду, размял руками шею и прошелся по комнате.
— Ты одёжу мне сегодня обязательно справь, — он встал сбоку от окна, слегка отодвинул шторку и осмотрел улицу. — Мне завтра в город нужно. С Илгой встретиться. Договаривались.
— С такими деньгами не проблема. Сейчас и схожу, чего откладывать. Да на рынок забегу. Надо чем-то тебя и кормить.
— И вот, что я хочу тебе сказать, — не увидев за окном ничего необычного, Павел вернулся к столу. — Скажу прямо. Я золото намерен с озера достать. И на тебя очень рассчитываю.
Во время дежурства Дымов размышлял о появлении Павла и о золоте мысль тоже была. Но очень наделся, что возвращение Гавзова никак с ним не связано.
— Вот оно как. А чем я тебе помогу? Я же на службе.
Микола хотел сказать совсем не то. Он еще ночью решил, что откажется сразу, если Гавзов об этом заговорит. Ничего хорошего от такой затеи он не ждал. Сколько несчастья от того золота. Связываться с ним снова и в очередной раз испытывать судьбу он никак не хотел. Только жизнь стала налаживаться. Только-только дослужился в городе до определенного милицейского положения. И променять спокойствие на неизвестность ему ну никак не хотелось.
— Я гляжу, ты вроде, как и не очень хочешь. Пригрелся на казенных-то харчах, — спокойно заметил Гавзов. — Да я не осуждаю. Каждый устраивается, как может.
Микола с облегчением вздохнул. «Неужели удастся отвертеться? — с надеждой подумал он».
— Да я может и помог чем. Только вот я тут, а оно, — он указал пальцем в потолок. — Оно там, — и снова себя выругал, что говорит совсем не то, что нужно.
— Ну, это — не проблема. — Когда говоришь о солнце, оно начинает светить.
— Чего? — не понял Микола.
— В Норвегии поговорка такая есть. Если ничего не делать, то ничего и не будет.
— Так-то оно так…
— А Илга говорила, что тебя уговаривать не придется, — Павел внимательно посмотрел на Дымова. — Прошлое оно только, кажется, что прошло. Оно всегда рядом и частенько к нам возвращается. И возвращается иногда совсем не так, как хотелось бы.
Микола понял, что Гавзов много о нем знает, а возможно и не только знает. А потому отказаться вряд ли получится. «Может о нем властям сообщить? — мелькнула у Дымова шальная мысль?»
— И не думай, — словно читая его мысли, проговорил Павел. — Что написано, того не вырубишь. Бумаги имеют свойство и без человеческого участия попадать, когда и куда следует. Но зачем нам друг друга бумагой удерживать? Ну, написал ты бумажку. Кто их тогда не писал… Мы же с тобой в первую голову друзья?
— Илга мою расписку тебе отдала? Но как? Ты там, а она здесь…
— Да, не думай ты, Микола, ни о каких бумагах. Золотишко достанем, я ее тебе отдам. Зачем она мне? А хотя, чтобы ты не сомневался…, — Гавзов подошел к портфелю и в очередной раз за последнее время раскрыл его.
Ловко орудуя ножом, он вспорол боковую подкладку и вытащил от туда несколько листов. Выбрав два из них, протянул Дымову.
— На, бери.
Микола узнал свой корявый почерк. С грамотой у него было не очень, но суть написанного легко можно было понять и так. Он быстро пробежал глазами по тексту и остановился на том месте, о котором время от времени вспоминал последние пять лет. «…Мы хотели золото утаить от советской республики и присвоить…». Далее он не читал.
— Ну, что, Микола. Я сделал для тебя большое дело. Выбор за тобой. А ты знаешь, что за такие дела, — Гавзов кивнул на скомканные в руках Дымова листы. — По головке не гладят, — он провел большим пальцем у своей шеи.
У Дымова предательски вспотели ладони. Он положил бумаги на стол и вытер руки о штаны. Прошлое снова вернулось, и Микола явственно увидел себя на допросе Озолса в далеком уже двадцатом году. Вспомнились минуты, которые не давали покоя ему все последующие годы. «Договоримся так, — голос Илги он не забудет никогда. — Я даю тебе направление на службу в милиции. Дам рекомендации. Ты пишешь вот это, — она протянула написанный на бумаге текст. Или отправишься…». Он точно не помнил, что она сказала в конце, но это и не было важно. Вряд ли он был бы сейчас жив, если не согласился.
— Ладно, Микола, забудь, — голос приятеля заставил его отвлечься от воспоминаний. — Забирай бумаги. А я как-нибудь без твоей помощи обойдусь.
— Нет, — оборвал он Павла на полуслове. — Ты помог мне, я в долгу не останусь. Говори, что делать.
«Ну, вот и все, — подумал Гавзов. — Ну, Илга, ну, молодец! Все-таки бабы мужиков чувствуют лучше, чем мы их». Именно она подсказала Павлу в день их последней встречи, как сделать так, чтобы Дымов отправился в Ачем вместе с ним. И оказалась права.
Микола, решив показать, что намерения его твердые, тут же спросил:
— У тебя документы, какие при себе?
— Документы есть, — Павел достал из кармана парадного кителя несколько сложенных листов и книжек. — Вот, — и протянул ему всю пачку.
Дымов взял и стал внимательно их изучать.
— Ну, и? — не утерпел Гавзов.
— Погоди…, — ответил тот, не спеша листая тонкую книжицу. — Житель, значит Архангельска… Не женат…, — Микола улыбнулся.
— Ага.
— Все вроде… Нет, все в порядке. Даже в удостоверении личности фотокарточка есть. Непривычно как: на снимке ты, а документ выписан на Ляпина Федора. Хотя фотка и не обязательна, но с ней документ серьезнее.
— Привыкай, можешь меня начинать так звать.
— Только вот…
— Что?
— На последнем листе нужно штампик с пропиской поставить. Директива нынче вышла. Но, то — не проблема. Оформлю прямо сегодня на свой адрес, — в его голосе послышались нотки собственной значимости. — Хотя у нас тут не Москва и с документами много проще. Никто особо и не смотрит.
— А профбилет?
— Да, он ни к чему сейчас. Как и справка с места работы. Но пусть будут… на всякий случай. Ты, получается у нас, работник торговли… Трудовая книжка…, — Микола снова и снова разглядывал документы.
— Илга говорила, что ты теперь в этих делах специалист хороший.
— Чай не первый год в милиции, — с напускной важностью заметил Дымов. — Если каждый день одно и тоже… и курицу научить можно.
Он еще какое-то время перебирал бумаги и книжки-удостоверения, затем одобрительно хмыкнул и вернул их Павлу.
— Ты удостоверение-то возьми. Оформишь и отдашь, — Гавзов протянул обратно серую книжку.
— Сегодня же сделаю, — с нарочитой ответственностью произнес Микола, от чего Павел слегка улыбнулся.
— Отлично, а теперь… То, что я тебе сейчас расскажу, другие уши не должны услышать, — Гавзов понизил голос.
— Да, я — могила…
— Знаю, иначе бы к тебе не пришел. Илга организовала тогда наш с Рочевым побег с Соловков. Как она это сделала, она рассказывать не захотела. Знаю, что ее человек нам помог с острова выбраться. Но видать, не ее одной эта тайна. Да и не так это важно для тебя. Жаль, что Степан тогда погиб. По глупости.
— Утонул? — не удержался Микола.
— Когда на берег с корабля, на котором с Соловков бежали, ночью сходили, темно было. Он оступился и вниз на камни. Головой ударился. Умер сразу. На берегу от Илги другой человек нас встречал. Мы с ним Степана по берегу подальше оттащили, чтобы сразу на нас не подумали. Лодок много на берегу лежало. Одну столкнули в воду, от берега отплыли, ну и…. Жаль Степана. Царствие ему небесное.
— А его нашли потом, — произнес Дымов.
— Возможно.
Павел по привычке покосился на угол комнаты, где обычно стояли иконы в домах, но не ничего не увидев, повернулся к двери и перекрестился.
— А потом? — с возрастом любопытства в Дымове меньше не стало.
— Дальше? А дальше сначала на лошадях, потом по железке с мужичком этим. Через неделю в Польше оказались. До Гданьска добрались. Там тетка Илги жила. Она обоих сыновей в первую мировую потеряла. На старшего похоронку получила, а о младшем ничего не было известно. Вот меня за него и выдали. Ее в городе никто не знал. Специально из-за меня туда уехала со своей деревни. Потому никаких проблем не возникло. Так я и стал Тони Линдгреном. У тетки такая фамилия была.
— А как по ихнему-то балакал?
— Да, я первое время особо нигде и показывался. Тора, так звали тетку, родом с Норвегии. Перед второй Отечественной в Польшу перебрались. Зачем, я не спрашивал. Переехала сразу, как война началась. Сыновей ее в армию призвали. Старший погиб через месяц, а от младшего ни слуху, ни духу. Значения большого, на каком языке говоришь, там не придавали тогда. Многие еще по-русски говорили. Я там с год жил. А потом в Норвегию с теткой по совету Илги перебрались. Три года там жили. Язык быстро выучил. Еще в Польше начал говорить. На то Тора постаралась. Теперь вот и норвежский и латышский знаю. Английский не плохо. Нет так чтобы уж совсем, но проблемы в понимании нет.
— А Илга? Ты же с ней как-то общался? — спросил Микола.
— Мы, думаешь, почему в Норвегию уехали? Так Тора решила. Да и Илга была не против. В Норвегию суда с России стали заходить. Отношения между странами налаживались. В Польше сложнее намного.
— Значит, она писала тебе?
— Тетке писала для меня. Несколько раз с капитанами судов передавала. Даже через эмигрантов как-то письмо пришло. Обычная почта из-за ее служебного положения не подходила.
— Понимаю.
— Был случай, что и через диппочту письмо отправляла. Возможности у чекистов сам знаешь. Кстати, думаешь, кого я в Норвегии встретил?
— Ну? — выдохнул Микола.
— Сослуживцев своих, с теми с кем у генерала Миллера служил! Представляешь, я же с ними против красных воевал. Когда Юденича разбили, я к Миллеру попал. Правда, сбежал от него…, — Павел, пытаясь что-то вспомнить, задумался. — Витя Круглов, Коля Шатов… Помогли мне там. Они вместе с Миллером в двадцатом эмигрировали. В Тронхейме обосновались. Вот бы кого сейчас сюда. С теми ребятами горы бы свернули. А там я все это время вместе с ними в порту работал.
— Да-а-а, — только и произнес Дымов.
— Ну, да, чего уж сейчас. Абы, да кабы…
— И вы ни разу за все время с Илгой не виделись? — спросил Дымов.
Павел прикрыл руками лицо и замолчал. В комнате наступила такая тишина, что городской шум, проступающий сквозь хлипкие рамы, моментально заполнил всю комнату.
— А? — переспросил Дымов.
— Виделись, — наконец, отозвался Гавзов. — Два раза. Но можно сказать, что один. В первый раз не разговаривали. Только смотрели друг на друга.
— Как это? Виделись и не говорили? — у Миколы от удивления округлились глаза.
— Летом двадцать первого из Архангельска в Петроград через всю Европу ушло судно с лесом. Кстати, первое из тех, что при советской власти за границу пошли.
— Ленинград.
— Что Ленинград?
— Петроград так сейчас зовется, — пояснил Дымов.
— Ну, не важно. Так Илга была в числе делегации на том пароходе. Они с пропагандистской целью ездили. Мол, смотрите, как у нас в стране все хорошо. Работает она, сам знаешь, где. Да и с Ворониным у нее отношения хорошие.
— С капитаном?
— Ну, да. Не перебивай. Судно по пути заходило в порты нескольких стран. В том числе и в Норвегию. Однако, с судна никому на землю сходить не разрешили. Видно боялись, что кто-нибудь сбежит, — тут Павел засмеялся. — Так и стоял пароход два часа у причала, а пассажиры в это время на палубах. Мы с теткой тоже там были. Илга письмом сообщила, что должна приехать. Вот и стояли мы, задравши головы. Глядели друг на друга. Я видел, как она с кем-то эмоционально говорила на палубе. Пыталась убедить кого-то, чтобы ей разрешили сойти на берег, но ничего не помогло. И вскоре судно отчалило и ушло дальше.
— Да-а-а, дела, — протянул Дымов, потирая глаза. — А во второй-то раз встретились? — он широко зевнул.
— Ты за одеждой мне, когда пойдешь?
— Часок вздремну и схожу, — Микола снова смачно зевнул и прилег на оттоманку
Понимая, что приятель больше ничего не расскажет, он указал на занавеску и сказал:
— Если захочешь переодеться, то там посмотри чего-нибудь. Все, что висит, все чистое — Нинка стирала.
Он еще хотел что-то добавить, но не успел.
— Уж, непременно. Не дай Бог еще твоя Нинка или еще кто увидит меня в этом, — проговорил Павел, понимая, что последние слова уснувший Микола уже не слышит.
Дымов вернулся домой лишь к вечеру. Он так быстро открыл дверь и прошел в комнату, что Павел не успел даже встать с дивана. Микола окинул приятеля взглядом, положил принесенный сверток на край стола, а рядом на пол опустил завязанный мешок.
— Не потерял меня? — спросил он, вешая фуражку на вбитый в стену гвоздь.
Он был несколько взволнован, что не укрылось от Гавзова. По выражению его лица он понял, что что-то случилось.
— Ты куда пропал? — спросил Павел, вставая с дивана. — А это что? — он кивнул головой в сторону свертка.
В ожидании приятеля Павел зря время не терял. Первым делом, когда тот ушел, взялся за бритье. Глядя в осколок зеркала, аккуратно подравнял огромные черные усы и привел в порядок разросшуюся за последний год бороду. Над внешностью пришлось изрядно потрудиться. Хорошую бритву с собой Гавзов не взял, а та, что была в хозяйстве у Дымова, оказалась не совсем пригодной для создания его нового облика. Глядя на затертую фотографию, на которой молодой мужчина позировал на фоне южного пейзажа, он осторожно водил бритвой, сбривая ненужную растительность.
Снимок, как и документы на имя Федора Ляпина, передала ему Илга, когда они, наконец-то, встретились в прошлом году. Изображенный на нем мужчина в темном костюме, бабочке и канотье был очень похож на Гавзова. При желании можно было разглядеть даже что-то очень похожее на шрам, украшающий лицо Павла. С обратной стороны карточки аккуратным, скорее всего мужским почерком было написано: «Глафире от Федора Ляпина. 30 лет от роду. Одесса, 1924 год».
Покончив с бритьем, он аккуратно подровнял ножницами волосы на висках. Затем достал из портфеля флакон одеколона — подарок Илги при их последней встрече, и лист бумаги с замысловатым рисунком. От души сбрызнув себя «Тройным», Павел тщательно размазал жидкость по щекам и шее. Давно не бритую кожу приятно защипало, и он с удовольствием похлопал покрасневшее лицо.
Гавзов прошел в коридор, где висело большое зеркало. То, а вернее кого он увидел в нем, его порадовало. В смотревшем на него мужчине признать его было почти невозможно. Затрапезный вид хозяйской одежонки, которую он себе подобрал из Миколиных запасов, конечно же, не подходил к его новому обличью. Однако и в этом Павел увидел определенное преимущество. Отметив для себя, что такое несоответствие еще больше отдаляет его от образа Федора Ляпина, он одобрительно кивнул, и вернулся в комнату.
Подойдя к столу, взглянул на лист бумаги и невольно улыбнулся. На создании карты настояла Илга. Она же со слов Павла и нарисовала. Чертеж получился хорошим и очень точно отображал местность вокруг Вандышевского озера. И Ачем вместился и река Нижняя Тойга. Конечно же, схема ему была не очень нужна, он и без нее знал места, где вырос. Однако, план поиска золота, готовила Илга, а потому возражать что-то против ее замысла и рисунка Павел не хотел. Глядя на причудливые линии озера, на точки-дорожки и не заметил, как память унесла его к событиям годичной давности.
Спустя какое-то время он отошел от воспоминаний. Не спеша походил по дому, рассматривая Миколино хозяйство и заглядывая во все возможные углы и ящики. Заметив на кухне в углу гору немытой посуды, включил примус и поставил греться чайник с водой. Спустя час все кастрюли, миски и ложки были перемыты и аккуратно разложены на столе сушиться. Не зная, чем еще заняться в ожидании Дымова, он прилег на диван и задремал, проспав до самого вечера.
— Там одежда тебе. Думаю, подойдет, померь. Вот деньги поменял на мелкие бумажки, — Микола достал из кармана штанов пачку ассигнаций. — Да, и удостоверение с пропиской, — он суетливо хлопнул себя по нагрудным карманам, вытащил книжку из одного из них и протянул Гавзову.
И только после этого Дымов обратил внимание на нервничавшего приятеля.
— Ого! Тебя и не узнать. Знатно побрился. В костюме, что я принес, будешь как наше исполкомовское начальство. Ботинки не стал покупать. У тебя свои намного лучше. Или у меня подберем: от прошлого хозяина несколько пар новых остались.
Павел слушал Дымова, все больше убеждаясь, что что-то произошло.
— Ты какой-то не такой, — заметил он, разворачивая сверток с одеждой. — Что-то не так?
— Тут вот какая история приключилась, — Микола опустился на стоящую у стены скамью. — Вашего мужичка вчера зарезали. Насмерть.
— Кого, кого? — переспросил Гавзов. — Какого нашего? Говори яснее.
— С твоей деревни. С Ачема вашего.
— Тьфу ты, — облегченно вздохнул Павел. — Мало ли кого убивают. А мне-то чего?
— Чего, чего? — Микола покачал головой. — А то, что люди видели, как он николаевский червонец показывал на рынке. И вроде как не одна монета у него была.
Гавзов отложил костюм и уставился на Дымова.
— Фамилия, какая у убитого, известно?
— Ретьяков. Трифон. По-батюшке Порфирьевич. Сорока двух полных лет…
— Тришка? Ретьяков? — удивился Гавзов. — Он-то тут откуда? Тришка в городе и с золотом? Не может быть!
Микола покосился на приятеля.
— Он, к твоему сведению, помощником при вашем милиционере состоит… состоял. Конюхова Григория знаешь такого?
— Гришку? Знаю, как не знать. Мы же погодки с ним.
— Погодки, — не без иронии проговорил Микола. — Он — старший милиционер вашего Ачема! А ты погодки, говоришь.
— Ого! Ну, дела!
Микола усмехнулся.
— Вот, тебе и ого, — передразнил он приятеля. — И Конюхов тоже тут был. Правда, не в нашем отделении. Его в другом допрашивали. Не знаю почему. И бабенку, что с ними приезжала, тоже там допрашивали. Они вчера в город втроем пароходом приехали. Милиционеры и женщина молодая с ними. Как раз в тоже время, что и ты. Странно все как-то, не находишь? Вот из-за вашего Трифона вместо отдыха после дежурства весь день в отделении протолкался, — устало проговорил Дымов.
— Ты сказал о червонцах.
— Да, да. Старик местный видел и показания дал. Все-таки червонцы такие у деревенского мужика — не шутка. Да и бабы, что на треске сидят, тоже говорят, видели, как мужик ваш монетами тряс. Он хотел их на бумажные деньги поменять.
Павлу вся эта история с червонцем совсем не понравилась. Монеты всплыли не вовремя. Сейчас, когда он собирался заняться поисками золота в Ачеме, эта история была ни к чему. То, что червонец у Тришки оказался не случайно, он понял сразу. Помнил, как его приятель Никифор Ластинин рассказывал, что золото у Ретьяковых после ограбления парохода появилось. Но не это сейчас волновало его. «А если начнется расследование? Тогда наверняка в Ачеме будут расспросами-допросами заниматься, — мелькнуло у него в голове. — Ну, никак не ко времени вся эта история».
— Золото у Трифона нашли? — догадываясь об ответе, спросил Гавзов.
— Да, ты, что! Какое золото! Копейки и той ни единой. Все подчистую выгребли, — выпалил Микола.
— А кто видел? Ты знаешь их?
Дымов чертыхнулся, вспомнив того, кто стал у них главным свидетелем в деле.
— Бабы, то — ерунда. Вроде видели, а конкретики от них никакой. Что-то в руке блестело у вашего Ретьякова.
— Да, не мой он, Микола.
— Ну, то я так., бабы и не вспомнили бы ничего, если бы не Кривошеин. Он как сказал, так и они сразу встряли.
— То — кто?
— Старик. Старик, который видел, как тот монеты показывал. Демьян Кривошеин — местная знаменитость. Все знает, везде поспевает. Старый, старый, а гоношистый… ужас какой.
— Старый?
— Ну, восьмой десяток разменял, а еще ого-го! Вроде, как и неказистый с виду, а иного молодца за пояс здоровьем заткнет. А уж знает сколько! Толи книг начитался, толи и вправду много, где побывал и чего повидал.
— Вот, идиот! — выругался Гавзов.
— Ну, я ему тоже так и сказал.
Павел сначала пропустил слова Миколы мимо ушей, но потом недоуменно на него посмотрел и рассмеялся.
— Ты чего? — не понял Микола.
— Ты… ты, — Гавзов хохотал от души. — Ты кому, покойнику сказал?
— Да, какому покойнику! Демьяну Кривошеину! — воскликнул Дымов и тоже рассмеялся.
— А-а, — успокоившись, промолвил Павел. — А то я уж о тебе невесть чего подумал.
— Ретьяков с Кривошеиным случайно познакомились, когда ваши с парохода сошли. Он на набережной околачивался. Да я его тоже там видел и от реки выпроводил. Ну и попросил ваш, то есть, Ретьяков, старика подсобить прясницу продать. О червонцах ничего не говорил. Кривошеин много народу торгового знает вот и хотел помочь.
— Прясницу?
— Да, была у него прялка. Красивая, и знаком забавным на торце лопасти меченая. Демьян сказывал, что на знак первым делом внимание обратил.
— Если с нашей Нижней Тойги, то точно красивая, — Павел удовлетворенно кивнул.
— Вот и Кривошеин…
— Да, что твой Кривошеин, — Павел махнул рукой. — Ты знаешь, какие у нас прясницы делают? Ого! У нас прясница у матери была — картина, а не прялка. На одной стороне лошади невесту красавицу везут в санях. Ямщик в баском кафтане. На обратной — конь красной масти и всадник удалой. А вокруг узоры из красивых трав…
— Да-а, — протянул Микола. — Ты так говоришь, словно только из своей деревни приехал, а не оттуда, — он кивнул куда-то в сторону окна.
— Ладно, Бог с ней с прясницей. Хотя, что за знак он видел?
— Вроде как два солнца друг на дружку смотрят, — припомнил Дымов.
— Ну да, из наших значит. У нас так метят.
— Солнцами?
— Двумя картинками одинаковыми. Могут двумя месяцами, двумя ромашками или рыбами. две одинаковых картинки друг на друга смотрят, будто любуются, — мечтательно заметил Павел. — Ну, и дальше то, чего?
— Чего, чего. Ну, Ретьяков на рынок пришел, как с дороги на ночлег устроился. Демьяна нашел. Тот его с Зиминым Яшкой познакомил. Тот еще еврей. Антиквариатом торговал. Ему Ретьяков прялку и продал.
— А червонцы кому показывал? И почему торговал?
— Яшке и показывал, как Кривошеин говорит. Сам Демьян тут же в лавке был и все видел. Говорит, что червонцы еще прошлого века. Редкие монеты. Он их ни с чем не спутает. Потом они отошли куда-то. Кривошеин ждал их, но не дождался. Лавку Зимина прикрыл и домой ушел. Под утро их обоих и нашли в сарае, где керосин хранят. Я только с дежурства ушел, как их нашли.
— А прялка? — неожиданно спросил Павел.
— Что прялка… Ах, прялка! Так ее не было рядом с ними.
— Да-а, — протянул Павел.
Дымов тоже вздохнул и, несмотря на свой милицейский наряд, что-то прошептал про себя и перекрестился.
— Слушай, Микола. Нужно эту историю замять, — после небольшой паузы проговорил Гавзов.
— Замять? — усмехнулся Дымов.
— Да. Иначе затею с поисками золота придется откладывать.
— А чего его заминать. Петренко сказал, что оттуда, — Дымов, уже в который раз кивнул в сторону окна. — Пришел человек и все.
— Что все?
— Сказал, что расследования не будет никакого.
— Как это?
— А я знаю? — воскликнул Микола. — С органов он. А нам то что. Баба с возу — кобыле легче. Бумаги все забрал. Кривошеина допросил. Хотел с собой увести, да передумал. И все.
— Понял. Кстати, о бабе. А где сейчас те, что вместе с убитым с Ачема приехали?
— Так им сказано было, чтобы сегодня же домой пятичасовым домой отправлялись, — видно было, что Микола устал от расспросов приятеля и отвечал уже нехотя. — Вчера только приехали, а сегодня уже и обратно.
— Кем сказано? — не понял Гавзов.
— Я же не видел их. Наверное, кем-то из начальства, — вместо кивка в сторону улицы Микола поднял указательный палец кверху. — Одним словом, гэпэушник сказал. Я твоих земляков на пароход посадил. Петренко велел. Как отчалил пароход на Котлас, так я домой только и пошел.
— Звать их как, узнал?
— Как не узнал. Да, говорил же тебе. Один — милиционер ваш Ачемский. Э-э-э, Конюхов Григорий. Еще пожаловался мне, когда я их провожал, что беда у него за бедой. В мае деревня его, говорит, сгорела. А тут еще и помощника убили.
— Да, да. Гришка, — согласился Павел. — Странно, что милиционер. Хотя… На него похоже. У него и отец такой. Тоже все бы при начальстве. Да и сам власть любит. Постой, постой. Деревня сгорела? Что за деревня?
— Ну, так он сказал. Женка, что с ним была, говорила название, да я не запомнил. Но не Ачем. Ачем я знаю.
— Бакино? Высокое Поле? — спросил Гавзов.
— Во, точно! Оно самое, Высокое Поле, — воскликнул Микола. — Небольшая, говорит, деревня.
— Да, уж, жалко, коли так, — искренне посочувствовал Гавзов беде земляка.
— Так они теперь вроде все в Ачеме вашем живут. Все туда перебрались.
— Ну, а женщина? Женщину-то как звать? — не удержался от вопроса Павел.
— А с попутчицей его я еще раньше знаком был. Елизавета. Гавзова. Она у Никифора в помощницах была. Ну, когда он в сельсовете у вас работал. В восемнадцатом, когда нас за золотом в Ачем посылали. Ты должен помнить. Судя по фамилии-то родня, поди, тебе будет.
Разговор прервала выскочившая из часов кукушка. Она лихо отбарабанила восемь ударов и скрылась внутри часов.
— Восемь. Пора бы и перекусить, — сглотнув слюну и поглаживая себя по животу, проговорил Дымов. — А то, как говориться, скоро спать, а мы не ели, — проворчал он и направился на кухню.
— Родня, — протянул Павел, приходя в себя после услышанного. — Ты со стариком меня познакомь. Может нам сгодиться, — чуть успокоившись, добавил он.
— Да, хоть завтра, — на ходу ответил Дымов.
— Они точно на пароходе уплыли? — крикнул Павел ему вдогонку.
— Куда уж точнее! С палубы мне ручками помахали! — донесся голос Дымова из кухни.
Часть вторая
Апрель 1924 год
На Ярославский вокзал поезд, в котором ехал Озолс, прибыл почти с трех часовым опозданием. Он подошел к перрону, когда часы показывали одиннадцать утра. Состав из Архангельска задержали перед самой Вологдой, где он простоял из-за разобранного местными ремонтниками участка пути. Этой весной на основных направлениях российских железных дорог начались массовые работы по ремонту путей, что сказалось на внутренних перевозках. Какие бы графики работ ремонтники не составляли для исключения простоев поездов, но без сбоев обойтись не получалось. Составы стояли повсеместно и ждали, когда откроют закрытый на ремонт участок. И как не старались затем машинисты наверстать упущенное время, удавалось это не всем. Вот и с поездом, в котором ехал Озолс, случилась задержка.
Несмотря на это, времени до совещания оставалось еще достаточно, а потому до места назначения Иварс отправился пешком. Прогуляться по знакомым местам ему хотелось давно. За те полгода, что работал в Москве до перевода в Архангельск, он при малейшей возможности выбирался на прогулки по ее паркам и улочкам. В отличие от Петроградской размеренности, где ему довелось начинать свою чекистскую деятельность, столичная суета Озолсу нравилась больше. Ему казалось, что время на Москве-реке проходит намного разнообразнее и насыщеннее его невской жизни. Он был уверен, что каждый день, прожитый в Москве, сравним с несколькими Питерскими, а время в российской глубинке, на его взгляд, вообще, словно стоит на месте.
Вскоре Каланчевская площадь вместе с остатками грязного апрельского снега, толпами разносортного люда и повозок остались позади. Купив у белобрысого пацаненка газету, Иварс свернул на одноименную улицу, миновал крикливый неугомонный Казанский вокзал, и только тут сбавил шаг. Дойдя до Садовой-Спасской улицы, где вокзальная суета уже никак не ощущалась, он скорее по привычке, чем по необходимости, на ходу огляделся и свернул на Мясницкую. Та, как и в прежние годы не отличалась чистой и была забита конными повозками. Иварсу нравился этот дорожный гвалт. Разноголосье возниц, цокот копыт вперемешку с грохотом повозок вызывали в нем, как ни странно, покой и умиротворение. Он достал из кармана часы и, убедившись, что не опаздывает, направился пешком в сторону Лубянской площади.
Весна одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года столицу согреть не торопилась. Кучи почти не тающего снега вперемешку с городским мусором лежали вдоль дорог и во всевозможных уличных закутках. Но как ни странно, в этот раз слякоть от плохо убранных улиц его не раздражала. Наоборот, глядя на московскую не ухоженность, Озолс с нескрываемым удовольствием отмечал, что в его провинциальном Архангельске в такие дни даже почище будет.
Во рту все еще чувствовался привкус паровозного дыма, и Иварс время от времени подходил к краю тротуара, сплевывая скопившуюся неприятную слюну. В тот момент, глядя на него со стороны, можно было подумать, что он чем-то отравился. Так, по крайней мере, Озолс выглядел, согнувшись в очередной раз у края дороги. Однако, все было намного проще. Запах чего-то горелого и паленого Иварс не переносил с детства. Не важно, откуда исходили эти запахи. И хотя паровозная копоть лишь отдаленно напоминала эти ароматы, но воспоминание о черном дыме, клубами расползавшемся от паровозной трубы, невольно ассоциировались с пережитым когда-то пожаром на птичьей фабрике. Каждый раз после подобного рода ингаляций ему требовалось немного времени, чтобы избавиться от неприятных ощущений. А потому пешая прогулка по Москве была очень кстати. Хорошее самочувствие перед ответственным совещанием никак ему не помешает. Тем более, что причину, по которой его вызвали, ему не сказали, уведомив лишь, что явиться на Лубянку ему следовало в штатском костюме. Определенная неизвестность давала повод главному архангельскому чекисту предстоящий визит на Лубянку считать очень важным.
Руководить отделом ОГПУ при Архангельском губисполкоме Озолс был назначен в прошлом году. Возглавляемый им «седьмой» отдел, расформировали, превратив в отделение по борьбе с контрреволюцией. Начальником этого отделения стала Илга Пульпе — помощница Иварса, а ныне первый его заместитель. Сам же он наконец-то занял отдельный просторный кабинет с окнами на главную городскую улицу. В оперативных мероприятиях и допросах, как раньше, Озолс практически не участвовал, все больше проводя время на многочисленных совещаниях и заседаниях у губернского руководства.
Это был его первый визит в столицу в новой должности. Дойдя до Милютинского переулка, Озолс свернул направо, и, через сотню метров, остановился. Здесь на втором этаже бывшего доходного дома, он когда-то снимал комнату. Иварс прошел еще с десяток метров, в очередной раз сплюнул на дорогу, и повернул назад. Ночевать сегодня, конечно же, придется, но вряд ли он остановится здесь. Подходя к Лубянке, его внимание привлек огромный плакат, развешенный на стене углового пятиэтажного дома. Вспомнив, что он его уже сегодня видел, Озолс вытащил из внутреннего кармана сложенную газету. На первой полосе «Безбожника» красовалась все та же надпись: «С днем рождения советский флаг!». Отметив про себя, что флаг родился в том же месяце, что и недавно умерший Ленин, он направился к входным дверям главной спецслужбы страны.
Дежурный на входе внимательно проверил у него содержимое портфеля и документы. Затем связался с кем-то по телефону, выписал пропуск и, протягивая бумаги, зычно произнес:
— На второй этаж.
Взглянув в пропуск, Иварс недоуменно произнес:
— Мне на совещание…
— Да. Все верно. Ошибки нет. Вас ждут в приемной первого заместителя. Проходите, товарищ Озолс, — прервал его дежурный и многозначительно добавил:
— Вас уже ждут.
В приемной первого заместителя председателя ОГПУ помимо сидящей за пишущей машинкой в накрахмаленной белой кофте девицы, находилось еще двое мужчин в костюмах из черного трико. Как только Иварс вошел, тот, что был выше ростом, поднялся со стула и шагнул в его сторону.
— Товарищ Озолс? — спросил худощавый, с бледным лицом мужчина и вытянул вперед руку.
На секунду замявшись, Иварс, вытащил из внутреннего кармана пальто только что убранные документы и сунул их в ладонь штатского. Тот взглянул на бумаги и посмотрел на Иварса. Затем снова их внимательно перечитал и вернул хозяину.
— Извините, товарищ Озолс, служба. Вы можете раздеться, и портфель оставьте здесь, — он указал рукой в сторону вешалки на стене.
Иварс повесил пальто, поставил тут же портфель и повернулся к мужчинам. Тут пришла очередь второго охранника. Он ловко подскочил на стуле и распахнул дверь, рядом с которой висела табличка первого заместителя.
— Проходите, товарищ Озолс. Ваша очередь, — трескотня печатной машинки на мгновенье прервалась, и Иварс услышал голос обладательницы белой кофточки.
«Моя очередь? Почему очередь? — только и успел он подумать, переступая порог кабинета».
Грохот трамвая, пронесшегося по Мясницкой, оторвал Иварса от раздумий. Он взглянул на часы и понял, что стоит на улице уже достаточно долго. Не по весеннему холодный ветер развевал полы расстегнутого пальто, проникал к самому телу, но Иварсу холодно не было. Ему все еще было жарко от услышанного на втором этаже.
Совещание длилось чуть более часа и закончилось минут сорок назад. Затем он спустился в столовую на первом этаже, где быстро пообедал и вышел на крыльцо. Все это время он раз за разом возвращался к состоявшемуся разговору. Важность приказа, который озвучил первый заместитель, не вызывала сомнений. И исполнить его нужно любой ценой. Секретность, которую необходимо соблюдать при его исполнении должна быть высочайшая, о чем свидетельствовал и тот факт, что помимо зама в этом разговоре принимали участие всего два человека. Их Иварс лично не знал и ранее не встречался. Фамилий во время совещания никто тоже не называл. Обращались друг к другу по имени и отчеству. К круглолицему зампредседателя обращался не раз и с видимым уважением, называя его Александром Георгиевичем. А вот как зовут второго, Озолс узнал уже в конце совещания. Сухощавый Глеб Иванович предпочитал больше молчать и слушать своих собеседников. А те говорили хоть и эмоционально, но по очереди, не перебивая друг друга, а словно дополняя сказанное до него.
То, что после выполнения задания ему предложили достойное место на Лубянке, о чем первый заместитель не преминул сказать уже в начале разговора, его очень обрадовало. Виду он, конечно, не показал, внешне воспринял спокойно, но вряд ли его состояние укрылось от взгляда опытных чекистов. Озолс хотел очутиться снова в Москве. Просто бредил этой мечтой и не раз признавался себе, что ради этого смог бы пойти на многое. Однако, спустя какое-то время настроение у него стало хуже некуда. Иварс понял, что стал свидетелем тайны, которая может оказаться в случае неудачи его приговором. Вероятно, это не укрылось от глаз проницательного зама. Потому как, прощаясь, он ободряюще похлопал его по плечу и произнес:
— У нас говорят, что не гении горшки обжигают, товарищ Озолс, а трудовой народ! Не так ли?
Иварс прекрасно знал русскую поговорку, но вот о гениях слышал впервые. Поправить начальника он не решился.
— Да, конечно, не они, — Озолс по привычке щелкнул каблуками ботинок, забыв, что одет в штатский костюм.
— Ну и очень хорошо. Можете идти, — почти по слогам проговорил хозяин кабинета.
Он открыл дверь в приемную и, пропустив Озолса вперед, вышел следом.
— Зоя, вроде бы все сегодня?
Ответа Иварс не расслышал. Он взял пальто и портфель и направился к лестнице. Пока спускался вниз, от пришедшей нелепой мысли ему стало не по себе. По спине предательски пробежал холодок. В тот миг слова «белой кофточки» об его очереди уже не выглядели обычным канцелярским шаблоном, а приобретали совершенно иной смысл.
«У страха глаза велики, — пытаясь прогнать дурные мысли, припомнил он русскую пословицу и выбежал на улицу».
***
Озолс вернулся в Архангельск накануне дня Интернационала. В городе праздник почти никак не ощущался. По крайней мере, здесь, рядом с перроном. Лишь скромный плакат и красный флажок на углу здания железнодорожной станции, напомнили ему, что завтра уже первое мая. Весна, как и в Москве не особенно здесь чувствовалась. Но солнце, по крайней мере, так Иварсу показалось, здесь было приветливее и припекало почти по-летнему. И только северный ветер, гуляющий вдоль платформы, не давал повода усомниться, что приехал он не к Черному морю. По скоплению у вокзала конских повозок Озолс понял, что ледоход уже прошел, и паромная переправа работает. Это было важно, потому, как основная территория города располагалась на правом берегу Северной Двины, а поезда из-за отсутствия моста через нее останавливались на левом. Перемещение людей через реку осуществлялись зимой по льду, а в теплое время года на пароме.
Наняв извозчика, Иварс, не заезжая домой, сразу отправился на службу. Не доезжая до губисполкома один квартал, он рассчитался с возницей, сошел и дальше отправился пешком. В коридорах было малолюдно, и до своего кабинета его никто не остановил. Проворно повернув ключ, он вошел в душное помещение. Бросив взгляд на оставленный им беспорядок, понял, что после его отъезда здесь никого не было.
Иварс отдернул штору и распахнул окно. Скинув надоевшее за время поездки пальто, он подошел к видавшему виды черному кожаному дивану и подумал, что за те месяцы, что ему здесь пришлось работать, ни разу на нем не сидел. Присев, Иварс скинул ботинки, и с удовольствием вытянулся на мягком сиденьи. Он подложил руку под голову, и глубоко вздохнув, прикрыл глаза. Ему хотелось отвлечься, но сознание в очередной раз вернуло его на несколько дней назад.
— Товарищ Озолс, мы верим в вашу преданность идеалам революции и отдаем должное вашим прежним заслугам, — проговорил заместитель председателя ОГПУ и, чуть наклонив голову вниз, обвел взглядом собравшихся за столом мужчин.
Он привычным жестом пригладил пышные черные усы и посмотрел на Иварса поверх круглых с тонкими дужками очков.
— Надеюсь, вы понимаете всю секретность этого разговора? — произнес круглолицый мужчина в штатском.
— Вы правы, Александр Иванович, — первый зам одобрительно закивал головой. — А потому скажу без излишних предисловий. В июне одна тысяча четырнадцатого года в ваших краях перевозили золото, которое исчезло. И до настоящего времени его судьба неизвестна. Стране сейчас как никогда нужна финансовая поддержка. Поэтому вам поручается найти пропавшее золото и вернуть его государству. Кроме вас об этом никто не должен знать: ни жена, ни ваше губернское руководство… Никто. Поиски афишировать не следует. Внимание к ним не привлекать. Естественно заниматься этим не собственноручно и не работниками вашей службы. Лучше, если это будут посторонние люди. Ну, например, геологоразведочная экспедиция или что-то в этом духе. Для выполнения поручения допустимы все средства. Понимаете? Все. Включая крайние меры. Вся имеющаяся информация по этому делу, а ее не так много, здесь, — он постучал ладонью по лежащей на столе папке.
— И никаких свидетелей. Ни до, ни после выполнения задания не должно быть, — проговорил сидевший напротив Озолса мужчина лет сорока пяти с бледным лицом.
— Соглашусь с Глебом Ивановичем. С собой по понятным причинам я вам документы не дам. Думаю, что десяти минут для прочтения вам хватит, — первый заместитель пододвинул папку Озолсу. — А мы с товарищами подождем. Да, и вот еще что. Нам известно, что во время гражданской войны попытки его отыскать предпринимались вашим губернским руководством. Ведутся ли они сейчас или нет, у нас сведений нет. Думаем, что вряд ли. Если только по чьей-то личной инициативе. Заодно и проверите. Однако, еще раз повторю. Об операции никто кроме лично вас и ее исполнителей не должен знать. Последние, я надеюсь, будут знать только то, что сочтете нужным.
Иварс не услышал, как открылась дверь в его кабинет. Лишь по дуновению свежего воздуха и легкому аромату духов, понял причину их появления. «Илга, — догадался он»
— И где ты умудряешься такие ароматы покупать? — проговорил Озолс, открывая глаза.
— Здравствуй, Иварс, не помешаю? — на пороге стояла русоволосая женщина лет тридцати с огромным красным бантом на груди.
— Проходи. Хорошие духи у тебя, — Озолс присел, быстро натянул ботинки и встал с дивана. — Как Янис?
— Спасибо. С сыном все хорошо. Я только что домой забегала, проведала. Нюра — славная женщина. И со своими управляется и за моим следит. Я войду? — не дожидаясь ответа, Илга прошла к столу, ладонью провела по сиденью одного из стульев, словно проверяя его чистоту, и присела.
— Входи, Илга. Входи, конечно. Я тут прилег вот с дороги, — проговорил он, еле сдерживая подступившую зевоту.
Глядя на свою привлекательную помощницу, у Озолса внутри что-то защемило. Он глубоко вздохнул, словно прогоняя подступившее наваждение, и прошел к столу. Несколько лет назад еще в самом начале их знакомства, Илга решительно пресекла его попытки ухаживания и однозначно дала понять, что места в ее сердце для него нет. И однажды, когда ухаживания стали слишком настойчивы, очень деликатно дала ему понять, что у них ничего с ним быть не может. И, что связывать их может только работа. Два года назад Озолс женился, но это не лишило его мужского интереса к своей землячке.
— Ну, что тут у вас? — спросил Озолс, усаживаясь напротив своего заместителя и по совместительству начальника отделения по борьбе с контрреволюцией.
— По старым делам без изменений. Завтра усиленный режим.
— Да, праздник, — протянул Озолс. — Вот, тебе привез, возьми. «Большевик». Первый номер вышел. Прочитаешь, мне расскажешь, — он подтолкнул к ней новенький журнал.
— Спасибо. Столичной печати тут совсем нет. Спасибо, — женщина искренне поблагодарила его. — Как съездил, Иварс? Что-то серьезное? Домой не зашел — сразу на работу приехал.
— А может и зашел?
— Не забывай, кем я работаю, — рассмеялась Илга. — Разве не я тебя провожала в Москву? А?
— И что?
— В чем на вокзале тогда был, в том и сейчас сидишь. Значит…
— А-а-а… Дураку — дурацкое счастье, — не радостно заключил Иварс.
— Ты и это помнишь? — удивилась Пульпе.
— Я много чего помню. Помню, как с тобой познакомились, а уж латышские поговорки тем более, — многозначительно заметил тот.
— И все-таки, — проявила настойчивость Илга. — Такое ощущение, что ты все еще не здесь.
Озолс посмотрел на помощницу. Внезапно возникшая в голове идея заставила его задуматься. Он несколько раз повторил ее про себя, стараясь не потерять и закрепить пришедшую мысль. Спустя несколько секунд Иварс уже знал, как, а вернее кто сможет помочь ему выполнить поставленную перед ним московским начальством задачу. От напряжения на его лице выступила испарина. Он достал платок и вытер вспотевший лоб.
— Ау, Иварс! — состояние начальника не укрылось от внимания Пульпе. — Ты, где?
— Да, отвлекся. У каждого своя вошь, — снова блеснул он своим знанием латышских пословиц.
— Да, ну тебя, — Илга махнула рукой и привстала, всем своим видом показывая, что хочет уйти.
— Погоди…, — проговорил Озолс, пытаясь сформулировать про себя интересующий его вопрос.
Он подошел к окну и закрыл створки. Затем быстро прошел к двери и повернул торчавший в замке ключ.
— Ты, что Иварс задумал? — по-своему истолковав действия начальника, спросила Илга.
— Скажи, Янису сколько уже? — неожиданно спросил тот.
— Два, третий. А что? — слегка растерялась женщина.
Вопрос показался ей несколько странным. Начальник редко справлялся о ребенке, а тут не успел приехать и уже интересуется.
Озолс на мгновенье задумался и снова спросил:
— Ты когда… Напомни, ты когда в последний раз виделась с Павлом Гавзовым?
Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что женщина на какое-то время растерялась. «В Москве узнали, что я помогла Павлу бежать? Или о том, что он живет у моей тетки? Знают о письмах за границу? А может что-то с Павлом случилось? Что они знают? — от неприятных предчувствий на щеках предательски выступил румянец». Наконец, она смогла успокоиться и взять себя в руки.
— Твоя поездка как-то связана с прошлым? — уклонилась она от прямого ответа, пытаясь выяснить причину его интереса к Павлу.
— Ты не ответила, — в голосе Иварса появились недовольные нотки.
Секундная пауза пошла ей на пользу. Илга окончательно пришла в себя, и глядя в глаза Иварса, проговорила:
— Дай вспомнить.
Женщина сделала вид, что задумалась и выдержав паузу, продолжила говорить.
— Осенью двадцатого. Э-э перед тем, как на Соловки его отправили. Ну, да, точно, в двадцатом. А чего ты вдруг вспомнил о нем?
Озолс будто забыл, что находится в своем кабинете и по давней уличной привычке огляделся.
— Илга, я же знаю, что Павел с Соловков сбежал не без помощи…, — он сделал паузу, выжидая, что Пульпе закончит его мысль, и не ошибся.
— Балдерис, значит, проговорился, — негромко сказала Пульпе, пытаясь понять, для чего начальник начал тот разговор. — А ты все эти годы знал и молчал?
«Если бы не эта поездка в Москву. Если бы…, — подумал Озолс». Он прекрасно понимал, что, если бы не поручение московского начальства, то он, возможно, никогда бы не признался Илге, что ему все известно о побеге с Соловецкого лагеря. И если бы не он, никакой побег весной двадцать первого года у Павла Гавзова не получился. И она никогда бы не узнала, что его бывший помощник Раймонд Балдерис действовал тогда с его разрешения. И вряд ли ей стало известно, что сразу после ее разговора с Балдерисом, тот обо всем рассказал своему начальнику. Он долгое время верой и правдой служил Озолсу и не смог устоять перед соблазном в очередной раз доказать ему свою преданность.
— Эх, Раймонд, — вздохнула Пульпе.
Осознание, что он помог ей тогда не бескорыстно и обманывал ее, испортило женщине настроение.
— Илга. Если бы Раймонд тогда мне не доложил о твоих намерениях, то вся твоя затея закончилась бы гибелью…, — фамилия беглеца выпала у него из головы.
— Раймонда?
— Да, причем тут он. Раймонд погиб от пули бандита и навсегда останется в нашей памяти преданным борцом за дело нашей партии. Его смерть никак не связана с побегом Павла.
— Гибелью Гавзова?
— Непременно. Да и тебе пришлось бы не сладко. Ведь это я не дал тогда хода должному расследованию.
— Мне тебя благодарить? — нервно усмехнулась Пульпе.
Озолс надул щеки и не спеша выпустил воздух изо рта. Он покачал головой и накрыл своей рукой ладонь женщины.
— Послушай, Илга. Я всегда к тебе хорошо относился. И даже, после того, когда ты мне указала на дверь. И благодарить меня не нужно. Я помог влюбленной женщине. Разве это плохо? Да, я тоже нарушил закон, но сделал это тоже из-за любимой на тот момент женщины. Ты понимаешь?
Илга молчала, не зная, что ответить. Возникло ощущение, что начальник лукавит, скрывая истинную причину, но возразить не решилась. «Вот же проклятая работа. Недоверие ко всему и ко всем уже стало частью меня, — подумала она. — Может и правда ему знакомо это чувство?»
— Ты же знаешь, где он сейчас?
Вместо ответа женщина освободила ладонь из-под руки начальника, боясь, что тот почувствует ее волнение.
— Хочешь с ним встретиться?
Илга снова не ответила, пытаясь понять, к чему клонит Озолс.
— Хочешь, чтобы он вернулся в Россию? — наконец спросил тот и тоже замолчал.
От ответа Илги зависело многое, если не все. Если Пульпе согласится, то все, что он сделал для нее тогда, было правильным решением. И, если только что возникший план удастся реализовать, то уже никто не сможет сказать, что его помощь в побеге Павла, была противозаконна. Наоборот, все будет выглядеть как грамотно спланированная операция, направленная на укрепление мощи молодой республики. А в том деле все средства хороши. Победителей не судят. Ну, а если нет, то, как он понял из слов зама, отвечать все равно придется. И старые грехи тут не причем. Слишком многое ему стало известно на совещании в Москве и в случае неудачи полагаться на его молчание вряд ли кто будет.
Последний вопрос окончательно вывел Илгу из равновесия, и от Озолса не укрылось ее взволнованное состояние. По затянувшемуся молчанию ему стало понятно, что та поддерживает связь с Павлом. Он хотел поскорее удостовериться в правильности сделанного вывода, но женщина продолжала молчать.
— Да, ты что? Чего так разволновалась? — не выдержал Иварс.
— Твоя поездка в Москву как-то связана с этим? — в свою очередь спросила Пульпе.
На этот вопрос Иварсу не хотелось отвечать. По крайней мере, сейчас. Но понимая, что правильный ответ поможет Илге принять нужное ему решение, сказал:
— Оттуда, — он кивнул в сторону окна. — В общем, есть мнение, что эмигрантам, желающим вернуться на Родину, позволят это сделать. Но, не всех примут обратно. Надо понимать, что разрешат только тем, кто сможет быть полезным для страны. Ты понимаешь?
— А Павел? Он же…
— Погоди не перебивай. В свете этого решения мне было предложено подготовить список из таких кандидатур, согласовать его и возглавить у нас эту работу. Ну, вот я и подумал, в том числе о твоем Павле, — слукавил Озолс.
Он и сам удивился, тому, как складно ему удалось все сказать. И даже порадовался про себя тому, как удачно смог уйти от прямого ответа. Конечно же, люди в Россию возвращались, и это не было ни для кого секретом. А, значит, могло быть правдой.
— Он же беглый. К тому же не какой-то видный деятель и вряд ли представляет хоть какой-то значимый интерес для страны. Он должен быть необходим. Но чем? Чем он может быть полезен? Он же — обычный человек. Что Павел может такое сделать, чтобы ему разрешили вернуться домой и не арестовали?
По ее вопросам Озолс понял, что находится на правильном пути. И теперь не следует Илгу заставлять. Нужно сделать так, чтобы она сама предложила то, что хотел Иварс. Он не обманул ее об эмигрантах. Эту тему на совещании тоже затрагивали, но только вскользь, и не в связи с порученным ему заданием. Однако, мысль о них пришлась сейчас как нельзя кстати.
— Не знаю, Илга. Ты подумай. Он же во многих переделках побывал. Видел и слышал достаточно. Это не к спеху. Время есть, но немного. Вдруг политика сменится. Можешь не успеть. ТЫ с ним связь-то поддерживаешь? Он знает об Янисе?
— Хорошо, Иварс, я подумаю, — она снова ушла от прямого ответа.
— Подумай, подумай. Да, и вот еще что. Гавзов о нашем разговоре не должен знать. По крайней мере пока.
Он поднялся со стула, подошел к окну и, не дожидаясь ответа, спросил:
— Завтра митинг по случаю праздника в десять?
— В десять, — задумчиво проговорила Илга.
Май 1924 год
К концу мая зацвела черемуха. Цветки еще только распускались, раскрашивая нежными узорами парки и скверы, а терпкий дурманящий аромат уже витал в воздухе, наполняя собой городские улицы. Вечернее солнце подкрашивало белизну этих деревьев золотистыми красками, придавая городу свежести и весенней привлекательности. Вся серость некрашеных деревянных строений и булыжных мостовых уже не так бросалась в глаза. Они как бы отходили на второй план, предоставляя людям возможность любоваться возрождающейся красотой природы. В такое время настроение у горожан поднималось, заставляя их при малейшей возможности выбираться на свежий воздух.
Вот и сегодня, едва закончился рабочий день, Илга поспешила на улицу. Она вышла из здания и тут же зажмурилась: прячущееся за крыши домов слепящее солнце светило прямо в глаза. Глубоко вздохнув приятный черемуховый аромат, решила, что нужно обязательно вывести Яниса на улицу и погулять с ним. Заодно еще раз подумать, как помочь Павлу вернуться в Россию. А то время шло, а ничего существенного в голову не приходило. Она еще раз вдохнула витающие в воздухе бесподобные черемуховые запахи и, выйдя на центральную улицу, пошла домой.
— Здравствуйте, Илга, — окликнувший голос, показался ей знакомым.
Женщина обернулась и с удивлением увидела перед собой милиционера.
— Помните меня? — мужчина широко улыбался, от чего его крупный нос слегка расплющился и стал еще более смешным.
— Э-э-э, если не ошибаюсь…
— Микола. Микола Дымов, — выпалил тот.
Он мог бы и не торопиться с представлением, потому, как Илга его тоже узнала и тоже приветливо улыбнулась.
— А я, гляжу, вы идете. Я и раньше вас видел, но все боялся подойти. Я же часто по улицам хожу. То дежурство, то на вызов.
— Чего ж так боялись? Неужели я такая страшная? — усмехнулась Пульпе.
— Ну, не то, чтобы боялся. Как-то не зачем было. То есть, зачем мне вы…
Тут Микола по-детски смутился, понимая, что стал говорить не то, что хотел. Какое-то время назад он стал невольным свидетелем обычного трепа его сослуживцев. Говорили обо всем, но Микола их почти не слушал. Он недавно вернулся с обхода территории и сидел, вытянув уставшие ноги. Но, когда дело дошло до обсуждения их тяжелой службы, он прислушался. И не зря. «Если не хочешь сутками напролет городские улицы утюжить, нужно или с начальством дружить или среди их хорошего приятеля иметь или заиметь, чтобы слово за тебя замолвил, — советовал один из них другому». Разговор закончился и все разошлись. Только произнесенная фраза прочно засела в голове у Миколы и с тех пор не давала ему покоя.
Вот и задумался Дымов после этого. Мысль о том, что неплохо бы найти службу полегче, постоянно была рядом. Со своим начальством близких отношений у него не было и не предвиделось. Только работа. С выпивкой он завязал после смерти жены. Лет пять, как не притрагивался к зеленому змию. Возможно, от того и сойтись поближе с коллегами по службе у него не получалось. И когда он случайно увидел Илгу на праздновании дня Интернационала, подумал, что, неплохо бы с ней поговорить. По тому, как она держалась на митинге среди городского руководства, Микола понял, что должность у нее достаточная, чтобы при желании ему помочь. Ведь именно она помогла ему избежать тюрьмы и только ей он обязан своей службой в милиции. А значит, есть надежда, что Илга сможет помочь ему еще раз.
— У тебя есть, что сказать, а то я тороплюсь. Сын маленький ждет, — проговорила Пульпе.
Наконец, кое-как справившись с волнением, Дымов нервно оглянулся и почти вплотную придвинулся к Илге.
— Вам помощники не нужны? Ну, может по службе, что нужно узнать или еще чего? — понизив голос, проговорил Дымов.
Чудесный аромат черемухи моментально растворился в запахе немытого мужского тела и давно не стиранной форменной одежды. Илга поморщилась и отступила назад. Она не совсем поняла, чего хочет Микола, но что-то в его словах заинтересовало ее.
— Помощники? Мне? — переспросила она, выражая на лице полное непонимание от его вопроса. — А зачем? И о ком речь?
— Ну, мало ли, — многозначительно протянул Дымов. — Может, я сгожусь на что.
И в этот момент Илга вдруг поняла, чем именно она сможет помочь Павлу Гавзову, чтобы тот вернулся на родину.
— Возможно, возможно…, — задумчиво проговорила она. — Я вас найду, как только… Как только потребуетесь.
— А это долго? А то мне бы работу какую полегче. Ноги что-то побаливать стали, — жалостливо проговорил Микола.
Пульпе пристально взглянула на него.
— Ты знаешь, где я работаю?
— Знаю, в ОГПУ. Потому и обращаюсь к вам.
— А ты помнишь, как оказался в милиции? Надеюсь, не забыл? Или напомнить?
— Помню, иначе как бы я тут? У нас отделение тут за углом, на Свободе.
— Я знаю этот район и эту улицу, не беспокойся. Я же на ней живу. В общем, свободен пока. Я подумаю.
На следующий день Илга, как только пришла на работу, сразу отправилась в кабинет Озолса. За месяц прошедший со дня их разговора о Павле, они часто общались по службе, но к вопросу о его возвращении, ни разу с тех пор не говорили. Илге сказать было нечего, а Иварс ее не торопил. Он был уверен, что та рано или поздно, сама вернется к разговору. Ну, а если нет, то он ей поможет.
По едва уловимой перемене в лице своего заместителя Озолс догадался, что та зашла к нему не с текущими проблемами. Стараясь не выдать своего нетерпения, он приветственно ей кивнул и пригласил к столу.
— Здравия желаю, товарищ начальник, — спокойно проговорила Пульпе и без приглашения опустилась на стул.
— Слушаю тебя, — Озолс слегка склонил голову, и стал рассматривать новую прическу своего зама.
— Я вот, о что подумала, — начала не спеша Илга. — Ты, понимаешь, о чем я?
— Да, говори, говори, — подбодрил он женщину.
— Я, по-моему, знаю, чем Гавзов сможет быть полезен.
Озолс и сам знал ответ на этот вопрос, но сделал вид, что слова Пульпе вызвали в нем неподдельный интерес.
— Так, так, — оживился он.
— Ты помнишь историю с золотом, которое несколько лет назад пытались отыскать?
— Да, помню, — поддержал Иварс. — Как не помнить.
Ему было хорошо известно о предпринятой попытке губернского руководства найти похищенное до революции золото.
— Так вот. Павел же был в составе той группы.
— И что? — Озолс сделал удивленное лицо.
— Я допрашивала тогда одного из участников поисковой группы. Он рассказал, что Павел прекрасно знает, где спрятано золото.
— Когда это было?
— В конце двадцатого. Я еще на комсомольскую работу собиралась.
— Теперь пониманию, почему ты не ушла. А говорила… Ну, да, ладно.
— Все правильно, из-за Павла. Если бы ушла со службы, то с побегом ничего бы не вышло.
— Да-а-а, — протянул Озолс. — Напомни, сколько там похищено было?
— Двести… двести пятьдесят килограмм! — почти шепотом проговорила Пульпе.
— Так, так, — проявил заинтересованность Иварс. — Очень интересно.
— И, если бы Павел согласился найти его…
— Да, я понял тебя. Он возвращается в Россию, находит золото. Мы возвращаем его стране и забываем о его прошлых грехах. Правильно?
— Да.
— У него семья есть?
— Да.
— Дети?
— Сын с матерью в деревне живет.
Озолс облегченно вздохнул. Его план начал работать. Теперь только обговорить детали и можно двигаться дальше. Раньше времени, конечно же, в Москву сообщать о своих намерениях он не будет. В прочем, сообщать пока и нечего.
— Надеюсь, ты понимаешь, что Павел не должен всего знать. В случае неудачи нам туго придется.
— И как поступим?
— Гавзов должен вернуться нелегально. Мы, в случае чего, не причем. Соображаешь?
— Не совсем…
— Легенду придумаешь. Это раз. Обо мне он не должен ничего знать…
— А что ему сказать? Ну, чтобы он захотел золото искать? Поверит ли он в обещанную свободу? — спросила Илга.
— Смотря как ему сказать. Ты уж постарайся его убедить.
— А почему нелегально? К чему такая скрытность?
Иварс покачал головой.
— Потому что такая операция будет государственной важности. Государственной. Только в том случае ему может быть прощение. И ничто и никто не должен помешать исполнению. А если его по возвращении узнает кто? Найдутся доброжелатели и заявят в милицию. Тогда что? Милиция его отловит, и нам в таком случае не вызволить его. Понимаешь?
— Ну, если так.
— Не плохо бы и с внешностью его поработать, чтобы уж наверняка не узнал кто-то случайно. Но в любом случае до выполнения задания на рожон лезть он не должен. И перед земляками не показываться ни до, ни вовремя.
Он не стал говорить, что после того как золото будет найдено, дальнейшая судьба Павла в конечном итоге его мало интересует. Потому, как главное для него — выполнить задание Москвы. А уж какой ценой, не так важно.
— Понятно, — проговорила Илга.
— Давай так. Ты с ним переговоришь. Ну, или как вы там с ним связь поддерживаете. Если нужно, съездишь. Торопиться не следует. Дело очень серьезное. Сообщишь ему о том, что есть возможность вернуться к семье при условии, что он находит золото и передает его нам. Да, и вот еще что. Одному ему вероятно не справиться. Подумай, кто ему сможет помочь. Самому ему искать людей не стоит.
— Есть уже один человек, — не удержалась Пульпе.
— Надежный?
— Скажем так… на поводке.
— Я знаю?
Илга пожала плечами и промолчала.
— Хорошо. У меня тоже есть человек, и я хотел бы, чтобы он был вместе с ними.
— Ты о Петренко? — спросила Илга.
— Все то ты знаешь. Ничего от тебя не скроешь.
— Так он к тебе в кабинет ходит как на работу.
— Да, пожалуй, — смутился Озолс. — А ты, если потребуются еще люди, сообразишь?
— Да.
— Гавзова предупреди, чтобы не распространялся о своей свободе.
И тут Озолс почувствовал, что что-то в этом плане его смущает. Но что? Что не так? «Илга! — осенило его. — А что со всего этого Илге? Почему она желает помочь Павлу, сама же ничего не получая в итоге взамен?»
— Скажи. А зачем тебе это? — прямо спросил он. — Павел же не к тебе вернется.
— Я и сама себе такой вопрос задаю. Не знаю. Наверное, потому что я люблю его? Потому что воспитываю его сына? Потому что хочу, чтобы он был счастлив?
— Не совсем понимаю тебя.
— Я же женщина. Вряд ли ты сможешь это понять, пока сам не полюбишь.
— Но, но. У меня жена.
— Знаю. Жена это — еще не показатель любви.
— Больно заумно рассуждаешь. Я бы понял, если бы Павел после всего остался с тобой. А так… Не знаю, не знаю.
— Кто же знает, как все сложится? В жизни случается всякое.
— Надеешься?
У Илги заблестели глаза.
— Главное, чтобы у него все было хорошо.
«Ох уж эти женщины. Темные души, — подумал Иварс. — Никакой логики, одни чувства».
Он взглянул в угол кабинета, где стояли напольные часы.
— У меня скоро совещание у губернатора. Еще подготовиться нужно. На сегодня по этому вопросу все, — и поднялся из-за стола.
— Еще минуту, — Илга достала из папки лист бумаги и положила перед ним.
По тому, как она сказала, он понял, что минутой не обойтись.
— Что это? — Иварс стал доставать из футляра только что убранные очки.
— Телеграмма из Москвы.
Он поднес бумагу почти к самому носу и стал читать.
— Та-ак, та-ак, — от волнения у Озолса прибалтийский акцент стал намного заметнее.
Он отложил в сторону прочитанный лист и плюхнулся на стул.
— Что будем делать? — спросила Илга. — У нас могут быть сложности.
Иварс указательным пальцем ткнул себя в висок и ненадолго задумался. Затем поднял телеграмму, снова перечитал весь текст и пододвинул ее к Пульпе.
— Прочитай. Мне на слух лучше думается.
— Москва. Секретариат ОГПУ…
— Суть читай, — чуть повысил голос Озолс.
— Э-э-э… в связи с подписанием договора о дружбе и взаимном нейтралитете… пропуск из эмиграции на территорию СССР бывших солдат и офицеров приостановить до особого распоряжения…
— Не вижу никакой связи между эмигрантами и дружбой с Германией, — оборвал он своего заместителя.
И тут на столе зазвонил телефон. Где то в груди у начальника ОГПУ предательски кольнуло, но он совладал с собой и подошел к аппарату.
— Товарищ Озолс? — донесся из трубки неприятный хриплый женский голос.
— Да, — негромко ответил Иварс.
— Москва. Приемная первого заместителя председателя ОГПУ. Вы слышите?
— Да, слушаю.
— Вячеслав Рудольфович просил передать, что работу по апрельскому поручению следует приостановить. Вам все понятно?
— Да, понятно.
Услышав в трубке короткие гудки, он повернулся к Илге и хлопнул рукой по столу. На его скулах заходили желваки. Он выругался на своем родном языке и быстро взял себя в руки.
— А ничего мы с тобой менять не будем, — сказал он, пытаясь ухватиться за только что пришедшую мысль. — Рано или поздно все успокоится. И с эмигрантами тоже. Думаю, через полгода все утихнет или раньше, но не суть. А за это время мы успеем подготовить всю операцию с Гавзовым. К тому же он в Россию прибудет не как эмигрант. А допустим в составе какой-то делегации. По эмигрантам, кстати, ты мне подробную сводку подготовь.
— Хорошо, — согласилась Пульпе и сунула телеграмму в папку.
— Хорошая пословица есть у русских. Нет худа без добра, — многозначительно проговорил Озолс.
— Ты это к чему? — Илга недоуменно взглянула на начальника.
— А? — Иварс оторвался от своих размышлений. — Да, так. Не обращай внимание.
Сердце у Иварса готово было выпрыгнуть из груди. «Да! Все правильно. Зачем сворачивать такой хороший план, если есть возможность найти золото, и… никому его не отдавать. Никому, — от этой мысли у него перехватило дыхание».
Часть третья
Август 1925 год
Солнце уже скрылось за горизонтом, когда небольшой колесный буксир, сделав разворот, причалил к дебаркадеру. Двое похожих друг на друга бородатых матросов привычными движениями закрепили страховочные канаты и вытащили на пристань кормовой трап. И тут же черную пелену над рекой раскроила вспышка молнии. Ее ослепительные ветви разбежались по небу, освещая ночную темноту, и так же неожиданно погасли. Спустя мгновение она блестящей змейкой серпантина напомнила о себе снова и исчезла. Вокруг загрохотало. Сначала негромко и неуверенно, словно собираясь с силами, гром известил о своем приближении. Затем раскатистый гул стих. Секунда, другая абсолютной тишины, а потом воздух буквально разорвало — громыхнуло так, что на пароходе задрожали окна. Запряженные в телеги кони с испуга шарахнулась по палубе в стороны, проверяя на прочность свои сыромятные привязи.
— Лошадей держите! — откуда-то сверху раздался голос капитана. — Имущество казенное разнесут же, сволочи!
— Стоять, зараза! — крикнул Дымов, вскакивая с палубного топчана.
Он подбежал к ближней с вытаращенными глазами кобыле и ухватив ее под уздцы, что есть мочи заорал:
— Куда прешь, зараза!
Каряя лошадь, грызя удила и ошалело мотая головой, пятилась назад, натягивая узду и упираясь своей телегой в корабельное ограждение. Почувствовав уверенную человеческую хватку, кобыла послушно встала и, тряхнув несколько раз гривой, успокоилась.
— Куда, падины! Сухарь в глотку, — услышал Микола рядом голос Петренко. — Эко вас затрясло! Будто шлея под хвост попала! — ругался тот, удерживая других лошадей.
А те, не замечая телег, толкали друг дружку оглоблями, и успокаиваться не спешили. Они продолжали топтаться по палубе, хрипя и фыркая в разные стороны пока, наконец, двухметровому Петренко не удалось обоих коней привести в чувство.
Не успели они перевести дух, как небесная колесница вновь с грохотом пронеслась по небу. Затем бабахнуло еще раз и сразу пошел дождь.
— Хорошая примета! На удачу! — пытаясь перекричать небесные раскаты, выпалил Кривошеин. — Гроза нам в помощь, Федор Григорьевич! — произнес он, завидев подошедшего Павла.
— И Бог тоже, — ответил Павел, запахивая полы плащ-накидки.
— И Бог нам в помощь. Федор Григорьевич, — согласился Демьян Пантелеевич.
Завидев надпись на пристани, спросил:
— И село тоже зовется Нижняя Тойга?
— И село, и река, — ответил Гавзов. — Ну, здравствуй, Нижняя Тойга! — проговорил он, поправляя закрывающую почти половину лица, черную повязку.
Гавзов расчувствовался так, что от волнения к горлу подкатил комок. «Вот, Павел Николаевич, и родина твоя начинается, — подумал он». Глаза его заблестели, а появившаяся слезинка смешалась с каплями усиливающегося дождя. Павел пригладил как попало отросшую за лето бороду, подошел к подводам и, взяв у Петренко за повод одну из лошадей, повел на берег. Следом по хлипкому трапу, гремя колесами, последовали и другие повозки.
Село миновали нигде не задерживаясь и ни с кем не встречаясь. Да и кого в такой ливень можно было встретить? Село будто вымерло. Лишь однажды, откуда-то из темноты выскочила небольшая собачонка, и пару раз громко тявкнув, тут же скрылась в ближайшей подворотне.
Гавзов с Дымовым ехали в первой повозке. Время от времени разрывающие небо вспышки молнии освещали проселочную дорогу, помогая ориентироваться в темноте августовской ночи. Позади них шла вторая лошадь. В ее телеге, закрывшись с головой накидками, сидели Петренко с Кривошеиным. Третья лошадь была привязана ко второй подводе и плелась следом, таща телегу, груженую связанными меж собой ящиками.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.