
Бесплатный фрагмент - Раймондо Монтекукколи. Теория военного искусства
Введение
Перекрещенные меч и перо с надписью «In utrumque paratus» под портретом нашего героя, помещенным в панегирике Агостино Парадизи («Elogio del Principe Raimondo Montecuccoli»), подчеркивали его заслуги как в области практики ратного искусства, так и в теории. Ныне существует мнение, что «самый важный вклад» Монтекукколи внес в области военной мысли, а не в области командования, и что именно его «теоретическое видение и концептуальная основа» снискали ему всеобщее восхищение и признание. Раймондо считается основателем военной науки Нового времени, «современным Вегецием», первым теоретиком Нового времени, который «попытался провести всеобъемлющий анализ войны во всех ее аспектах», самым важным австрийским военным теоретиком вплоть до эрцгерцога Карла и, наконец, самым влиятельным военным мыслителем между Макиавелли и Клаузевицем.
Но прежде, чем перейти к идеям и взглядам Монтекукколи на военное искусство, следует сказать несколько слов о его личности, характере и военной карьере в целом.
Личность и характер
Современники почти единодушно описывали Раймондо как человека высокого роста, хорошо сложенного и приятной наружности, с черными, но со временем поседевшими волосами, с приветливыми чертами лица, «с проворным телом», энергичным и неутомимым для тяжелой работы.
Что касается характера, здесь мнения современников несколько расходились. Так, Гуальдо Приорато, протеже Монтекукколи, набросал в 1674 г. портрет панегирического свойства: «удивительного склада ума, он объединил теорию с опытом 48 лет [к 1674 г.] непрерывной практики и командования. Пройдя все военные чины, он знает обязанности и должность каждого [чина]. Он изучал лучших авторов…, видел почти всю Европу и познакомился с качествами каждой нации. Он служил под командованием самых знаменитых воинов, против самых храбрых и свирепых народов и прославленных полководцев века. Короче говоря, хороший солдат и превосходный политик.
…[О том,] каким бесстрашным он показывал себя… в самых трудных ситуациях, стойким в неудачах…, осторожным в переговорах, смелым в исполнении, скромным в победах, свидетельствуют не только его подчиненные, но и те, против кого он воевал. Зрелость его совета, доблесть его меча, заботливость его души и живость его гения неоднократно восхвалялись во многих письмах, написанных ему собственноручно императорами Фердинандом III и Леопольдом [I]. Он никогда не берется за дело, если сперва не вычислит, посредством осторожного анализа, предполагаемый результат. В каждой трудности он находит обходные пути, чтобы преодолеть ее или, по крайней мере, облегчить. Его любят солдаты, ибо и он полон любви к ним; ему аплодирует народ, потому что его командование осмотрительно и мягко. Он презирает всякий излишек, всякую прибыль, всякий частный интерес; единственное направление всех его помыслов — усердие в служении Императору. Наконец, он — человек, посланный Богом для славы и всеобщей пользы всего христианства».
А вот портрет от явного недоброжелателя, относящийся к 1677 г.: «Оживший Эскуриал — никто не имеет больше частей вместе, чем он, хотя по отдельности можно найти в другом нечто более цельное. Конде и Тюренн превосходят его как полководцы. Но после них [он] — абсолютно величайший в этой области. Человек мира (l’uomo del mondo) … Его сильная сторона — марши, в них он понимает лучше, чем кто-либо. Он охотно избегает столкновений издалека, но не боится их вблизи. Он понимает в высшей степени все, что касается военной экономики и содержания армии. Снисходителен в дисциплине, отличается большой умеренностью. В остальном — ум политика, эрудиция…, галантность; все качества придворного и кавалера… Монтекукколи — итальянец, а значит, он способен запомнить оказанную ему любезность, а, запомнив, он может заплатить за нее сотню дублонов, и это будет для него пустяком».
Шаваньяк, служивший под началом нашего героя в Голландской войне, вспоминал его так: «Монтекукколи, знаменитый полководец, являлся… человеком весьма искусным во всех науках, и …я не могу… не признать, что он рожден для великих дел. Он был вежлив, услужлив и, несмотря на слухи о его [сомнительной] храбрости, могу сказать, что за то время, что я служил с ним, я всегда признавал в нем твердость в опасности, благодаря которой он отдавал свои приказы с большой ясностью».
Другой современник представил его как «мудрого, предусмотрительного и сочетающего с многолетним опытом все, чему он смог научиться благодаря чрезвычайному усердию в чтении, способного как к политическому управлению, так и к военному, учтивого, честного…».
Венецианские послы характеризовали Монтекукколи как «кавалера, в котором восхитительно сочетаются знания, литература, вежливость и честь», «человека… приобщенного к наукам и любознательного к тому, чего может быть достоин возвышенный талант», «обладающего большими талантами и доблестью, ученого человека, отличающегося необыкновенной смелостью и благоразумием». Они также полагали, что «благодаря своему редкому примеру, гениальности, необыкновенному благоразумию, высочайшей эрудиции и военному таланту, должен считаться одним из самых возвышенных умов и знаменитых полководцев века». Венецианский посол в январе 1671 г. свидетельствовал: «В военном деле… он достиг выдающихся знаков отличия и чести; в последней войне с османами в Венгрии он заставил [злые] языки признать, что является благоразумным и доблестным командующим. Он дополняет военное искусство [чтением] основательной литературы».
Наконец, один из самых ранних биографов Монтекукколи дал ему следующую характеристику: «Одаренный превосходным и живым умом, а также редким и тонким суждением, он совершенствовал их, постоянно размышляя, пересматривая и рассуждая. Он был умеренным в еде, скромным в одежде, хорошим экономом в расходах, строгим в поведении, но без суровости. Он был… требовательным, и требовал от других исполнения их обязанностей, так же как точно исполнял свои собственные, даже в мелочах. В военном деле он установил для себя такое правило: ничего не отдавать на волю судьбы и не полагаться на помощь со стороны. Опираться только на благоразумие и хорошо продуманные советы. Он был заботлив и бдителен в обеспечении солдат удобствами, и как заботливый отец пекся об их благополучии; но он являлся столь же строгим судьей в наказании за богохульства и военные оскорбления».
Как можно видеть, почти все из процитированных авторов подчеркивали ум Раймондо, его начитанность, тягу к знаниям и «ученость». Известно, что Монтекукколи располагал большой библиотекой и занимался коллекционированием картин. Кроме родного итальянского, он знал несколько языков: немецкий, латинский, французский, испанский, «сносно владел» венгерским языком и, возможно, также «овладел азами турецкого языка». Лураги добавлял к этому перечню древнегреческий и английский, предполагая, что всего наш герой якобы мог знать до 10 языков. Эти знания существенно помогали Монтекукколи для коммуникации с союзниками и при исполнении дипломатических миссий: например, он переписывался с Чарнецким и Яном Казимиром на латыни, с курфюрстом Бранденбурга — на немецком и французском, с Лизолой — на французском. Однако большинство своих сочинений он написал все же по-итальянски.
Разносторонне одаренный литератор, Монтекукколи пробовал себя как поэт и прозаик: трактат «О блаженстве», новелла «Несчастная, но правдивая история о любви Мориндо к Арианне», «Высшее благо человека в этом мире состоит в любви», «О естественном праве», ода о смерти Густава Адольфа, гимн эрцгерцогу Леопольду Вильгельму, поэмы «О стоической добродетели» и «Императорскому Высочеству», а также несколько сонетов.
Длительное участие в публицистической войне отточило его язвительный слог и сделало его перо особенно ядовитым. В своих ответах на порочащие его работы Раймондо Монтекукколи позволял себе смесь иронии и сарказма, обличая своих критиков в некомпетентности. В этих работах, а также во второй книге «Афоризмов», обидчивый, чувствительный, в чем-то импульсивный темперамент Раймондо предстает пред нами во всей красе. Не была чужда ему и та эмоциональность, которая, согласно заезженному стереотипу, якобы присуща всем уроженцам Апеннинского полуострова.
Историки особенно подчеркивают его колоссальную работоспособность: «никто не мог или, возможно, не был склонен работать до поздней ночи так, как это делал Монтекукколи». Сам Раймондо вполне отчетливо осознавал свои преимущества перед другими, о чем не стеснялся хвастаться: «Путешествия, которые другие привыкли совершать за 15 и 20 дней, я всегда совершал за 8 и 10. Если другие привыкли спать целиком всю ночь, то я (по обычаю с отрочества, который потом вошел в привычку) никогда не сплю больше, чем полночи. Время, которые другие проводят в азартных играх и других развлечениях, я использовал для размышлений и занятий своим ремеслом. Те возможности, которые другие видят [только в момент], когда они представляются, я узревал даже тогда, когда они не представлялись. Потому что я не ждал, пока они придут ко мне, но искал их и шел, чтобы встретить их снова, и я мог бы составить их длинный перечень. Это те вещи, которые укорачивают искусство, которое само по себе длинное, и могут сделать человека на несколько лет старше».
Отмеченное хвастовство, кстати, не являлось в тот период чем-то уникальным: Раймондо Монтекукколи, согласно Кауфманну, можно назвать типичным примером «человека эпохи барокко», в котором неуверенность и страх собственных недостатков сочетались с пышностью и позерством. Историки уже давно зафиксировали у него манию «записывать… все и вся, чтобы иметь документальные свидетельства каждого момента своего официального и интеллектуального существования…».
Одной из главных черт его характера можно назвать и зависть. Нельзя не отметить то, как ревниво относился Монтекукколи к успехам конкурентов по военной и придворной службе (например, когда Суша произвели в тайные советники). Письмо 1644 г. свидетельствует и об «интернациональном» характере его зависти, поскольку он следил и за карьерным ростом не только императорских, но иностранных генералов. Его болезненная зависть к успехам конкурентов объясняется в литературе скрытой неуверенностью в себе. Историк Кауфманн приписывал Раймондо страх оказаться в невыгодном положении и относил его зарождение ко времени пребывания в шведском плену, с чем, пожалуй, можно согласиться. В «Цибальдоне» Монтекукколи поместил цитату из Фрэнсиса Бэкона: «Чтобы сделать свое состояние… недостаточно знать себя, необходимо также найти способ показать себя в выгодном свете». Необходимость напоминания о себе, признания собственных заслуг и получения должного вознаграждения проходили в условиях сильной конкурентной борьбы при дворе, где в ход пускалось все: от громкой саморекламы и заручения протекциями до интриг и клеветы против соперников. В силу этого, отмеченное у Раймондо историками «совершенно ненасытное стремление к продвижению по службе, возвышению и материальному признанию» вряд ли выделяет нашего героя среди остальных карьеристов эпохи.
Вместе с упреками в зависти обычно отмечается и «безграничный эгоцентризм» Монтекукколи, но это качество в принципе присуще тем, кто хочет добиться больших высот. Добавим сюда и самолюбие, корни которого прорастают из не самого высокого происхождения (граф из небольшого итальянского герцогства). В свои путевые дневники он с тщательной педантичностью заносил любую оказанную ему почесть, знак уважения и т. п.
Наконец, Раймондо отличался крайней степенью недоверчивости и подозрительности. Именно его маниакальная осмотрительность принесла ему прозвище «100 глаз» («centum oculi»).
Замечания о военной карьере Раймондо
Послужной список Монтекукколи впечатляет. За более чем 50 лет службы на ратном поприще он принял участие в 5 «самых тяжелых и знаменитых войнах Европы», 31 кампании (в том числе 9 — в качестве командующего армией), руководил войском в 3 сражениях разного масштаба (Нонантола, Могерсдорф, Альтенхайм), частью войск — в нескольких полевых битвах, десантных операциях и осадах. При этом ему довелось сражаться с сильнейшими армиями той эпохи: шведской, французской и османской. Он занимал несколько важнейших военных должностей Австрийской монархии и достиг вершины военной иерархии, став генерал-лейтенантом. Бóльшим достижением сможет похвастаться лишь принц Евгений Савойский, когда добавит к титулу заместителя императора еще и звание имперского генерал-фельдмаршала.
Нельзя не отметить и последовательное прохождение Монтекукколи всех основных ступеней военной иерархии, начиная с самой скромной позиции. На пути с своему первому серьезному званию — полковника кирасирского полка, — он успел послужить простым пикинером, мушкетером и кроатом, фенрихом, командиром пехотной и кавалерийской рот, обристфельдвахтмейстером и подполковником (обристлейтенантом).
Раймондо стал полковником в 26 лет, тогда как, согласно статистике, большинство офицеров во время Тридцатилетней войны, впервые вставшие во главе полков (88 из 153), добились этого в возрасте 26–35 лет (а до 21 года, например, всего 3 человека — Тюренн, Бернгард, Дуглас). Таким образом, Монтекукколи опережал большинство, и в целом это являлось выдающимся достижением. По замечанию Кауфманна, подъем Раймондо по карьерной лестнице, учитывая его относительно скромные финансовые ресурсы, произошел за удивительно короткий срок.
Стоит, однако, учесть, что Монтекукколи получил кирасирский полк в тот момент, когда их количество в императорской армии заметно выросло по сравнению с началом войны, чтобы достигнуть абсолютного максимума в 1641 г. (61 штука). В 1635 г. кирасирский полк Монтекукколи был всего лишь одним из 51 (в предыдущем, 1634-м, таковых насчитывалось 38), а если брать все кавалерийские полки, включая драгун, — из 93 полков. Очевидно, получить полк в этот период стало куда проще, чем в предшествующий период, когда количество кирасирских полков колебалось всего лишь от 2 до 13, а общее число кавалерийских полков еще не превысило 27.
Шведский плен несколько затормозил получение им первого генеральского звания, однако в дальнейшем Раймондо наверстал упущенное. Если сравнить его генеральскую карьеру (от генерал-фельдвахтмейстера до фельдмаршала) с карьерой других императорских генералов его эпохи, то выяснится, что Монтекукколи продолжал продвигаться по службе по графику, опережающему среднюю тенденцию, а стало быть, не имел особого повода жаловаться на задержку в чинах. В связи с этим интересно взглянуть на статистику, собранную историком Фрицем Редлихом, который подсчитал возраст 138 офицеров Тридцатилетней войны на момент получения генеральского чина. В возрасте до 26 лет генералами стали всего 7 человек (включая Тюренна), с 26 до 30 лет — всего 9. А самыми распространенными категориями стали возрастные интервалы от 31 до 35 и от 36 до 40 лет. Раймондо стал генерал-фельдвахтмейстером в 33 года, в то время большинство остальных в его эпоху достигали этого звания примерно в 37–39 лет. Можно сказать, что Монтекукколи немного задержался в следующем ранге — фельдмаршал-лейтенанта, в то время как некоторые генерал-фельдвахтмейстеры эту ступень попросту перепрыгивали (Лобковиц, Дель Борро, Аннибале Гонзага, Мартин Максимилиан фон дер Гольц, Франсуа-Анн Бассомпьер). Однако и в данном случае Раймондо опережал общую тенденцию, поскольку средний возраст получения звания фельдмаршал-лейтенанта в тот период слегка переваливал за 40 лет. Генералом кавалерии Монтекукколи стал в 39 лет, примерно на 2 года раньше среднего возраста получения этого звания (включая генерал-фельдцейгмейстеров) другими. Стоит отметить, что «перепрыгивание» через звания генерала кавалерии или фельдцейгмейстера на пути к фельдмаршальскому рангу тоже случалось, но в исключительных случаях (Иоганн Кристоф фон Пуххайм), а также при принятии на службу полководца, который уже добился высокого звания в другой армии (Франц фон Мерси, Франц Альбрехт Саксен-Лауэнбургский, Петер Меландер). Раймондо достиг фельдмаршальского чина в 49 лет, отставая от общей тенденции примерно на 3 года, но причина очевидна — девятилетний мирный период между двумя войнами (1648–1657 гг.) не способствовал продвижению. Наконец, Монтекукколи стал императорским генерал-лейтенантом в 55 лет, в то время как Тилли — в 71, Бюкуа — в 48, Коллальто, Галлас (в первый раз) и Пикколомини — в 49, Карл V Лотарингский — в 37, Людвиг Вильгельм Баденский — в 47, Евгений Савойский — в 45.
Будучи президентом Придворного военного совета, Раймондо по-прежнему возглавлял императорскую армию в походе, что является уникальным явлением в истории Австрийской монархии XVII в., а в следующем веке такое удастся повторить только принцу Евгению Савойскому и фельдмаршалу Дауну.
Немаловажен и тот факт, что Монтекукколи всю свою долгую карьеру не менял место службы (за исключением небольшой отлучки в 1643 г.), в то время как десятки императорских генералов по нескольку раз (и туда, и обратно) совершали переходы на службу как к дружественным государям (Испания, Бавария, Дания и т.д..), так и к врагам (Франция и Швеция). Вот почему Вольтер подчеркивал, что имя Раймондо «представляет само понятие верности». Итальянский литературный критик Джулио Марцот конcтатировал отсутствие у Монтекукколи «истинного чувства национальной принадлежности… Преданность государю заменяет в Монтекукколи любовь к своей земле и итальянской нации». Томас Баркер назвал Раймондо «самым верным слугой несколько коррумпированного и неэффективного абсолютистского государства» и считал, что, за возможным исключением герцога Карла Лотарингского и дипломата Франца фон Лизола, «ни один другой человек между временами Валленштейна и Евгения Савойского не оказывал таких важных услуг династии». Наряду с Евгением Савойским, Раймондо стал наиболее известным представителем нового типа императорских генералов, разделявших идеалы служения государю и пришедших на смену военным предпринимателям с договорными отношениями. Монтекукколи тоже поначалу выступал как наемный офицер, но со временем превратился в «опору централизованного бюрократического государства». Как государственный деятель и полководец, он, несомненно, внес весомый вклад в развернувшийся во второй половине XVII в. процесс превращения Австрии в великую державу.
«Nachlass»
Раймондо написал десятки работ по самым разнообразным аспектам военного искусства, от небольших докладов и записок до объемных трактатов. В этом творчестве, помимо чисто научного интереса к изучению военного дела, им двигало стремление сформировать и поддержать свою военную репутацию. Вместе с тем, большинство своих работ Монтекукколи писал без цели публикации, по крайней мере, прижизненной — сокровищницу военной мысли, согласно цеховому «ремесленному менталитету» той эпохи, надлежало хранить втайне от потенциального противника. Согласно Лураги, даже после его смерти Вена долгое время считала его сочинения военной тайной, не подлежащей разглашению. В отсутствие публикаций, Раймондо рассылал копии своих наиболее важных работ влиятельным лицам, в первую очередь — герцогам Модены и императорам Священной Римской империи.
Как военный теоретик Монтекукколи дебютировал довольно рано — уже в 30 лет, и продолжал творить почти вплоть до самой смерти. В течение этого 40-летнего периода происходило неизбежное изменение воззрений — в целом не радикальное, но в некоторых аспектах весьма заметное. Как справедливо заметил Пьеро Пьери, Раймондо-теоретик долгое время оставался известен почти исключительно на произведениях последнего периода своего творчества, что не позволяло проследить истоки и эволюцию его военной концепции. Итальянский историк в нескольких своих работах исправил это упущение, а заодно предложил следующую периодизацию творческой деятельности Монтекукколи:
1) 1639–42 гг. — период пленения в Штеттине. В это время появились: первый трактат «О битвах» и трактат «О войне». Основополагающее значение для доктринального формирования Монтекукколи, согласно историку Пьери, имел военный опыт периода 1631–39 гг., от битвы при Брейтенфельде до сражения у Мельника; схожего мнения придерживался и Баркер. В данный период на тактические взгляды Раймондо сильное влияние оказал Густав Адольф, а в стратегической — Банер, Юлий Цезарь и Александр Македонский.
2) 1648–54 гг. — Монтекукколи стал генералом и членом Придворного военного совета. Написаны «Военные таблицы», а также опубликованы «Военно-математические эссе».
3) 1665–70 гг. — уже в статусе победоносного главнокомандующего, овеянного славой в войнах против шведов и турок, Раймондо подготовил «Войну против турка в Венгрии» и ряд других работ.
Историки вслед за Пьери в целом приняли данную периодизацию, иногда с небольшими поправками. Так, Лураги расширил продолжительность второго периода творчества Монтекукколи (начальную — на 1645 г., конечную — до 1653 г.), а также выделил еще один период, приходящийся всего на один –1673-й — год.
Если же говорить о классификации военно-теоретических работ Раймондо, здесь весьма интересной представляется та, что предложила историк Б. Хойзер. Основываясь на характере предполагаемого противника, работы Монтекукколи можно разделить на те, что посвящены: 1) регулярным войнам с равными по положению христианскими государствами; 2) мятежам; 3) войнам с турками. В этом плане в творчестве Монтекукколи четко прослеживается сильный перекос в сторону первой категории. Вместе с тем, стоит отметить, что многие его работы, как, например, «Афоризмы» или трактат «О войне», затрагивали сразу как минимум две из трех категорий.
Ниже будут рассмотрены основные и наиболее важные труды Монтекукколи в качестве военного теоретика (работы по фортификации затронуты в соответствующем разделе).
Трактат «О войне» и пекорины
Свое первое большое военно-теоретическое сочинение Раймондо написал в период пребывания в шведском плену, в Штеттине, в 1639–1641 гг. Страдающий от вынужденного бездействия пленник решил систематизировать свои знания о войне и сделал это, в первую очередь, для себя, в чем он признавался в предисловии к читателю: «Если кому-нибудь случится читать эти страницы наугад, он с первого взгляда поймет, что я писал их не для него, а для себя, и что, не имея иной цели, кроме как доставить удовольствие и пользу своей душе, я направил всю форму этого труда только к этой цели…». Несмотря на такое заявление, Монтекукколи впоследствии сделает копию трактата для герцога Моденского, с картами и иллюстрациями.
Раймондо важно подчеркнуть новизну и принципиальное отличие своего труда от предшественников: «Многие [авторы], как древние, так и современные, писали о войне, но большинство из них не выходили за пределы теории; а если некоторые и имели практику в сочетании с умозрением, как Баста, Мельцо, Роан, Ла Ну и т. д., или занимались военным искусством, то они делали это так, что они либо постигли только одну часть этого обширного поля, либо остановились на общих чертах, не дойдя до частностей специальных искусств…; а между тем именно они и составляют совершенство полководца, потому что никогда нельзя в совершенстве постичь целое, составные части которого неизвестны». При всем при том, Монтекукколи не гнушался подкреплять свои идеи авторитетом перечисленных им в самом начале авторов, заимствуя подчас целые абзацы.
Таким образом, без лишней скромности и тени сомнения, императорский полковник считал, что к своим 30 годам, не имея опыта командования армией, он соединил в себе обе стороны — теоретическую и практическую. Мало того, его труд претендовал не только на всеохватность, но на глубину постижения военного искусства: «Здесь все военное искусство выделено в своих частях, и каждая часть в отдельности…». Стоит признать, что многие аспекты, затронутые в трактате «О войне», в дальнейших его трудах не получили столь пристального рассмотрения, как например, размещение войск на квартирах или устройство лагеря.
В самом начале трактата заявлено о замысле написания еще более амбициозного сочинения из 9 пекоринов (от ит. pecorino, «овечий» — большие тетради, переплетенные из овечьей кожи), и приведено их краткое содержание. Пекорины №№1—7 посвящались проблемам фортификации, обороне и взятию крепостей, артиллерии, прочей осадной технике и механике; пекорин №8 рассматривал фейерверки, а №9 — сражения. Ни один из этих пекоринов не сохранился, однако, как справедливо подозревал Лураги, все они, кроме первого и последнего, могли остаться лишь неосуществленными проектами. При этом пекорин №9 явно послужил основой для трактата «О битвах», о чем сам Монтекукколи сообщал уже в момент написания трактата «О войне». По мнению того же Лураги, пекорины кажутся «скорее дополнительными, чем подготовительными» материалами к трактату «О войне». Согласно Теста, Раймондо изменил первоначальный замысел и так и не написал пекорины с 3 по 8, разобрав содержащиеся в них вопросы в более кратких «Военных таблицах». Однако стоит отметить, насколько подробно Монтекукколи поначалу намеревался разобрать техническую сторону военного искусства.
Возвращаясь к собственно трактату «О войне», отметим то, как его молодой автор, подчеркивая свой опыт и позиционируя себя как практика в противовес многим «чистым» теоретикам, в то же время скромно отказался от описания собственных успехов и саморекламы. «И хотя я, как участник, а иногда и как начальник, участвовал почти во всех действиях, происходивших в германских войнах, которые я привожу в подтверждение наставлений, в любом случае, мне не казалось соответствующим морали обычаев называть себя или публиковать свои деяния. Потому что мне нет нужды напоминать о себе тому, кому я пишу… а также потому, что меня тронул пример Басты и Роана… которые в своих сочинениях не рассказывали ни об одном из своих деяний». Самовосхваление, по мнению Раймондо, позволено только таким, как Юлий Цезарь, который являлся «самым великим полководцем в мире и самым красноречивым, а потому неподражаемым как в написании вещей, достойных быть совершенными, так и в совершении вещей, достойных быть написанными». Вместе с тем, Монтекукколи извинился за свой стиль, называя его не очень аккуратным, «но я уделял больше внимания вещам, чем словам…».
Трактат «О войне» состоит из 3 неравных по объему частей: 1) о том, как приступать к войне; 2) как ее вести и 3) как ее закончить.
В первой части дано определение войне, перечислены ее разновидности и причины, проблемы коалиционных войн, восстаний, заговоров и переворотов против государей, подготовка к войне, призыв на службу, соотношение родов войск в армии и их вооружение, боевые порядки и тактика. Вторая и самая пространная часть описывает ведение наступательных и оборонительной войны, организацию марша, дисциплину, снабжение, размещение войск, ведение битвы; кроме того, обстоятельства написания трактата сказались на появлении отдельной главы о военнопленных. В третьей, самой краткой части, речь идет о заключении мира, демобилизации войск и способах сохранения завоеванных территорий. В историографии также отмечается неустанное внимание Раймондо к дипломатическим и юридическим аспектам. Изложение при этом не всегда внутренне упорядочено и не лишено многочисленных повторов, о чем сам автор честно предупреждал в предисловии.
Предпринятая императорским полковником попытка подробно охватить все аспекты войны снискала неоднозначные оценки в историографии. Если Лураги оценивал данный трактат как «первый крупный систематический труд, в котором Монтекукколи полностью излагает свои мысли о войне, рассматриваемой как глобальное явление, вписанное в сам контекст истории и социальной эволюции…», то Пьери критиковал автора за «сплошной схематизм, деление и подразделение, иногда мелочное и педантичное». Кауфманн подчеркивал основополагающую роль трактата «О войне» во всем последующем творчестве Монтекукколи и его военном мышлении. Во всех дальнейших работах Раймондо будет лишь дополнять или сжимать свои первоначальные выводы, сделанные из опыта Тридцатилетней войны.
Первый трактат «О битвах»
Из-под пера Монтекукколи вышли два разных трактата с одинаковым названием «Delle battaglie», отделенные друг от друга несколькими десятками лет. Разумеется, данное обстоятельство не могло не привести к путанице, и долгое время первый, более объемный, трактат считался не более чем черновиком второго.
Уже в трактате «О войне» упоминалось о существовании труда «Discorso delle battaglie» или просто «Delle battaglie», который входил в несохранившийся пекорин №9. Содержание пекорина таково: «I. О соображениях перед битвой, как нужно учитывать время, место, боевой порядок…; дополнения к битве, такие как молитвы, увещевания, знаки битвы. II. Как действовать в сражении, как каждый должен выполнять свою задачу, как беспокоить вражескую армию в бою. III. После битвы рассматривается вопрос о том, есть ли сомнения в победе, кто проиграл, а кто победил».
Следовательно, в момент составления «О войне» Раймондо уже имел начальный вариант другого трактата, посвященного сражениям. Известно также, что при отбытии в Италию на войну за герцогство Кастро, он приказал изготовить копии этого трактата. С учетом того, что некоторые фразы из приведенного содержания дословно или почти дословно совпадают с оглавлением сохранившегося первого трактата «Delle battaglie», родилась логичная гипотеза о тождественности этих сочинений. Однако австрийский историк Курт Пебалл продемонстрировал вспомогательный и второстепенный характер девятого пекорина по сравнению с данным трактатом. Основываясь на этом, Лураги предположил, что в 1645 г., будучи в Хоэнегге, Монтекукколи предпринял переработку первоначального трактата из девятого пекорина, и так возник сохранившийся до наших дней первый трактат «О битвах».
По сравнению с другими сочинениями Раймондо, трактат характерен почти полным отсутствием внутреннего деления. Обычно привыкший к тщательному разбиению и упорядочиванию, автор сделал лишь 3 подзаглавия («Порядок и расположение войск», «Желая помешать вражеской армии в бою…», «После битвы следует принять во внимание…»). Американский историк Баркер при издании своего перевода трактата произвольно разделил его на 5 разделов: 1) то, о чем следует подумать до битвы; 2) как составлять боевой порядок; 3) атрибуты битвы; 4) то, о чем следует думать во время битвы; 5) и после битвы.
В этом произведении Раймондо последовательно рассмотрел условия для вступления битву, все ее стадии, боевые порядки, роль и вооружение пехоты и кавалерии и т. д.
Несмотря на свой скромный чин и достаточно молодой возраст на момент написания трактата, Монтекукколи легко поднялся в своих рассуждениях до уровня командующего армией и уже с этой высоты, как ровня Густаву Адольфу, Валленштейну и Тилли, разобрал их ошибки и достижения. Согласно Лураги, соображения Монтекукколи относительно обязанностей военачальника почти на два столетия опередили идеи Клаузевица. Баркер охарактеризовал трактат как «отличное зеркало характера боя во втором десятилетии Тридцатилетней войны» и рекомендовал читать его вместе с «Симплициссимусом» Гриммельсхаузена.
Трактат «О битвах» вместе с написанным в тот же период «О войне» показал нашего героя вполне сформировавшимся теоретиком, понимающим войну на всех ее уровнях и во всех деталях. Три года томления в шведском плену, конечно, притормозили рост Раймондо в чинах, но невероятно продвинули его в плане осмысления современной ему войны. Пьери характеризовал первый период творчества Монтекукколи скорее как время сбора материала и получения данных, а не формулирования принципов, хотя уже очевидна попытка подняться от простой казуистики и предвзятости к «общему правилу, определение которого в каждом конкретном случае зависит от интеллекта и интуиции полководца».
«Военно-математические эссе» и «Военные таблицы»
«Saggi matematici militari» остаются единственным прижизненно опубликованным сочинением Монтекукколи на военную тематику. Небольшое по объему, оно появилось в 1654 г. в составе большой книги Беттини «Apiariorum philosophiae mathematicae tomus tertius…». Марио Беттини (1582–1657), итальянский математик, астроном и иезуит, являлся другом Раймондо. Он написал несколько трудов по прикладной математике, а также политические трактаты и театральные драмы, а также преподавал военную архитектуру в родной Болонье и касался проблем фортификации. Отсылая свои «Эссе» Беттини в 1652 г., Монтекукколи в сопроводительном письме указал: «В соответствии с просьбой Вашего превосходительства, я прилагаю здесь, в качестве образца, несколько военно-математических вещиц, которые… подтверждены авторитетом самых изысканных умов и самой современной практикой. Они касаются фортификации и артиллерии, главных предметов в армии, вокруг которых вращается математика…».
Первое эссе рассматривает проблемы фортификации крепостей, второе — укрепление лагеря, третье — подведение апрошей, четвертое — классификацию артиллерии.
«Военно-математические эссе» послужили предварительным эскизом для другого, более известного труда Монтекукколи, «Военные таблицы» («Tavole militari»).
Появление первого наброска «Таблиц» относится к 1644–1645 гг., в период пребывания автора в замке Хоэнегг. И только к марту 1653 г. Раймондо подготовил окончательный вариант рукописи, который уже не являлся простой копией первого наброска, а был переработан и дополнен. Судя по всему, Монтекукколи работал над трактатом неспешно, в течение нескольких лет, в моменты пребывания в своем австрийском имении. Он назвал этот труд «отчетом о своем безделье».
Долгое время «Военные таблицы» были известны под неправильным названием «Dell’arte militare», и только издание под редакцией Лураги в конце 1980-х гг. устранило эту ошибку. Сочинение состоит из 20 небольших статей, снабженных многочисленными рисунками и схемами. Автор посвятил свой труд императору Фердинанду III и так описал свою задачу: «Я попытался методично сузить в кратких терминах обширную область той дисциплины, которая является единственным искусством, ожидаемым от монархов; которое дает и отнимает короны; которая имеет в своем распоряжении Религию, Родину и самих королей…». В отличие от многих других трудов, Монтекукколи взял за основу только современные ему конфликты, фактически признавая, что для формулирования принципов военного искусства можно обойтись без опыта войн прошлого: «Однако я не хотел касаться какого-либо другого примера, кроме того, который дала миру современная война… потому что только в ней мы видели множество и разнообразие столь многих и таких вещей, которые сами по себе достаточны, чтобы сформировать искусство и составить его правила».
Собственно таблицам предшествует краткое изложение автором своей военной системы. Первые таблицы посвящены экскурсу в геометрию и алгебру, начиная с азов, с простейших операций (сложение, вычитание, умножение, деление), но заканчивая уже тригонометрией, квадратными корнями и тангенсами. Этот экскурс рассматривается как руководство для штабных офицеров, поскольку Раймондо считал важным, чтобы каждый офицер знал основы арифметики и геометрии, без чего невозможны никакие научные знания в области артиллерии, фортификации и топографии. Вот почему первые таблицы, с изобилием геометрических фигур, напоминают соответствующие школьные учебники (захватывая при этом тригонометрию).
После математического экскурса следует раздел про армию и ее составляющие (с акцентом на артиллерию), про марш, квартиры, полевые сражения. Очень большое внимание (9 таблиц — почти половина) сосредоточено на проблемах фортификации и крепостной войны.
«Таблицы» представляют собой попытку максимально «математизировать» войну, или, по выражению Кауфманна, «систематизировать свою фундаментально схоластически-философскую доктрину войны по образцу математических наук». Кауфманн назвал «Таблицы» «кратким учебником по военному искусству…, не имеющим аналогов по своей плотности и ясности». Австрийский историк выделил 3 характерных элемента исследовательской работы Монтекукколи: 1) поиск «формулы», «максимы», которая прослеживается в каждой «сколько-нибудь примечательной войне»; 2) намерение построить из этих «основных доктрин» соответствующую логическую схему, которая позволила бы компетентному человеку сделать «бесчисленные выводы»; 3) стремление осуществить это построение с математической точностью, что стало фактически новым и в то же время характерным для всей работы Раймондо по военной теории.
Лураги рассматривал «Таблицы» как второй фундаментальный этап мысли Монтекукколи и отмечал его амбициозную цель — создать «науку о ведении войны, основанной на математических принципах», а также «основать военное искусство и науку дедуктивным методом на аксиомах универсального характера, укорененных, однако, диалектически в практическом опыте…». Итальянский историк считал данный труд возвращением к научному способу ведения войны, разработанному и опробованному ранее в Италии и практиковавшемуся Густавом Адольфом, Морицем Оранским и Валленштейном, а также «поворотным пунктом, знаменующим переход от способа ведения войны XVII века» к войне новой эпохи, представленной именами Вобана, Пюисегюра, Фридриха Великого, Гибера и Наполеона.
По некоторым данным, «Военные таблицы» стали распространяться в рукописном виде, что вывело репутацию Монтекукколи как ученого генерала за пределы Центральной Европы. «Таблицы» подвели черту под вторым периодом военно-теоретического творчества Раймондо, и, согласно спорному заявлению Лураги, тот уже в 1653 г. являлся «самым влиятельным военным мыслителем в Империи, если не в Европе».
«Цибальдоне»
«Zibaldone» представляет собой большой фолиант объемом 917 страниц, написанный рукой Монтекукколи, составление которого датируется 1650–1654 гг. Слово «zibaldone» означает книгу, в которой рассматриваются «самые разнообразные темы без порядка и разделения». Это своего рода хрестоматия, личный справочник Раймондо, где собраны отрывки из 69 произведений различных авторов, изданных в XVI — начале XVII вв. Хрестоматия рассматривается как «исключительно важный ключ к интеллектуальному развитию» Монтекукколи, который послужил инструментом для поиска истины и свидетельствовал о его широчайшем кругозоре.
Как уже признавали историки, примечательным здесь является тот факт, что среди использованных авторов не обнаружилось ни одного античного. Кроме того, отметим крайне малое число сочинений на военные темы (можно перечислить разве что произведения Макиавелли, «Совершенного полководца» Роана и «Aphorismi Politici et Militares Danaei»), зато множество трудов по политической философии и естественно-научным дисциплинам, равно как и лженаукам — по алхимии и астрологии.
«Zibaldone» до сих пор не издан, поскольку Раймондо, по сути, не является настоящим автором, но лишь автором-составителем. Его роль проявилась в составлении указателей (алфавитного и использованных авторов) и в структурировании материала по разделам: история государства и права; философия и естественные науки; грамматика, риторика и литература; астрономия, астрология, математика, политология, религия и т.д.; наконец, вопросы чести и рыцарского достоинства, а также турниры.
«О войне против турка в Венгрии» (= «Афоризмы»)
«О войне против турка в Венгрии», более известный как «Афоризмы» — второй крупный труд Монтекукколи, сопоставимый по объему с трактатом «О войне». Стоит отметить, что военно-теоретическое осмысление принципов борьбы с турками заняло у Раймондо почти десятилетие и прошло несколько этапов: от докладов 1662 г., рожденных в полемике с венграми, к «Discorso della Guerra contro il Turco» 1664 г., и, наконец, к «Афоризмам».
Сам Монтекукколи датировал завершение «Афоризмов» 1670 г., а первый черновик относится к 1668 г. Трактат состоит из 3 книг:
1) «Aforismi dell’arte bellica in astratto» («Афоризмы военного искусства в абстрактном виде») — изложение общих, универсальных принципов военного искусства, взятых из опыта. Эта часть первоначально называлась «Dei Principii e degli Assiomi». Она разбита на 6 неравномерных по объему глав, с явным перекосом в пользу проблем подготовки войны («Dell’apparecchio») и фортификации. В противовес этому, на вопросах ведения полевых сражений Раймондо остановился очень кратко. Содержание этой книги в историографии иногда именуют «примитивным синтезом».
2) «Aforismi riflessi alle pratiche delle guerre prossime addietro dell’Ungheria» («Афоризмы, отраженные в практике минувших войн в Венгрии»). В этой книге автор перешел от теории к практике и от первого лица подробно описал свои кампании 1661–1664 гг.
3) «Aforismi applicati alla guerra possibile col Turco in Ungheria» («Афоризмы применительно к возможной (или вероятной) войне с турками в Венгрии»). Приобретенный в борьбе с Портой опыт сообщил автору новую пищу для теоретических размышлений в третьей книге: доскональный анализ сильных и слабых сторон военной машины турок, оценка того, что могут им противопоставить христианские войска, а также рекомендации и вполне отчетливый план по ведению новой — будь то оборонительной или наступательной — войны с ними. Весь материал последней книги сгруппирован в 6 глав с теми же названиями, что и в первой книге, т. е. читателю продемонстрировано, как общие принципы работают в конкретном случае. Автор тем самым пытался показать, что его теория военного искусства, сформулированная на основе опыта войн между христианскими государствами Европы, поистине универсальна и вполне применима даже к такому необычному врагу, как турки. Следовательно, однажды сформулированные принципы остались для Раймондо непогрешимыми, и в этом «Афоризмы» резко разошлись, например, с трактатом Макиавелли о военном искусстве, составленным в форме диалога между Козимо и Фабрицио Ручеллаи и Фабрицио Колонна.
По справедливому мнению Пьери, именно первая книга «О войне против турка в Венгрии» больше всего подходит под определение афоризма, поскольку вторая книга — описательная, а третья, по сути, — проект войны, основанный на уже установленных в начале принципах.
Оригинальность «Афоризмов» заключается и в том, что к жанру строго военного трактата в этот раз добавились военные мемуары. Таким образом, Раймондо отказался от принципа, громогласно задекларированного в трактате «О войне» — не писать о собственных подвигах. Возможно, в собственных глазах он уже достиг или превзошел уровень Юлия Цезаря, чтобы позволить себе такое. Но самое главное — автор пытался оправдаться перед императором Леопольдом I за свои действия в войне против турок и ответить на потоки критики, регулярно изливавшиеся на него во второй половине 1660-х, в том числе в работах Андтлера, Сагредо, Нитри. Уже в предисловии Монтекукколи обрушился на своих критиков и высмеял лишенную здравого смысла болтовню писак, называющих себя историками, неспособных к постижению истины вещей и сущности взаимосвязей (а именно в этом ему виделась задача настоящего историка). Его раздражала наглость своих критиков, которые не имели достаточной компетенции и прав для вмешательства со своими замечаниями. Про таких лиц он говорил с откровенным презрением: «Жаль историю, которую они не стыдятся профанировать, покуда писательство принадлежит шарлатанам или простым людям. И как эти простые людишки (uomiccioli privati) могут судить о государственных делах? Те, которые никогда не видели армий, военных? Никогда не были при дворе…?».
В своем нарративе о кампаниях против турок Монтекукколи представил себя в лучших традициях мемуарной литературы: безупречный и не допускающий ошибок полководец, эксперт в своем деле, идущий к победе вопреки превосходству противника, проблемам с продовольствием и боеприпасами, интригам некомпетентных и непослушных союзных генералов и т. д. Однако надо отдать должное дотошности Раймондо как военного историка — при описании военных действий 1661–64 гг. он привел большой массив данных, включая информацию о боевом составе и численности войск, анализ стратегической ситуации, отрывки из документов и т. д. Лураги восхвалял эту часть в качестве образца военно-исторического анализа. С другой стороны, несколько монотонное повествование разбавлено яркими эмоциональными моментами — тем самым Монтекукколи предлагал своему читателю (императору) оказаться на его месте и лучше понять испытанные им затруднения.
Так мемуарный этюд, помещенный между двумя теоретическими частями, приобрел в «Афоризмах» центральное во всех смыслах значение.
В целом, «Афоризмы» можно рассматривать как полноценное «теоретическое изображение войны в западном стиле второй половины XVII в.».
Предполагается, что Раймондо планировал сделать «Афоризмы» достоянием общественности: по замечанию венгерских историков, рукопись сохранилась в Венском военном архиве «в аккуратно вычищенной копии, которую Монтекукколи тщательно вычитал», а структура работы «не позволяет предположить, что он был написан для узкого круга лиц, принимающих политические решения…». Известно, что он отослал один экземпляр трактата герцогу Моденскому, а в феврале 1671 г. передал окончательный вариант рукописи главному адресату — Леопольду I. Вместе с тем, при передаче в марте 1672 г. двух книг «Войны против турок» бургграфу Богемии Мартиницу, Монтекукколи просил его «не делать копий или выдержек» из своей работы, так как она «еще не представляется полной, ввиду того, что она была написана в 1670 г. и что за это время волнения в Венгрии сделали необходимыми изменения и дополнения». Даже всеведущие венецианские послы смогли собрать лишь весьма скудную информацию: «в прекрасном манускрипте он [Раймондо] оставил императору память обо всем, в чем его великий опыт и умение доказали успешность обращения с оружием, а герцог Лотарингский, его последователь и исполнитель его наставлений, с большим мастерством использовал его [манускрипт] во многих выигранных сражениях».
Помимо самооправдания, Раймондо использовал «Афоризмы» для пропаганды своих идей на строительство австрийских вооруженных сил. В этом плане «Афоризмы» предстают как аргументированное письмо императору против проводимой им политики сокращения армии. Преувеличивая османскую угрозу, Монтекукколи намеренно идеализировал государственное устройство турок и их военную машину. При этом он воспроизвел комплекс расхожих клише о турках, сформировавшихся у европейцев, с целью критики институтов собственного государства. По замечанию принца де Линя, «кажется, [Раймондо] говорит так много хороших слов о турках только для того, чтобы больше набить себе цену».
«Афоризмы» стали самой известной книгой Монтекукколи, его «визитной карточкой» как военного мыслителя. Напомним, что всеевропейская слава нашего героя в этом новом качестве началась именно с публикации в 1704 г. «Афоризмов», которым удалось прослыть «самой популярной военной книгой в первой половине XVIII в.». Эта работа часто признается как его «opus magnum», хотя не все историки считают ее самой важной в его наследии. Однако, как справедливо отмечал Лураги, «Афоризмы» станут последним трудом Раймондо, обобщающим всю его военную доктрину.
Предпринятая в «Афоризмах» попытка свести военное искусство к общим принципам получила противоречивые оценки. По мнению Пюисегюра, то, что Монтекукколи сообщал в «Афоризмах» суть лишь сентенции. Там есть много полезного, и хотя войны в Венгрии специфичны, «Афоризмы» могут быть использован повсюду. Тюрпен де Криссе, другой французский теоретик XVIII в., полагал, что «принципы, заложенные Монтекукколи для ведения войны против турок, могут быть применены ко всем странам и против всех государств…». Итальянский историк Цанелли усматривал в «Афоризмах» одну из немногих и успешных попыток создания целостного организма военных доктрин: «Это энциклопедия войны, синтез военной науки XVII века… Широкая культура является главной основой величия написания «Афоризмов»: в ней, или в духе, который ее питает, кроется причина их научной ценности…». Неувядающая значимость «Афоризмов», согласно все тому же историку, обнаруживается в сфере практической стратегии, политики и философии войны. Согласно Банкалари, сочинения Раймондо, «так сказать, сотканы из двух видов пряжи. Абстрактная часть придает трудам их высокую, неизменную ценность; конкретная делает их исторически интересными». Более того, Монтекукколи подготовил почву для Клаузевица, а некоторые его умозаключения более правдоподобны и гораздо теснее связаны с результатами опыта, чем у прусского военного теоретика.
Однако в историографии есть и довольно сдержанные оценки этого труда. Например, как «скорее серию советов, собрание желаний, предложений, чем изложение военного искусства того времени». Немецкий историк Теодор фон Бернхарди, оценивая «Афоризмы» с точки зрения изучения войны в целом, отмечал: «Работа Монтекукколи, в целом эпиграмматическая, содержит лишь аллюзии и намеки, которые, однако, не только очень остроумны, но и обнаруживают всестороннее и глубокое понимание всех элементов, из которых вытекает решение на войне… Но как бы метко ни были оценены многие из его высказываний, они не организованы методически; действительно, его доктрины не продуманы до конца, не прослежены до их конечной, фактически решающей основы, не объединены в органическое единство». Австрийские генштабовские историки конца XIX в. полагали, что «каждая из его [Раймондо] мыслей верна сама по себе, только отношения их к… фактам войны не доведены до должного уровня». Даже один из главных почитателей Монтекукколи, Лураги, признавал, что тому все же не удалось разработать «глобальную науку» войны, хотя он подошел в своей попытке ближе, чем любой другой, а своей концепцией глобальной стратегии даже намного опередил Клаузевица.
«О военном искусстве»
Трактат «Dell’Arte militare» с подзаголовком «Афоризмы, примеры, причины, власть военного искусства вообще» Раймондо начал в ноябре 1673 г., но так и не успел его завершить. Сохранившийся черновик является фактически сборником заготовок — заметок и цитат из произведений разных авторов для написания полноценного произведения.
В начале трактата помещен краткий словарь («Vocaboli») — примерно 100 слов, без каких-либо пояснений и дефиниций. За ним следуют идеи, почерпнутые автором при чтении Ксенофонта о 7 заботах главнокомандующего, к каждой из которых дан небольшой комментарий. Завершается труд 235 афоризмами, выделенными автором при чтении сочинения римского историка Луция Аннея Флора.
Набросок трактата готовился в разгар войны с Францией, а именно сразу после триумфального окончания кампании против Тюренна в 1673 г., что не могло не отразиться на содержании труда. По утверждению Лураги, Монтекукколи серьезно задумался о принципах решительной войны с западным противником, изучал военную историю и стратегическую географию Франции. Раймондо даже прикинул в общих чертах план наступления на Париж, в чем якобы опередил Мольтке Старшего в его концепции «la manovra convergente». Лураги также обнаружил в трактате идеи, на которых будет основана последняя кампания Монтекукколи против Тюренна и Конде в 1675 г.
Второй трактат «О битвах»
Спустя десятки лет после своего первого размышления о битвах, Монтекукколи снова обратился к тому, что он называл самой почетной частью войны. Новый трактат получил такое же название («Delle Battaglie») и привел к путанице с первым трактатом. Хотя сама рукопись трактата в венском архиве датирована 1673 годом, ряд авторских ремарок свидетельствует о том, что работа началась где-то вскоре после окончания Тридцатилетней войны. Так, Монтекукколи ссылался на «опыт 22 лет войны в Германии», имея в виду свой личный опыт, что указывает на период после 1648 г., ибо его служба фактически началась с 1626/27 г. Упоминание о битве при Лансе, где Конде победил испанцев, как о «свежем примере», также смещает время написания труда на период после окончания Тридцатилетней войны. Лураги относил начало составления трактата (как минимум, написание предисловия) к 1651 г. В письме к Марио Беттини в июле 1652 г. Монтекукколи сообщал о том, что на тему сражений он написал «полный трактат», который он обещал отослать «в свое время и в более подходящих обстоятельствах». Здесь речь явно шла о втором трактате «О битвах», а не о первом, поскольку некоторые фразы из письма к Беттини и из предисловия ко второму трактату (про частоту полевых сражений в Германии, про то, что битвы — самая необходимая и почетная часть войны) очень похожи.
Второй трактат «О битвах» получился заметно короче первого: изменилась структура, уже отсутствовало столь глубокое погружение в нюансы элементарной тактики, а некоторые аспекты оказались и вовсе опущены. В нескольких местах Монтекукколи просто повторил уже сказанное им ранее в «Афоризмах», хотя и в более развернутом виде. Что примечательно, все основные примеры автор по-прежнему брал преимущественно из опыта Тридцатилетней войны; войны 1650-х и 60-х гг., участником и свидетелем коих ему довелось быть, почти не получили отражения. И лишь в самом конце работы дают о себе знать реалии начала 1670-х, в связи с чем подбирается наиболее подходящий боевой порядок для битвы с французами.
Значение второго трактата о битвах оценивается высоко, по крайней мере, итальянскими историками. Так, тот же Лураги, называя это произведение «последними словами Монтекукколи-тактика» и его «доктринальным завещанием» (вместе с «Dell’Arte militare»), не скупился на похвалы: «Здесь можно найти все, о чем теоретизировал Жомини, все, что осознали Фридрих Великий и „Каменная Стена“ Джексон, изложено с предвидением и ясностью идей, что не может не удивлять… И, как он… на десятилетия впереди своих учителей, Густава Адольфа и Валленштейна, так он и превосходит свое время, предвосхищая не только Наполеона, но и (говоря всегда об общих принципах) кондотьеров будущего, вплоть до нашей эпохи и даже дальше».
* * *
Таковы главные военно-теоретические произведения Раймондо, беглый обзор которых позволяет понять широкий спектр затрагиваемых им вопросов — о сущности военного искусства и науки, обороне государства в целом, подготовке и ведении войны и битвы, комплектовании и вооружении армии, обучении солдат, строительстве крепостей и т. д. Вместе с тем, следует отметить отсутствие у Монтекукколи какой-либо специальной работы по артиллерии, хотя он в силу должности главного ланд- и хаус-цейгмейстера вплотную занимался как чисто техническими нюансами, так и так вопросами применения орудий в бою. Роль военного флота, проблемы ведения войны на море и осуществления десантных операций и вовсе выпали из его поля зрения, несмотря на богатый опыт, приобретенный в войне против Швеции, и развернувшиеся на его веку схватки между морскими державами.
Истоки военной теории Монтекукколи
Важнейший вопрос о генезисе военного мышления Раймондо уже подробно поднимался в работах историков Пьери, Лураги и Баркера. Лураги выделил 4 основы формирования Монтекукколи как военного теоретика: 1) военный опыт; 2) школа великих полководцев; 3) традиция великого итальянского искусства и военной науки с XV по XVII вв.; 4) культурное наследие эпохи Возрождения. Объединив два последних пункта в один, стоит остановиться на этих истоках чуть подробнее.
1) Культурное наследие античных, средневековых и современных авторов
Роль теоретического багажа для успешного командования армией подчеркивается подчас столь высоко, что, например, согласно Цанелли, величайшие полководцы появились только тогда, когда военные библиотеки стали всеобщим достоянием образованных людей. Такое, по мнению итальянского историка, случилось в Италии, где сложилась неороманская военно-историческая эпоха, предшественником которой являлся Макиавелли, а «апостолом» — Монтекукколи.
Литературное наследие Раймондо демонстрирует его большую любознательность, выходящую далеко за пределы сугубо военной сферы, тот широкий энциклопедизм, обусловленный стремлением изучить все области человеческого знания на предмет их полезности для военных целей, равно как и подтвердить свои военные концепции посредством данных из других наук. Обучение, полученное им в Италии, сделало из Монтекукколи защитника универсальных ценностей итальянской культуры, которая научила его изобретательности и конкретности. Известно также, что он поддерживал личные контакты с учеными своего времени — Иоганном Глаубером и Лейбницем. В силу этого Раймондо признают подлинным интеллектуалом в традициях Возрождения, одним из «самых многогранных умов в истории» и первым военным представителем «esprit polytechnique», предвосхитившим тенденцию к «интеллектуализации войны» в эпоху Просвещения.
Несмотря на то, что личная библиотека Монтекукколи утрачена, установить многие из прочитанных им книг достаточно легко. В трактате «О войне» он привел список из 46 использованных авторов, иногда с указанием конкретного труда, но чаще всего просто имя. В «Цибальдоне» перечислены около 40 авторов (включая анонимные труды). В «Афоризмах» процитированы 42 автора. Разумеется, многие авторы повторяются, но если добавить к ним еще несколько имен, упомянутых в других работах, то в сумме получается около 100. К сожалению, Баркеру и Лураги не удалось доподлинно идентифицировать всех упомянутых Раймондо авторов; в связи с этим постараемся дополнить их изыскания.
Что касается классификации авторов, Баркер разделил 42 из 46 перечисленных в трактате «О битвах» авторов (четверо остались неидентифицированными) на 6 категорий: средневековые и ренессансные (5), античные (15), современные научные (4), современные военные (9), политико-правовые (5) и современные исторические. Упрощая классификацию, мы разделили книги этих авторов условно на «военные» и «невоенные», с разбивкой по эпохам.
Античные авторы:
К началу XVII в. в Европе было издано множество сочинений античных классиков, в том числе в переводе на итальянский, и, судя по всему, знакомство Монтекукколи с греческими авторами состоялось именно через эти переводы (римских он читал на латыни). Среди упомянутых им «военных» античных авторов: Геродот, знаменитый греческий автор V века до н.э., «отец истории», источник по истории греко-персидских войн; Фукидид, греческий историк V века до н.э., автор «Истории» — источника по Пелопоннесской войне; Ксенофонт (ок. 430 — ок. 355 гг. до н. э.) — древнегреческий писатель и историк, автор трудов «Анабасис» и «Греческая история»; Квинт Курций Руф, римский историк, чей труд по истории Александра Македонского многократно переиздавался в XVI — начале XVIII вв. под названием «De Rebus Gestis Alexandri Magni»; Юлий Цезарь, римский государственный и политический деятель, полководец, писатель, чьи «Записки» о Галльской и Гражданских войнах Монтекукколи активно использовал; Элиан, греческий писатель, автор трактата «Тактическая теория» (начало II века н.э.) — справочника по военному делу эллинистической эпохи; Эней Тактик (IV в. до н.э.), автор трактата «О перенесении осады»; Фронтин, римский политический деятель, полководец, администратор, ученый и писатель I века н.э., автор трактата «Стратегемы (военные хитрости)»; Марк Юниан Юстин, римский историк, автор эпитомы труда Помпея Трога о царствовании Филиппа Македонского; Флавий Вегеций Ренат, позднеримский военный писатель, автор трактата «De re militari» (конец IV — начало V вв.), который в течение на нескольких столетий стал «оракулом» для военных Западной Европы; Онасандр — греческий писатель I в. н.э, автор трактата «Strategikos» (наставление военачальнику); Полибий — греческий историк II века до н.э., автор «Всеобщей истории» — источника по истории Пунических и некоторых других войн; Полиэн — греческий писатель II века н.э., автор трактата «Стратегемы» («Военные хитрости»); Плутарх — греческий писатель и философ сер. I — начала II вв. н.э., автор «Сравнительных жизнеописаний»; Гай Саллюстий Крисп — историк I века до н.э., автор работ «О заговоре Катилины» и «Югуртинская война»; Луций Анней Флор, римский историк II в. н. э..
В «Афоризмах» также несколько раз процитирован Лев Мудрый, автор «Тактики»; это единственный названный напрямую византийский автор. По наблюдению Йэнса, именно византийского императора, наряду с Макиавелли, Раймондо наиболее плодотворно использовал среди всех трудов своих предшественников.
Из невоенных авторов отметим Аристотеля (384–322 гг. до н. э.), древнегреческого философа и учёного-энциклопедиста, основателя перипатетической школы. Из сочинений Аристотеля Монтекукколи читал как минимум «Метафизику», «Риторику», «Политику», «Никомахову этику», «Физиогномику». Оценка воздействия идей греческого философа на Раймондо противоречива: от признания фундамента его идей «аристотелевским» (Грасси) до утверждения, что методологически на нашего героя гораздо больше повлияли Галилей и Кампанелла (Лураги). Несомненно, на подход Монтекукколи оказал ощутимое влияние аристотелевский силлогизм. Согласно Мартелли, Раймондо был воспитан в христианском аристотелианстве, и именно к этому философу он обращался на позднем этапе творчества для решения любых категориальных проблем. Аристотелевская мысль вместе с научным эмпиризмом обусловила его концепцию военного искусства и политики. По наблюдению Пьеро дель Негро, последовательность чувства–память–опыт–всеобщий разум прямо отсылала к аристотелевской эпистемологии.
Наконец, Монтекукколи несколько раз цитировал Библию и Иоанна Златоуста (ок. 347–407).
Обращение к античному наследию являлось само собой разумеющимся для европейских военных теоретиков раннего Нового времени. Мало того, греческому и римскому войску могли посвящаться целые трактаты, или, по крайней мере, специальные разделы в трактатах (Липсий, Патрици, Прэссак). Чрезмерное внимание таких теоретиков к античности впоследствии сурово осудил Гибер: «беспрестанно цитировали античных авторов, не замечая, что их от нас отделяют 2000 лет…». Раймондо стал как раз одним из тех, кто заметил данное обстоятельство, и такого преклонения перед военным делом античности, как, например, у Липсия или Макиавелли, у него не наблюдалось: «как презирать благоразумие древних во всех отношениях — акт профанной горделивости, так и привязывать себя навечно к их институтам — абсурдный вид благоговения». Как отмечалось выше, в предисловии к «Военным таблицам» он фактически признал, что для формулирования правил военного искусства достаточно опыта современных ему войн, а в «Цибальдоне» не включил ни одного античного автора. Согласно наблюдению историков, Монтекукколи по факту мало пользовался трудами античных теоретиков, а цитаты из них выступали лишь предлогом для его размышлений. В связи с этим важно отметить, что некоторую практическую информацию, например, о древнем вооружении, он черпал не напрямую у греческих или римских классиков, а у современных ему авторов (Липсий, Прэссак, Патрици, Роан), в чем он, собственно, сам признавался.
Разумеется, Раймондо был далек от игнорирования античности: «временами я касался некоторых случаев использования [опыта] античных войн, потому что подражание им иногда может пробудить дух к изобретению других подобных вещей, которые могут быть сведены к практике сегодняшнего дня, а также… послужить источником обучения». Однако, когда Монтекукколи приводил примеры из древней истории, то, по верному замечанию Баркера, он выбирал лишь то, что гармонировало с его личным опытом; к тому же, по словам самого Раймондо, «использование примеров опасно тем, что лица и места часто различны, хотя события кажутся похожими».
Конкретное влияние античной литературы на Монтекукколи проявилось, например, в структуре первого трактата «О битвах» (что делать до, во время и после битвы), которая явно позаимствована у Вегеция. Рассуждения о врождённых и приобретённых качествах генералов он взял у Онасандра, а определение универсальной диспозиции — у Секста Юлия Фронтина.
Средневековье и раннее Новое время (до начала XVII в.)
Среди «невоенных» авторов этого периода следует упомянуть следующих: Филипп де Коммин (1447–1511), государственный деятель, дипломат, сначала на службе у Карла Смелого, затем — Людовика XI, автор «Мемуаров» (изданы в 1524 г.), признанных одним из лучших образцов жанра мемуаристики; Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ, основоположник эмпиризма; Джироламо Кардано (1501–1576) — итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог; Джон Барклай (Бёркли, 1582–1621) — шотландский поэт, сатирик, латинист, автор романа «Argenis» (1622 г.); Георгий Агрикола (Георг Бауэр, 1494–1555) — немецкий ученый, врач, историк, философ, которого называют «отцом физической геологии и минералогии»; Сципион Аммирато (Scipione Ammirato, 1531–1601), итальянский историк, автор труда по истории Флоренции и о Таците («Discorsi sopro Cornelio Tacito»); Иоганн Слейдан (Johannes Sleidanus, 1506 — 1556) — немецкий историк, переводчик и дипломат (Раймондо ссылался на его работу «Commentariorum de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare, Libri XXVI», ценный источник истории Реформации); Иоганн Фаульхабер (1580–1635) — немецкий математик, автор многочисленных трудов по алгебре и геометрии; также работал в качестве инженера-фортификатора и увлекался астрологией.
Спорным остается вопрос о влиянии на Раймондо знаменитого итальянского физика, механика и астронома Галилео Галилея (1564–1642), поскольку он «совсем не любил тех «философов [его] времени», которые «извлекли из гроба уже похороненные мнения атомов и движения земного шара». Тем не менее, именно в галилеевском методе исследования измерения явлений берет свое начало геометрически-пропорциональный ансамбль, наблюдаемый в архитектурной планировке Монтекукколи.
Несколько упомянутых Монтекукколи имен вызвали у историков затруднения с точной идентификацией. Во-первых, это некий Daniel Mogling, автор труда, который Лураги расшифровал как «Mechanics of far bunghammers». По мнению итальянского историка, Мёглинг, «судя по названию его работы и языку, очевидно, англичанин, занимавшийся практической механикой». В данном случае итальянский историк неправильно дешифровал Раймондо, сочтя, что труд написан на английском. На самом деле, речь идет о «Mechanischer Kunst-Kammer… Von Waag, Hebel, Scheiben, Haspel, Keyl und Schrauffen. Begreiffend die wahre Fundamenta aller Machination…», работе по механике, изданной в 1629 г. Ее автор — Даниэль Мёглинг (Daniel Mögling, 1596–1635) — немецкий алхимик и розенкрейцер.
Во-вторых, некий Якопо Страда Росберг (Jacopo Strada a Rosberg). Лураги считал, что это историк, писавший о римских императорах и умерший после 1629 г. Как кажется, Монтекукколи имел в виду другого человека — уроженца Мантуи, жившего в 1507 — 1588 гг., автора работы «La première [et seconde] partie des desseins artificiaulx de toutes sortes des moulins à vent, à l’eau, a Cheval & à la main, avec diverses sortes des pompes & aultres inventions…» (1617 г.). Книга посвящена устройству мельниц и иллюстрирована сотней гравюр. Раймондо мог опираться на него в своих подробных расчетах о производительности мельниц.
Среди «военных» авторов следует в первую очередь назвать Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянского мыслителя, философа, писателя, политического деятеля. Макиавелли рассматривается как «первый, кто попытался обобщить рациональные принципы военного искусства и науки». Ярый ненавистник наемничества, он сформулировал основные принципы обороны страны гражданами и положил начало дискуссии о горожанине и крестьянине как защитниках отечества. Несмотря на встречающееся в литературе мнение о том, что XVII в. Макиавелли уже не оказывал никакого влияние на науку о войне, Раймондо почерпнул у знаменитого флорентийца непредвзятый анализ политической реальности своего времени и соответствующих методов; абстрактный принцип гражданина-солдата и национальной армии, который, впрочем, он счел возможным на практике только в исключительных случаях; идеи о качествах военного лидера; тезис о неизменности военного искусства даже после появления артиллерии; определение отношений между войной и политикой; концепцию современной кавалерии; тезис об обороне как о самой сильной форме войны, при условии последующего контрнаступления.
Историк Баркер отметил влияние Макиавелли и в сугубо тактическом плане, например, в вопросе о глубине боевого построения. В «Военном искусстве» Макиавелли, ссылаясь на опыт римских легионов, рекомендовал боевой порядок из трех линий: «При таком порядке троекратного возобновления боевой линии поражение было почти невозможно, потому что счастье должно изменить тебе три раза подряд, а доблесть врага должна быть такова, чтобы трижды победить».
Эту идею подхватил и Монтекукколи в первом трактате «О битвах»:
«Пусть армия никогда не сражается вся целиком, но так, чтобы она могла привести себя в порядок, чтобы сражение могло повториться два или три раза…».
Влияние Макиавелли особенно сказалось в трактате «О войне», где, по мнению Лураги, оно является повсеместным и доминирующим. С другой стороны, в первом трактате «О битвах», по предположению Баркера, Раймондо пользовался идеями Макиавелли «скорее косвенно, чем напрямую».
Вторым важным автором этого периода для Монтекукколи стал Юст Липсий (1547–1606), фламандский гуманист, историк, филолог и основатель неостоицизма. Его труды оказали большое влияние на международную политическую и административную элиту и были переведены на множество языков и многократно переизданы. В историографии подчеркивается огромное влияние Липсия и на героя данной книги, который ссылался на такие труды, как «Politicorum sive civilis doctrinae libri VI» и «De militia romana». В предисловии к трактату «О войне» заявлялось: «я часто любил подражать Липсию, излагая свои чувства словами других…». По наблюдению Кауфманн, в «религиозно-философской (призыв к «мужественному действию» был центральным элементом Нового стоицизма) обоснованной концепции труда и долга» Липсия кроется главная причина необычайного стремления Раймондо к деятельности.
В «Politicorum sive civilis doctrinae libri VI» (1589 г.) Липсий изложил свою теорию государства, построенного на двух столпах — vis (военная сила, насилие) и virtus (нравственное отношение, морально обоснованная эффективность). Считается, что из данного труда Монтекукколи почерпнул «всестороннее и систематическое изображение войны в политических рамках, вытекающее из политических мотивов и направленное на политические цели», что особенно отразилось в первой части трактата «О войне». Ему явно импонировали идеи Липсия о монархической форме правления, сдержанной строгой законностью с сильным военным акцентом. Кроме того, Раймондо согласился с Липсием в вопросах отказа от наемничества и перехода к постоянной профессиональной армии, необходимости специального налога для ее содержания, наличия резервных войск, разбросанных по крепостям, необходимости строгой «disciplina militaris», адекватной системы поощрений и наказаний, строевой подготовки и регулярной муштры, важности наличия у главнокомандующего определенных качеств и т. д. В работе «De militia romana» (1595 г.) римская армия ставилась Липсием в пример для реформы современного войска. Монтекукколи ссылался на этот труд при разборе проблемы взаимоотношения пехоты и кавалерии, набора войск и т. д.
У итальянского писателя Джованни Баттиста Николуччи по прозвищу Пинья (Pigna, 1529–1575) Раймондо мог почерпнуть темы, связанные с совместимостью между воинской профессией и исповеданием христианской веры, а также привить существенное недоверие к небольшим крепостям.
Среди других условно военных авторов выделяются:
Жан Фруассар (около 1337 — после 1404 или 1405) — французский историк, писатель и поэт, автор «Хроник» по истории Столетней войны Ангиии с Францией.
Джулио Чезаре Бранкаччо (1515–1586) — итальянский придворный, кавалер, писатель. Автор труда «Della nuova disciplina & vera arte militare» и комментированного перевода «Записок» Юлия Цезаря.
Франческо Патрици (о) (1529 — 1597), итальянский философ и гуманист, автор «La Militia romana di Polibio, di Tito Livio e di Dionigi Alicarnaseo» (1583 г.); другая его работа, «De institutione reipublicae» (1594 г.), проповедовала обязательное военное обучение для всех молодых людей.
Франсуа де Ла Ну (или де Лану, François de La Noue, 1531 — 1591), участник религиозных войн во Франции на стороне гугенотов и войны во Фландрии на стороне Республики Соединенных провинций. В своих «Discours politiques et militaires», 1587 г. Ла Ну рекомендовал, среди прочего, сохранять сильные пехотные контингенты в мирное время, поскольку основательная военная подготовка кадров не могла быть предметом импровизации.
Диего Уфано (Diego Ufano,? — 1613 г.), испанский артиллерист, участник 80-летней войны Испании с Голландией, автор «Tratado dela artilleria y uso della platicado». В этой работе разобраны история и классификация артиллерии, технические аспекты ее изготовления, тактические проблемы ее применения. Трактат Уфано снискал популярность и был переведен на несколько языков.
Джорджо Баста (1540/50–1607), итальянский генерал, теоретик и дипломат, военный наставник Эрнесто Монтекукколи и Валленштейна. Участвовал в войне Испании с Голландией под командованием Альбы, дона Хуана Австрийского и Фарнезе. Затем перешел на императорскую службу, сражался против турок в Долгой войне, на которой дослужился до главнокомандующего армиями Венгрии и Трансильвании, заслужив репутацию одного из лучших полководцев императора. Известен среди прочего тем, что именно по его приказу был убит валашский господарь Михай Храбрый. По окончании войны Баста оставил службу и написал 3 трактата: «Il mastro di campo Generale», «II governo della Cavalleria leggiera», «Del governo dell’artiglieria», а также работу «Fattioni occorse nell’Ongaria nel 1597, et la Battaglia di Transilvania contro il Valacco 1600». В работе «Il mastro di campo Generale» Баста рассказывал об обязанностях этой должности заместителя генералиссимуса, т.е. фактического командующего армией, разделяя ее политическую и военную стороны. Опыт войны Баста в Венгрии нашел отражение и в рассказе о тактике турок и советах по борьбе с ними. Влияние идей Баста на Раймондо прослеживется и в рассуждении о преимуществах копья.
Лодовико Мельцо (1558–1617), участник испано-голландской войны под командованием Алессандро Фарнезе и эрцгерцога Альбрехта, дослужился до заместителя командующего кавалерией в армии Фландрии. Автор «Regole Militari sopra il Governo e Servitio particolare della Cavalleria» (1611 г.) — сводного трактата о кавалерии, в котором рассмотрены организация, структура, тактика этого рода войск.
Иоганн Якоб фон Валльхаузен (Johann Jacobi von Wallhausen, ок. 1580 — 1627), военный писатель и основатель первой в Европе военной академии (в Нассау-Зигене). Он обучался военному искусству в Нидерландах. Среди его работ — «Kriegskunst zu Fuß» (1615 г.), «Kriegskunst zu Pferdt» (1616 г.), «Archiley-Kriegskunst» (1617 г.), «Corpus militare» (1617 г.) и «Defensio Patriae oder Landrettung» (1618) г.
Феретти. В отношении данного автора есть сразу три примерно равнозначных по вероятности гипотезы. По предположению Баркера, Монтекукколи мог иметь в виду Доменико Феретти (Domenico Ferretti, 1489—1552) — тосканского гуманиста и политического деятеля, состоявшего на службе у Франциска I. Лураги предложил еще 2 варианта: «Джулио Ферретти из Равенны, опубликовавший в 1562 г. трактат о военных „советах“, либо Франческо Ферретти из Анконы, опубликовавший в 1568 г. трактат „Della osservanza militare“)».
Стоит сказать и про одно знаковое сочинение, которое так и не было напрямую упомянуто Раймондо — «Arte militare terrestre e marittima…» (1599 г.) Марио Саворньяно. Автор разделил военное искусство на две составные части: военные ресурсы (apparecchi), т.е. сфера подготовки, и действия (attioni), т.е. сфера исполнения. К «apparecchi» он отнес людей (офицеры и рядовые), инструменты (оружие, лошади и т.д.), продовольствие и деньги. К «attioni» относятся марш, расположение лагерем и сражение. В отношении сражения автор рассматривает как предшествующие, так и относящиеся непосредственно к нему явления. Многое из предложенной Саворньяно структуры военного искусства, включая разделение войны на наступательную и оборонительную, будет использовано и/или дополнено Монтекукколи, хотя он так и не упомянул этого автора.
Современные авторы.
Из «невоенных» современных авторов огромное влияние на Раймондо оказал Томмазо Кампанелла (1568–1639), философ-утопист, теолог, писатель и поэт. По обвинению в антииспанском заговоре провел 27 лет в тюрьме, где и сочинил свои главные произведения. По уверению Лураги, в Кампанелле Монтекукколи нашел своего «величайшего учителя…, заложившего основы для появления картезианской математической логики». Влияние на Монтекукколи данного мыслителя подчеркивает тот факт, что в «Цибальдоне» более четверти всех использованных работ (и примерно 353 страницы) приходятся на Кампанеллу. В частности, Раймондо ознакомился с «Испанской монархией», «Метафизикой», «Моралией», «Грамматикой», «Логикой», «Поэтикой», «Экономикой», «Политикой», «Апологией Галилея», «Психологией» и другими. Помимо всего прочего, Кампанелла увлекался астрологией, посвятив ей отдельное сочинение, также упомянутое Раймондо в «Цибальдоне».
В методологическом отношении на Раймондо оказала воздействие логическая структура мысли Кампанеллы, акцент на эмпиризм, некоторые философские идеи и размышления об иррациональности. В сугубо военном отношении Монтекукколи сослался на идею Кампанеллы о том, как «постоянно иметь в избытке верных солдат».
В числе других «невоенных» современных авторов: Валериан Магни (Valerianus Magnus, 1586–1661), священник-капуцин, дипломат и миссионер; Авраам Закут (Zacutus Lusitanus, 1575–1642), автор трудов по медицине; Лазар Ривьер (1589– 1655), французский автор трудов по медицине; Даниэль Швентер (1585–1636), профессор иврита, восточных языков и математики, написавший трактат по криптологии «Steganologia» (1620 г.); Ян Амос Коменский (1592–1670), чешский педагог-гуманист и писатель, считается основоположником современной педагогики как науки (Монтекукколи заинтересовал его учебник «Физика», 1633 г.); Вирджилио Мальвецци (1595–1654), итальянский писатель (Раймондо упоминал его биографии древнеримских царей Ромула (1629 г.) и Тарквиния Гордого (1632 г.)); Роберт Фладд (Robertus de Fluctibus, 1574–1637), английский писатель, философ, медик, мистик, алхимик; Георг Шёнборнер (1579–1637), ученый-правовед, среди трудов которого Монтекукколи выделяет «Politicorum libri septem» (1610 г.), т.н. «энциклопедию политической науки».
В числе «военных» авторов:
Карлос Колома (Carlos Coloma de Saa, 1566–1637), испанский военачальник, дипломат и переводчик, автор истории войн в Нидерландах в конце XVI в. («Las Guerras de los Estados Bajos: desde el año de 1588 hasta el de 1599», 1625 г.). Помимо участия в войне во Фландрии, Колома отличился в Тридцатилетней войне, воюя против французов в Италии.
Дю Прэссак (Du Praissac), автор работы «Les Discours militaires» (1614 г.). Раймондо позаимствовал у него, среди прочего, дихотомию «аппарат» и «действия» и их структуру. Монтекукколи рекомендовал читать Прэссака и при разборе качеств, необходимых для главнокомандующего. По замечанию Баркера, дю Прэссак, являлся особенно важным источником для Раймондо, который взял у него способы построения батальона.
Анри де Роан (в отечественной традиции — Роган, 1579–1638), крупный военачальник и дипломат, автор трактата «Le parfait capitaine» («Совершенный полководец», 1636 г.). Трактат представлял собой всеобъемлющую доктрину, защищающую наступление и анализирующую условия победы. В нем автор определял войну как науку, аксиомы и теоремы для которой сформулировали великие полководцы. Чтобы стать великим полководцем, требовался долгий опыт, а не чтение книг или «хорошие слова». Для самого автора идеалом полководца выступал Юлий Цезарь. Кроме того, Роан уделял большое внимание шпионажу и снабжению продовольствием. От офицера требовалось быть образованным, быть в курсе новинок в области вооружения и тактики.
Оказанное Роаном сильное влияние на Монтекукколи особенно проявилось в трактате «О войне». В первую очередь, речь идет о перечне затрагиваемых проблем. Для более наглядного представления сопоставим главы «Совершенного полководца» с теми главами трактата «О войне», которые посвящены тем же самым или похожим вопросам.
Таблица 1. Сравнение содержания «Совершенного полководца» Роана и 1–2 частей трактата «О войне» Монтекукколи
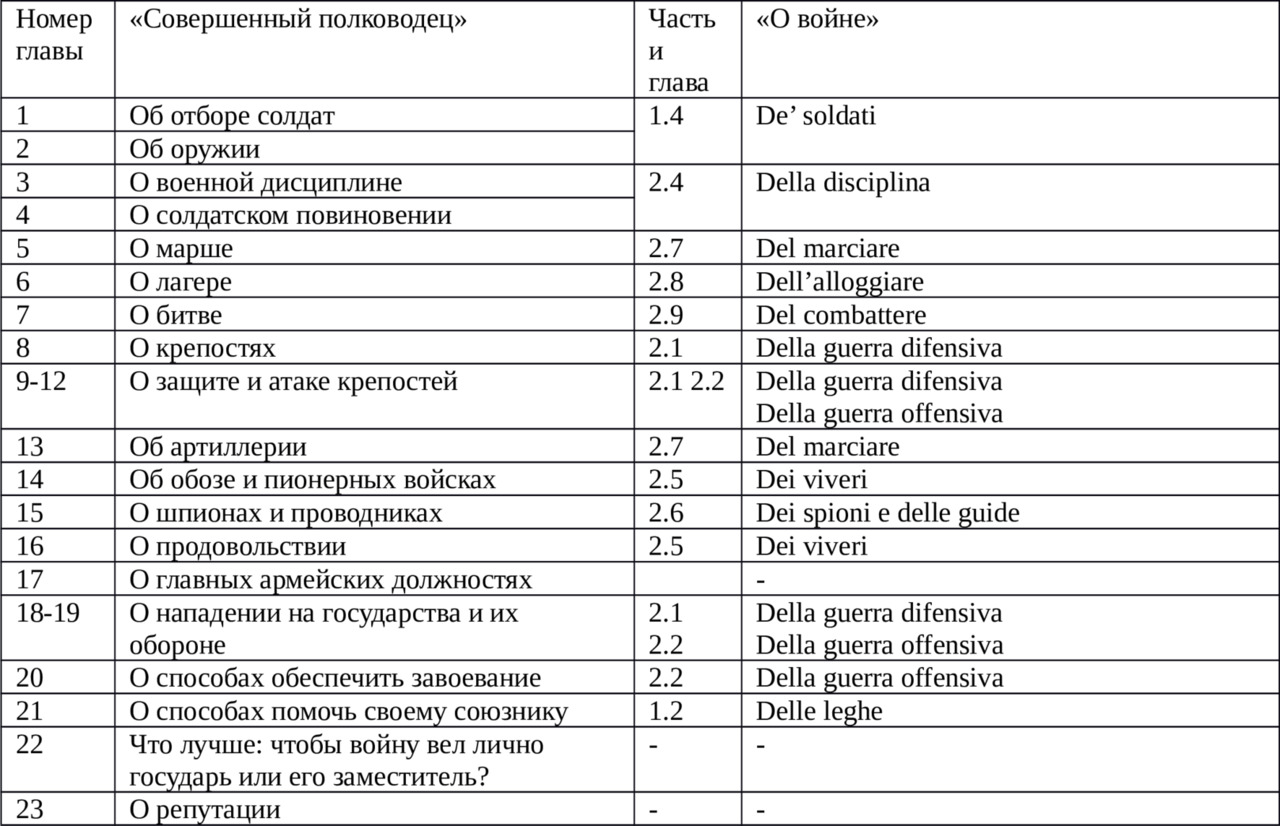
Раймондо опустил часть рассмотренных Роаном проблем, но, в противовес, добавил несколько новых тем. Иногда Монтекукколи почти дословно заимствовал мысль Роана, о чем, к примеру, свидетельствуют два следующих отрывка (французский фрагмент дан в переводе):
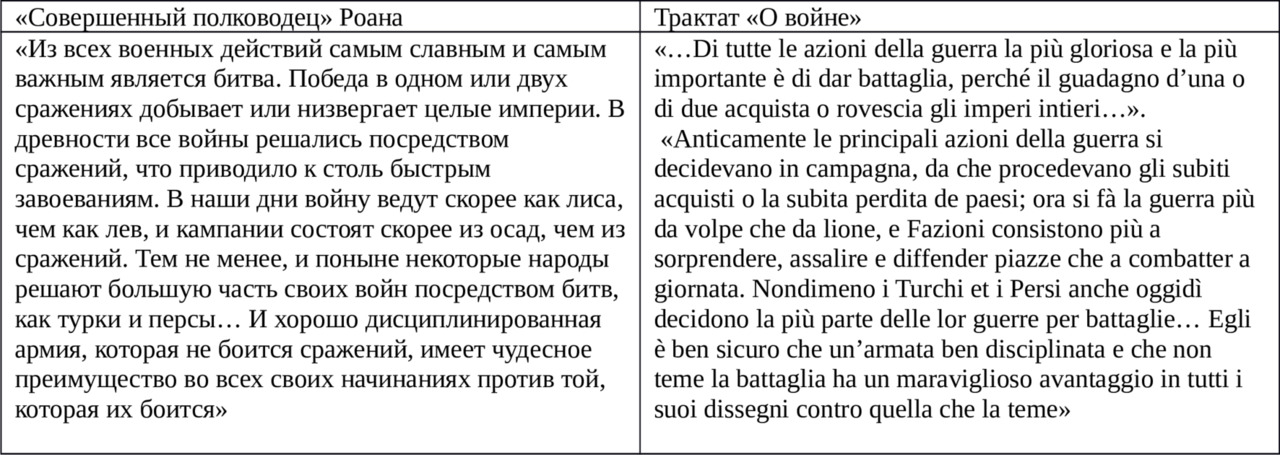
Эти и другие заимствования демонстрируют большую степень зависимости Монтекукколи от авторитетных теоретиков на начальном этапе его творчества. В дальнейшем его мысль приобретет большую самостоятельность.
Гийен Рамон де Монкада и де Кастро, маркиз де Айтона (1615–1670), испанский военный и писатель. Разделяя идею постоянной армии, Айтона ратовал за сохранение ядра профессиональных войск, что он считал менее затратным делом, чем набор новой армии «с нуля». В «Афоризмах» Монтекукколи несколько цитировал маркиза: в вопросе об унификации калибров артиллерии, о важности внушения уважения к армии государства, о необходимости предоставить солдатам дополнительные привилегии, о необходимости наделения государем назначенного им командующего полной компетенцией и полным доверием.
Отметим, что из всех достаточно многочисленных представителей испанской военной мысли (если вынести за скобки Урреа) Раймондо упомянул всего двух — Уфано и Айтона. Меж тем, одно из любимых наставлений Монтекукколи, ставшим его стратегическим кредо — наступать «col piè di piombo» («со свинцовой ногой»), т.е. осторожно, размеренно, — было предвосхищено известным испанским военным теоретиком и дипломатом Бернардино де Мендосой (1540 или 1541 — 1604). В трактате «Theórica y práctica de guerra» (1595 г.) Мендоса призывал завязывать в сражение осторожно («con pie de plomo»), раскрывая намерения противника. С этой работой Раймондо мог ознакомиться в итальянском переводе 1602 г.
Иоганн Вильгельм Ноймайр фон Рамсла (1570/72–1641/после 1644) — саксонский писатель-путешественник, военный теоретик и юрист. Автор книги про альянсы и коалиции во время войны («Verbündnisse und Ligen in Kriegszeit», 1624 г.).
***
В качестве отдельной категории стоит выделить то внушительное количество авторов XII — XVII вв., которые сочиняли работы в области алхимии:
Альберт Великий (Albertus Magnus, 1193/1206–1280), немецкий философ, теолог, учёный, автор «De mineralibus» (возможно, этот труд заинтересовал Раймондо именно из-за алхимии); Раймунд Луллий (1233–1316), каталонский философ, богослов, мистик и миссионер (Монтекукколи упомянул труд по алхимии «Liber de secretis naturae seu de quinta essentia», который на самом деле не принадлежал Луллию); Изабелла Кортезе (XVI в.), автор труда по алхимии «I secreti della signora Isabella Cortese»; Габриэле Фаллопио (1523–1562), врач и учёный, автор упомянутой Раймондо работы «Secreti diversi e miracolosi»; Андреас Либавий (до 1560–1616), немецкий химик и врач; Освальд Кролль (ок. 1560–1609), придворный алхимик императора Рудольфа II; Густав Селен (герцог Август Брауншвейг-Вольфенбюттельский, 1579–1666), коллекционер-библиофил, увлекающийся алхимией; Иоганн Рудольф Глаубер (1604–1670) — немецко-голландский химик-экспериментатор и алхимик
Наконец, нельзя не отметить и особое внимание Монтекукколи к авторам, касавшимся в своих трудах проблем чести и дуэли: Андреа Альчато (1492 –1550), итальянский юрист и писатель; Джироламо Муцио (Mutio Justinopolitano, 1496 — 1576) итальянский писатель; Себастьяно Фаусто да Лонджано (1502/12–1560), итальянский гуманист, поэт, переводчик; Херонимо Хименес де Урреа (1510—1573), испанский полководец, государственный деятель, поэт и писатель, автор «Diálogo de la verdadera honra militar» (1566 г.); Джованни Баттиста Олевано, итальянcкий автор, сын известного военачальника Бартоломео, участника Итальянских войн (очевидно, Раймондо имел в виду его трактат о 50 способах прийти к миру, «Trattato… Nel quale co’l mezo di cinquanta casi vien posto in atto prattico il modo di ridurre à pace ogni sorte di priuata inimicitia, nata per cagion d’honore», 1603 г.); Марк Вюльсон де ла Коломбьер (? -1658 г.), автор труда «Le vray théâtre d’honneur et de chevalerie, ou le Miroir héroique de la noblesse…» (1648 г.); Бернхард Варен (1622– 1650), немецкий географ.
* * *
Несмотря на несомненное влияние на Раймондо достижений военно-теоретической мысли его предшественников, в историографии можно встретить мнение и о вспомогательном характере этого влияния. Так, согласно Пьеро Пьери, «классическая модель, сочинения Макиавелли, военная история в целом на мгновение повлияли на его мысль то тут, то там, но в очень ограниченной степени: как подтверждение, время от времени, убеждений, созревших на других основаниях и на непосредственном опыте». Таким образом, именно опыт играл одну из главенствующих ролей.
2) Опыт
Опыт для Монтекукколи являлся необходимым условием для формирования военачальника. В одном из писем к Гуальдо Приорато он утверждал: «Я смеюсь над теми, кто хочет стать полководцем, не побывав ни в войсках, ни в походе… Военное искусство приобретается, а не вливается, причем посредством практики, а не умозрительно… Нельзя познать целое искусство, игнорируя его части. Военное дело — область практики, а не теории…». В «Афоризмах» он иронизировал над теми «смелыми умами», кто, прочитав Вегеция или Ливия, возомнили себя великими полководцами.
Что касается самого Раймондо, то он в предисловии к трактату «О войне» похвастался: «я внимательно прочитал основные истории древних и лучших авторов, давших наставления о войне, к которым я добавил примеры того, чему мог научить меня опыт пятнадцати непрерывных лет [к 1640 г.] службы».
Богатый военный опыт стал для Монтекукколи не только основой успехов на ратном поприще, но и в качестве источника примеров для подкрепления своих тезисов и выводов. Примеры он брал главным образом из тех конфликтов, в которых участвовал лично, и речь здесь идет, в первую очередь, о Тридцатилетней войне. Гораздо меньше его внимание занимали религиозные войны в Германии XVI в., войны Испании с Республикой Соединенных провинций, а также с Португалией, войны между различными итальянскими государствами (разумеется, кроме современных), между христианскими державами и османами в XVI–начале XVII вв. Из античных столкновений его привлекали преимущественно войны Древнего Рима, а из средневековых европейских (до XV века включительно) — практически ничего. Лишь изредка он мог упомянуть Итальянские войны 1494–1559 гг. и религиозные войны во Франции в XVI в. Раймондо проигнорировал и опыт ряда современных ему больших конфликтов в разных уголках Европы — гражданских войн в Англии, войн России и Речи Посполитой как между собой, так и против Швеции и Османской империи и т. д.
Отметим также, что Монтекукколи имел возможность познакомиться — будь то в мирное время или в военное — с армиями многих крупных держав Европы (Швеция, Испания, Франция, Речь Посполитая, Англия; условно добавим сюда и Османскую империю), не говоря уже про менее значимые (Бавария, Бранденбург, мелкие имперские и итальянские).
Вместе с тем, согласно Монтекукколи, одного военного опыта недостаточно, если к этому не добавлен мыслительный процесс, анализирующий пережитое и формирующий соответствующие выводы. Так, в письме к Болоньези в 1644 г. он поделился своими взглядами на формирование полководца: «Я занимаюсь этой профессией 18 лет непрерывно, и придерживаюсь мнения, что то, чему нельзя научиться за 18 лет, вряд ли можно научиться за более длительное время; потому что недостаток [знаний или компетенции] будет зависеть не от возраста, а от устроения — или мозга, или души, которые будут к этому неспособны. Есть такие солдаты, которые всю жизнь носили оружие, видели бесконечное множество столкновений, и все равно не знают, что такое война; потому что дело не только в том, чтобы побывать в нескольких местах и [поучаствовать] в различных событиях. Необходимо также размышлять о вещах, уметь замечать недостатки и неудобства, извлекать выгоду из хорошо организованных предприятий…, обдумывать и сравнивать одно с другим, и на основании этого формировать максимы и вытекающие из них последствия, которые затем подтверждаются наукой и практикой…».
Творчество Монтекукколи и проблема науки о войне
По замечанию американского историка Баркера, Монтекукколи дерзнул применить к военной профессии понятие «науки» в период, когда этот термин только зарождался. Примечательно, что в своих ранних трактатах Раймондо использовал термин «военная наука» («la militar scienza», «la scienza della guerra»), но впоследствии все же перешел на «военное искусство» («arte bellica», «arte militare»), что могло бы быть истолковано как символичное признание неуспеха попыток придать этой области знаний научный статус. В действительности, Монтекукколи не переставал рассматривать войну как науку, однако само понятие науки в рассматриваемый период отличалось от сегодняшнего. Как справедливо указал Баркер, в эпоху Раймондо «сама концепция науки являлась неполной», в силу чего вопрос о «принадлежности» войны к сфере искусства или науки (в современных определениях) едва ли мог возникнуть. Поэтому и самого Монтекукколи нельзя назвать ученым, к тому же его «профессия» не являлась таковой.
По мнению Баркера, военная наука — «такая же нереальная вещь, как и так называемая наука истории», и корректнее говорить о «слегка научном» строго систематическом подходе к изучению прошлого с «относительной уверенностью в том, что в нем есть какие-то ценные уроки. Однако Баркер признает, что, несмотря на тщетность первоначальной попытки Раймондо определить солдатскую службу в научных терминах, «его взгляд на нее был более упорядоченным, систематическим, рациональным и… более прагматичным, чем у любого из его предшественников».
В противовес этому мнению, историк Перьеш определял военную науку как чисто эмпирическую дисциплину, которая «может черпать свою систему, принципы и руководящие принципы только из практики ведения войны того времени». Согласно венгерскому историку, система современной военной науки, которой стали придерживаться все авторы, сложилась в XVI в. После бурного расцвета военно-научной литературы в XVI в., Перьеш усмотрел ее «необъяснимый застой» и даже глубокий спад с первых десятилетий XVII в. до первой четверти XVIII в. Уникальность Раймондо, согласно венгерскому историку, состоит в том, что только он в данный период занимался проблемами взаимосвязи между стратегией, крепостями и снабжением. Трудно, однако, согласиться с другим утверждением Перьеша — о том, что в этот период якобы отсутствуют работы по тактике (кроме Мельцо и Валльхаузена) и о проблемах снабжения (кроме беглого обзора в «Афоризмах» Монтекукколи), и что развитие получила только сфера фортификации и военной техники. Этот тезис привел Перьеша к еще одному спорному выводу о том, что генералы XVII века «действовали без всякой теоретической базы, опираясь только на свой опыт».
Военно-теоретический контекст XV — XVII вв. В своем стремлении к рационализации и относительной «математизации» военного искусства Монтекукколи двигался по дороге, уже основательно проторенной предшественниками. Как справедливо заметил Лураги, встав на службу Габсбургам, Раймондо «вступил в среду, пропитанную итальянской военной традицией… Эта традиция, в соответствии с духом культуры эпохи Возрождения, состояла из двух превосходно сбалансированных полюсов: мышления и действия. Военная доктрина и профессионализм гармонично слились с тем рационализмом, который уклонялся от обыденности и ремесленничества и имел тенденцию поднимать все теоретические и практические ценности до уровня искусства и науки».
Появление огромного количества литературы о войне в эпоху Раннего Нового времени считается одной из характерных тенденций «военной революции». Постепенно сложился условный идеал военного ученого, объединившего в себе изучение литературы и военный опыт. Именно такой идеал находят в творчестве Монтекукколи.
После изобретения книгопечатания стараниями Иоганна Гутенберга, поток публикаций на военно-теоретическую тематику не заставил себя долго ждать. Итальянские авторы сразу же захватили лидерство в этой области, поскольку первым вышедшим из-под печатного станка военным трактатом считается «De re militari» Роберто Вальтурио (1472 г.). Согласно Лураги, в Италии раньше, чем где-либо еще, наука и военное искусство получили систематическое и рациональное рассмотрение, а итальянские военные писатели разработали все фундаментальные концепции современного военного искусства и являлись самими читаемыми. Так, в одной только Венеции между 1492 и 1570 гг. были изданы 145 книг, в то время как во всей Испании — 31. Согласно перечню, составленному Морисом Коклом, к 1642 г. из 460 изданий на военную тематику (не считая книг на английском), 245 принадлежали итальянским авторам; а среди 166 английских книг 12 являлись переводами итальянских работ. Наибольшее представительство итальянские авторы получили в области военного искусства в целом (91 из 157 книг), военной архитектуры (50 из 71), артиллерии (23 из 43) и фехтования (12 из 21). Авторитет итальянской военно-теоретической «школы» стал настолько велик, что некий Якопо Акончо, автор трактата о фортификации, не имевший при этом соответствующего военного опыта, смог прослыть в Англии экспертом просто в силу своей этнической принадлежности.
Развитие научно-технического знания настоятельно требовало подготовки специалистов в области фортификации, артиллерии, баллистики, пиротехники и т. д. Вот почему военные трактаты раннего Нового времени по своей проблематике стали четко разделяться на труды, посвященные исключительно стратегии (командованию армиями), и на своеобразные учебные пособия или справочники, способные снабдить офицеров и инженеров техническими знаниями. В 1521 г. вышел первый трактат, носящий технический характер — о том, как оборонять и укреплять город с помощью бастионов, артиллерии, завоевывать город, строить батальоны и т. д. («Libro continente appartenentie ad capitanij: retenere et fortificare una cita con bastioni…»). Автором данной «очень полезной работы» (как скромно указано в ее длинном названии) также выступил итальянец — Джован Баттиста делла Валле. Во второй половине XVI в. количество специализированных технического характера выросло еще больше, со все более возрастающей тенденцией к увлечению арифметическими и геометрическими операциями. Роту количества подобных трактатов еще больше поспособствовала «математическая революция» 1620-х гг. Специальной работой по фортификации отметился даже Галилео Галилей.
Помимо данного направления, примерно с 1560 г., в результате религиозных войн, появилась новая волна трактатов, адресованных монархам о том, как править. «Такие сочинения стали „суррогатом экспертизы“, и в них доминировал „самозваный эксперт“, который объединил теорию и практику».
Научный метод
Раймондо был воспитан в традиции рационалистического мировоззрения, укоренившегося в Италии, и способствовавшего значительной секуляризации области истории и политики. Исследователи соглашаются в том, что Монтекукколи всегда оставался верен «рациональному методу», а его ум «функционировал кристально чистым способом».
Вместе с тем, стремление к рационализации и получению достоверного знания несколько диссонирует с его явным увлечением алхимией, астрологией и, в целом, оккультной и магической философией, что особенно наглядно проявилось в «Цибальдоне» и списке авторов в трактате «О войне». Это дало повод некоторым позднейшим переводчикам Раймондо повод усомниться в «научном» характере его мировоззрения. Однако, по верному замечанию израильского исследователя Азара Гата, в эпоху Монтекукколи оккультная традиция естественной философии еще не была исключена из из сферы науки. Мало того, в заслугу Раймондо ставится удачная попытка объединить научный анализ ситуаций с учет иррационального. Равным образом глубокая набожность Монтекукколи не превратила его в религиозного фанатика, а вера в предопределенность судьбы не сделала его главным историко-философским методом провиденциализм.
В представлении Монтекукколи, познание природы военного искусства, как и любого другого явления, невозможно без выявления generalità (или, как вариант, «università delle massime e de’comuni principi»), т.е. неких общих правил: «знание (sapere) — это познание (conoscere) вещей по их собственным причинам, и для того, чтобы правильно судить об их природе, они должны быть сведены к начальным принципам и решены из них». Соответственно, каждая наука имеет (или должна иметь) свои «общие черты», «общие положения, на которых она в значительной степени основана». В предисловии к «Военным таблицам», подчеркивая важность военной науки («disciplina»), он отмечал: «я постарался вернуть ее к тем общим чертам (generalità), на которых основана каждая наука, как на своих корнях, немногочисленным, но дающим бесконечные ветви и плоды, потому что тот, кто знает принципы, легко может путем рассуждений сделать бесчисленные выводы, вытекающие из них». Помимо «общих черт», «заповедей» и «афоризмов» Раймондо также говорил о «правилах» войны (общее — «regola generale», золотое — «regola aurea), точное соблюдение которых обеспечивает победу.
Идею афоризма, т.е. краткого изречения, была позаимствована у античных классиков. Афоризм понимался Монтекукколи как принцип и аксиома военного искусства, «thesis, quaestio iuris, propositio maior» — тезис, вопрос права, основное положение. Афоризм «собрал в себе «идею искусства», «теорию», «общие правила», «знание всеобщего», но в то же время он являлся продуктом усвоения опыта «тех, кто практиковался в войнах»; действительно, хотя он и утверждал, что в военном деле «совершенство» достигается лишь соединением практики с теорией, в конце концов, он придерживался мнения, что «военная наука» есть «практическое […] качество»… Как залог «вечной» мудрости… афоризм следовал статуту пословицы, он стремился к пророческой святости вне времени и в то же время постоянно возрождается и одобряется употреблением, «хорошим» опытом…». Афоризм стал чем-то сродни философскому камню в алхимии, идеи которой так сильно увлекали Раймондо.
Источником формирования общих черт выступал в первую очередь опыт («esperienza», в частности — военный, «esperienza bellica»), «опыт собственных чувств, свободный от иллюзий, великий момент в правильном знании». Согласно Раймондо, «опыт рождается из множества воспоминаний, сравниваемых вместе; а из множества опытов абстрагируется такая универсальная причина, которая является принципом наук и искусств». От опыта также в основном зависят и человеческие способности.
Помимо общих черт и принципов, война обладает собственным интересом (необходимостью) — « (buona) ragion di guerra», и Монтекукколи часто получал из Вены указание действовать в соответствии с ним. В частности, военная необходимость дает право преследовать противника вне зависимости от того, где тот находится. Руководствуясь этим же принципом, в битве на реке Рааб христианские войска, собранные из разных наций, не перемешивались друг с другом.
***
Провозглашая военное искусство наукой, Монтекукколи прекрасно понимал необходимость установить ее общепризнанные методологические принципы. В отношении того, какой из использованных им методов следует считать главным, мнения в историографии традиционно разделились.
Одни исследователи (Грасси, Кауфманн) видят в Раймондо сторонника аристотелевской теории познания, которая «гласит, что знанием обладает только тот, кто не останавливается на индивидуальном или его множественности, а поднимается над ним „к идее общего“; с другой стороны, он снова использует общее понятие, чтобы делать из него выводы к индивидуальному». Монтекукколи исходил из данной идеи при написании «Афоризмов», в которых прямо ссылался на «силлогизирующий интеллект». Силлогизм в аристотелевском понимании — вид дедуктивного умозаключения, состоящего из трех суждений (высказываний, о которых можно сказать, что они либо истинны, либо ложны), два первых из которых — посылки, а третье — с необходимостью вытекающий из них определенный вывод. Соответственно, Раймондо счел возможным свести военное искусство «к силлогизму, главная мысль которого находится в области неизменных принципов, второстепенная содержится в более поздних кампаниях, а следствие будет дано в будущем».
Другие исследователи в качестве основного метода Монтекукколи называют экспериментальный (или экспериментально-математический, а также эвристический) — в бэконовском, ньютоновском и галилеевском ключе. Еще в трактате «О войне» Раймондо заявлял о необходимости «провести разные испытания и изготовить разные модели, чтобы глаз мог увидеть в конкретном виде то, что воображение сформировало в абстрактном, особенно в механике и фейерверках, где без практики можно легко ошибиться в теории». В другом месте он заявлял о необходимости «некоторой… практики в приспособлении всеобщего к частному… без чего рассудительность каждого наставления и каждого примера была бы ошибочной». В предисловии ко второму трактату «О битвах» Раймондо заявил о желании проникнуть в глубь военного искусства, выбрав в качестве метода исследования «точное наблюдение», в качестве предмета — преимущества вооруженной борьбы и причины побед, а в качестве руководства — личный боевой опыт и чтение «лучших авторов-практиков, написавших военные наставления или рассказы о боевых действиях». Касаясь в «Афоризмах» своего метода, он прямо сообщал о своем подражании «обычаям математиков». Как отметил Лураги, использование математики в качестве логического и методологического инструмента прослеживается на протяжении всей его жизни, и именно понимание Раймондо, что военная наука должна быть основана исключительно на логико-математической процедуре, придает его доктринам «непреходящую и универсальную ценность».
Историк Мартелли связал оба этих взгляда, усмотрев в качестве великого достижения Монтекукколи примирение на логико-формальном уровне аристотелевского силлогизма с галилеевском экспериментализмом, «подвергая все личному контролю (отсеву) и объединяя эти когнитивные структуры в инструмент, с помощью которого можно исследовать дорогие ему темы правовой, социальной или экономической и военной реальности». Роль математики, геометрии и даже физики в представлении Раймондо заключалась в предоставлении ряда точных указаний, почти настоящих законов, по динамике боя. Как полагал Мартелли, Раймондо, несмотря на свое стремление превратить полемологию в точную науку, отдавал себе отчет, что из-за влияния такой «переменной», как человеческий фактор, эта задача вряд ли может быть когда-либо решена.
Неоднозначность методологических предпочтений Монтекукколи проявилась и в вопросе о верификации научного знания, полученного сведенной к афоризмам наукой о войне. Согласно Раймондо, это знание подтверждается «примерами, практикой и теоретическими (speculative) рассуждениями, авторитетом великих людей и историей».
Примеры рекомендуется брать из недавних войн, поскольку чем они «свежее и ближе» по времени, тем «больше учат, проводя больше аналогий и больше соответствуют времени, месту и современной материи». В «Афоризмах» примеры взяты в основном из войн XVII в., в ущерб античной и средневековой истории.
Практику и теорию Монтекукколи рассматривал в одной связке: если первая «рассуждает и судит о том, что следует делать здесь и в настоящем на основе самых исключительных случаев», то вторая делает то же самое на основе общих правил. При этом «обычно существует разница между тем, что предполагает теория, и тем, что предполагает практика». Практика без теории больше подвержена ошибкам, теория без практики «доходит до познания всеобщего и причин»; однако обеим «не хватает друг друга, и, просто соединив их вместе, можно достичь совершенства». В «Войне против турка в Венгрии» в качестве теории выступают афоризмы, а в качестве практики — кампании Раймондо в 1661–1664 гг.
Что касается «авторитета великих людей», из него «черпается много знаний, а их свидетельство само по себе является доводом, хотя и внешним, но очень сильным».
В отношении истории Раймондо проявлял осторожность, поскольку «мы не должны всегда принимать за правду все, что написано в Истории, потому что часто причины, породившие следствия, игнорируются или фальсифицируются…». Для устранения этого недостатка следует знать «природу вещей, а также людей… иначе мы рискуем впасть в ошибку».
При этом Монтекукколи упрекают в том, что он сам впал в ошибку, когда уверовал в универсальность выведенных им принципов, в их применимость ко всем периодам развития военного искусства, игнорируя принцип историзма. Претензия на непогрешимость принципов была заявлена еще в «Военных таблицах»: «я смею утверждать, что, пройдясь любопытным взглядом по всей всеобщей истории…, я не нашел ни одного значительного события в военных действиях, которое не было бы сведено к этим заповедям (precetti) и не подпадало бы под их рассмотрение». Хотя Раймондо признавал изобретение пороха как фактор, сделавший оружие «лучше», и повторил вслед за Роаном, что изобретение артиллерии «в некоторой степени» изменило «формы военного искусства», тем не менее, «остальная часть правил находится в своей незыблемости».
Исследователи склонны подчеркивать «радикализацию выводов» Монтекукколи из-за чрезмерного желания придать своим заповедям научную форму и о все большем оттенке «догматической недискутируемости», демонстрируемой с каждым новым трактатом. Лураги, со своей стороны, пытался защитить Раймондо от обвинений в догматизме.
3) Школа великих полководцев
Относительно важности данного фактора в формировании военной доктрины Монтекукколи нет единого мнения. Пьеро Пьери видел в Раймондо теоретика военного искусства своего времени, а именно, военного искусства Тридцатилетней войны, и называл его учеником великих полководцев в лице Густава Адольфа и Банера, а также Валленштейна. По мнению же Лураги, Монтекукколи, «очень опытный в изучении жизненного опыта великих лидеров… определенно не был ни продолжателем, ни теоретиком кого-либо». Постараемся разобраться подробнее в вопросе о влиянии на нашего героя тех, кто служил для него образцом «un gran capo di guerra».
В работах Раймондо упоминаются десятки военачальников Европы разных времен, в том числе множество античных. Так, российский историк Данилов в одних только «Афоризмах» насчитал упоминание о 33 военных деятелях: чаще всего всплывало имя Ганнибала, но «тщательному анализу» был подвергнут военный опыт только Сципиона и Фабия Максима. Впрочем, «тщательность» анализа относительна, поскольку Монтекукколи ни в одном из своих произведений не давал целостного, подробного разбора военного мастерства того или иного командующего. К вышеупомянутым полководцам Второй Пунической войны можно добавить Юлия Цезаря, который неоднократно фигурирует в трактате «О войне». И, как уже отмечалось выше, в примечаниях к «Афоризмам» несколько раз процитирован император Лев Мудрый.
Цезарь и Александр Македонский привлекли Раймондо быстротой своих маршей, «то оставляя пехоту позади и маршируя с одной только кавалерией, то сажая пехоту на коней и делая их драгунами…», благодаря чему «довели до конца самую прекрасную часть своих начинаний» и «склонили врагов к миру». Монтекукколи ставил в пример опыт Цезаря в переправах через реки; в искусном занятии возвышенностей; в спешивании кавалеристов, чтобы придать им решимости сражаться (затруднив бегство с поля боя); в сосредоточенном расположении войск на зимние квартиры в укрепленных лагерях, которые служили уздой для покоренных стран. Жестокая мера Цезаря, приказавшего отрубить руки воинам галльского племени кадурков, нашла понимание и одобрение у пропитанного идеями гуманизма Раймондо.
Среди героев Второй Пунической войны в центре внимания Монтекукколи оказался не Ганнибал или Сципион, а Квинт Фабий Максим. Когда критики и недруги Раймондо обзывали его «Кунктатором» за осторожную и медлительную манеру ведения войны, они не могли вообразить, что для него самого это являлось скорее комплиментом. Монтекукколи назвал поход Фабия против Ганнибала «самым знаменитым их всех в истории античности» и призвал читателей подумать над личностью Кунктатора. Его восхитило то, как римский полководец следовал за пунийцем, имея обильный запас провизии и не позволяя застать себя врасплох путем выбора сильных позиций. По мнению Раймондо, Фабий отнюдь не избегал битвы, а даже желал и искал ее, только на выгодных для себя условиях; при этом он твердо придерживался выбранной стратегии, не реагируя на критику своих тщеславных соотечественников.
Средневековая история Европы до XV в. включительно Монтекукколи интересовала гораздо меньше, поэтому упоминаний о крупных полководцах этого периода практически нет.
Гораздо чаще он ссылался на полководцев XVI–XVII вв. Если подсчитать упоминания о наиболее заметных фигурах по именному указателю в издании Фельце, получится следующая картина: Густав Адольф — около 70, Банер — почти 60, Тилли — 25, Валленштейн и Галлас — более 40 каждый, Карл Х Густав — 25, Торстенсон — 12, Хацфельд — 25, Суш — 10, Великий Конде — 34, Тюренн и Карл Густав Врангель — по 13, Паппенхайм — 16, Пикколомини — 20, эрцгерцог Леопольд Вильгельм — почти 70, Джорджо Баста — 10, Кромвель — 12. Кроме Пикколомини и эрцгерцога, Раймондо крайне мало интересовали полководцы на испанской службе: Алессандро Фарнезе и герцог Альба упомянуты по одному разу, кардинал-инфант Фернандо Австрийский — 5, Гонсало де Кордова (Гран Капитан) — 2. Имя Амброджо Спинолы появилось у Монтекукколи только в хронологических заметках о событиях 1619–1634 гг.; возможно, причиной тому послужило то обстоятельство, что внук знаменитого полководца, Пабло Спинола Дория, маркиз де Лос Бальбасес (1628–1699) стал ярым врагом генерал-лейтенанта при императорском дворе.
Из голландских военных деятелей Раймондо выделял разве что знаменитого полководца и военного реформатора Морица Оранского (1567–1625). Монтекукколи импонировала способность принца заставлять своих воинов упорно сражаться, чтобы победить или умереть — так, при Ньивпорте Мориц отослал корабли от берега, отрезав своей армии надежду на спасение. В той же битве отмечалось сосредоточение Морицем всей кавалерии на одном фланге, поскольку второй был надежно прикрыт. Наконец, Монтекукколи как активный сторонник использования щитоносцев не мог не сослаться на пример Морица, который якобы хотел ввести их в своей армии. Отметим, что Раймондо оставил без внимания знаменитые и широкого разрекламированные тактические реформы голландского статхаудера.
На первом месте по частоте упоминаний Монтекукколи оказался Густав II Адольф, которого он старался не называть по имени, а предпочитал величать «королем Швеции». Именно «Северный лев» стал первым историческим персонажем, упомянутым в трактате «О войне», и именно ему Монтекукколи посвятил специальную оду («Alla memoria di Gustavo Adolfo Re de’ Sveci, Vandali e Goti», опубликована у Кампори). Такой чести от Раймондо не удостоился ни герцог Модены Франческо, ни императоры Фердинанд III и Леопольд, ни королева Кристина. В оде есть строки: «Такого человека в расцвете лет / Не было и больше не будет. Кто равен ему в ратном деле? / Густав может найти равного только в себе самом».
Несмотря на оставленное королем неизгладимое впечатление, в историографии оценки степени его влияния на Монтекукколи остаются противоречивыми. Если в представлении Пьери Раймондо являлся «духовным учеником» Густава Адольфа, «освещенный решающим опытом Брейтенфельда и Лютцена», то для Лураги тезис о Монтекукколи как о теоретике, «и, так сказать, экзегете Густава Адольфа», абсолютно неоправдан».
Раймондо высоко ценил шведского короля и как политика, и как полководца. Густав Адольф умело нашел предлоги для вмешательства в Тридцатилетнюю войну и опубликовал развернутое обоснование своего появления в Империи. Однако еще до объявления войны он захватил необходимые плацдармы, пуская пыль в глаза врагам. Осторожный, он пекся о линии коммуникации, для чего потребовал от курфюрста Бранденбурга ряд крепостей, а перед битвой при Брейтенфельде добивался гарантий от курфюрста Саксонии. Король понимал важность сохранения репутации, поэтому, не оказав помощи Магдебургу, он «разослал манифесты в печати, чтобы оправдать себя».
Густав Адольф выступал против роскошества в армии, предпочитая, чтобы его воины всегда пребывали в бедности «и действительно, его армия, которая была очень бедной, во многих случаях действовала лучше, чем армия императора, в комфорте и богатая». «Великий оратор», что немаловажно для полководца, он много раз разговаривал с простыми солдатами. По нраву Монтекукколи пришлись и дисциплинарные меры короля: в Империи он позаботился о том, чтобы его войско не стало обузой для населения, запретив «брать больше положенного», чем снискал к себе расположение и овации. Суровые наказания короля в отношении беглецов во время битвы также нашли полную поддержку у нашего героя.
Хотя Густав Адольф осмеливался вести войну зимой, в тяжелых условиях, он делал это на дружественной территории и из политических соображений. Он искусно использовал условия местности при форсировании Леха в 1632 г. и в целом умел выгодно расположиться вдоль реки, как, например у Штеттина и у Вербена. Он не преминул воспользовался отбытием Паппенхайма, чтобы атаковать Валленштейна при Лютцене. Раймондо восхищался и внезапными нападениями короля: помимо налета на вражеские квартиры «со всей кавалерией» у Вольмирштедта, Густав Адольф внезапно напал на Тилли при Брейтенфельде, когда тот не подозревал об атаке и не успел как следует развернуть свой боевой порядок. Наоборот, Густав Адольф развертывал армию в боевой порядок заблаговременно, «до того, как окажется на поле боя и на виду у противника». С этой целью «его войска всегда отдыхали накануне ночью в соответствии с тем боевым построением, который он намеревался использовать при столкновении на следующий день».
В области осадной войны Раймондо указывал на решительный штурм королем Франкфурта-на-Одере в 1631 г. «со всех сторон с помощью всех инструментов».
В тактическом плане Монтекукколи перенял у Густава Адольфа сразу несколько идей. Во-первых, примешивание мушкетеров к кавалерии. Во-вторых, тактическую гибкость при Брейтенфельде: специально повернул правое крыло так, чтобы ветер не дул его воинам в лицо, а также бросил вторую «баталию» (линию) против правого и левого крыльев Тилли. В-третьих, работу шведских орудий, которые сумели своим огнем разбить множество императорских полков. Обращался Монтекукколи и к истории войн Густава Адольфа с Речью Посполитой — как стороннику использования копья в кавалерии, ему был интересен шведский опыт борьбы с атакой польских всадников, «именуемых гусарами». Ввиду того, что атака польских гусар не поддерживалась ударом кирасир, «которые должны немедленно следовать за ними, ломать и сбивать все, что они нашли уязвимым», шведы придумали тормозить вражеский импульс путем простого размыкания шеренг. Раймондо восхищался и тем, как Густав Адольф при форсировании Леха умело развернул артиллерию, пользуясь изгибами реки.
Помимо славословия, Монтекукколи позволил себе покритиковать короля. Он порицал Густава Адольфа как главнокомандующего за безрассудство, когда тот лично произвел рекогносцировку у Штеттина и тем самым подверг свою жизнь опасности. Раймондо счел ошибкой передышку, предоставленную королем Иоганну Тилли после Брейтенфельда, что позволила императорским войскам оправиться от поражения. Несмотря на финансовую поддержку Франции, Густав Адольф не переставал влезать в Германии в долги. Его атака укрепленных позиций Валленштейна при Нюрнберге принесла ему «мало славы». И, наконец, Раймондо соглашался с тем, что король был слишком честолюбив.
Об Иоганне Церкласе фон Тилли Раймондо сохранил хорошие воспоминания, величая его, как и многие другие современники, «добрым стариком» («buon vecchio»).
В историографии Тилли считается нетипичным представителем испанской или средиземноморской военной «школы», в связи чем принято говорить об особом «лигистском» или «тиллийском» ее варианте. Действительно, наступательных характер стратегии и тактики Тилли, множество проведенных им сражений резко контрастировали с оборонительным духом «испанской школы» (об этом см. ниже, «Взгляды на военную стратегию XVII в»). Эту фундаментальную особенность полководческого стиля Тилли отметил и Монтекукколи, назвавший его «maestro di dar giornate» («мастером давать сражения») и «самым пылким полководцем».
Раймондо разделял отвращение Тилли к роскошным нарядам в армии, «потому что солдат не должен быть высечен из золота и серебра, а укреплен железом и душой…». Согласно Лураги, спартанско-монашеский образ жизни Тилли дал Монтекукколи пример простоты, бережливости и дисциплины.
Вместе с тем, Раймондо ни в одной из работ не осудил своего начальника за резню в Магдебурге. Претензии нашего героя к Тилли в связи с операцией под Магдебургом заключались лишь в том, что тот после взятия города дал курфюрсту Саксонии слишком много времени. Эта ошибка послужила причиной его последующего поражения, поскольку «надо со всем усердием наблюдать, чтобы замыслы и первые прыжки врага рубились на корню и гасли в искрах».
Раймондо также осуждал Тилли за честолюбие, которое его увлекло при Брейтенфельде, когда тот не стал дожидаться подхода Альдрингена с 15 000 солдат, желая единоличной славы победителя шведов. Кроме того, при Вислохе/Мингольсхайме (1622 г.) Тилли, преследуя Мансфельда только с одной кавалерией, подвергся внезапному нападению со стороны преследуемого и был разбит. Он позволил застать себя врасплох и при Брейтенфельде в 1631 г., где также допустил другие серьезные ошибки, расположив всю армию лишь в одну линию, а также «оставаясь в бою два часа и более непрерывно под огнем шведской артиллерии и был разбит легкими орудиями короля…».
Раймондо подчеркивал важность коммуникации с солдатами, в чем Тилли проигрывал Густаву Адольфу: «В императорской армии Тилли поручил генеральному комиссару говорить вместо [него], поскольку трудности с немецким языком не позволяли ему разглагольствовать самостоятельно».
Альбрехт Валленштейн. Для Монтекукколи герцог Фридландский являлся, во-первых, главой военного мятежа против императора Фердинанда II («capo d’una sedizione contro l’Imperatore»), во-вторых, восхитительным полководцем («capitano di condotta mirabile»), «подобный неистовому потоку, который проходит через все, увлекает все своим течением и не находит препятствий, могущих удержать его». Роль Валленштейна в успехах императорской армии казалась настолько большой, что его опала в 1630 г. и последующие победы протестантского лагеря натолкнули Монтекукколи на мысль: «когда из вражеской армии удается изгнать великого полководца… — это почти половина победы».
Раймондо разделял любовь Валленштейна к астрологии: герцог «многое приписывал» этой лженауке и «сделал капитал» на ней. Валленштейну вменялось в заслугу то, как он сумел «осадить» армию Густава Адольфа под Нюрнбергом, но в итоге ему помешало своеволие Паппенхайма, который не подчинился приказу и вовремя не присоединился к нему. Понимание того, что добить врагов императора одними только сухопутными войсками не получится, привело Валленштейна к идее создания флота на Балтийском море. Он воздерживался от военных действий в зимнее время, поскольку осознавал всю их невыгоду.
Первоначальное размещение Валленштейном армии по квартирам в 1632 г. Раймондо привел как оптимальный пример правила держать силы вместе, когда отдельные части располагались не очень далеко друг от друга, но и не скученно. Впрочем, затем герцог отправил часть войск в Саксонию и Силезию, чем спровоцировал нападение на себя Густава Адольфа и «едва не поплатился за нарушение правила» в битве при Лютцене.
Как пример успешного выманивания неприятеля Монтекукколи приводил вторжение Валленштейна «в Верхний Пфальц, чтобы вывести шведов из Баварии и Швабии».
Раймондо одобрительно отзывался почти обо всех нововведениях Валленштейна в армии. В области военной иерархии генералиссимус «изобрел» ранг фельдмаршал-лейтенанта; в сфере снабжения приказал в каждом полку иметь в походе 1–2 ручные мельницы; в тактическом плане установил глубину боевого порядка батальона в 7 шеренг, хотя Раймондо видел большую выгоду в четном количестве. После Лютцена, разочарованный в действиях конных аркебузиров, герцог запретил караколь, а также приказал «упразднить карабины и снабдить такие полки кирасами», то есть переделать аркебузиров в кирасир. Поведение герцога в битве также привлекла внимание Раймондо: Валленштейн предпочитал передвигаться, а не находиться в определенном месте, и при этом не облачался в доспехи. В вопросах дисциплины Монтекукколи поощрял жесткие наказания, применяемые Валленштейном за трусость.
Как отмечают историки, воздействие Валленштейна на Раймондо оказалось более глубоким, чем со стороны Густава Адольфа. Монтекукколи научился у Валленштейна идее о необходимости постоянной армии, внимательному ведению психологической и пропагандистской войны, осторожному стратегическому мышлению. Влияние генералиссимуса особенно проявилось в первом трактате «О битвах» в вопросах органики и логистики; в частности, Раймондо выделял введенный Валленштейном «Verpflegung». Как отмечал историк Ребич, «начиная с Валленштейна, императорская армия знала, что умелым маневрированием можно довести противника до катастрофы или, по крайней мере, сильно ослабить его»; считается, что Пикколомини и Монтекукколи в этом отношении стали учениками Фридландца. По мнению Мартелли, и в более поздних раймондовых сочинениях Валленштейн, как и Густав Адольф, оставались образцами великих политиков и стратегов, по причине ведения ими терпимой в религиозном отношении войны.
Вторым шведским полководцем, глубоко впечатлившим нашего героя, стал Юхан Банер. Раймондо множество раз выделял его талант к организации неожиданных нападений, как это случилось при Мельнике, на Хацфельда при Эйленбурге (использовав засаду) и при Виттштоке. Злополучное для себя сражение при Мельнике Монтекукколи рекомендовал как образец форсирования реки, с обманом врага искусными демонстрациями. Его поражала быстрота марша шведов, а построение Банером своих войск в форме полумесяца он неоднократно признавал образцовым в сражениях с целью окружения противника. Операцию Банера против Мараццино в 1639 г. Раймондо приводил как пример симуляции отступления с целью выманить противника, а затем развернуться и обрушиться на него. В определенных случаях Монтекукколи рекомендовал стратегию выжженой земли, и в качестве примера уморения голодом врага ссылался на масштабное сожжение Банером окрестностей Праги в 1634 г.
Раймондо впечатлило отступление Банера в 1637 г. из Торгау, когда он сумел перехитрить Галласа и выскользнул из рук врага. Монтекукколи хвалил фельдмаршала за то, что тот брал на себя работу генерал-квартирмейстера, лично обозревая округу и определяя места для расположения войск. При этом он не осуждал Банера за его пристрастие к алкоголю, поскольку тот, когда хотел выпить, имел на этот случай заместителя, которому поручалась «трезвость и бдительность». Будучи заточенным в Штеттине, Раймондо отмечал учтивое отношение шведского командующего к пленным. Запомнилось ему и поведение фельдмаршала в рыцарских традициях, когда тот, при Заалефельде, вызвал Пикколомини на поединок.
Монтекукколи в целом с пониманием относился к тому, что Банер кормил своих солдат за счет разграбления стран, по которым шли шведы; однако в марте 1641 г., когда армия Банера предалась очередному грабежу и численно ослабла, она оказалась внезапно разбита императорскими войсками у Прессница (Кама). Банер «в смятении отступал, а скорее бежал», потеряв в этом деле более 4000 человек.
Вместе с тем, в действиях Банера Монтекукколи нашел и несколько отрицательных примеров. Например, его действия после битвы при Виттштоке, когда шведский фельдмаршал потратил 3 недели на осаду Вербена и переправу через Эльбу, чем дал передышку побежденным императорским войскам. Раймондо сделал простой вывод: в случае победы следует не связывать себя осадой крепости, а преследовать врага. Слишком долгое нахождение Банера у того же Торгау в 1637 г. признавалось «актом величайшей неосторожности».
Эрцгерцог Леопольд Вильгельм и Пикколомини.
Эрцгерцог Леопольд Вильгельм заслужил в историографии характеристику «посредственного, но не худшего императорского верховного главнокомандующего». В качестве главнокомандующего он проиграл все 4 крупных сражения (Вольфенбюттель, Брейтенфельд 1642 г., Ланс, Аррас), хотя в трех из них имел на своей стороне Пикколомини или Великого Конде. В противовес этому, Леопольд Вильгельм имел в активе несколько удачных осад. Несмотря на скромные военные таланты, он все же удостоился похвалы от Раймондо, чему, очевидно, во многом поспособствовали хорошие отношения между ними. Рассматривая принуждение к отходу вражеской армии как один вариантов помощи осажденной крепости, Монтекукколи иллюстрировал этот случай примером, «как эрцгерцог заставил шведов отступить от Брига в Силезии 1642 г., а затем от Аугсбурга в 1646 г.». Аналогично в 1641 г. эрцгерцог, пытаясь помочь осажденному противником Вольфенбюттелю, рискнул вступить в сражение. Хотя Раймондо умалчивал, что исход битвы оказался неудачным для эрцгерцога (и подчиненного ему Пикколомини), сам город так и не был взят противником (осада была снята через два месяца после битвы). Восхищение вызвал и поход эрцгерцога против Тюренна в 1645 г., когда «французы были застигнуты врасплох, разбиты (!) и изгнаны с Рейна». Монтекукколи продолжил следить за подвигами эрцгерцога во Фландрии, ставя в пример энергичную атаку со всех сторон цитадели Куртрэ в 1648 г. Так, в «Описании городов-крепостей испанской части Нидерландов» Монтекукколи кратко отметил особенности взятия этого города Леопольдом Вильгельмом в мае 1648 г. (информацию об этой атаке он взял, надо полагать, у самого эрцгерцога): «эта атака [на Куртрэ] подтверждает мнение тех, кто осуждает укрепления с земляными сооружениями, поскольку на последние можно легко забраться из-за широкой планировки, обвалов, вызванных дождем, и поскольку они очень низкие». Как пример успешной помощи осажденным отмечена также деблокада эрцгерцогом крепости Камбрэ, осажденной французами в 1649 г.
Раймондо нашел полезным поучиться у Леопольда Вильгельма и в вопросе о том, где лучше начинать рытье мин, ссылаясь при этом на осаду Глогау в 1642 г., участником которой он являлся.
Наконец, Монтекукколи не мог не оценить предложение эрцгерцога по созданию постоянной армии из 16 кавалерийских и 12 пехотных полков, выдвинутое в августе 1645 г. Эту армию планировалась содержать за счет наследственных земель до наступления мира.
Гораздо меньше у Монтекукколи практических ссылок на Пикколомини: за исключением работы «Максимы Пикколомини», где приведен ряд его идей, встречаются редкие примеры того, как Оттавио принудил шведов отступить от осажденного ими Фрайберга в 1642 г., и как пришел на помощь Тионвилю в 1639 г., отважившись на бой, в котором одержал победу.
Галлас. По наблюдению Ребича, Монтекукколи, вопреки распространенной негативной оценке Галласа, представлял его в своих трудах как как компетентного, продуманного, хитрого, но не безупречного командира. Разумеется, такая характеристика могла быть во многом вызвана фактом установившихся между ними хороших отношений, а также, «возможно, этническими симпатиями и проницательной оценкой его [Галласа] повсеместного влияния в Вене».
Именно Галласу Раймондо приписывал успех объединенных католических сил в сражении при Нёрдлингене в 1634 г.: генерал-лейтенант предусмотрительно занял высоты, на безуспешное взятие которых шведы положили все силы.
Раймондо научился у Галласа располагать впереди армии, в 1—2 часах марша, «хороший корпус людей» — большой кавалерийский авангард, с целью прикрытия главных сил и разведки. С другой стороны, Галлас научил Монтекукколи с осторожностью отправлять большие кавалерийские разъезды, потому что «если такой большой разъезд будет разбит… ваша армия настолько ослабнет, что вы больше не сможете противостоять врагу».
Как полководец Галлас избегал сражений — Нёрдлинген остался, по сути, единственным крупным столкновением в его карьере (если не брать в расчет осады и мелкие бои). Как иронизировал Хёбельт, Галлас являлся тем генералом, который «никогда не проигрывал сражений — просто потому, что после Нёрдлингена он не участвовал в сражениях. «Губитель армий» не был азардером…». Монтекукколи приводил на этот счет слова самого генерал-лейтенанта: «Граф Галассо… говорил, что те полководцы, которые, чтобы показать свою храбрость, каждый день рискуют своими армиями и хотят казаться мужественными за счет чужих жизней, смешны».
Похвалы удостоилась и распорядительность Галласа, который при нападении шведов срочно бросил в бой часть имеющихся войск, пока не подошли остальные. Его также весьма впечатлил переход генерал-лейтенантом Рейна (в 1636 г.), чему не смог помешать Бернгард Саксен-Веймарский; а также выбор выгодной и укрепленной позиции в Лотарингии против французов.
Даже в неудачной кампании 1644 г. Монтекукколи нашел, в чем похвалить своего командующего: тот, будучи запертым в Бернбурге, сначала выпустил часть кавалерии, на преследование которой шведы выделили большие силы, чем облегчили прорыв главных императорских сил.
Галлас также допускал ошибки, и одной из самых заметных стала катастрофа 1644 г.: «Банер погубил шведскую армию при Торгау, а Галласс — императорскую при Эльбе». Предлагая тактику «выжженой земли», Монтекукколи укорял Галласа за то, что тот кампании 1637 г. допустил роковой просчет, не разорив предварительно Померанию и не вытолкнув туда отступающего Банера, что привело бы шведов к верной гибели от голода. Кроме того, Галлас неудачно пытался навязать сражение отступающему Ла Валетту.
Наконец, Раймондо внимательно следил за успехами Великого Конде и Тюренна, но ссылался только на принца. Так, он одобрил решительный приход герцога Энгиенского на помощь Рокруа в 1643 г. и его готовность дать битву испанцам. Он внимательно изучил битву при Алерхайме в 1645 г. и рекомендовал обрушить, по примеру Энгиена, всю кавалерию на один их флангов противника.
Философия войны. Политика, государство, религия
Военная система Монтекукколи
Раймондо рассматривал военное искусство как дисциплину, предметом которой является война, а целью — «хорошо вести войну» и одержать победу. В трактате «О войне» он определял искусство войны как «искусство хорошо сражаться, чтобы победить». Военное искусство он ставил выше всех других искусств, без которого «никто не может иметь ни жизни, ни мирного пользования страной, ни свободы, ни граждан». В «Афоризмах» война определялась как действие (azione) армий, «поражающих друг друга всеми способами, цель которого — победа». Война заканчивается миром, который можно считать почетным, если он «полезен» и получены выгодные условия, а цель, ради которой велась война, достигнута.
Войну, согласно Монтекукколи, можно классифицировать по разным принципам на сухопутную и морскую, оборонительную и наступательную (в трактате «О войне» упоминался и комбинированный вариант — «смешанная война»), гражданскую и внешнюю, справедливую и несправедливую. В сухопутной войне, в свою очередь, наблюдается четко противопоставление действий, ведущихся «вокруг крепостей» и «в поле», то есть осадной и «полевой» войны.
В эпоху Раймондо разделение военного искусства на стратегию, тактику и вклинившееся между ними оперативное искусство еще не сложилось. Все три термина уже наличествовали в военном лексиконе, однако несли несколько иной смысл. Так, в военном учебнике Иоганна фон Нассау упоминается про разделение древними греками военного дела на 3 части: «stratageticam», «tacticam» и «poliorseticam». Однако под первой частью понимались наставления полководцу, а под «тактиками» имели в виду учителя военного искусства. Понятия стратегии и тактики в современном смысле будут сформулированы только в XVIII в. в работах Бюлова и др.
Несмотря на это обстоятельство, в литературе можно встретить мнение, что Монтекукколи не проводил четкого различия между еще не сформулированными понятиями стратегии, операций и тактики, рассматривая их как единое целое. Однако трактаты «О войне» и «О битвах» уже в определенной мере предвосхищали будущий тандем стратегии и тактики. Вместо «стратегии» Монтекукколи говорил о «il modo di far la guerra» (или «modo di guerra»), «forma della guerra», «forma del guerreggiare»/«modo di guerreggiare», «stili di guerra», вопросы тактики частично отражал глагол «combattere». В ходу у Монтекукколи был и термин «le operazioni militari» («la grande operazione», «operazioni solide» и т.д.), но чаще в значении совокупности военных действий с определенной целью.
Военные операции включали несколько видов столкновений: крупные полевые сражения (battaglie), более мелкие, «частные» бои (zuffe particolari, fatti d’arme, scaramuccie) и осады. Стоит сразу отметить, что масштабная формальная осада («assedio reale») выступает как прямая антитеза и полевому генеральному сражению («far giornata»/«dar battaglia»), и штурму при помощи живой силы (la viva forza).
Четкое различие проведено и среди столкновений в поле: мелкие бои («особые», «il combattere particolarmente») ведутся небольшими силами, но могут и крупными, при условии, что в них не задействована вся армия целиком. Например, «rincontri» (встречи) чаще носят случайный характер, а «scaramucce» (стычки), производятся с целью отвлечь или разведать врага. К «частным боям» также отнесены засады; внезапные атаки на вражеские квартиры, фуражиров и т.д.; прорыв или оборона траншей, проходов, рек; отступления.
Другая категория — «полномасштабные» сражения, «un combattimento generale», «battaglie», где армии сражаются целиком, всеми своими силами, или, по крайней мере, одна целая армия нападает на неполную армию противника.
Раймондо различал прямое и непрямое действие (косое, obliqua), разумея под последним всяческие хитрости. «Прямое действие — это то, которое идет простым и военным путем, непрямое действие — это то, которое идет скрытным путем и по аллеям обмана и хитрости, называемым стратагемой. И то, и другое происходит вокруг крепостей или в поле». Пример стратагемы — «заставить врага поверить, что силы, которые на него нападают или которые хотят и могут напасть, больше, чем они есть на самом деле».
К средствам войны Монтекукколи относил:
1) precognizione («предвидение») — знания из области арифметики, геометрии (тригонометрии);
2) приготовления (военные ресурсы), которые касались: армии, средств (provvigione) и операций;
3) исполнение, которое касалось:
а) похода (организация марша, размещение войск/ночлег, сражения (генеральное и «частные бои») и собственно ведения кампании («campeggiare»);
б) крепостей (устройство и строительство, охрана, взятие, оборона, помощь/спасение). Помимо этого, к военной системе Раймондо относил 10 правил общего характера, причем на первом месте помещалось обращение молитв к Богу, а на последнем — дисциплина.
Войско Раймондо всегда рассматривал не как механическое образование, а как живой организм. В состав армии входили 2 основные категории:
1) Комбатанты (combattenti — те, кто сражаются), или солдаты. К ним относились офицеры (старшие и младшие) и рядовые (в пехоте и кавалерии).
2) Некомбатанты. К ним относятся 18 категорий, включая врачей и аптекарей, духовных лиц, проводников, шпионов, маркитантов и купцов, землекопов, плотников и т. д.
К средствам (provvigione) относятся: 1) деньги, «которые являются нервом войны»; 2) съестные припасы; 3) боеприпасы; 4) инструменты, «для передвижения по земле, для строительства мостов и для всех видов ремесел»; 5) соответствующие специалисты (инженеры, артиллеристы, бомбардиры, мостовые, пороховщики, плавильщики, оружейники, мельники, каменщики, плотники, фарцовщики и т.д.); 6) лошади; 7) проводники; 8) шпионы.
Позднее, в «Афоризмах», Раймондо несколько видоизменил схему, отнеся армии и средства к «apparecchio» (военные ресурсы, или приготовления), куда вошли: 1) люди (советники; генералы и офицеры; ремесленники и солдаты), 2) артиллерия, 3) боеприпасы, 4) обоз, 5) деньги. Теперь, по его мнению, победа достигалась с помощью: 1) apparecchio, 2) disposizione (диспозиция, расположение) и 3) операций.
Диспозиция — это «порядок, который придается вещам в соответствии с их количеством и качеством; оно рождается так же, как и мир, который из путаницы хаоса возник с диспозицией, которую он упорядочил в соответствии со своими целями». Под диспозицией, как пояснял Лураги, Раймондо понимал соотношение сил, географические условия и цели, которые должны быть достигнуты. Диспозиция делилась на универсальную и особенную (particolare). «Универсальная диспозиция касается „суммы войны“ (somma della guerra) в целом, она предписывает общее правило (la norma generale) ведения войны и направляет ее по выгодному пути. Хороший поворот игры при первых ходах фигур влияет на весь ее ход, облегчает выигрыш; а если, наоборот, расстановка шахматных фигур сначала не упорядочена, ее трудно исправить впоследствии».
Основные характеристики третьего элемента подготовки — операции — заключаются в: 1) соответствии состава армии местности (пехота полезнее при осадах и ей выгоднее действовать на таких ТВД, как Фландрия и Италия, с кавалерией можно давать сражения в Германии, Венгрии и Польше); 2) адаптированности к цели/плану (disegno) (оборона, наступление в вражескую страну, оказание помощи союзнику).
Что касается оружия, Монтекукколи разделял его на наступательное (для ближнего и дальнего боя) и оборонительное; тяжёлое и лёгкое.
Природа войн
Раймондо часто приписывается предвосхищение знаменитой идеи Клаузевица о войне как продолжении политики другими средствами. Несомненно, это сильное преувеличение, и его рассуждения о причинах различных войн выявляют этот факт со всей наглядностью.
Внутреннюю или гражданскую войну Монтекукколи определял как войну «подданных против государя или между собой». К данной категории можно отнести даже Тридцатилетнюю войну — как своего рода гражданскую войну между князьями и императором. Причины гражданской войны разделялись на «отдаленные» и «ближайшие». При объяснении «отдаленных» причин Раймондо добавлял щепотку провиденциализма: сам Бог приводит великие империи к гибели, но поскольку существуют такие государства, которым не страшна внешняя сила, гибель также проистекает изнутри, из внутренних беспорядков. Кроме того, причина гибели — в «роскоши», т.е. в имущественном неравенстве, появлении в обществе прослойки нищих и должников.
«Ближайшие» причины Монтекукколи видел в существовании «партий», в смуте и в тирании. Партии — это «объединение нескольких или многих лиц между собой, которые имеют разногласия с другими». Честолюбие толкает их к возвышению, из чего проистекают раздоры и война. Эти честолюбцы становятся вождями «толпы» и заражают ее «безумием». Раймондо с явным осуждением выделял такое «подстрекательство», т.е. «явное движение толпы против государя или магистрата». Но угроза государству может идти и сверху — со стороны тирана: «тирания — это насильственное правление одного человека вне обычаев и законов, и оно насильственно, потому что [тиран] … боится всех, заставляет всех бояться себя, и, без закона и справедливости, защищает плохих, ненавидит хороших, боится… ученых, писателей, живет в постоянном страхе». Впрочем, власть тирана недолговечна, ибо он изгоняется или погибает. В трактате «О войне» Монтекукколи счел нужным подробно расписать технологию заговора против государя-тирана, что являлось справедливым делом: где и как лучше его убить, как дать яд и т. д.
А главным средством против возникновения гражданской войны является предотвращение войны внешней.
Внешнюю войну Раймондо рассматривал как «применение силы и оружия против государя или против чужого народа». Причинами такой войны чаще всего служат «честолюбие и алчность, злоба и ненависть». В частности, «глубокая жадность к империи и богатству и жажда господства обычно становятся мотивами войны государей, которые измеряют величие [своей] славы величием империи…». По мнению Монтекукколи, «способ ведения войны одинаков как в гражданской, так и во внешней войне…».
В рассуждениях Раймондо о справедливых и несправедливых войнах сказалось влияние идей Юста Липсия. Справедливость войны определяется двумя категориями — справедливой причиной и справедливую целью. Справедливую причину Монтекукколи усматривал не только в защите от агрессии противника, но и в собственном нападении на него: «Защищаться от силы силой — это не только правильно, но и необходимо; разум предписывает это ученым людям, необходимость — варварам, обычай — людям, а сама природа — существам…». Выступление против тирании, нападение на «тех, кому дана лицензия на беззаконие», в качестве мести и для возврата отобранного, с целью «сдержать плохих и поддержать хороших», ради «подавления зла» также рассматривается как справедливая причина. Как можно видеть, в данном вопросе используются довольно размытые категории.
Война необходима, если нет другого способа уладить спор и нет другой надежды, кроме как на оружие: «есть два способа решать спор — словами и силой, и поскольку то, что подобает людям, подобает и зверям, нужно прибегать к последнему, если первое не помогает».
Справедливая цель, по мнению Раймондо, «не ищет мести, славы или империи, а только спокойствия и защиты; и поэтому война должна вестись так, чтобы не казалось, что вы стремитесь к чему-то другому, кроме мира».
Таким образом, Монтекукколи в некоторых случаях рекомендовал нанести превентивный удар, однако любое нападение обязательно нуждается в обосновании. И хотя «никогда не бывает недостатка в предлогах», допускается ситуация, когда невозможно найти обоснованный предлог, и в этом случае вместо войны непосредственно против определенного врага Раймондо рекомендовал нападать на его союзников (агрессия в отношении которых почему-то уже не нуждалась в обосновании).
Разбросанный характер наследственных земель австрийских Габсбургов привел Монтекукколи к признанию необходимости завоевать те иностранные владения, что разделяют собственные территории, ввиду угрозы того, что ее может занять противник.
Оправданным являлось и нападение на соседнюю страну, которая угрожала стать настолько могущественной, чтобы совершить нападение первой. В данном случае предлагалось пользоваться благоприятными моментами для нападения на вражеское государство: в момент смерти его государя; когда оно воюет с соседями, чтобы самим вмешаться в качестве судьи; при внутренних смутах, как это использовал Густав II Адольф при вторжении в Германию.
Война должна вестись и во имя репутации среди других держав, чтобы отбить охоту у них напасть самим, «потому что никто не посмеет оскорбить человека, про которого известно, что тот готов к отмщению». Ведение внешних войн должно не только поддерживать репутацию среди соседей, но также изгонять роскошь, т.е. сглаживать имущественное неравенство — одну из «ближайших» причин внутренних смут. Против роскоши предлагалось бороться порицанием.
Поиск внешнего врага и нападение на него Монтекукколи рекомендовал как средство избежания или прекращения внутренней войны, чтобы дать отдушину «честолюбивым и беспокойным» настроениям среди собственных граждан: «пусть капризы воинственных духов разряжаются снаружи, а не внутри, и пусть развращенные чувства гражданских разногласий очищаются [в борьбе] против иностранцев». Отметим убежденность Раймондо в том, что война с внешним врагом автоматически приведет к угасанию внутренних смут, хотя всеобщая история полна обратных примеров.
***
Довольно много внимания Монтекукколи уделил проблеме резко осуждаемых им «смут» — внутренних заговоров и бунтов, описав используемые в них приемы и методы. Основываясь на опыте расправы с Валленштейном, Раймондо советовал государю притворяться, что доверяет мятежнику, которого он приказал убить. Раскаявшегося мятежника не следовало прощать сразу, а заставить его «сложить [свое] высокомерие и осудить себя». Опасность мятежей губернаторов отдельных регионов предлагалось решать посредством их регулярной смены: «правления и полномочия… не должны длиться более трех лет, так как… провинции, как только они получают губернатора, немедленно начинают почитать его…; привыкают к нему».
Поскольку предательство и заговор против государя возникают исключительно из ненависти и презрения к нему, венценосцам рекомендовалось воздержаться от тирании.
Не исключал Монтекукколи и помилования для заговорщиков, если речь шла о настолько знатных и влиятельных лицах, «которых нельзя наказать сразу».
Наконец, Раймондо предостерегал государя об опасности вовлечения в войну либо одним из его приближенных, либо союзником — правителем соседней державы. Особенно опасной являлась ситуация, когда к внутренней смуте добавляется внешняя угроза, что чревато подчинением «игу чужеземца». Монтекукколи выступил с резкой критикой мнения, что гражданские войны могут выковать армию и научить солдат навыкам настоящей войны: «и пусть не верят, что гражданские войны — это школа стойкости и армии, ибо зачастую в них больше суеты и угроз, чем просто неприятностей». Солдаты «легко расправляются с безоружными гражданином или крестьянином»; дело не доходит до настоящих сражений и стычек, а солдат, походя скорее походит на хищника, «только откармливается на трофеях отечества и товарах несчастных граждан», учится скорее грабежу, чем дисциплине «настоящей и умеренной войны». Поэтому солдат лучше использовать «во внешней войне, которая часто рождала твердое согласие».
Теория государства
Монтекукколи постоянно разделял страны по их политическому устройству, говоря о «государях» (монархиях) и республиках. При этом он проводил тесную взаимосвязь между государственным устройством и управлением военной деятельностью. По наблюдению Мартелли, Раймондо рассматривал войну как крайний полигон, в котором успех зависел не от гениальности полководцев и не от мужества войск, а от хозяйственно-институционального устройства соответствующих воюющих государств.
Политическая мысль Монтекукколи рассматривается, в первую очередь, как ответ на режим, установленный вестфальской системой. Вестфальский мир закрепил ослабление позиций императора как главы Империи в сочетании с усилением имперских сословий, и положил начало «дуалистическому развитию императора и Империи». Отныне австрийские Габсбурги переключили внимание на свои наследственные страны, которые постепенно превращались в ядро их собственной «империи», отличной от Священной Римской империи. Новую расстановку сил в Империи хорошо объяснил кардинал Мазарини в 1658 г.: император мало что значит, если он полагается только на свои владения; если же он действует в согласии с князьями Империи, особенно с наиболее важными (Бавария, Саксония, Бранденбург и даже рейнские курфюрсты), он становится грозным в военном отношении. Но и без союза с князьями Габсбурги продолжали сохранять большое влияние в Империи и не отказывались от планов восстановления утраченных позиций в будущем, но уже не претендуя на тотальную гегемонию.
Все большее отдаление Империи от императора нашло вполне отчетливое отражение и в творчестве Раймондо. Рассуждая о «государстве», Монтекукколи имел в виду не Империю, а наследственные земли и прочие владения императора. Проблемы Империи как таковой его не интересовали.
Важнейшие изъяны Габсбургской монархии крылись как в ее разнородном и разрозненном характере, так и в слабости центральной власти. Например, Габсбурги не обладали налоговой монополией и в своей фискальной политике должны были заручаться одобрением со стороны сословий. Даже в побежденной Богемии, несмотря на все репрессивные и ограничительные меры в отношении местных институтов власти, проводившиеся габсбургскими властями в 1620-е гг., сословия сохранили право вотировать налоги. Местные ландтаги/сеймы ограничивали законодательные, равно как и судебные полномочия габсбургских правителей, что усугублялось отсутствием единого законодательства для всех земель Австрийской монархии в принципе. Бюрократия, степень развитости которой является одним их признаков абсолютизма, лишь зарождалась как элита и по-прежнему располагалась преимущественно в Вене. В качестве слабости монархии отмечается и отсутствие «единого феодального класса»: «Беспорядочные и случайные элементы габсбургского государства, без сомнения, во многом были следствием сложного и несогласованного характера составлявшей его знати. Недостатки аристократического многообразия были предсказуемыми и очевидными в самом чувствительном отделе государственной машины — армии…». При этом самих Габсбургов нельзя назвать одними из самых эффективных правителей раннего Нового времени: «в Вене всегда было больше намерений, чем реализации».
В связи с этим многие современные историки зарекаются говорить о каком-либо «абсолютизме» в отношении Австрийской монархии. Сравнивая власть короля Франции и австрийских правителей во второй половине XVII в., историк Беранже пришел к выводу: «и если Австрии [как единого государства] в ту пору не существовало, то австрийского абсолютизма не существовало тем более». Вместо этого предлагаются разнообразные по степени умозрительности (но одинаковые в своей малой полезности) формулировки вроде «координирующего государства» (акцент на способности Габсбургов договариваться с элитой), «военно-фискального государства» и «органически-федерального абсолютизма».
Неудивительно, что Раймондо видел одну из фундаментальных задач внутренней политики Габсбургов в превращении разрозненных наследственных земель в Fürstenstaat, в унитарное, централизованное военное государство с сильной, по сути — неограниченной властью монарха. Историки склонны видеть в Монтекукколи сторонника «в какой-то мере просвещенного абсолютизма», приправленного «религиозным пафосом Контрреформации». Для Раймондо габсбургский католицизм служил истинной «государственной религией», и, сакрализуя власть династии, он рассматривал Габсбургов как орудие Провидения.
Проповедуя абсолютную власть государя, Монтекукколи парадоксальным образом взял на вооружение концепцию «общественного договора» между монархом и народом. Договор строится на передаче монарху всей полноты военной, экономической, религиозной и этической власти с целью защиты и обеспечения безопасности подданных, отказавшихся ради этого от своей «свободы». Однако со временем власть монарха может существенно сократиться за счет уступок и узурпаций со стороны знати — жертвой такого процесса Раймондо видел, разумеется, австрийских Габсбургов. Вот почему жестокая политика Фердинанда II в отношении усмиренных богемских сословий в 1620-е гг. одобрялась Монтекукколи как процесс по возвращению к «исходным положениям» контракта, к отвоеванию утерянного ранее «jura regia». Те же самым меры настоятельно рекомендовались и Леопольду I в отношении восставших венгров. Для борьбы со знатью предлагались разные репрессивные методы — от высылки за рубеж до физического устранения.
Равно как в теории войны Раймондо присутствует идея «ragion di guerra», в его политическом мировоззрении одной из главных идей выступает концепция «ragion di stato» — государственного интереса, или необходимости. Теория «ragion di stato» возникла в середине XVI в. в творчестве нескольких итальянских мыслителей (ее первоначальное формулирование avant la lettre находят еще в работах Макиавелли) и получила достаточно быстрое и широкое распространение. На Монтекукколи, в частности, повлияла дискуссия вокруг «ragion di stato», развернувшаяся в работах Ботеро, Аммирато и Боккалини. В представлении Раймондо, «ragion di stato» служит для закрепления права монарха на абсолютную свободу действий и для восстановления его власти, ограниченной во многих отношениях, в полном объеме. Именно государственным интересом диктуется сохранение постоянной армии, причем не только для чисто оборонительных задач: «нужно не сокращать оружие, а укреплять его, не для того, чтобы, подобно кротам и черепахам, ютится в тесных стенах собственного дома и защищать только себя, а для того, чтобы, подобно львам и орлам, передвигаться по просторам воздуха и земли, защищая или укрывая других под сенью своих крыльев…». Безусловно, Монтекукколи имел в виду, в первую очередь, усиление позиций императора в Империи, его способности сплотить князей вокруг себя для отпора нарастающей французской угрозе.
Армия вполне логично выдвигается Раймондо в качестве одной из главных опор власти монарха. В работе о Венгрии он утверждал: «Есть два шарнира, на которых держится весь механизм управления [государством] — это законы и оружие. С их помощью регулируется воля народа; с их помощью его заставляют подчиняться законам, отнимая у него возможность бунтовать. Законы должны использоваться и в отношении своих [граждан/подданых], и против иностранцев, и в спокойные времена, и в смутные, чтобы сохранить или восстановить спокойствие. Законы без оружия не имеют силы. Оружие без законов не имеет справедливости». Чуть раньше он писал: «Скипетр не может держаться без меча».
Действительно, помимо двора, армия оставалась единственным инструментом, которым габсбургские правители могли распоряжаться без контроля со стороны ландтагов и т.п., и единственной областью, где их власть действительно приближалась к абсолютной, с поправкой на еще сохранявшиеся прерогативы «военных предпринимателей». Только армия, наряду с законами, могла помочь преодолеть все присущие Австрийской монархии слабости и уязвимости.
Как заметил Кауфманн, речь шла об идее «своего рода военного государства», и «будь его [Раймондо] воля, он поставил бы армию, со всеми ее правами и институтами, в качестве объединяющей… скобки над всей державой императора; и она должна быть постоянной». Врученный монарху в дополнение к скипетру, меч становится, таким образом, залогом его юридической и этической легитимности, правовой основой государства.
Армия выступает союзником государя для отпора как внутренним, так и внешним врагам. К числу внутренних относились непокорные сословия наследственных земель; различные «партии» и группировки (fazioni) знати, которые вносят беспорядок и анархию; наконец, народ, восставший против своего правителя. Сам Монтекукколи при этом выступал с позиций т.н. новой придворной знати, состоявшей из преданных монарху дворян (католического вероисповедания) и выдвинувшейся благодаря войне, в противовес старой придворной знати, чье формирование относится к началу XVI в.
В соответствии с данными установками, Раймондо враждебно и презрительно относился к той части коренной австрийской знати, которая не хотела идти на службу к императору и воевать за него; к протестантам или новообращенным католикам; к исконным католикам, которые проявляли излишнюю самостоятельность, и т. д.
В трактате «О войне» монарх предостерегался и от «партий», которые разжигают гражданскую войну, обращаясь за помощью к иностранным государям. Стремясь предотвратить возникновение «партий», Раймондо предлагал насаждение единообразия — например, в одежде, но еще важнее являлась моноконфессиональность. По его мысли, император Карл V в своей борьбе с курфюрстами и привилегиями империи допустил серьезную ошибку, позволив разрастись «новой религии» — протестантизму, что привело к религиозным войнам. Кроме единообразия важно и единомыслие, отсутствие возражений монарху: «в государстве, в котором уже существует абсолютная власть (dominio assoluto) … споры чиновников и властителей должны быть рассеяны с самого начала, потому что маленькая… искра часто разжигает большой пожар…».
Наконец, в своем отношении к народной массе Монтекукколи унаследовал уничижительную оценку Липсия — как к profanum vulgus, доверчивой, но склонной к злобе толпе, с которой следует обращаться то осторожно, то жестоко. Кажущаяся «снисходительность» Раймондо в отношении к «простому люду» проистекала не из гуманности, а из чисто прагматических соображений; показательно в связи с этим частое употребление слов «строгость» и «наказание», которые, судя по всему, «больше соответствовали его личной склонности, чем „мягкость“».
К числу внешних врагов императора следует отнести имперских князей, не желавших пускать на свои земли императорское войско и финансировать военные усилия императора. Расправа с их привилегиями привела бы к восстановлению Империи как истинной монархии, после чего можно было бы напасть на турок или дать отпор французам. В случае нападения на османские земли, где речь шла не просто об отвоевании утерянных ранее венгерских земель, но и покорении новых, «оружие» (т.е. армия, шире — сила) выступало и как средство, и как своеобразное «правовое обоснование» завоевания — «per il diritto dell’arme».
Таким образом, Монтекукколи был настроен вполне воинственно, хотя в историографии из него периодически лепят образ миролюбиво настроенного полководца. Согласно Лураги, Раймондо «любил мир, как всякий настоящий государственный деятель, как всякий истинный солдат, который никогда не бывает поджигателем войны или miles gloriosus». По замечанию Кауфманна, акцент на «спокойствии» и предотвращении войны в вышеприведённой цитате Монтекукколи о законе и оружии свидетельствовал о «фундаментальном оборонительном предназначении его государственного устройства». Более адекватным кажется мнение Мартелли: «Война… [для Раймондо] является не только орудием сохранения государства, она, или, скорее, абсолютное применение военной силы, составляет этическое предположение, узаконивающее монархию». Раймондо не может исключить войну из списка вариантов внешней политики, поскольку армия, чтобы сохранить мир, в определенных случаях обязана выходить на поле боя. Сам Монтекукколи сформулировал мысль еще более ясно: армия никогда не должна сидеть без дела, ей надлежит либо «причинять вред врагу» (в том числе, видимо, кормиться за его счет), либо «приносить пользу себе» (что бы это ни значило), в противном случае государству «очень трудно содержать праздную армию», средства бесполезно расходуются, «солдат ленится» и «томится», и так «исчезает тот пыл, который является душой прекрасных операций».
Финансы: «i denari sono il nervo della guerra»
Раймондо нередко приписывают авторство знаменитого изречения о том, что для ведения войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги («danaro, danaro, danaro»). Монтекукколи действительно поместил эту фразу в «Афоризмах», но не являлся автором и даже не претендовал быть таковым, приводя ссылку на Жана Бодена, Тацита и Цицерона. На самом деле, изречение «Tre cose, Sire, ci bisognano preparare: danari, danari e poi danari» впервые прозвучало в 1499 г. из уст итальянского кондотьера Джакомо Тривульцио (1441–1518), в ответ на вопрос французского короля Людовика XII о необходимых вещах для завоевания Миланского герцогства.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.